Мария Башкирцева Дневник
Предисловие автора
К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало. Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая художница, но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным. Но так как я сама говорю об издании, легко подумать, что мысль предстать на суд публики испортила, т. е. лишила эту книгу ее единственного достоинства; это неверно! Во-первых, я очень долго писала, совершенно об этом не думая; а потом – я писала и пишу безусловно искренно именно потому, что надеюсь быть изданной и прочитанной. Если бы эта книга не представляла точной, абсолютной, строгой правды, она не имела бы никакого смысла. И я не только все время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда, ни на одну минуту не хотела смягчать того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя. Итак, вы можете быть вполне уверены, благосклонный читатель, что я вся в этих страницах. Быть может, я не могу представить достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я, думайте, что просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Это очень интересный человеческий документ. Спросите у Золя, или Гонкура, или Мопассана. Мой дневник начинается с 12 лет, хотя представляет интерес только с 15–16 лет. Таким образом остается пополнить недостающее, и я намерена написать нечто в роде предисловия, которое даст возможность лучше понять этот литературный и человеческий памятник.
Итак, предположите, что я знаменита, и начнем.
Я родилась 11 ноября 1860 года. Отец мой был сын генерала Павла Григорьевича Башкирцева, столбового дворянина, человека храброго, сурового, жесткого и даже жестокого. Он был произведен в генералы после Крымской войны, если не ошибаюсь. Он женился на приемной дочери одного очень знатного лица, которая умерла тридцати восьми лет, оставив ему пять человек детей – моего отца и его четырех сестер.
Мать моя вышла замуж двадцати одного года, отвергнув сначала несколько прекрасных партий. Она – урожденная Бабанина.
Со стороны Бабаниных мы принадлежим к старинному дворянскому роду; дедушка всегда похвалялся тем, что происходит от татар времен первого нашествия. Боба Нина – татарские слова, изволите видеть; я могу только смеяться над этим… Дедушка был современником Пушкина, Лермонтова и др. Он был поклонник Байрона, человек образованный, поэт. Он был военный и жил на Кавказе… Еще очень молодым он женился на m-lle Жюли Корнелиус, кроткой и хорошенькой девушке 15 лет. У них было девять человек детей.
После двух лет супружества мать моя переехала со своими двумя детьми к своим родителям. Я оставалась всегда с бабушкой, которая обожала меня, и с тетей, которая, впрочем, иногда уезжала вместе с моей матерью. Тетя – младшая сестра моей матери – женщина некрасивая, готовая жертвовать и действительно жертвующая собой для всех и каждого.
В Ахтырке, где поселилось все семейство, мы встретили Р-ва. У него была там сестра, с которой он не виделся в течение 20 лет и которая была гораздо богаче его. Здесь-то и явилась впервые идея женить его на моей тете. В Одессе мы жили с Р-вым в одном отеле. В один прекрасный день было решено, что дело нужно покончить, потому что тетя моя никогда не найдет лучшей партии.
Их женили, и все вернулись в Ахтырку, а через 3 дня по возвращении бабушка скончалась.
В 1870 году, в мае месяце, мы отправились за границу. Мечта, так долго лелеемая моей матерью, исполнилась. Около месяца провели мы в Вене, упиваясь новостями, прекрасными магазинами и театрами. В июне мы приехали в Баден-Баден, в самый разгар сезона роскоши, светской жизни. Вот члены нашей семьи: дедушка, мама, муж и жена Р-вы, Дина (моя двоюродная сестра), Поль и я; кроме того, с нами был милейший, несравненный доктор Валицкий. Он был по происхождению поляк, но без излишнего патриотизма, – прекрасная, но очень ленивая натура, не переносившая усидчивого труда. В Ахтырке он служил окружным врачом. Он был в университете вместе с братом моей матери и не переставал бывать у нас в доме. При отъезде за границу понадобился доктор для дедушки, и Валицкий отправился вместе с нами.
В Бадене я впервые познала, что такое свет и манеры, и испытала все муки тщеславия. У казино собирались группы детей, державшиеся отдельно. Я тотчас же отличила группу шикарных, в моей единственной мечтой стало – примкнуть к ним. Эти ребятишки, обезьянничавшие со взрослых, обратили на нас внимание, и одна маленькая девочка, по имени Берта, подошла и заговорила со мной. Я пришла в такой восторг, что замолола чепуху, и вся группа подняла меня на смех обиднейшим образом…
Но я еще недостаточно сказала о России и о себе самой, это главное. По обычаю дворянских семей, живущих в деревне, у меня было две гувернантки: одна русская, другая француженка. Первая (русская), о которой я сохранила воспоминание, была некто m-me Мельникова, светская женщина, образованная, романтичная, разъехавшаяся с мужем и сделавшаяся гувернанткой, скорее всего, по безрассудству, под влиянием чтения бесчисленных романов. Она была другом дома, и с ней обходились как с равной. Все мужчины за ней ухаживали, и в одно прекрасное утро она бежала после какой-то удивительно романической истории. У нас в России романтизм в моде. Она могла бы преспокойно проститься и уехать, но славянская натура, приправленная французской цивилизацией и чтением романов, – странная вещь! В качестве несчастной женщины эта дама должна была обожать малютку, порученную ее попечениям; я же уже одной своей склонностью к рисовке уже оплачивала ей – в ее глазах – за это обожание… И семья моя, жадная до всяких приключений, вообразила, что ее отъезд должен был пагубно отозваться на моем здоровье; весь этот день на меня смотрели не иначе, как с состраданием, и я даже подозреваю, что бабушка заказала для меня, в качестве больной, особенный суп. Я чувствовала, что действительно бледнею от этого изливавшегося на меня потока чувствительности…
Я была вообще худа, хила и некрасива, что не мешало всем видеть во мне существо, которое несомненно, неизбежно должно было сделаться со временем всем, что только может быть наиболее красивого, блестящего и прекрасного. Однажды мама отправилась к гадальщику-еврею.
«У тебя двое детей, – сказал он ей, – сын будет – как все люди, но дочь твоя будет звездою!.»
Один раз, когда мы были в театре, какой-то господин сказал мне, смеясь:
– Покажите-ка вашу ручку, барышня! О! судя по перчатке, можно с уверенностью сказать, что вы будете ужаснейшей кокеткой!
Я была в полном восторге!
С тех пор, как я сознаю себя – с трехлетнего возраста (меня не отнимали от груди до трех с половиною лет), все мои мысли и стремления были направлены к какому-то величию. Мои куклы были всегда королями и королевами, все, о чем я сама думала, и все, что говорилось вокруг моей матери, – все это, казалось, имело какое-то отношение к этому величию, которое должно было неизбежно прийти.
В пять лет я одевалась в кружева моей матери, украшала цветами голову и отправлялась танцевать в залу. Я изображала знаменитую танцовщицу Петипа, и весь дом собирался смотреть на меня. Поль не был ничем выдающимся, да и Дина не заставляла предполагать в себе ничего особенного, хотя была дочерью любимого дяди Жоржа.
Еще один эпизод: как только Дина появилась на свет Божий, бабушка без всяких церемоний отняла ее у ее матери и оставила у себя. Это было еще до моего рождения.
После m-me Мельниковой моей гувернанткой была m-lle Софи Д., барышня 16 лет – о, святая Русь!!. – и другая, француженка, по имени m-me Брен. Она носила прическу времен Реставрации, имела бледно-голубые глаза и выглядела весьма томной со своими пятидесятью годами и со своею чахоткой. Я очень любила ее. Она заставляла меня рисовать. Помню, я нарисовала с ней маленькую церковь – черточками. Вообще, я часто рисовала; когда взрослые садились за карты, я присаживалась рисовать на зеленом сукне.
M-me Брэн умерла в 1868 году в Крыму. Что до молоденькой русской, считавшейся членом семьи, то она чуть было не вышла замуж за одного молодого человека, которого привел доктор и который был известен своими неудачными попытками жениться. На этот раз дело, казалось, шло прекрасно, как вдруг, однажды вечером, войдя зачем-то в ее комнату, я увидела m-lle Софи, которая рыдала как безумная, уткнувшись лицом в подушки.
Собралась вся семья:
– Что такое? Что случилось?..
Наконец, после долгих слез и рыданий, бедняжка говорит, что она никогда не могла бы… нет, никогда!.. И снова слезы! Но что такое? отчего?..
– Оттого что… оттого что я никак не могу привыкнуть к его лицу!.. Жених слышал это из соседней залы. Через час он уже упаковывал свой сундук, обливая его слезами, и уезжал. Эго была семнадцатая неудачная попытка вступить в брак!..
Я так хорошо помню это «я не могу привыкнуть к его лицу», это до такой степени исходило из души, что я тогда же поняла, до какой степени должно быть ужасно выйти замуж за человека, к лицу которого не можешь привыкнуть.
Когда была объявлена война, мы перебрались из Баден-Бадена в Женеву. Я уезжала с сердцем, полным горечи и проектов мщения. Каждый вечер, ложась спать, я читала про себя следующую дополнительную молитву:
«Господи! Сделай так, чтобы у меня никогда не было оспы, чтобы я была хорошенькая, чтобы у меня был прекрасный голос, чтобы я была счастлива в семейной жизни и чтобы мама жила как можно дольше!»
В Женеве мы жили в «Hotel de la Couromie» на берегу озера. Здесь мне взяли учителя рисования, который приносил мне модели для срисовывания: хижинки, где окна были нарисованы в виде каких-то палочек, и не имели ничего общего с настоящими окнами настоящих хижин. Мне это не нравилось: я не могла допустить, чтобы окна были сделаны таким образом. Тогда добрейший старик предложил мне срисовать вид из окна прямо с натуры. Как раз в это время мы переехали из отеля в один семейный пансион, откуда открывался вид на Монблан, и я срисовала тщательнейшим образом все, что было видно из окна: часть Женевы и озера; но все это так и осталось там, не помню уж хорошенько почему…
В Бадене успели снять с нас портреты, которые показались мне просто безобразными, уродливыми в их усилии казаться красивыми…
Когда я умру, прочтут мою жизнь, которую я нахожу очень замечательной (впрочем, иначе и быть не может). Но я ненавижу всякие предисловия (они помешали мне прочесть много прекрасных книг) и всякие предуведомления этих извергов-издателей. Поэтому-то я и пишу сама мое предисловие: без него можно было бы обойтись, если бы я издавала все, но я желала бы ограничиться тем, что начинается с 18-летнего возраста: все предшествующее слишком длинно. Итак, я даю вам заметки, достаточные для понимания дальнейшего: я часто возвращаюсь к прошедшему по поводу того или другого.
Если я умру вдруг, внезапно захваченная какой-нибудь болезнью!.. Быть может, я даже не буду знать, что нахожусь в опасности, – от меня скроют это. А после моей смерти перероют мои ящики, найдут этот дневник, семья моя прочтет и потом уничтожит его, и скоро от меня ничего больше не останется, ничего, ничего, ничего! Вот что всегда ужасало меня! Жить, обладать таким честолюбием, страдать, плакать, бороться и в конце концов – забвение… забвение, как будто бы ты никогда и не существовал…
Если я и не проживу достаточно, чтобы быть знаменитой, дневник этот все-таки заинтересует натуралистов: это всегда интересно – жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время с страстным желанием, чтобы оно было прочитано; потому что я вполне уверена, что меня найдут симпатичной; и я говорю все, все, все. Не будь этого – зачем бы… Впрочем, будет само собой видно, что я говорю все.
Париж, 1 мая 1884 г.1873–1874
1873
Ницца, вилла Aqua-Viva. Январь (в 12-летнем возрасте)
Тетя Софи играет на рояле малороссийские песни, и это напоминает мне деревню: я совсем перенеслась туда мысленно, и о чем же я могу прежде всего вспомнить из того времени, как не о бедной бабушке. Слезы подступают мне к глазам, они уже на глазах и сейчас побегут; вот они уже потекли, и я счастлива.
Бедная бабушка! Мне так грустно, что я больше уже не могу тебя видеть. Как она любила меня, и как я ее любила. Но я была слишком мала, чтобы любить тебя так, как ты этого заслуживала. Я так растрогана этим воспоминанием! Воспоминание о бабушке есть воспоминание благоговейное, священное, дорогое, но оно не живо. Господи! Дай мне счастья в жизни, и я не буду неблагодарной! И что я говорю? Мне кажется, что я создана для счастья; сделай меня счастливой, Боже мой!
Тетя Софи все играет. Звуки по временам доносятся до меня и проникают мне в душу. Я не готовлю уроков – завтра праздник.
Господи! Дай мне герцога Г.[1], я буду любить его и сделаю его счастливым, и сама я буду счастлива и буду помогать бедным! Грешно думать, что можно купить милость Бога добрыми делами, но я не знаю, как это выразить.
Я люблю герцога Г. Я не могу сказать ему, что я его люблю, да если бы я и сказала, он не обратил бы никакого внимания. Боже мой, я молю Тебя… Когда он был здесь, у меня была цель, чтобы выходить, наряжаться, а теперь!.. Я выходила на террасу в надежде увидеть его издали хоть на одну секунду. Господи, помоги мне в моем горе, я не могу просить большего, услышь же мою молитву. Твоя благость так бесконечна. Твое милосердие так велико. Ты так много сделал для меня!.. Мне тяжело не видеть его на прогулках. Его лицо так выделялось среди вульгарных лиц Ниццы.
Винсент Ван Гог. Кипарис. 1889
Клод Моне. Сливовые деревья в цвету. 1879
Вчера m-me Говард пригласила нас провести воскресенье с ее детьми. Мы были уже совсем готовы к отъезду, когда m-me Говард вошла и сказала, что была у мамы и выпросила у нее позволение оставить нас у себя до вечера. Мы остались, а после обеда мы пошли в большую залу, где было темно, и девочки просили меня петь. Они стали на колени, также и другие дети… Мы много смеялись; потом я спела «Santa Luchia», «Солнце встало», «Я не больше как пастушка» и несколько рулад. Они пришли все в такой восторг, что стали ужасно целовать меня – именно ужасно. Я спела недурно. Взрослые слушали меня из соседней комнаты. Сначала я не знала этого, потом я и знала, но продолжала. Дети говорили со мной и смотрели на меня с выражением удивления и благоговения к моему голосу. Они предсказывали мне блестящую будущность. Они были в таком восторге, что Лидия поцеловала мне плечо и даже руку; я не могу описать того фурора, который я произвела у них. Мальчики также не отставали. Если бы я могла произвести такое же впечатление на публику, я не задумалась бы поступить на сцену сию же минуту.
Это такое великое чувство – сознавать, что тобой восхищаются за что-нибудь большее, чем туалет. Я так счастлива от этих восторженных слов детей. Что же это было бы, если бы мною так же восхищались другие? Право, я не ожидала, что так понравлюсь им.
Я создана для триумфов и сильных ощущений, поэтому лучшее, что я могу сделать, – это сделаться певицей. Если Бог поможет мне сохранить, увеличить и укрепить мой голос, тогда я могу достигнуть триумфа, которого так жаждет душа моя. И так я могу достигнуть счастья быть знаменитой, известной, обожаемой, этим путем я могу приобрести того, кого люблю. Такою, какова я теперь, я имею мало надежды на его любовь – он даже не знает о моем существовании. Но когда он увидит меня окруженной славой!.. Мужчины честолюбивы… И я могу быть принята в свете, потому что я не буду знаменитостью, вышедшей из табачной лавки или грязной улицы. Я благородного происхождения, я не имею необходимости что-нибудь делать, мои средства позволяют мне это, и, следовательно, мне будет еще легче возвыситься, и я достигну еще большей славы. Тогда жизнь моя будет совершенна. Слава, популярность, известность повсюду – вот мои грезы, мои мечты.
Выходя на сцену – видеть тысячи людей, которые с замиранием сердца ждут минуты, когда раздастся ваше пение. Сознавать, глядя на людей, что одна нота вашего голоса повергнет всех к вашим ногам. Смотреть на них гордым взглядом (я все могу!) – вот моя мечта, мое желание, моя жизнь, мое счастье… И тогда герцог Г. придет вместе с другими повергнуться к моим ногам, но он будет принят не так, как другие.
Милый, ты будешь ослеплен моим блеском и полюбишь меня, ты увидишь мое торжество, и ты действительно достоин только такой женщины, какой я надеюсь быть. Я недурна собой, я даже красива – да, скорее красива; я очень хорошо сложена, как статуя, у меня прекрасные волосы, я хорошо кокетничаю, я умею держать себя с мужчинами, я умею теперь очень хорошо позировать… Теперь я, конечно, не могу приложить этого на практике, но потом… Словом, быть мировой знаменитостью.
Я честна и никогда не дам ни одного поцелуя никому, кроме моего мужа, и я могу похвастаться тем, что не всегда могут сказать про себя девочки 12–14 лет: тем, что еще никогда никто не целовал меня, и я сама никого не целовала… Тогда молодая девушка, которую он увидит на высочайшей ступени славы, какая только доступна женщине, девушка, любящая его с самого детства, честная и чистая, удивит его, он захочет жениться на мне во что бы то ни стало, и женится на мне – из гордости. Но что я говорю! Почему же я не могу предположить, что он может полюбить меня! О, да, с Божьей помощью… Бог помог мне найти средство привлечь того, кого я люблю… Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя.
Сегодня утром я слышу стук экипажа на улице, гляжу – и вижу герцога Г., едущего на четверке лошадей со стороны бульвара. Боже мой! Ведь если он здесь, он будет участвовать в апрельской охоте на голубей; я непременно поеду.
Сегодня я еще раз видела герцога Г. Никто не умеет держать себя, как он; он имеет вид какого-то короля, когда он едет в своей карете.
Сегодня утром я читала «Swiss Times», я просматривала список путешественников, не только в Ницце, но везде. Я нашла герцога Г. в Неаполе. Этот список – от 10 марта. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне возможность узнать, где он был. Когда я прочла его имя, я не верила глазам своим – так оно для меня дорого.
На прогулке я несколько раз видела Ж.[2] всю в черном. Она очаровательна, впрочем, не столько она, сколько ее волосы; ее туалет безупречен, нет ничего, что нарушало бы впечатление. Все благородно, богато, великолепно. Право, ее можно было бы принять за даму высшего круга. Вполне естественно, что все это способствует ее красоте, – ее дом с залами, маленькими уютными уголками, с мягким освещением, проходящим через драпировки и зеленую листву. И она сама, причесанная, одетая, убранная как нельзя лучше, сидящая – как царица – в прекрасном зале, где все приспособлено к тому, чтобы выставить ее в наилучшем свете. Вполне естественно, что она нравится и что он любит ее. Если бы у меня была такая обстановка, я была бы еще лучше. Я была бы счастлива с моим мужем, потому что я не стала бы распускаться, заботилась бы о том, чтобы ему нравиться так же, как я заботилась об этом, когда хотела понравиться ему в первый раз. Я вообще не понимаю, почему это мужчина и женщина, пока они еще не женаты, могут постоянно любоваться друг другом и стараться друг другу нравиться, а после свадьбы распускаются и совершенно перестают об этом заботиться.
Почему это думают, что со словом «брак» все проходит и остается холодная, скучная дружба. Зачем опошлять понятие о браке, представляя себе при этом жену в папильотках, в капоте, с гольдкремом на носу и постоянным желанием раздобыть от мужа денег на туалет.
Почему женщина должна неглижировать собой перед человеком, для которого она должна была бы заботиться о своей внешности? Я не понимаю, как можно относиться к мужу как к какому-то домашнему животному, а до свадьбы желать нравиться тому же самому человеку. Почему бы не оставаться по отношению к мужу настолько же кокетливой и не относиться к нему так же, как к постороннему человеку, который вам нравится, с тем различием, конечно, что постороннему человеку нельзя позволить ничего лишнего? Неужели это потому, что можно любить друг друга открыто, потому что это не считается предосудительным и потому что брак благословлен Богом? Неужели потому, что люди находят удовольствие только в том, что считается запрещенным? Боже мой, это не должно быть так, я совсем иначе понимаю все это.
Я напрягаю свой голос, когда пою, и этим порчу его; я уже несколько раз давала себе слово не петь больше (слово, которое я уже сто раз нарушала), пока я не буду брать уроков, и я молила Бога усилить и укрепить мой голос. Чтобы запретить себе петь, я даю ужасный зарок, а именно, что я потеряю голос, если буду петь. Это ужасно, и я сделаю все, чтобы выполнить этот зарок.
Сегодня я в моем допотопном платьице, в короткой юбочке и бархатном казаке, в тюнике и безрукавке Дины; это очень мило. Я думаю это потому, что я умею носить платье, и потому, что у меня хорошие манеры (я была похожа на маленькую старушку). Многие на меня смотрели. Хотела бы я знать, почему на меня смотрели: потому, что я смешна, или потому, что красива. Я хотела бы спросить у кого-нибудь – у какого-нибудь молодого человека, – красива ли я (самым наивным тоном). Я всегда предпочитаю верить тому, что приятнее, и предпочитаю верить скорее тому, что я красива. Может быть, я и ошибаюсь, но если даже это иллюзия, я предпочитаю оставаться при ней, потому что это более лестно. Что вы хотите? В этом мире надо всегда стараться смотреть на вещи с их лучшей стороны. Жизнь так прекрасна и так коротка!
Я думаю о том, чем будет мой брат Поль, когда он будет большой. Что он будет делать? Он не может проводить жизнь, как многие другие: сначала прогуливаться, потом броситься в мир игроков и кокоток, фи! Впрочем, он на это и не способен; я буду ему писать каждое воскресенье рассудительные письма, не советы, а так – по-товарищески. Словом, я сумею взяться за дело и с Божьей помощью буду иметь на него влияние, потому что он должен быть настоящим человеком.
Я была так занята, что почти забыла (какой стыд!) об отсутствии герцога! Мне кажется, что нас разделяет такая громадная бездна, особенно если мы поедем летом в Россию. У нас серьезно об этом поговаривают… Как могу я думать, что он будет моим! Он думает обо мне не больше, чем о прошлогоднем снеге, я для него не существую. Если мы останемся зимой в Ницце, я еще могу надеяться, но мне кажется, что с отъездом в Россию все мои надежды разлетятся в прах, все, что я считала возможным, разрушается. Думая об этом, я чувствую, что сердце мое – не то что разбивается, но я чувствую какую-то тихую тупую боль, которая ужасна; я теряю все, что считала возможным. Я достигла высшей ступени горя, это какое-то изменение во всем моем существе. Как это странно, я только что думала об удовольствиях, о стрельбе в цель, а теперь голова моя полна самых грустных мыслей.
Я совсем разбита этими мыслями. О Боже мой! При мысли, что он никогда не полюбит меня, я просто умираю от тоски! У меня больше нет никакой надежды… Это было чистое безумие – желать невозможного. Я хотела слишком прекрасного! Но нет, я не должна так распускаться. Как я смею отчаиваться, да разве нет Бога, который всемогущ и который мне покровительствует! Как я смею думать таким образом! Разве Он не находится повсюду, заботясь о нас. Он может все. Он всемогущ, для Него нет ни пространства, ни времени. Я могу быть в Перу, а герцог – в Африке, и если Он захочет, Он соединит нас. Как я могла хоть на одну минуту допустить эти безнадежные мысли, как я могла хоть на секунду забыть о Его божественной доброте! Неужели потому, что Он не дает мне сейчас же того, что я желаю, я могу отрицать Его? Нет, нет. Он милосерд и не допустит мою прекрасную душу терзаться преступными сомнениями.
О Господи! Услышь мою молитву, поддержи меня!
Эти мысли сверкнули в моей душе, как проблеск света, после всех горестей, которые наполняли мою голову. Я иду спать гораздо спокойнее, я вспомнила, что никакое расстояние ничего не значит, если в Его глазах я заслуживаю того, что прошу, и я молюсь. «Стучите и отворят вам» – эти святые слова поддерживают меня. Нет другого такого утешения, как вера в Бога! Как несчастны люди, которые ни во что не верят!
Винсент Ван Гог. Первые шаги (по мотивам картины Жана Франсуа Милле). 1890
Сегодня утром я показала m-lle Колиньон (моей гувернантке) одного угольщика, говоря: посмотрите, как этот человек похож на герцога Г. Она сказала, улыбаясь: «Какой вздор!» Произнести его имя уже доставило мне громадное удовольствие. Но я вижу, что когда ни с кем не говоришь о том, кого любишь, эта любовь как будто сильнее: это точно флакон с эфиром – если он закупорен, запах силен; если же оставить его открытым, он улетучивается. Потому-то любовь моя так и сильна, что о ней никогда не говорят, ни сама я не говорю о ней и храню ее всю про себя.
Я в таком грустном настроении, что не имею никакого определенного представления о моем будущем, т. е. я знаю, чего бы я хотела, но не знаю, что со мной будет в действительности. Как я была весела прошлой зимой, все улыбалось мне, я имела надежду. Я люблю какую-то тень, которая, быть может, никогда не будет моей. Я в отчаянии из-за платьев, я даже плакала. Мы были с тетей у двух портних, у них все плохо. Надо будет написать в Париж. Я не могу выносить здешних платьев, они придают мне какой-то жалкий вид.
Вечером я была в церкви, я говею – это первый день нашей Страстной недели.
Я должна сказать, что мне не нравится очень многое в моей религии, но не от меня зависит переделать ее. Я верю в Бога, в Христа, в Святую Деву Марию, я молюсь Богу каждый вечер, и мне нет дела до некоторых безделиц, которые не могут иметь никакого значения для истинной религии при истинной вере. Я верю в Бога, и Он добр ко мне и дает мне более, чем необходимое. О, если бы Он дал мне то, чего я так желаю! Бог сжалится надо мной, хотя я и могла бы обойтись без того, о чем прошу, но ведь я была бы так счастлива, если бы герцог обратил на меня внимание, и я благословляла бы имя Божье.
Я должна написать его имя, потому что если бы я оставалась долгое время, не говоря его никому и даже не написала бы его, я бы, кажется, не могла больше жить. Я бы треснула, честное слово. Это успокаивает, когда, по крайней мере, пишешь.
Сегодня на прогулке я замечаю наемную карету и в ней молодого человека – высокого, худощавого брюнета; мне кажется, что я в нем узнаю кого-то. Я вскрикиваю от изумления. Меня спрашивают, что со мной, и я отвечаю, что m-lle Колиньон наступила мне на ногу.
Между ним и его братом нет ничего общего, но все-таки я довольна, что его встретила. О, если бы хоть с ним-то познакомились, тогда через него можно было бы познакомиться и с его братом. За обедом Валицкий вдруг говорит: «Г.». Я покраснела, сконфузилась и пошла к шкафу. Мама упрекнула меня за это, говоря, что моя репутация и т. д., и т. д., что это нехорошо. Я думаю, что она несколько догадывается, потому что каждый раз, когда скажут «Г.», я краснею или быстро выхожу из комнаты. Однако она не бранит меня.
Все сидели в столовой, преспокойно болтая, в полной уверенности, что я занята уроками. Они и не подозревали, что со мной делается и каковы теперь мои мысли.
Я должна быть или герцогиней Г., этого я всего больше желаю (потому что Бог видит, до какой степени я люблю его), или знаменитой актрисой; но эта будущность не улыбается мне так, как первая. Это, конечно, лестно – видеть благоговение всего мира, начиная с самых малых и кончая монархами, но другое…
Да, я буду обладать тем, кого люблю, это совсем в другом роде, но я предпочитаю его.
Быть великосветской женщиной, герцогиней – я предпочитаю быть в этом обществе, чем считаться первой среди мировых знаменитостей, потому что это – совсем другой мир.
Нужно будет найти себе мужа со временем. Герцог… я больше не смею на это надеяться, ни даже думать о нем; сердце мое болит, я не смею больше любить его, и нужно найти кого-нибудь другого, которого я, быть может, даже не буду любить! В сотый раз я поручаю себя Богу и умоляю Его дать мне герцога. Он все может, но, быть может, Бог не считает меня достойной того, о чем я прошу. Кто позволил мне думать, что он когда-нибудь будет моим. О Боже мой, если я согрешила чем-нибудь, прости меня, прости маленькую безумницу! Господи, не наказывай меня! Жизнь кажется мне такой прекрасной, улыбающейся, не разочаровывай меня! Я обещаю никогда не возгордиться от своего счастья, я буду помогать бедным… Прости, прости меня!
Мама встала, и m-lle Колиньон тоже – она была больна. После дождя была такая чудесная погода, было так свежо, и деревья, освещенные солнцем, были так прекрасны, что я не могла учиться, тем более что сегодня у меня есть время; я пошла в сад, поставила стул у ключа, и вокруг меня была такая прекрасная картина: ключ окружен деревьями, так что не видно ни земли, ни неба, видишь только струйку ручейка и камни, поросшие мхом; и кругом деревья, самых разнообразных пород, освещенные солнцем. Трава такая зеленая, зеленая и мягкая, так что хотелось бы просто поваляться на ней. Все вместе образовало как бы равнину, такую свежую, мягкую, такую чудесную, что напрасно я бы старалась описать ее.
Если вилла и сад не изменятся, я приведу его сюда, чтобы показать ему место, где я так много о нем думала… Вчера вечером я молилась Богу, и, когда дошла до того места, где прошу Его, чтобы мы познакомились и чтобы он был моим, я заплакала, стоя на коленях. Уже три раза Он внимал моим молитвам. Первый раз я просила об игре в крокет, и тетя привезла мне его из Женевы. Другой раз я просила Его помочь мне научиться английскому языку, я так молилась, так плакала, и мое воображенье было так возбуждено, что мне представился в углу комнаты образ Богородицы, которая мне обещала. Я могла бы даже узнать этот образ.
Клод Моне. Palazzo da Mula, Венеция. 1908
Вчера Он опять услышал меня: я плакала; я уже два дня не могла плакать, а когда стала молиться, я заплакала. Он услышал меня, да святится имя Его.
Я уже полтора часа жду к уроку m-lle Колиньон, и это вот каждый раз так! А мама упрекает меня и не знает, как это огорчает меня саму. Досада, возмущение так и жжет меня. M-lle Колиньон пропускает уроки, она заставляет меня терять время.
Мне тринадцать лет; если я буду терять время, что же из меня выйдет!
Кровь моя кипит, я просто бледнею, а минутами кровь ударяет мне в голову, сердце бьется, я не могу спокойно сидеть на месте, слезы душат мне горло, я стараюсь их удержать, но от этого я только еще более чувствую себя несчастной, ведь все это разрушает мое здоровье, портит мой характер, делает меня раздражительной, нетерпеливой. У людей, которые проводят жизнь спокойно, это отражается и на лице, а я то и дело возбуждена – следовательно, она крадет всю мою жизнь вместе с уроками.
В шестнадцать, семнадцать лет придут другие мысли, а теперь-то и время учиться. Какое счастье, что я не принадлежу к тем девочкам, которые воспитываются в монастыре и, выходя оттуда, бросаются, как сума сшедшие, в круговорот удовольствий, верят всему, что им говорят модные фаты, а через два месяца уже чувствуют себя разочарованными, обманутыми во всех своих ожиданиях.
Я не хочу, чтобы думали, что, окончив ученье, я только и буду делать, что танцевать да наряжаться. Нет. Окончив детское ученье, я буду серьезно заниматься музыкой, живописью, пением. У меня есть талант ко всему этому, и даже большой! Как это облегчает, когда пишешь! Теперь я несколько успокоилась; но все это влияет не только на мое здоровье, но и на мой характер и даже на лицо. Меня бросает в краску, щеки мои горят, как огнем, а когда я потом и успокоюсь, они уже не выглядят свежо и розово. И я выгляжу всегда какой-то бледной и вялой, это по вине m-lle Колиньон, потому что причиной всему этому волнение, которое она меня заставляет переживать. У меня даже несколько болит голова после того, как я прокиплю так несколько времени. Мама обвиняет меня, она говорит, что я сама виновата, что не говорю по-английски, – как это мне обидно…
Я думаю, что когда-нибудь он прочтет этот дневник и найдет его глупым, особенно мои постоянные изъяснения в любви; я столько раз повторяла их, что они потеряли всякую силу.
M-mе Савельева при смерти; мы отправляемся к ней; вот уже два дня, как она в бессознательном состоянии и ничего не говорит. В ее комнате сидит старая m-me Патон. Я посмотрела на постель, но сначала не могла ничего различить и искала глаза больной; потом я увидела ее голову, но она так изменилась, что из женщины полной стала совсем худой; рот открыт, глаза закрыты, дыхание сильное и тяжелое. Все говорили шепотом, но она не подавала никакого признака жизни; доктора говорят, что она ничего не сознает, но мне кажется, что она слышит и понимает все, что вокруг нее делается, и только не может ни крикнуть, ни даже ничего сказать. Когда мама прикоснулась к ней, она тяжело вздохнула. Старик Савельев встретил нас на лестнице и, захлебываясь от слез и рыданий, взял мамину руку и сказал: «Вы сами больны, вы совсем не бережетесь, моя бедная». Я молча обняла его. Потом пришла ее дочь и бросилась к постели, призывая мать свою. Бедная! Вот уже пять дней, как она в этом состоянии. Видеть свою мать со дня на день умирающей! Я вышла со стариком в другую комнату. Как он постарел за эти несколько дней! Все имеют какое-нибудь утешение, у его дочери свои дети, а он одинок, прожив со своей женой тридцать лет, это что-нибудь да значит! Хорошо ли, дурно ли он с ней жил, привычка имеет громадное значение.
Я несколько раз возвращалась к больной. Экономка ходит совсем заплаканная; отрадно видеть в прислуге такую привязанность к своей госпоже. Бедный старик совсем превратился в ребенка.
Ах, если только подумать, как жалок человек. Каждое животное может иметь, смотря по желанию, какую ему угодно физиономию; оно не обязано улыбаться, когда ему хочется плакать. Когда оно не хочет видеть себе подобных, оно их не видит, а человек раб всего и всех. И между тем меня лично это, вообще говоря, не тяготит, я люблю и выезжать, и принимать.
Это первый раз, что мне приходится идти против своего желания, а сколько еще раз придется мне заставлять себя улыбаться в то время, как я буду готова плакать. Между тем я сама выбрала эту жизнь, эту светскую жизнь! Впрочем, когда я буду большая, у меня уже не будет неприятностей, я буду всегда весела…
M-me Савельева умерла вчера вечером. Мама и я отправились к ней; там было много дам. Что сказать об этой сцене? Скорбь направо, скорбь налево, скорбь написана на полу и на потолке, скорбь в пламени каждой свечи, скорбь даже в воздухе. У ее дочери была истерика; все плакали. Я целовала ей руки, повела ее и посадила рядом с собой; я хотела сказать ей несколько слов утешения – и не могла. Да и какие утешения? Одно – время! Я вообще нахожу всякие утешения банальными и глупыми. По-моему, больше всех жалко старика, который остался один! Один!! Один!!! О Боже, что делать? По-моему, все должно кончиться. Я так думала. Но если бы умер кто-нибудь из наших, я бы не могла рассуждать таким образом.
Сегодня у меня был большой спор с учителем рисования Бинза. Я ему сказала, что хочу учиться серьезно, начать сначала, что то, что я делаю, ничему не научает, что это пустая трата времени, что с понедельника я хочу начать настоящее рисование. Впрочем, не его вина, что он учил не так, как следует. Он думал, что до него я уже брала уроки и уже рисовала глаза, рты и т. д. и что рисунок, ему показанный, был мой первый рисунок в жизни, и притом сделанный мною самой.
Сегодняшний день несколько отличается от других дней, таких монотонных и однообразных. На уроке я попросила m-lle Колиньон дать мне одно арифметическое объяснение. На это она мне сказала, что я должна понять сама. Я ей заметила, что вещи, для меня непонятные, мне должны объяснять. «Здесь нет никаких должны», – сказала она. «Должны существуют всюду!» – отвечала я. – «Продолжайте». – «Подождите немного, я сначала пойму это, а потом уже перейду к следующему». Я отвечала наиспокойнейшим тоном, и она злилась, что не может найти ничего грубого в моих словах. Она крадет мое время! Уже 4 месяца моей жизни потеряны. Легко сказать! Положим, она больна, но зачем же вредить мне? Заставляя меня терять время, она губит мое будущее счастье. Каждый раз, когда я прошу ее что-нибудь объяснить мне, она отвечает мне грубостями; я не хочу, чтобы со мной говорили таким образом; она какая-то бешеная, особенно когда она больна, она невыносима. Однако я продолжаю. Она сделала глаза ведьмы. «Делайте то, что я вам говорю, вы привыкли грубить всем и каждому, но я этого не потерплю, слышите?» – «Зачем вы кричите?» – сказала я ей таким спокойным тоном, что даже сама удивилась. В тех случаях, когда я слишком рассержена или даже просто раздражена, я делаюсь неестественно спокойна. Этот тон взбесил ее еще более – она ожидала вспышки.
«Вам 13 лет, как вы смеете!» – «Именно, m-lle, мне 13 лет, и я не хочу, чтобы со мной так говорили; прошу вас не кричать». Она вылетела, как бомба, крича и говоря разные неблагопристойности. Я на все отвечала спокойно, отчего она приходила в еще большее бешенство. «Это последний урок, что я вам даю!» – «О, тем лучше!» – сказала я.
В ту минуту, как она выходила из комнаты, я вздохнула так, как будто с меня сняли сто пудов. Я вышла довольная и отправилась к маме. Она бежала по коридору и опять начала кричать, – я продолжала свою тактику, делая вид, что ничего не слышу. Весь коридор мы прошли вместе, она – как фурия, я вполне невозмутимо. Я пошла к себе, а она просила позволения переговорить с мамой.
Сегодня ночью я видела ужасный сон. Мы были в незнакомом мне доме, как вдруг я и не знаю, кто еще, взглянули в окно. Я вижу солнце, которое увеличивается и покрывает почти полнеба, но оно не блестит и не греет. Потом оно делится, четверть исчезает, остальное продолжает делиться, меняя цвета. Мы в ужасе. Потом оно наполовину покрывается облаком, и все вскрикивают: «Солнце остановилось!» Как будто обыкновенно оно вертится! Несколько мгновений оно оставалось неподвижным и бледным, потом вся земля сделалась странной: не то что она качалась, я не могу выразить, что это было, так как этого совсем не существует среди того, что мы видим обыкновенно. Нет слов для выражения того, чего мы не понимаем. Потом оно опять начало вращаться, как два колеса, одно в другом, т. е. светлое солнце минутами покрывалось облаком, таким же круглым, как оно само. Волнение было общее; я спрашивала себя, не конец ли это света, и мне хотелось верить, что это только так, ненадолго. Мамы не было с нами, она приехала в чем-то вроде омнибуса и не казалась испуганной. Все было странно, и этот омнибус был не такой, как обыкновенные. Потом я стала пересматривать мои платья; мы уложили наши вещи в маленький саквояж. Но вдруг опять все началось сначала. Это был конец света, и я спрашивала себя, как это Бог не предупредил меня и неужели я достойна в живых присутствовать при этом дне. Все были в страхе, мы с мамой сели в карету и поехали – не знаю куда.
Что означает этот сон? Послан ли он от Бога, чтобы предупредить о каком-нибудь важном событии, или это просто нервы?
Я так живо помню этот сон! Небо было то темное, со звездами – и тогда солнце не было видно, – то светлое, как в пять часов утра. Кончилось тем, что солнце совсем исчезло. Как же быть без солнца? Значит, это конец мира? Потом происходили странные вещи, я не знаю слов для выражения того, что я видела, потому что оно сверхъестественно.
M-lle Колиньон уезжает завтра. Во всяком случае это грустно. Ведь жаль даже собаку, с которой долго прожил и которую вдруг увозят. Каковы бы ни были наши отношения, какой-то червь гложет мне сердце.
Проезжая мимо виллы Ж., я взглянула на маленькую террасу направо. В прошлом году, отправляясь на скачки, я видела его сидящим там с ней. Он сидел в своей обычной благородной и непринужденной позе и ел пирожок. Я так хорошо помню все эти мелочи. Проезжая, мы смотрели на него, а он на нас. Он единственный, о котором мама говорит, что он ей очень нравится; я этому так рада. Она сказала: «Посмотри, Г. ест здесь пирожки, но и это у него вполне естественно, он точно у себя дома». Я еще не давала себе отчета в том волнении, которое я испытывала при виде его. Только теперь я вспоминаю и понимаю все малейшие подробности, касающиеся его, все слова, им сказанные.
Винсент Ван Гог. «Les Vessenots» в Овере. 1890
Когда Реми сказал мне на скачках, что он говорил с герцогом Г., у меня сердце забилось, хотя я и не понимала отчего. Потом, когда на тех же скачках Ж. сидела около нас и говорила о нем, я почти не слушала. О, что бы дала я теперь, чтобы услышать вновь ее слова! Потом, когда я была в английском магазине, он был там и насмешливо смотрел на меня, как бы говоря: «Какая смешная девочка, что она о себе воображает!» Он был прав: я была очень смешна в моем шелковом платьице, да, я была очень смешна! Я не смотрела не него. Потом при каждой встрече мое сердце до боли ударяло в груди. Не знаю, испытывал ли это кто-нибудь; но я боялась, что мое сердце бьется так сильно, что это услышат другие. Прежде я думала, что сердце не что иное, как кусок мяса, теперь же вижу, что оно связано с душой.
Теперь мне понятно, когда говорят: «Мое сердце билось». Прежде, когда это говорили в театре, я не обращала внимания, теперь же я узнаю испытанные мною чувства.
Время мчится, как стрела. Утром я немного учусь музыке; до двух часов Аполлон Бельведерский, которого я срисовываю. Он имеет некоторое сходство с герцогом – особенно в те минуты, когда на него смотрят: выражение очень похоже. Та же манера держать голову и такой же нос.
Мой учитель музыки Manote был очень доволен мною сегодня утром. Я сыграла часть концерта Мендельсона без единой ошибки. Вчера были в русской церкви по случаю Троицы.
Церковь вся украшена цветами и зеленью. Читали молитвы, где священник молился о прощении грехов; он их все перечислил; потом он молился, стоя на коленях. Все, что он говорил, так подходило ко мне, что я как бы застыла, слушая и повторяя его слова.
Это второй раз, что я молилась так хорошо в церкви; первый раз это было в первый день нового года.
Общественная служба сделалась такой банальной; произносимые слова не имеют отношения к обыденной жизни и к чувствам большинства. Я хожу к обедне и не молюсь: молитвы и гимны не отвечают тому, что говорит мое сердце и моя душа; они даже мешают мне свободно молиться. А между тем молитвы, где священник молится за всех, где каждый находит что-нибудь относящееся к нему, проникают мне прямо в душу.
Наконец я нашла то, что искала, сама того не сознавая; жизнь – это Париж, Париж – это жизнь!.. Я мучилась, так как не знала, чего хочу. Теперь я прозрела, я знаю, чего хочу! Переселиться из Ниццы в Париж; иметь помещение, обстановку, лошадей, как в Ницце; войти в общество через русского посланника – вот, вот чего я хочу! Как счастлив тот, кто знает, чего хочет. Но вот мысль, которая терзает меня: мне кажется, что я безобразна! Это ужасно!
Сердце – это кусок мяса, соединенный тоненькой ниточкой с мозгом, который, в свою очередь, получает новости от глаз и ушей. Можно сказать, что сердце говорит вам, потому что ниточка двигается и заставляет его биться сильнее обыкновенного и оно гонит кровь к лицу.
Мы были у фотографа Valery; там я видела портрет Ж. Как она хороша! Но через десять лет она будет стара, через 10 лет я буду взрослая; я была бы лучше, если бы я была больше. Я позировала восемь раз; фотограф сказал: «Если на этот раз удастся, я буду доволен». Мы уехали, не узнав результата.
Разразилась гроза; молнии были просто страшны; иногда они падали на землю, оставляя на небе серебристую черту, – тонкую, как римская свеча.
Я смотрю на Ниццу как на место изгнания. Однако я должна заняться распределением дней и часов для учителей. С понедельника я начну занятия, так ужасно прерванные m-lle Колиньон.
С зимой появится общество, а с обществом – веселье; тогда будет уже не Ницца, а маленький Париж. А скачки! Ницца имеет свою хорошую сторону. Тем не менее шесть или семь месяцев, которые надо здесь провести, кажутся мне целым морем, которое надо переплыть. Я не спускаю глаз с моего маяка. Я не надеюсь пристать, я не надеюсь видеть эту землю, но один вид ее даст мне силу и энергию дожить до будущего года, а затем… А затем? Право, я ничего не знаю! Но я надеюсь, я верю в Бога, в его безграничное милосердие – вот почему я не теряю бодрости. «Тот, кто живет под Его покровительством, найдет свое спокойствие в милосердии Всемогущего. Он осенит тебя Своими крылами, под их охраной ты будешь в безопасности, ты не будешь бояться ни слияния ночных созвездий, ни дневных несчастий…» Я не могу выразить, как я умилена и насколько сознаю милость Бога ко мне.
Мама лежала, а мы все были около нее, когда доктор, вернувшись от Патон, сказал, что умер Абрамович. Это ужасно, невероятно, изумительно! Я не могу поверить, что он умер! Нельзя умереть, будучи таким милым и привлекательным! Мне все кажется, что он вернется зимой, со своей знаменитой шубой и со своим пледом. Это ужасно – смерть! Меня просто сердит его смерть! Такие люди, как С. и Ж., живут, а молодой человек, как Абрамович, умирает!
Все пришли в ужас, даже у Дины вырвалось какое-то восклицание. Я спешу написать Елене Говард. Все были в моей комнате, когда пришла эта печальная весть.
Я начала учиться рисовать. Я чувствую себя усталой, вялой, неспособной работать. Лето в Ницце меня убивает; никого нет, я готова плакать. Словом, я страдаю. Ведь живут только однажды. Провести лето в Ницце значит потерять полжизни. Я плачу, одна слеза упала на бумагу. О, если бы мама и другие знали, чего мне стоит здесь оставаться, они не заставляли бы меня жить в этой ужасной пустыне. Я не имею о нем никаких известий; уже так давно я не слышу даже его имени. Мне кажется, что он умер. Я живу, как в тумане; прошедшее я едва понимаю, настоящее мне кажется отвратительным. Я совершенно изменилась – голос охрип, я стала некрасива: прежде, просыпаясь, я была розовая, свежая – а теперь! Что же это такое меня гложет? Разве со мной что-нибудь случилось? Или случится?
Наняли виллу Bacchi; говоря по правде, жить в ней будет страшно неприятно: для каких-нибудь буржуа это годится, но не для нас!.. Я – аристократка и предпочитаю разорившегося дворянина богатому буржуа, я вижу больше прелести в старом шелке, в потерпевшей от времени позолоте, в сломанных колоннах и арабесках, чем в богатом, но безвкусном, бьющем в глаза убранстве. Самолюбие настоящего аристократа не удовлетворится блестящими, хорошо сшитыми сапогами и перчатками в обтяжку. Нет, одежда должна быть до известной степени небрежна… Но между благородной небрежностью и небрежностью бедности такая большая разница!
Мы оставляем это помещение; мне его жаль – не из-за его удобств и красоты, но потому, что это старый друг, к которому я привыкла. Как подумаешь, что я больше не увижу моей милой классной комнаты! Я здесь так много думала о нем. Этот стол, на который я теперь опираюсь и на котором я писала каждый день все, что было наиболее дорогого и священного в моей душе! Эти стены, по которым столько раз скользил мой взгляд, желая проникнуть через них и устремиться в бесконечную даль… В каждом цветке их обоев я видела его! Сколько воображала я себе в этой комнате сцен, где он играл главную роль. Мне кажется, нет в мире вещи, от наиболее обыкновенной до самой фантастической, о которой я бы не передумала в этой комнатке.
Вечером Поль, Дина и я сидели вместе. Потом я осталась совсем одна. Луна освещала мою комнату, и я не зажигала свечи. Я вышла на террасу и услышала вдали звуки скрипки, гитары и флейты. Я быстро вернулась и села к окну, чтобы лучше слышать. Это было чудесное трио. Уже давно я не слышала музыки с таким удовольствием. В концерте более занимаешься осмотром публики, но в этот вечер, совсем одна, при лунном сиянии, я пожирала, если можно так выразиться, эту серенаду. Молодые люди Ниццы давали нам серенаду. Нельзя себе представить большей галантности. К несчастью, светские молодые люди не любят более этого развлечения, они предпочитают кафешантаны, между тем как музыка… может ли быть что-нибудь благороднее серенады, как в древней Испании? Честное слово, будь я на их месте – после лошадей, я проводила бы жизнь под окнами моей красавицы или, в конце концов, у ее ног.
Мне так хочется иметь лошадь; мама мне обещает, тетя тоже. Когда она была вечером у себя, я вошла к ней своей легкой и стремительной походкой и просила ее об этом; она мне серьезно обещала. Я ложусь совершенно счастливая. Все мне говорят, что я хорошенькая, но сама я, право, этому не верю. Мое перо не может писать, оно так и летает! Я миленькая, и только, иногда хорошенькая, но я счастлива!
У меня будет лошадь! Видано ли, чтобы у такой маленькой, как я, была своя лошадь! Я произведу фурор… А какие цвета жокею? Серый или ирис? Нет, зеленый и нежно-розовый. Лошадь специально для меня! Как я счастлива и довольна! Как не отлить бедным от моей слишком полной чаши. Мама дает мне деньги, половину я буду отдавать бедным.
Я прибрала мою комнату; она красивее без стола посередине; я поставила несколько безделушек, чернильницу, перо, два старых дорожных подсвечника, давно забытых в ящике. Вот как я устроилась.
Свет – это моя жизнь; он меня зовет, он меня манит, мне хочется бежать к нему. Я еще слишком молода для выездов; но я жду не дождусь этого времени – только если бы мама и тетя смогли стряхнуть свою лень… Свет не Ниццы, а свет Петербурга, Лондона, Парижа. Только там я могла бы дышать, так как стеснения светской жизни для меня приятны.
Поль еще не имеет вкуса, он не понимает женской красоты. Я слышала, как он называл красивыми страшных уродов. Он еще думает, что для того, чтобы быть хорошо одетым, надо быть элегантным; чтобы нравиться, надо быть внимательным. Я должна сообщить ему манеры и вкус. Я еще не имею на него сильного влияния, но надеюсь его иметь со временем. Уже теперь, едва заметным образом, я сообщаю ему мои взгляды, даю ему уроки самой строгой нравственности, но в легкой форме; это занимательно и в то же время полезно. Если он женится, он должен любить свою жену, только свою жену, – словом, я надеюсь, если Бог позволит, вложить ему хорошие мысли.
Мы на пути в Вену. В общем отъезд был очень веселый. По обыкновению я была душой общества.
Начиная с Милана местность восхитительна, такая зеленая, такая плоская, взгляд простирается в бесконечность, и никакая гора не встает стеной перед глазами.
На австрийской границе, когда я поспешно одевалась, открылась дверь, и доктор окурил нас каким-то порошком против болезни (которой… не смею назвать ее). Я опять уснула до 11 часов. Я не смела вновь открыть глаза. Какая зелень, какие деревья, какие чистые дома, какие хорошенькие немки, как обработаны поля! Прелестно, восхитительно, чудесно! Я совсем не нечувствительна, как говорят, к красотам природы, напротив. Конечно, я не могу восхищаться острыми скалами, тощими оливами, мертвыми пейзажами, но меня приводят в восторг покрытые деревьями поля, прекрасно обработанные или же покрытые ковром зелени, с работающими женщинами, крестьянами. Я не могла оторваться от окна. Ехали быстро, все летело мимо, все убегало, и все было так прекрасно. Вот чем я любуюсь от всего сердца. В 8 часов я села, так как была утомлена. На одной станции маленькие немки кричали как раз над нашими ушами: Frisch Wasser! Frisch Wasser! У Дины даже голова разболелась.
Винсент Ван Гог. Голова проститутки. 1885
Я часто стараюсь понять, что это такое, что как будто стоит совсем передо мною и в то же время скрыто от меня – словом, истину. Все, что я думаю, чувствую, это только внешнее. Ну вот, я не знаю, но мне кажется, что ничего нет. Например, когда я вижу герцога, я не знаю, ненавижу я его или боготворю; я хочу войти в мою душу и не могу. Когда я решаю трудную задачу, я думаю, начинаю, мне кажется, что я достигла, но в ту минуту, когда я хочу все соединить, все исчезнет, все теряется, и моя мысль уходит так далеко, что я только удивляюсь и ничего не понимаю. Все, что я говорю, не есть еще моя сущность, мое существо; у меня их еще нет. Я вижу только внешним образом. Остаться или идти, иметь или не иметь – мне безразлично; мои печали, мои радости не существуют. Только тогда, когда я представляю себе маму или Г., любовь наполняет мою душу. И вот это последнее тоже мне кажется непонятным; когда я размышляю об этом, я как в тумане; я ничего не понимаю.
Есть люди, которые говорят, что муж и жена могут позволять себе развлечения и в то же время очень любить друг друга.
Это ложь; они не любят друг друга, так как, раз молодой человек и молодая девушка любят друг друга, разве они могут думать о других? Они любят друг друга и находят в этом совершенно достаточно развлечения. Один взгляд, одна мысль о другой женщине показывают, что уже не любят более ту, которую любили. Потому что, еще раз, если вы любите и вас любят, можете ли вы думать о любви к другой? Нет. Итак, к чему ревность и упреки? Можно поплакать, но надо утешиться, как о мертвом, сказав себе, что никто не может помочь. Раз сердце полно одной женщиной, в нем нет места другой; но как только оно начинает пустеть, другая входит в него – с той самой минуты, как вложила туда хоть кончик мизинца.
[Приписано на полях с пометкой – март, 1875 год:
Я рассуждала тогда довольно правильно, только видно, что я была еще дитя. Это слово: «любовь», повторяемое так часто… Бедняжка!.. Есть ошибки во французском языке, надо бы все исправить. Я думаю, что теперь я пишу лучше, но все еще не так, как бы я хотела. В какие-то руки попадет мой дневник? До сих пор он может интересовать только меня и моих близких. Хотела бы я сделаться такой личностью, чтобы мой дневник был интересен для всех. Пока буду продолжать для себя, ведь будет очень приятно перечесть потом всю свою жизнь.]
Ницца. 29 августа Я взялась за распределение часов своих учебных занятий, завтра кончу. Девять часов работы ежедневно. О Боже мой! Дай мне силы и настойчивости в учении. У меня есть сила, но хотелось бы еще больше.
2 сентября Приходил учитель рисования; я ему дала список, чтобы он прислал мне учителей из лицея. Наконец-то я примусь за работу! Из-за путешествия и из-за m-lle Колиньон я потеряла четыре месяца. Это громадная потеря. Бинза обратился к директору, тот попросил для ответа день. Видя мои заметки, он спросил: «Сколько лет молодой девушке, которая хочет учиться всему этому и которая сумела составить такую программу?» А этот дурак Бинза сказал: «Пятнадцать лет». Я его страшно бранила, я раздосадована, я просто взбешена. Зачем говорить, что мне пятнадцать лет, – это ложь. Он извинялся, говоря, что по моим рассуждениям мне можно дать двадцать, что он думал сделать лучше, прибавляя мне два года, что он никак не думал, и проч. и проч. Я потребовала сегодня же, за обедом, чтобы он сказал директору мои настоящие года, я потребовала этого.
19 сентября Я все время сохраняю хорошее расположение духа; не следует мучиться сожалениями. Жизнь коротка, нужно смеяться, сколько можешь. Слез не избежать, они сами приходят. Есть горести, которых нельзя отвратить: это смерть и разлука, хотя даже последняя не лишена приятности, пока есть надежда на свидание. Но портить себе жизнь мелочами – никогда! Я не обращаю никакого внимания на мелочи, и, относясь с отвращением к мелким ежедневным неприятностям, я с улыбкой прохожу мимо них.
20 сентября Приходил С. и, не помню по какому поводу, сказал, что люди – перерожденные обезьяны. Это мальчуган с идеями дяди Николая. «В таком случае, – сказала я ему, – вы не верите в Бога?» – «Я могу верить лишь в то, что я понимаю», – возразил он.
О скверное животное! Все мальчишки, у которых начинают пробиваться усы, рассуждают таким образом. Это молокососы, воображающие, что женщины не могут ни размышлять, ни понимать их. Они смотрят на них как на каких-то говорящих кукол, которые сами не понимают того, что говорят. Они покровительственно позволяют им говорить. Я высказала ему все это, исключая только «скверное животное» и «молокососов». Он, наверное, прочел какую-нибудь книгу, не понял ее, и теперь цитирует из нее отдельные места. Он доказывает, что создан мир не Богом, ссылкой на то, что на полюсе найдены оледенелые скелеты и растения. Следовательно, они жили, а теперь их нет…
Я не говорю ничего против этого; но разве наша земля еще до сотворения человека не подвергалась разным изменениям? Нельзя же буквально принимать слова, что Бог создал мир в шесть дней. Элементы образовались веками, веками и веками. Но Бог есть; можно ли отрицать это, видя солнце, деревья и самих людей. Как не признать, что есть рука, которая направляет, отнимает и вознаграждает, и что это рука Бога?..
13 октября
Я отыскивала заданный урок, когда малютка Хедер, моя гувернантка, англичанка, сказала мне; «Знаете, герцог женится на герцогине М.». Я приблизила книгу к лицу, почувствовав, что покраснела, как огонь. Я чувствовала, как будто острый нож вонзился мне в грудь. Я начала дрожать так сильно, что едва держала книгу. Я боялась потерять сознание, но книга спасла меня. Чтобы успокоиться, я несколько минут делала вид, что ищу… Урок свой я отвечала прерывающимся от неровного дыхания голосом. Я собрала все свое мужество, как, бывало, бросаясь в воду с мостика купальни, и сказала себе, что надо преодолеть себя. Я попросила диктовать мне, чтобы хоть несколько времени иметь возможность не говорить.
С наслаждением ушла я наконец к роялю – попробовала играть, но пальцы были холодны и непослушны. Княгиня попросила меня научить ее играть в крокет. «С удовольствием», – отвечала я весело, но голос мой еще дрожал. Подали карету, я побежала одеваться. В зеленом платье, с золотистыми волосами, беленькая и розовая, я хороша, как ангел или как женщина. Мы едем.
Все время я думаю: он женится! Возможно ли? Я несчастна! Несчастна не по-прежнему – из-за обоев или мебели, но действительно несчастна!
Я не знаю, как сказать княгине, что он женится (потому что ведь когда-нибудь они все равно узнают это), и сознаю, что лучше сказать самой. Я выбираю момент, когда она садится на диван так, что свет падает сзади меня. Моего лица не видно. «Княгиня, знаете новость (мы говорим по-русски), герцог Г. женится». Наконец! Сказано… Я не покраснела, я спокойна, но что делается во мне, в глубине моей!!!
С того несчастного момента, как эта болтушка сообщила мне этот ужас, я все как будто запыхалась, точно я пробежала целую версту, то же ощущение: сердце бьется до боли.
Я играла на рояле с каким-то бешенством, но посреди фуги пальцы мои ослабели, и я должна была прислониться к спинке стула. Я начинала снова – та же история; в течение пяти минут я начинала и бросала… У меня в горле образуется что-то такое, что мешает дышать. Раз десять я вскакивала из-за фортепьяно; я выбегаю на балкон. О Господи, что за состояние!
Вечером я не могла писать. Я бросилась на колени и плакала. Вошла мама; чтобы она не увидала меня в этом виде, я притворилась, что иду посмотреть, не готов ли чай. И еще я должна брать латинский урок! Какая мука! Какая пытка! Я не могу ничего делать, не могу смириться! Нет в мире слов для выражения моих чувств! Но что меня волнует, бесит, убивает – это зависть; она меня раздирает, злит, сводит с ума! Если бы я могла ее высказать! Но ее надо скрыть и быть спокойной, и от этого я еще более жалка себе. Когда откупоривают шампанское, оно пенится и успокаивается, но когда лишь приоткрывают пробку, оно шипит, но не успокаивается. Нет, это сравнение неверно, я страдаю, я совсем разбита!!!…
Я забуду все это, конечно, со временем!.. Сказать, что мое горе вечно, было бы смешно; нет ничего вечного! Но дело в том, что теперь я не могу думать ни о чем другом. Он не женится – его женят. Это дело рук его матери.
[Приписка на полях 1880 года. Все это из-за господина, которого я видела раз десять на улице, которого я не знала и который даже не подозревает о моем существовании.] О, я его ненавижу! Я не хочу, нет, я хочу видеть его с ней! Она в Бадене, в Бадене, который я так любила! Эти прогулки, эти прогулки, эти магазины, где я его видела! [1880 год. Все это я вновь видела, и все это ничего более не пробудило во мне…]
Сегодня я изменила в моей молитве все, что относилось к нему; я более не буду просить у Бога сделаться его женой!..
Не молиться об этом кажется мне невозможным, смертельным! Я плачу, как дура! Ну, ну, дитя мое, будем же более благоразумны!
Кончено! Ну, и прекрасно, – кончено! О, теперь я вижу, что не все делается так, как хочется!
Приготовимся к пытке при перемене молитвы. О, это самое ужасное на свете – это конец всего! Аминь!
18 октября Странное я создание: никто не страдает так, как я, а между тем я живу, пишу, пою. Как я изменилась с этого рокового дня, 13 октября. Страдания постоянно выражаются на лице моем. Его имя уже не составляет благотворного тепла; это огонь, это укор, пробуждение зависти и скорби. Я изведала величайшее несчастье, какое только может случиться с женщиной!.. Горькая насмешка!
Начинаю серьезно думать о своем голосе, я так хотела бы хорошо петь!.. Но к чему теперь?!..
Он был как бы светильником в моей душе, и этот светильник погас. Темно, мрачно, грустно, не знаешь, куда идти. Прежде в моих маленьких неприятностях я всегда имела точку опоры, свет, который указывал мне дорогу и давал мне силу, а теперь я ищу, смотрю, пробую и нахожу только пустоту и мрак. Ужасно, ужасно, когда нет ничего в глубине души…
Клод Моне. Зеленая волна. 1866
21 октября Мы возвращаемся, когда наши уже обедают, и вместо предобеденной закуски получаем маленький выговор от мамы. Милая семейная жизнь входит в свои права. Мама бранит Поля; дедушка перебивает маму, он вмешивается не в свое дело и подрывает в Поле уважение к маме. Поль уходит, ворча, как лакей. Я выхожу в коридор и прошу дедушку не вмешиваться в дела «администрации» и предоставить маме поступать по своему усмотрению. Грешно восстановлять детей против родителей, хотя бы по недостатку такта. Дедушка начинает кричать, это меня смешит; все эти бури всегда смешат меня, а затем возбуждают жалость ко всем этим несчастным, которые страдают только от безделья… Господи, если бы я была на десять лет старше! Если бы я была свободна! Но что делать, когда связан по рукам и по ногам всеми этими тетушками, дедушкой, уроками, наставницами, семьей?.. Целая свита – в тысячу трубачей!
Я говорю таким цветистым слогом, что становится просто глупо… Чем больше я говорю, тем больше хочу сказать. А между тем я не могу вполне выразить того, что чувствую! Я похожа на тех несчастных живописцев, которые замышляют картину не по силам себе…
28 октября Никогда не понравится мне человек ниже меня по положению; все банальные люди мне противны, раздражают меня. Человек бедный теряет половину своего достоинства, он кажется маленьким, жалким, имеет вид какой-то пешки. Тогда как человек богатый, независимый полон гордого покоя. Уверенность всегда имеет в себе нечто победоносное. И я люблю в Г. этот вид – уверенный, капризный, фатоватый и жестокий; в нем есть что-то нероновское.
8 ноября Никогда не нужно позволять заглядывать в свою душу, даже тем, кто нас любит. Нужно держаться середины и, уходя, оставлять по себе сожаление и иллюзии. Таким образом будешь казаться лучше, оставишь лучшее впечатление. Люди всегда жалеют о том, что прошло, и вас захотят снова увидеть; но не удовлетворяйте этого желания немедленно, заставьте страдать, однако не слишком. То, что стоит нам слишком много страдания, теряет свою цену, когда наконец приобретается после стольких затруднений, – кажется, что можно было надеяться на лучшее. Или уж заставьте слишком страдать, более, чем слишком… Тогда вы царица.
Я думаю, что у меня лихорадка; я необыкновенно болтлива, особенно тогда, когда внутренне плачу. Никто не заподозрил бы этого. Я пою, смеюсь, шучу, и чем более я… несчастна, тем более весела. Сегодня я не в состоянии шевельнуть языком, я почти ничего не ела.
Только теперь, глядя на маму глазами посторонней, я открываю, что она очаровательна, прекрасна, как день, несмотря на усталость от всевозможных неприятностей и болезней. Когда она говорит, у нее такой мягкий голос, не звонкий, но сильный и мягкий; прекрасные манеры при полной естественности и простоте.
Я никогда в жизни не видела человека, менее думающего о себе, чем моя мать. Если бы только она побольше заботилась о своем туалете, все восхищались бы ею. Что ни говори, а туалет имеет большое значение. Она одевается в какие-то тряпки, я не знаю во что. Сегодня на ней хорошенькое платье, и, ей-богу, она очаровательна!
29 ноября
Я не могу успокоиться ни на одну минуту, я хотела бы куда-нибудь спрятаться, далеко-далеко, где никого нет. Может быть, тогда я пришла бы в себя.
Я чувствую ревность, любовь, зависть, обманутую надежду, оскорбленное самолюбие, все, что есть самого ужасного в этом мире!.. Но больше всего я чувствую утрату его! Я люблю его! Зачем не могу я выбросить из души моей все, что наполняет ее! Но я не понимаю, что в ней происходит, я знаю только, что я очень мучусь, что что-то гложет, душит меня и все, что я говорю, не высказывает сотой доли того, что я чувствую.
Лицо мое закрыто одной рукой, другой я держу плащ, который окутывает меня всю, даже с головой, чтобы быть в темноте, чтобы собрать свои мысли, которые разбегаются во все стороны и производят во мне какой-то хаос. Бедная голова!..
Одна вещь мучит меня, что через несколько лет я буду сама над собой смеяться и забуду его [PS. 1875. Прошло уже два года, и я не смеюсь над собой и не забыла!], все эти горести будут казаться мне ребячеством, аффектацией. Но нет, заклинаю тебя, не забывай! Когда ты будешь читать эти строки, возвратись мысленно к прошлому, представь себе, что тебе тринадцать лет, что ты в Ницце, что все это происходит в эту минуту! Думай, что все это еще живет!.. Ты поймешь!.. Ты будешь счастлива!..
1874
9 января
Возвращаясь с прогулки, я говорила себе, что не буду похожа на других, которые сравнительно серьезны и сдержанны. Я не понимала, каким образом приходит эта серьезность. Каким образом совершается этот переход от детства к положению молодой девушки? Я спрашивала себя: каким образом совершается это? Постепенно или вдруг? Что действительно заставляет созревать, развивает, изменяет – так это несчастье или любовь. Если бы я гналась за остроумием, я сказала бы, что это синоним, но я не скажу этого, потому что любовь – это самое лучшее, что только может быть в мире.
Я могу сравнить себя с водой, замерзшей в глубине и волнующейся только на самой поверхности, потому что ничто не интересует и не занимает меня в моей глубине.
25 июня Всю эту зиму я не могла взять ни одной ноты; я была в отчаянии, мне казалось, что я потеряла голос, и я молчала и краснела, когда мне говорили о нем; теперь он возвращается, мой голос, мое сокровище, мое богатство! Я сознаю это впервые, со слезами на глазах, и преклоняюсь перед Богом!.. Я ничего не говорила, но я была ужасно огорчена, я не смела говорить об этом и молилась Богу, и Он услышал меня!.. Какое счастье!.. Какое удовольствие хорошо петь! Сознаешь себя всемогущей, сознаешь себя царицей! Чувствуешь себя счастливой! Счастливой благодаря своему собственному достоинству. Это не та гордость, которую дает золото или титул. Становишься более чем женщиной, чувствуешь себя бессмертной. Отрываешься от земли и несешься на небо! И все эти люди, которые следят за движением ваших губ, которые слушают ваше пение, как божественный голос, которые наэлектризованы, взволнованы, восхищены!.. Вы владеете всеми ими!.. После настоящего царства – это первое, чего следует искать. Господство красоты следует уже за этим, потому что оно не всемогуще по отношению ко всем; но пение поднимает человека над землей; он парит в облаках, подобно Венере, явившейся Энею!
Камиль Писсарро. Сидящая крестьянка. 1885
Ницца. 4 июля
Мы отправляемся в церковь Св. Петра – одни барышни. Я усердно молилась, ставши на колени и облокотившись подбородком на руку, очень белую и тонкую. Потом – вспомнив, где я, я прятала руку и в наказание себе старалась стать так, чтобы казаться некрасивой. Я в таком же настроении, как вчера; я надела тетино платье и шляпу.
В таком состоянии духа я не могу возвратиться домой и веду всю компанию в монастырь, который как раз напротив церкви и сообщается задней дверью с домом, где живут С. Мы входим с монастырь и вносим с собой столько шаловливости и веселья, что торжественный покой нарушен, и сестры – всегда тихие, все в белом – оживились и высовывают из дверей свои любопытные лица. Сквозь двойную решетку мы видим мать игуменью; она уже сорок лет в монастыре… Ужас! Оттуда мы идем в приемную пансионерок, и я заставляю танцевать сестру Терезу. Она хочет завербовать меня и хвалит мне монастырь, а я тоже хочу завербовать ее и хвалю ей мир.
Мы – по горло в католической религии. Что ж! Я понимаю страсть к церквам и монастырям.
6 июля
Ничто не пропадает в этом мире. Когда перестают любить одного, привязанность немедленно переносят на другого, даже не сознавая этого, а когда думают, что никого не любят, – это просто ошибка. Если даже не любишь человека, любишь собаку или мебель, и с такой же силой, только в иной форме. Если бы я любила, я хотела бы быть любимой так же сильно, как люблю сама; я не потерпела бы ничего, даже ни одного слова, сказанного кем-нибудь другим. Но такой любви нигде не встретишь. И я никогда не полюблю, потому что никто не полюбит меня так, как я умею любить.
14 июля
Разговор зашел о латинском языке, лицее, экзаменах; это возбуждает во мне ужасное желание учиться, и, когда приходит Брюне, я тотчас же забрасываю его вопросами относительно экзаменов. Он отвечает, что через год подготовки я буду в состоянии держать экзамен на аттестат зрелости. Мы еще поговорим об этом.
Я занимаюсь латынью с февраля этого года; теперь июль. В пять месяцев я сделала, по словам Брюне, столько, сколько проходят в лицее за три года. Это поразительно! Никогда не прощу я себе потери этого года, это всегда будет для меня ужасным горем; никогда не забуду я этого!..
Я в дурном настроении, ничего у меня не идет на лад, ничто мне не удается. Я буду наказана за мою гордость и за мою глупую надменность. Читайте, добрые люди, и научайтесь! Этот дневник – самое полезное и самое поучительное из всего, что было, есть и будет написано! Тут вся женщина, со всеми своими мыслями и надеждами, разочарованиями, со всеми своими скверными и хорошими сторонами, с горестями и радостями. Я еще не вполне женщина, но я буду ею. Можно будет проследить за мной с детства до самой смерти. А жизнь человека – вся жизнь, как она есть, без всякой маскировки и прикрас, – всегда великая и интересная вещь.
16 июля
Соответственно моей теории о перенесении любви вся сумма ее, которой я обладаю, сосредоточена в настоящий момент на Викторе, одной из моих собак. Я завтракаю, а он напротив меня положил на стол свою славную большую морду. Будем любить собак, одних только собак! Люди и кошки – недостойные твари. А между тем собака – грязна, она жадными глазами следит за тем, как вы едите, она привязывается за то, что ее кормят. Однако я никогда не кормлю своих собак, а они любят меня. А Пратер, который покинул меня из ревности к Виктору и перешел к маме!.. А люди – разве они не ждут так же подачки, разве они не так же прожорливы и продажны?
17 июля
Говорят, что в России есть шайка негодяев, которые добиваются коммуны; это ужас что такое! Все отобрать и иметь все сообща. И их проклятая секта так распространена, что журналы делают отчаянные воззвания к обществу. Неужели отцы семейств не положат конца этому безобразию? Они хотят все погубить. Чтобы не было больше цивилизации, искусства, прекрасных и великих вещей: одни материальные средства к существованию! Работа также сообща, никто не будет иметь права выдвинуться благодаря какому-нибудь достоинству, выделяющему его из других. Хотят уничтожить университеты, высшее образование, чтобы сделать из России какую-то карикатуру Спарты!
Д., кажется, поражен всем, что я говорю, и удивляется, видя во мне такую лихорадочную жизнь. Мы говорим о нашей мебели; он весь так и рассыпался при описании моей комнаты. «Да это храм! Сказка из тысячи и одной ночи! – восклицает он. – Да сюда надо входить на коленях. Чудно, поразительно, ни с чем не сравнимо!» Он хочет разъяснить себе мой характер и спрашивает, гадаю ли я на маргаритках. «Да, очень часто, – чтобы знать, хорош ли будет обед!» – «Но как? Такая поэтическая, сказочная комната и вместе с тем гадание на маргаритке, как удался повару обед? О, нет! Это невероятно!» Его очень забавляет, что, по моему уверению, во мне два сердца. Я дурачилась, заставляя его восклицать и удивляться множеству контрастов. Я поднималась на небо и потом без всякого перехода спускалась на землю и так далее; я изображала из себя личность, которая хочет жить и забавляться и даже не подозревает возможности любить. А он удивляется, говорит, что боится меня, что это изумительно, сверхъестественно, ужасно!
Камиль Писсарро. Купальщица в лесу. 1885
Что я люблю больше всего – это когда нет никого, для кого хотелось бы существовать, т. е. уединение.
Волосы мои, завязанные узлом на манер прически Психеи, рыжее, чем когда-либо. Платье шерстяное, особенного белого цвета, очень грациозного и идущего ко мне; на шее кружевная косынка. Я похожа на один из портретов Первой империи; для дополнения картины нужно было бы только, чтобы я сидела под деревом с книгой в руках. Я люблю, уединившись перед зеркалом, любоваться своими руками, такими белыми, тонкими и только слегка розоватыми в середине.
Это, может быть, глупо так хвастаться, но люди, которые пишут, всегда описывают свою героиню, а я сама своя героиня. Да и было бы странно унижать себя из ложной скромности. Ведь унижают себя на словах только тогда, когда в сущности вполне уверены в своей высоте. А в моих писаниях всякий увидит, что я говорю только правду, и еще подумают, что я безобразна и глупа, – это было бы нелепо.
К счастью или несчастью, но я вижу в себе такое сокровище, которого никто не достоин, и на тех, кто смеет поднимать глаза на такое сокровище, я смотрю как на людей, едва достойных жалости. Я вижу в себе какое-то божество и не допускаю, чтобы такой человек, как Ж., возымел идею мне понравиться. Я едва-едва могла бы обращаться как с равным – с каким-нибудь королем. Я думаю, что это очень хорошо. Я смотрю на людей с такой высоты, что кажусь им весьма милой, потому что нельзя даже презирать людей, которые находятся так низко. Я смотрю на них, как заяц смотрел бы на мышей.
2 августа
После целого дня беготни по магазинам, портным и модисткам, прогулок и кокетства я надеваю пеньюар и читаю своего любезного друга Плутарха.
У меня гигантское воображение; я мечтаю о романических приключениях прошедших веков, не сомневаясь притом, что я самая романтическая из женщин и что это очень вредно! Я очень легко прощаю себе мое обожание к герцогу, потому что нахожу его достойным меня во всех отношениях.
17 августа
Я видела во сне Фронду; я только что поступила на службу к Анне Австрийской, она остерегалась меня, и я проводила ее среди взбунтовавшегося народа, восклицая: «Да здравствует королева!», а народ кричал вокруг меня: «Да здравствует королева!»
18 августа
Мы проводим день в восхищениях мною. Мама восхищается мной, княгиня Ж. восхищается мной; она постоянно говорит, что я похожа на маму или на ее дочь. Что же, это самый большой комплимент, какой только могут сделать! Ни о ком не думают лучше, чем о себе. Да и правда – я красива. В Венеции, в большой зале герцогского палаццо, живопись на потолке Павла Веронезе изображает Венеру в образе высокой, свежей, белокурой женщины; я напоминаю ее. Мои фотографические портреты никогда не передадут меня, в них недостает красок, а моя свежесть, моя бесподобная белизна составляет мою главную красоту. Но стоит только привести меня в другое настроение, раздосадовать чем-нибудь, стоит мне устать – прощай моя красота! Нельзя представить себе ничего более непостоянного. Но когда я счастлива, спокойна – тогда только я очаровательна.
Когда я утомлена или рассержена, я вовсе не красива, даже скорее безобразна. Я расцветаю от счастья, как цветок от солнца. Меня еще увидят, еще есть время – слава Богу! Я только начинаю делаться тем, чем буду в двадцать лет…
Я – как Агар в пустыне; я жду и жажду живой души.
Париж. 24 августа
Я надеюсь вступить в свет, в свет, который я призываю к себе всеми фибрами души, стоя на коленях, потому что в нем моя жизнь, мое счастье. Я уже начинаю жить и стараюсь приводить в исполнение мои мечты – сделаться знаменитой: меня знают уже довольно многие. Я смотрюсь в зеркало и вижу, что я хорошенькая. Я – хорошенькая, чего мне еще нужно? Разве я не могу сделать все, обладая этим? Боже мой, дав мне эту безделицу красоты (я говорю безделицу – из скромности), Ты дал мне уже слишком много! Я сознаю себя красивой, и мне кажется, что все удастся мне. Все улыбается мне, и я чувствую себя счастливой, счастливой, счастливой!
Шум Парижа, этот громадный, как город, отель, со всем этим людом, вечно ходящим, говорящим, читающим, курящим, глазеющим, – голова идет кругом! Я люблю Париж, и сердце мое бьется. Я хочу жить скорее, скорее, скорее… («Я никогда не видал такой лихорадочной жизни», – сказал Д., глядя на меня.) Это правда, я боюсь только, что это желание жить на всех парах есть признак недолговечности. Кто знает? Ну вот, мне становится грустно… Нет, не хочу грустить…
Поль Сезанн. Натюрморт с яблоками. 1893–1894
5 сентября
В Булонском лесу встречается столько жителей Ниццы, что на один момент мне показалось, что я в Ницце. Ницца так прекрасна в сентябре… Я вспоминаю о прошлом годе – мои утренние прогулки с моими собаками. Небо такое ясное, серебристое море… Здесь нет ни утра, ни вечера. Утром – везде выметают, вечером – эти бесчисленные фонари просто раздражают меня. Здесь я теряюсь, не умею различить утренней зари от вечерней. А там так хорошо! Чувствуешь себя как в гнездышке, окруженном горами – не слишком высокими и не бесплодными. С трех сторон – точно грациозная драпировка, а спереди – громадное окно, бесконечный горизонт, вечно тот же и вечно новый. Я люблю Ниццу, Ницца – моя родина, в Ницце я выросла, Ницца дала мне здоровье, свежие краски. Там так хорошо! Просыпаешься с зарей и видишь, как восходит солнце, там, налево, из-за гор, которые резко выделяются на голубом серебристом небе, туманном и кротком, – и задыхаешься от радости! К полудню солнце против меня. Становится жарко, но воздух не раскален, тихий береговой ветерок всегда приносит прохладу. Все, кажется, заснуло. На бульваре ни души, разве какие-нибудь два-три жителя Ниццы, задремавшие на скамейке. Тогда я дышу свободно и наслаждаюсь. Вечером опять небо, море, горы. Но вечером все кажется черным или темно-синим. А когда светит луна, по морю бежит точно громадная дорога или рыба с алмазной чешуей; я остаюсь в своей комнате у окна, с зеркалом и двумя свечами, – спокойно, одна, ничего мне не нужно, и я благодарю Бога! О! Нет! Никогда не поймут того, что я хочу высказать. Не поймут, потому что не испытали этого. Нет, это все не то; каждый раз, когда я хочу выразить, что чувствую, я прихожу в отчаяние! Это точно кошмар, когда не хватит сил вскрикнуть!
Впрочем, никакое описание не может дать понятия о действительной жизни. Как передать эту свежесть, это благоухание воспоминания? Можно выдумать то или другое, можно создать, но нельзя воспроизвести… Как бы живо ни чувствовал при описании, в результате получаются самые обыкновенные слова: лес, гора, небо, луна; все говорят то же самое. Да и к чему все это? Какое до этого дело другим? Другие никогда не поймут, потому что это они, а не я; я одна понимаю, потому что я вспоминаю. И потом люди не стоят того, чтобы мы старались передать им все это. Всякий чувствует, как я, всякий за себя. Я хотела бы достигнуть того, чтобы другие чувствовали то же, что я, за меня; но это невозможно – для этого нужно, чтобы они были мной.
Ах, дитя мое, оставь все это в покое, ты забираешься в излишние тонкости. Ты опять совсем обезумеешь, как тогда с твоей «сущностью»… Ведь есть столько умных людей!.. Ах, да нет! Я хотела сказать, что это их дело – разобраться в этом… Нет, нет! Они могут создать что-нибудь, но разобрать – нет, нет, сто тысяч раз нет! Во всем этом ясно только одно: что на меня нашла тоска по Ницце.
6 сентября
При всем моем изнеможении и ежеминутной ужасной тоске я не проклинаю жизни; напротив, я люблю ее и нахожу ее прекрасной. Поверят ли мне? Я нахожу все прекрасным и приятным, даже слезы, даже страдание. Я люблю плакать, люблю приходить в отчаяние, люблю быть огорченной и печальной. Я смотрю на все это как на развлечение – и люблю жизнь, несмотря ни на что. Я хочу жить. Было бы жестоко заставить меня умереть, когда я так нетребовательна. Я плачу, я жалуюсь, и в то же время мне это нравится… Нет, не это… Я не знаю, как выразить… Ну, словом, все в жизни мне нравится, все я нахожу приятным. И желая счастья, я нахожу счастье даже в несчастье. То есть, собственно, это не я нахожу: тело мое плачет и кричит, но что-то, находящееся во мне, но стоящее выше меня, радуется всему. Не то чтобы я предпочитала слезы радости, нет, но я далека от того, чтобы проклинать жизнь в минуты отчаяния, я благословляю ее и говорю: я несчастна, я жалуюсь, но я нахожу самую жизнь такой прекрасной, что все кажется мне прекрасным и счастливым, и я хочу жить! Вероятно, этот «некто», стоящий выше меня и радовавшийся даже слезам, покинул меня сегодня, потому что я чувствую себя очень несчастной.
Я еще никому не сделала зла, а меня уже оскорбили, унизили, оклеветали! Как могу я любить людей! Я ненавижу их, а Бог запрещает ненависть. Но Бог покинул меня. Бог испытывает меня. Но если Он испытывает меня Он должен прекратить испытание. Он видит, как я принимаю это. Он видит, что я не скрываю скорби.
Одна вещь огорчает меня больше всего. Это… Не то чтобы разрушение всех моих планов, нет, но сожаление о последствиях, оставляемых неприятностями. И не то чтобы это было сожаление за себя, но… Я не знаю, поймут ли меня: это сожаление ощущается потому же, почему тяжело видеть, как накопляются пятна на белом платье, которое хотелось бы сохранить чистым.
При каждом маленьком огорчении сердце мое сжимается – не за меня, но от сожаления, потому что каждое огорчение – точно капля чернил, падающая в стакан с водой: оно никогда не изглаживается, а прибавляется ко всем предшествующим, делает стакан чистой воды – серой, черной, грязной. Сколько потом ни прибавляй воды, она все-таки останется грязной.
Сердце мое сжимается потому, что это каждый раз неизгладимое пятно на моей жизни, на моей душе. Не правда ли? Всегда ощущаешь глубокую грусть при виде непоправимой вещи, как бы незначительна она ни была.
Поль Сезанн. Дома в Провансе. 1883
12 сентября
Вечером мы уже во Флоренции. Город кажется мне посредственным, но оживление большое. На всех углах продают арбузы целыми грудами. Эти арбузы, красные и свежие, очень соблазняют меня. Окно наше выходит на площадь и на Арно. Я велю принести себе программу празднеств: первый день уже был сегодня. Я думала, что мой двоюродный братец Виктор-Эммануил сумеет воспользоваться таким прекрасным случаем, представляющимся ему, – столетие Микеланджело Буонарроти! В твое царствование! И ты не созываешь всех монархов, не задаешь им празднеств, каких бы еще никто ни видывал! Не поднимаешь никакого шума!!!
О король, твой сын, твой внук и твои правнуки будут царствовать и не будут иметь этого случая, о бесчувственная туша! Король без честолюбия, без самолюбия! Предполагается много различных собраний, концертов, иллюминация, бал в казино, прежнем дворце Боргезе… Но ни одного государя! Ничего, как я люблю! Ничего, как мне хотелось бы!..
13 сентября
Ну, я несколько собираюсь с мыслями. Чем больше у меня есть чего рассказать, тем меньше я пишу… Это потому, что я нетерпелива, слишком возбуждена, когда мне надо много сказать.
Мы объезжаем город в ландо, в полном туалете. Ах, как я люблю эти мрачные дома, эти портики, эти колонны, эту массивную, величественную архитектуру! Стыдитесь, архитекторы французские, русские, английские, спрячьтесь со стыда под землю! Обратитесь, провалитесь сквозь землю, парижские дворцы! Не Лувр – он безукоризнен, но все остальное. Никогда больше не достигнуть этого чудного великолепия итальянцев. Я гляжу во все глаза на громадные камни палаццо Питти! Город грязен, чуть не в лохмотьях, но сколько в нем красоты! О, страна Данте, Медичи, Савонаролы! Как ты полна чудных воспоминаний для тех, кто думает, чувствует, понимает! Сколько дивных творений! Сколько развалин! О, негодный король! О, если бы я была королевой!..
Я обожаю живопись, скульптуру, искусство, где бы оно ни проявлялось. Я могла бы проводить целые дни в этих галереях, но тетя нездорова, едва может ходить со мной, и я жертвую этим. Впрочем, жизнь для меня еще впереди, еще будет время увидеть.
В палаццо Питти я не нахожу ни одного костюма, достойного подражания, но какая красота, какая живопись!..
Признаться ли? Я не смею… Все будут кричать; «Караул! Караул! Ну-ка, признавайся!..» Дело в том, что «Сидящая Богородица» Рафаэля мне не нравится. Лицо Богородицы бледно, цвет лица какой-то неестественный, выражение – подходящее скорее какой-нибудь горничной, чем Святой Деве, матери Христа… Но зато там есть «Магдалина» Тициана, которая привела меня в восторг. Только… Всегда есть какое-нибудь «только» – у нее полные, слишком пухлые руки: прекрасные руки для пятидесятилетней женщины. Есть также некоторые вещи Рубенса, Ван-Дейка, очаровательные. «Ложь» Сальвадора Розы – очень хороша, очень правдива. Я сужу не в качестве знатока; мне нравится то, что всего правдивее, что ближе к природе. Да и не состоит ли в этом подражании природе самая цель живописи?
Я очень люблю полную и свежую фигуру жены Павла Веронезе, им написанную. Я люблю этот жанр его живописи. Я обожаю Тициана, Ван-Дейка; но этот несчастный Рафаэль! Только не узнал бы кто-нибудь, что я пишу! Меня приняли бы за дуру. Я не критикую Рафаэля, я не понимаю его; со временем я, конечно, пойму его красоты. Однако портрет папы Льва (не помню, которого – X, кажется) просто удивителен.
«Святая Дева с младенцем Христом» Мурильо также привлекла мое внимание: это – свежо, естественно.
К моему великому удовольствию, оказалось, что картинная галерея меньше, чем я думала. Это убийственно, когда галереи бесконечны, как лабиринт, и притом иногда еще более ужасные, чем на Крите.
Я провела во дворце два часа, не садясь ни на минуту, и не устала!.. Вещи, которые я люблю, не утомляют меня. Когда приходится смотреть картины и особенно статуи, я точно из железа. А если бы меня заставили ходить по магазинам Лувр или «Bon Marche», даже Ворта, да я бы через три четверти часа расплакалась.
Не одно путешествие еще не доставляло мне такого удовлетворения, как это: наконец-то я нахожу вещи, достойные осмотра. Я обожаю эти мрачные дворцы Строцци. Я обожаю эти громадные двери, эти великолепные дворы, галереи, колонны. Это так величественно, мощно, прекрасно!.. Ах, мир вырождается; хотелось бы сровнять с землей современные постройки, сравнивая их с этими гигантскими камнями, нагроможденными друг на друга и высящимися до небес. Приходится проходить под мостиками, соединяющими дворцы на страшной, невероятной высоте…
Ну, дитя мое, умерь свои выражения, что же скажешь ты после этого о Риме?
1875–1876
1875
Ницца. 30 сентября
Я спускаюсь в свою лабораторию, и – о ужас! – все мои склянки, баллоны, все мои соли, все мои кристаллы, все мои кислоты, все мои трубочки откупорены и свалены в грязный ящик в ужаснейшем беспорядке. Я прихожу в такую ярость, что сажусь на пол и начинаю окончательно разбивать вещи, попорченные только наполовину. То, что уцелело, я не трогаю – я никогда не забываюсь.
– А! Вы думали, что Мари уехала, так уж она и умерла! Можно все перебить, все разбросать! – кричала я, разбивая склянки.
Тетя сначала молчала, потом сказала:
– Что это? Разве это барышня? Это какое-то страшилище, ужас что такое!
И среди моей злобы я не могу удержаться от улыбки. Потому что, в сущности, все это дело внешнее, не затрагивающее глубины моей души, а в эту минуту, к счастью, я заглядываю в эту глубину и совершенно успокаиваюсь и смотрю на все это так, как будто бы это касалось не меня, а кого-нибудь другого.
1 октября
Бог не исполняет того, о чем я молюсь, и я покоряюсь (нет, вовсе нет, я жду). Ах, как это скучно – ждать и не быть в состоянии сделать что бы то ни было, как только ждать. Все эти неприятности и затруднения окружающей жизни губят женщину.
«Если бы человек, тотчас же по рождении, в своих первых движениях не встречал затруднений в своем соприкосновении с окружающей средой, он не мог бы в конце концов отличить себя от внешнего мира, считал бы, что этот мир есть часть его самого, его тела; и по мере своего соприкосновения со всем – жестом или шагами – он только убеждался бы, что все находится от него в зависимости и есть просто протяжение его личного существа, и сказал бы: Вселенная – это я».
Вы, конечно, вполне вправе утверждать, что это слишком хорошо сказано, чтобы принадлежать мне; да я и не подумаю приписывать это себе. Эго сказал философ, а я только повторяю. Так вот, так я мечтала жить, но соприкосновение с окружающими вещами наделало мне синяков, и это ужасно сердит меня.
Поль Сезанн. Мадам Сезанн в красном платье. 1888–1890
Беспорядок в доме очень огорчает меня; все эти мелочи в службе, комнаты без мебели, этот вид какого-то запустения, нищенства надрывает мне сердце! Господи, сжалься надо мной, помоги мне устроить все это. Я одна. Для тети все равно, хоть дом обрушься, хоть сад весь высохни!.. Не говорю уж о мелочах… А я… все эти мелочи недосмотра раздражают меня, портят мне характер. Когда все кругом меня прекрасно, удобно и богато, я добра, весела, и все хорошо. Но это разорение и запустение заставляют меня от всего приходить в отчаяние, везде видеть эту пустоту. Ласточка вьет гнездо свое, лев устраивает свою нору, как же это человек, стоящий так высоко сравнительно с животными, не хочет ничего делать?
Если я говорю: «Стоящий так высоко», это вовсе не означает, что я его уважаю, нет. Я глубоко презираю род людской и по убеждению. Я не жду от него ничего хорошего. Я не нахожу того, чего ищу в нем, что надеюсь встретить – доброй, совершенной души. Добрые – глупы, умные – или хитры, или слишком заняты своим умом, чтобы быть добрыми. И потом – всякое создание, в сущности, эгоистично. А поищите-ка доброты у эгоиста. Выгода, хитрость, интрига, зависть!! Блаженны те, у кого есть честолюбие – это благородная страсть: из самолюбия и честолюбия стараешься быть добрым перед другими, хоть на минуту, и это все-таки лучше, чем не быть добрым никогда.
Ну-с, дочь моя, исчерпали вы свою мудрость? Для настоящего времени – да. По крайней мере, так у меня будет меньше разочарований!.. Никакая подлость не огорчит меня, никакая низость не удивит меня. Конечно, настанет день, когда мне покажется, что я нашла человека, но в этот день я обману себя безобразнейшим образом. Я отлично предвижу этот день. Я буду ослеплена, я говорю это теперь, когда вижу так ясно… Но тогда зачем жить, если все в этом мире низость и злодейство?.. Зачем? Потому что я понимаю, что это так. Потому что, что ни говори, жизнь прекрасна. И потому что, не слишком углубляясь, можно жить счастливо. Не рассчитывать ни на дружбу, ни на благородство, ни на верность, ни на честность; смело подняться выше человеческого ничтожества и занять положение между людьми и Богом. Брать от жизни все, что можно, не делать зла своим ближним, не упускать ни одной минуты удовольствия, обставить свою жизнь удобно, блестяще и великолепно; главное – подняться как можно выше над другими; быть могущественным! Да, могущественным! Могущественным! Во что бы то ни стало!.. Тогда тебя боятся и уважают. Тогда чувствуешь себя сильным, и это верх человеческого блаженства, потому что тогда люди обузданы – или своей подлостью, или чем-то другим – и не кусают тебя.
Не странно ли видеть меня рассуждающей таким образом? Да, но эти рассуждения в устах такого щенка, как я, только лишнее доказательство, чего стоит мир!.. Он должен быть хорошо пропитан грязью и злобой, чтобы в такой короткий срок до такой степени озлобить меня. Мне едва пятнадцать лет.
И это доказывает явное милосердие Божие, потому что, когда я вполне постигну все безобразия мира, я увижу, что только и есть Он, там, наверху, в небе, я – внизу, на земле. Это убеждение даст мне величайшую силу. Если я коснусь окружающей пошлости, то только для того, чтобы подняться, и я буду счастлива, когда не буду принимать к сердцу все эти мелочи, вокруг которых люди вертятся, борются, грызутся, рвут друг друга на части, как голодные собаки.
Но все это слова!.. Куда же я поднимусь? И как? О! Пустые бредни!..
Я все поднимаюсь, все поднимаюсь мысленно, душа моя расширяется, я чувствую себя способной на громадные вещи, но к чему все это служит? Я живу в темном углу, и никто не знает меня!
И вот я уже начинаю сожалеть своих ближних! Да я и никогда не пренебрегала ими, напротив, я ищу их – без них нет ничего в этом мире. Только – только я ценю их на столько, на сколько они стоят, и хочу этим воспользоваться.
Толпа – в ней все. Что мне несколько выдающихся существ, мне нужны все, мне нужно блеска, шума.
Когда я думаю, что… Возвратимся к этому вечному, скучному, но необходимому слову: подождем!.. О, если бы кто-нибудь знал, чего мне стоит ждать!
Но я люблю жизнь, люблю ее горести и радости. Люблю Бога и весь Его мир, со всеми его дурными сторонами, несмотря на все эти дурные стороны и, может быть, даже вследствие их.
Почему это никогда нельзя говорить без преувеличений? Мои черные размышления были бы справедливы, если бы были несколько спокойнее; их неистовая форма лишает их естественности.
Есть черствые души, но есть и прекрасные поступки, и честные души, но все это порывами и так редко, что нельзя смешивать их с остальным миром.
Скажут, пожалуй, что я говорю все это, потому что у меня какие-нибудь неприятности; нет, у меня только мои обычные неприятности и ничего особенного. Не ищите ничего такого, что не находилось бы в этом журнале, я добросовестна и никогда не прохожу молчанием ни какой-нибудь мысли, ни сомнения. Я воспроизвожу себя так точно, как только позволяет мне мой бедный ум. А если мне не верят, если ищут чего-нибудь сверх того или под тем, что я говорю, тем хуже! Ничего не увидят, потому что ничего и нет.
Поль Сезанн. Арлекин. 1888–1890
9 октября
Если бы я родилась принцессой Бурбонской, как madam de Longueville, если бы мне прислуживали графы, если бы родственниками и друзьями моими были короли, если бы с самого своего рождения я только и встречала, что преклоненные головы заискивающих придворных, если бы я ходила только по коврам, украшенным гербами, и спала под королевскими балдахинами, если бы у меня был целый ряд предков – один славнее другого; если бы у меня было все это, я не могла бы быть ни более гордой, ни более надменной, чем теперь. О Боже мой, как я благодарю Тебя! Эти мысли, которые Ты посылаешь мне, помогут мне устоять на верном пути и не дозволят мне ни на минуту упустить из глаз блестящую звезду, к которой я иду.
Мне кажется, что в эту минуту я вовсе не иду. Но я пойду – из-за таких пустяков не говорят такой прекрасной фразы…
О, как я устала от этой неизвестности. Я чахну от этого бездействия, я покрываюсь плесенью в этих потемках! Солнца, солнца, солнца!..
Но с какой стороны придет оно? Когда? Где? Как? Я ничего не хочу знать, только бы оно пришло!
В момент моей мании величия все предметы кажутся мне недостойными прикосновения, перо мое отказывается писать обыденные имена. Я смотрю со сверхъестественным пренебрежением на все, что окружает меня, а потом говорю себе со вздохом: ну, подбодрись! Это время только переход, ведущий меня куда-то, где мне будет хорошо.
15 октября
Тетя пошла купить фруктов около церкви Св. Репарата, я была с ней.
Женщины тотчас же окружили меня. Я спела вполголоса Rossiqno chevola. Это привело их в восторг, и даже самые старые принялись плясать; я сказала, что могла, на ниццарском наречии. Словом, народное торжество.
Торговка яблоками сделала мне реверанс, восклицая: «Che bella reqina!»
Я не знаю, почему это простые люди любят меня, я и сама чувствую себя хорошо среди них; я воображаю себя царицей, я говорю с ними с благоволением и ухожу после маленькой овации, как сегодня. Если бы я была королевой, народ обожал бы меня.
27 декабря
Я видела странный сон. Я летала высоко-высоко над землей. В руке я держала лиру, струны которой ежеминутно обрывались, и я не могла извлечь из нее ни одного аккорда. Я поднималась все выше и выше, передо мной открывались громадные горизонты – какие-то облака: голубые, желтые, красные, смешанные, золотистые, серебристые, разорванные, странные; потом все становилось серым, потом снова ослепительно сверкало; и я все поднималась, пока не достигла наконец такой высоты, что дух захватывало. Но я не боялась. Облака казались внизу застывшими, сероватыми и блестящими, как свинец. Все стало как-то неопределенно; я держала в руке свою лиру, со слабо натянутыми струнами, а вдали, под моими ногами, виднелся красноватый шар – земля.
Вся моя жизнь в этом журнале; мои наиболее спокойные минуты – когда я пишу. Это, может быть, мои единственные спокойные минуты.
Если я умру скоро, я все сожгу, но если я умру, дожив до старости, все прочтут этот журнал. Я думаю, что еще не существует такой фотографии, если можно так выразиться, целой жизни женщины, всех ее мыслей, всего, всего. Это будет интересно. Если я умру молодой, скоро, и – по несчастью – не успею сжечь этого журнала, скажут про меня: «Бедное дитя! Она любила, и отсюда все ее отчаяние!» Пусть говорят, я не буду доказывать противного, потому что, чем больше я буду говорить, тем меньше мне поверят.
Может ли быть что-нибудь более плоское, более подлое, более презренное, чем род людской? Ничего! Ничего! Род человеческий был создан к погибели… Ну да, я хотела сказать – к погибели рода человеческого.
Уже три часа утра, а, как говорит тетя, я ничего не выиграю, проводя бессонные ночи. О, какое нетерпение. Мое время придет, я охотно верю этому, а что-то все шепчет мне, что оно никогда не придет, что всю мою жизнь я будут только ждать… вечно ждать. Все ждать… ждать!
Я так сержусь; я не плакала, не ложилась на пол. Я спокойна. Это плохой знак, уж лучше, когда приходишь в бешенство…
28 декабря
Мне холодно, губы мои горят. Я отлично знаю, что это недостойно сильного ума – так предаваться мелочным огорчениям, грызть себе пальцы из-за пренебрежения такого города, как Ницца[3]; но покачать головой, презрительно улыбнуться и больше не думать об этом – это было бы слишком. Плакать и беситься доставляет мне больше удовольствия. Я дошла до такого нервного возбуждения, что любой отрывок музыкальной пьесы, если только это не галоп, заставляет меня плакать. В каждой опере я усматриваю себя, самые обыкновенные слова поражают меня прямо в сердце.
Подобное состояние делало бы честь женщине в тридцать лет. Но в пятнадцать лет говорить о нервах, плакать, как дура, от каждой глупой сентиментальной фразы!
Только что я опять упала на колени, рыдая и умоляя Бога, протянув руки и устремив глаза вперед, как будто бы Бог был здесь, в моей комнате.
По-видимому, Бог и не слышит меня, а между тем я кричу довольно громко. Кажется, я говорю дерзости Богу.
В эту минуту я в таком отчаянии, чувствую себя такой несчастной, что ничего не желаю! Если бы все враждебное общество Ниццы пришло и стало передо мной на колени, я бы не двинулась!
Да, да, я бы дала ему пинка ногою!.. Потому что, в самом деле, что мы ему сделали?
Боже мой, неужели вся моя жизнь будет такова?
Я хотела бы обладать талантом всех авторов, вместе взятых, чтобы выразить всю бездну моего отчаяния, моего оскорбленного самолюбия, всех моих неудовлетворенных желаний.
Стоит только мне пожелать, чтобы уж ничто не исполнилось!..
Найду ли я какую-нибудь собачонку на улице, голодную и избитую уличными мальчишками, какую-нибудь лошадь, которая с утра до вечера возит невероятные тяжести, какого-нибудь осла на мельнице, какую-нибудь церковную крысу, учителя математики без уроков, расстриженного священника, какого-нибудь дьявола, достаточно раздавленного, жалкого, грустного, униженного, забитого, чтобы сравнить его с собой?
Что ужасно во мне, так это то, что пережитые унижения не скользят по моему сердцу, но оставляют в нем свой мерзкий след!
Никогда вы не поймете моего положения, никогда вы не составите понятия о моем существовании. Вы засмеетесь… Смейтесь, смейтесь! Но может быть, найдется хоть кто-нибудь, кто будет плакать. Боже мой, сжалься надо мной, услышь мой голос; клянусь Тебе, что я верую в Тебя.
Такая жизнь, как моя, с таким характером, как мой характер!!!
1876
Рим. 1 января
Ницца, Ницца, есть ли в мире другой такой чудный город после Парижа? Париж и Ницца, Ницца и Париж! Франция, одна только Франция! Жить можно только во Франции…
Дело идет об ученье, потому что ведь для этого я и приехала в Рим. Рим вовсе не производит на меня впечатления Рима.
Да неужели это Рим? Может быть, я ошиблась? Возможно ли жить где-нибудь, кроме Ниццы? Объехать различные города, осмотреть их – да, но поселиться здесь!..
Впрочем, я привыкну.
Здесь я – точно какое-нибудь бедное пересаженное растение. Я смотрю в окно и вместо Средиземного моря вижу какие-то грязные дома; хочу посмотреть в другое окно и вместо замка вижу коридор гостиницы. Вместо часов в башне бьют стенные часы гостиницы…
Это гадко – заводить привычки и ненавидеть перемену.
5 января
Я видела фасад собора Святого Петра. Он чудно хорош; это привело в восторг мое сердце – особенно левая колоннада, потому что ни один дом ее не загораживает, и эти колонны на фоне неба производят удивительное впечатление. Кажется, что переносишься в Древнюю Грецию.
Мост и крепость Св. Ангела тоже в моем вкусе.
Это величественно, прекрасно.
А Колизей?
Но что мне сказать о нем после Байрона?..
10 января
Наконец мы идем в Ватикан. Я еще никогда не видела вблизи «сильных мира сего» и не имела никакого понятия, как к ним приступают, тем не менее мое чутье говорило мне, что мы поступали не так, как было нужно. Подумайте, ведь кардинал Антонелли – папа на деле, если не по имени, – пружина, заставлявшая двигаться всю папскую машину…
Винсент Ван Гог. Мадам Августина Рулен качает колыбель. (Колыбельная). 1889
Мы подходим с очаровательнейшим доверием под правую колоннаду, я проталкиваюсь, не без труда, сквозь окружающую нас толпу проводников и внизу, у лестницы, обращаюсь к первому попавшемуся солдату и спрашиваю у него его преосвященство. Солдат этот отсылает меня к начальнику, который дает мне довольно смешно одетого солдата, и он ведет нас через четыре огромных лестницы из разноцветного мрамора, и мы выходим наконец на четырехугольный двор, который, вследствие неожиданности, сильно поражает меня. Я не предполагала ничего подобного внутри какого бы то ни было дворца, хотя и знала по описаниям, что такое Ватикан.
После того как я видела эту громаду, я не хотела бы уничтожения пап. Они велики уже тем, что создали нечто столь величественное, и достойны уважения за то, что употребили свою жизнь, могущество и золото, чтобы оставить потомству этого могучего колосса, называемого Ватикан.
В этом дворе мы находим обыкновенных солдат и солдата и двух сторожей, одетых как карточные валеты. Я еще раз спрашиваю его преосвященство. Офицер вежливо просит меня дать свое имя, я пишу, карточку уносят, и мы ждем. Я жду, удивляясь нашей дикой выходке.
Офицер говорит мне, что мы дурно выбрали время, что кардинал обедает и, очень вероятно, не будет в состоянии принять кого бы то ни было. Действительно, человек возвращается и говорит нам, что его преосвященство только что удалился в свои покои и не может принять, чувствуя себя не совсем здоровым, но что, если мы будем так любезны и потрудимся оставить свою карточку внизу и прийти «завтра утром», он, вероятно, примет нас.
И мы уходим, посмеиваясь над нашим маленьким визитом кардиналу Антонелли.
14 января
В одиннадцать часов пришел К., молодой поляк, мой учитель живописи, и привел с собой натурщика, лицо которого вполне подходит для Христа, если несколько смягчить линии и оттенки. У этого несчастного только одна нога; он позирует только для головы. К. сказал мне, что он брал его всегда для своих Христов.
Я должна признаться, что несколько оробела, когда он сказал, чтобы я прямо рисовала с натуры, так, вдруг, без всякого приготовления; я взяла уголь и смело набросала контуры. «Хорошо, – сказал учитель, – теперь то же самое кистью». Я взяла кисть и сделала, что он сказал. «Хорошо, – сказал он еще раз, – теперь пишите».
И я стала писать, и через полтора часа все было готово.
Мой несчастный натурщик не двигался, а я не верила глазам своим. С Бенза мне нужно было два-три урока для контура и еще при копировке какого-нибудь холста, тогда как здесь все было сделано в один раз и с натуры – контур, краски, фон. Я довольна собой, и если говорю это, значит, уж заслужила. Я строга, и мне трудно удовлетвориться чем-нибудь, особенно самой собою.
Ничто не пропадает в этом мире. Куда же пойдет моя любовь? Каждая тварь, каждый человек имеет одинаковую долю этого «эфира», заключенного в нем. Только, смотря по свойствам человека, его характеру и его обстоятельствам, кажется, что он обладает ею в большей или меньшей степени. Каждый человек любит постоянно, но только любовь эта обращается на разные предметы, а когда кажется, что он вовсе не любит, «эфир» этот изливается на Бога или на природу – в словах, или письменно, или просто во вздохах и мыслях.
Затем есть существа, которые пьют, едят, смеются и ничего больше не делают; у них этот «эфир» или совсем заглушен животными инстинктами, или расходится на все предметы и на всех людей вообще, без различия, и это-то те люди, которых обыкновенно называют добродушными и которые вообще не умеют любить.
Есть также люди, которые, как говорят в общежитии, никого не любят. Это неточно; они все-таки любят кого-нибудь, но только особенным, не похожим на других, способом. Но есть еще несчастные, которые действительно не любят, потому что они любили и больше не любят. И опять вздор! Говорят, они не любят, – хорошо. Но почему же тогда они страдают? Потому что они все-таки любят, а думают, что разлюбили, – или из-за неудачной любви, или из-за потери дорогой личности.
У меня более, чем у кого-либо другого, эфир дает себя чувствовать и проявляется беспрестанно; если бы мне нужно было замкнуть его в себе, пришлось бы разорваться.
Я изливаю его, как благодетельный дождь, на негодный, красный гераниум, который даже и не подозревает этого. Это одна из моих причуд. Мне так нравится, и я воображаю бездну разных вещей, и привыкаю думать о нем, а раз привыкнув, отвыкаю с трудом.
20 января
Сегодня Фачио заставил меня пропеть все мои ноты; у меня три октавы без двух нот. Он был изумлен. Что до меня, я просто не чувствую себя от радости. Мой голос – мое сокровище! Моя мечта – выступить со славой на сцене. Это в моих глазах так же прекрасно, как сделаться принцессой. Мы были в мастерской Монтеверде, потом в мастерской маркиза д’Эпине, к которому у нас было письмо. Д’Эпине делает очаровательные статуи; он показал мне свои этюды, все свои наброски. Madame М. говорила мне о Марии как о существе необыкновенном, как о художнице. Мы любуемся и просим его сделать мою статую. Это будет стоить двадцать тысяч франков. Это дорого, но зато прекрасно. Я сказала ему, что очень люблю себя. Он сравнивает мою ногу с ногой статуи – моя меньше; д’Эпине восклицает, что это Сандрильона.
Он чудно одевает и причесывает свои статуи. Я горю нетерпением видеть свою статую.
Боже мой, услышь меня! Сохрани мой голос; если я все потеряю, мне останется мой голос. Господи, будь так же добр ко мне, как до сих пор, сделай так, чтобы я не умерла от досады и тоски. Мне так хочется выезжать в свет! Время идет, а я не подвигаюсь, я пригвождена к моему месту, я, которая хотела бы жить, жить, лететь, жить на всех парах, я горю и захлебываюсь от нетерпения.
«Я никогда не видел такой лихорадочной жизни», – говорил мне Дория.
Если вы меня знаете, вы представите себе мое нетерпение, мою тоску!
22 января
Дину причесывает парикмахер, меня тоже, но это животное причесывает меня безобразнейшим образом. В десять минут я все переделываю, и мы отправляемся в Ватикан. Я никогда не видела ничего, что можно было бы сравнить с лестницами и комнатами, через которые мы проходим. Как у святого Петра, я нахожу все безупречным. Слуга, одетый в красное дама, проводит нас через длинную галерею, украшенную чудной живописью, с бронзовыми медальонами и камеями по стенам. Направо и налево довольно жесткие стулья, а в глубине бюст Пия IX, у подножия которого стоит прекрасное золоченое кресло, обитое красным бархатом. Назначенное время – без четверти двенадцать, но только в час портьера отдергивается, и, предшествуемый несколькими телохранителями, офицерами в форме и окруженный несколькими кардиналами, появляется святой отец, одетый в белое, в красной мантии, опираясь на посох с набалдашником из слоновой кости.
Я хорошо знала его по портретам, но в действительности он гораздо старше, так что нижняя губа его висит, как у старой собаки.
Все стали на колени. Папа подошел прежде всего к нам и спросил, кто мы; один из кардиналов читал и докладывал ему имена допущенных к аудиенции.
– Русские? Значит, из Петербурга?
– Нет, святой отец, – сказала мама, – из Малороссии.
– Это ваши барышни? – спросил он.
– Да, святой отец.
Мы стояли направо; находившиеся с левой стороны стояли на коленях.
– Встаньте, встаньте, – сказал святой отец.
Дина хотела встать.
– Нет, – сказал он, – это относится к тем, которые налево, вы можете остаться.
И он положил руку ей на голову так, что нагнул ее очень низко. Потом он дал нам поцеловать свою руку и прошел к другим, каждому обращая по несколько слов. Когда он прошел налево, мы должны были, в свою очередь, подняться. Потом он стал в середине, и тогда снова все должны были стать на колени, и он сказал нам маленькую речь на очень дурном французском языке, сравнивая просьбы об индульгенциях, по случаю приближения юбилея, с раскаянием, которое наступает в момент смерти, и говоря, что нужно снискивать Царствие Небесное постепенно, каждый день делая что-нибудь приятное Богу.
– Нужно постепенно приобретать себе отечество, – сказал он, – но отечество это – не Лондон, не Петербург, не Париж, а Царствие Небесное! Не нужно откладывать до последнего дня своей жизни, нужно думать об этом ежедневно и не делать, как при втором пришествии. Non е vero? – прибавил он по-итальянски, оборачиваясь к одному из своей свиты, – anche il cardinale… (имя ускользнуло от меня) lo sa.
Кардинал засмеялся, так же и все остальные: это должно было иметь для них особенный смысл, – и святой отец ушел, улыбаясь и очень довольный, после того как дал свое благословение людям, четкам, образкам и т. п. У меня были четки, которые я тотчас по приходе домой заперла в ящик для мыла.
Пока этот старик раздавал благословения и говорил, я молила Бога сделать так, чтобы благословение папы было для меня истинным благословением и избавило меня от всех моих горестей.
Было несколько кардиналов, смотревших на меня так, как бывало при выходе из театра в Ницце.
23 января
Ах, какая тоска! Если бы по крайней мере мы были все вместе! Что за безумная идея так разлучаться! Нужно всегда быть вместе, тогда все неприятности легче, и лучше себя чувствуешь. Никогда, никогда не нужно больше так разделяться на две семьи. Нам было бы в тысячу раз лучше, если бы все были вместе: дедушка, тетя, все и Валицкий.
7 февраля
Когда мы выходим из коляски у крыльца отеля, я замечаю двух молодых римлян, которые смотрят на нас. Сейчас же по возвращении мы садимся за стол, а молодые люди эти помещаются посреди площади и смотрят к нам в окна.
Мама, Дина и другие уже начинают смеяться, но я, более осторожная, из опасения поднять шум из-за каких-нибудь негодяев – потому что я вовсе не уверена, что это те же самые, которых мы видели у двери отеля, – послала Леони в лавку напротив, приказав ей хорошенько рассмотреть этих людей и потом описать мне их. Леони возвращается и описывает мне того, который поменьше. «Это совершенно приличные молодые люди», – говорит она. С этой минуты наши только и делают, что подходят к окнам, смотрят сквозь жалюзи и делают разные предположения относительно этих несчастных, стоящих под дождем, ветром и снегом.
Было шесть часов, когда мы возвратились, и эти два ангела простояли на площади до без четверти одиннадцать, ожидая нас. И что за ноги нужно иметь, чтобы простоять, не сходя с места, пять часов подряд!
15 февраля
Р. приходит к нам сегодня, и тотчас же его начинают расспрашивать, кто этот господин. «Это граф А.[4], племянник кардинала!» Черт возьми! Он и не мог быть никем другим.
Граф А. похож на Ж., который, как известно, замечательно красив. Сегодня вечером, так как он смотрел на меня меньше, я больше могла смотреть на него. Итак, я смотрела на А. и хорошо разглядела его; он хорош собой, но нужно заметить, что мне не везет и что те, на кого я смотрю, не смотрят на меня. Он лорнировал меня, но прилично, как в первый день. Он также много рисовался, а когда мы встали, чтобы выйти, он схватил лорнетку и не отрывал глаз.
– Я спросила у вас, кто этот господин, – сказала мама Р., – потому что он очень напоминает мне моего сына.
– Это славный юноша, – сказал Р. – он несколько passerello, но очень весел, остроумен и хорош собой.
Я в восторге, слушая это! Давно уж я не испытывала столько удовольствия, как сегодня вечером. Я скучала и была ко всему равнодушна, потому что не было никого, о ком мне думать.
– Он очень похож на моего сына, – говорит моя мать.
– Это славный юноша, – говорит Р., – и если вы хотите, я вам представлю его, я буду очень рад.
18 февраля
В Капитолии сегодня вечером большой парадный бал – костюмированный и маскированный. В одиннадцать часов мы туда отправляемся – я, Дина и ее мать. Я не надела домино; черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде грациознейшего в мире капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаже. Это было очаровательно. Наше прибытие производит величайший эффект.
Я очень боялась и не смела ни с кем заговорить, но все мужчины окружили нас, и я кончила тем, что взяла под руку одного из них, которого никогда и в глаза не видывала. Это очень весело, но я думаю, что большинство меня узнало. Не нужно было одеваться с таким кокетством, ну да все равно.
Трое русских подумали, что узнали меня, и пошли сзади нас, громко говоря по-русски в надежде, что мы как-нибудь выдадим себя. Но вместо того я собрала целый круг вокруг себя, громко говоря по-итальянски. Они ушли, говоря, что были глупы и что я итальянка.
Входит герцог Цезаро:
– Кого ты ищешь?
– Г. А. Он придет?
– Да, а пока останься со мной… самая изящная женщина в мире!
– А! Вот он… Мой милый, я тебя искала.
– Ба!
– Но только, так как мне в первый раз придется слышать тебя, позаботься о своем произношении, ты сильно теряешь вблизи. Позаботься о своем разговоре!
Должно быть, это было остроумно, потому что Цезаро и два других начали смеяться, как люди чем-нибудь восхищенные. Я ясно сознавала, что все они узнают меня.
– Тебя узнают по фигуре, – говорили мне со всех сторон. – Почему ты не в белом?
– Я, ей-богу, думаю, что играю здесь роль подсвечника, – сказал Цезаро, видя что мы не перестаем говорить с А.
– Я тоже это думаю, – сказала я, уходя.
И, взявши под руку молодого фата, я отправилась по всем залам, занимаясь всеми остальными не более чем уличными собаками.
А. безусловно красив: матовый цвет лица, черные глаза, нос длинный и правильный, красивые уши, маленький рот, недурные зубы и усы двадцатитрехлетнего человека. Я называла его притворщиком, молодым фатом, несчастным, беспутным, а он мне рассказывал серьезнейшим в мире образом, как в девятнадцать лет бежал из родительского дома, окунулся по горло в жизнь и до какой степени он теперь всем пресыщен, далее – что он никогда не любил и т. д.
– Сколько раз ты любила? – спросил он.
– Два раза.
– О! О!
– Может быть, и больше.
– Я хотел бы, чтобы это больше пришлось на мою долю.
– Какая самонадеянность… Скажи мне, почему все эти люди приняли меня за даму в белом?
– Да ты на нее похожа. Оттого-то я и хожу с тобой. Я влюбился в нее до безумия.
– Это не очень-то любезно с твоей стороны – говорить таким образом.
– Что же делать? Если это так.
– Ты, слава Богу, достаточно-таки лорнируешь ее, а она довольна этим и рисуется?
– Нет, никогда. Она никогда не рисуется… Можно сказать что угодно про нее, только не это!
– Это, однако, очень заметно, что ты влюблен.
– Да, влюблен, в тебя. Ты на нее похожа.
– Фи! Разве я не лучше сложена?
– Все равно; дай мне цветок.
Я дала ему цветок, а он дал мне в обмен ветку плюща. Его акцент и его томный вид раздражают меня.
– Ты имеешь вид священника. Это правда, что ты будешь посвящен? Он засмеялся:
– Я терпеть не могу священников. Я был военным.
– Ты? Да ты был только в семинарии.
– Я ненавижу иезуитов, из-за этого-то я и ссорюсь постоянно с моей семьей.
– Э, милый мой, ты честолюбив и тебе было бы весьма приятно, чтобы люди прикладывались к твоей туфле.
– Что за очаровательная маленькая ручка! – воскликнул он, целуя ее – операция, которую он повторял несколько раз в этот вечер.
Я видела мужчин только на бульваре, в театре и у нас. Боже, до чего они меняются на маскированном бале! Такие величественные и сдержанные в своих каретах, такие увивающиеся, плутовские и глупые здесь!
Десять раз я оставляла своего молодого собеседника, и десять раз он снова находил меня.
Доминика говорила, что пора ехать, но он нас удерживал. Наконец нам удается найти два кресла, и тогда разговор меняется.
Мы говорим о святом Августине и аббате Прево.
Наконец мы спасаемся с бала, никем не преследуемые, потому что все видевшие меня на улице стали меня узнавать.
Я веселилась и… разочаровалась.
А. не вполне нравится мне, и однако…
Ах! Этот несчастный сын священника унес мою перчатку и поцеловал мою левую руку.
– Ты знаешь, – сказан он, – я не скажу, что всегда буду носить эту перчатку на сердце – это было бы глупо, но это будет приятное воспоминание.
21 февраля
Имею честь представить вам сумасшедшую. Посудите сами. Я ищу, я нахожу, я измышляю человека, я живу только им и клянусь – я замешиваю его решительно во все, а когда он вполне войдет в мою голову, открытую всем ветрам, я начну скучать и, может быть, грустить и плакать. Я далека от того, чтобы желать этого, но говорю это по предвидению.
Когда же наступит настоящий римский карнавал? До сих пор я видела только балконы, убранные белой, красной, голубой, желтой, розовой материей, и несколько масок.
25 февраля
Наши соседи появились, дама очень любезна; есть очаровательные экипажи. Тройли и Джиоржио – в прекрасной коляске с большими лошадьми и лакеями в белых панталонах. Это была сама красивая карета. Они забрасывают нас цветами. Дина совсем красная, и мать ее сияет.
Наконец раздался пушечный выстрел: сейчас начнутся бега лошадей, а А. еще не пришел; но вчерашний молодой человек приходит, и, так как наши балконы смежные, мы заговариваем. Он дает мне букет, я даю ему камелию, и он говорит мне все, что только может сказать даме нежного и влюбленного человек, не имеющий чести быть ей представленным. Он клянется мне вечно хранить его, засушив в своих часах. И он обещает мне приехать в Ниццу, чтобы показать мне лепестки цветка, который останется навсегда свежим в его памяти. Это было очень весело.
Граф Б.[5] (это имя прекрасного незнакомца) старался занимать меня, когда, опустив глаза на толпу, бывшую внизу, я вдруг увидела А., который мне кланялся. Дина вбросила ему букет, и руки десяти негодяев протянулись, чтобы схватить его на лету. Одному удалось это, но А. с величайшим хладнокровием схватил его за горло и держал его своими нервными руками, пока наконец несчастный не бросил своей добычи. Это было так хорошо, что А. был в эту минуту почти прекрасен. Я пришла в восторг и, забыв о том, что покраснела, и краснея снова, спустила ему камелию, и нитка упала вместе с ней. Он взял ее, положил в карман и исчез. Тогда, все еще взволнованная, я обернулась к Б., который воспользовался случаем наговорить мне комплиментов относительно моей манеры говорить по-итальянски и всякой всячины.
Barberi летят, как ветер, посреди гиканья и свистков народа, а на нашем балконе только и говорят об очаровательной манере, с которой А. отнял букет. Действительно, он был похож в эту минуту на льва, на тигра; я не ожидала такого со стороны этого изящного молодого человека.
Это, как я сказала сначала, странная смесь какой-то томности и силы.
Мне все еще видятся его руки, сжимающие горло негодяя.
Вы, может быть, будете смеяться над тем, что я сейчас вам скажу, но я все-таки скажу.
Так вот, таким поступком мужчина может тотчас же заставить полюбить себя. Он имел такой спокойный вид, держа за горло этого бездельника, что у меня дух захватило.
Весь вечер я только об этом и говорю, я прерывала все разговоры, чтобы еще и еще поговорить об этом.
– Не правда ли, А. очарователен?
Я говорю это, как бы смеясь, но боюсь, что думаю это серьезно. Теперь я стараюсь уверить наших, что очень занята А., и мне не верят; но стоит мне сказать противоположное тому, что я говорю теперь, этому поверят и будут правы.
Я опять горю нетерпением, я хотела бы заснуть, чтобы сократить время до завтра, когда мы пойдем на балкон.
28 февраля
Выходя на балкон на Корсо, я уже застаю всех наших соседей на своем посту и карнавал в полном разгаре. Я смотрю вниз, прямо перед собой, и вижу А. с кем-то другим. Заметив его, я смутилась, покраснела и встала, но негодного сына священника уже не было, и я обернулась к маме, которая протягивала кому-то руку… Это был А. А.?! В добрый час! Ты пришел на мой балкон – тем лучше.
Он остается требуемое вежливостью время с мамой, а потом садится подле меня.
Я занимаю, по обыкновению, крайнее место с правой стороны балкона, смежного, как известно, с балконом англичанки. Б. опоздал; его место занято каким-то англичанином, которого англичанка мне представляет и который оказывается очень услужливым.
– Ну, как вы поживаете? – говорит А. своим спокойным и мягким тоном. – Вы не бываете больше в театре?
– Я была нездорова, у меня и теперь еще болит палец.
– Где? – И он хотел взять мою руку. – Вы знаете, я каждый день ходил к Аполлону, но оставался там всего пять минут.
– Почему?
– Почему? – повторил он, глядя мне прямо в зрачки.
– Да, почему?
– Потому, что я ходил туда для вас, а вас там не было.
Он говорит мне еще много вещей в том же роде, катает глазами, беснуется и очень забавляет меня.
– Дайте мне розу.
– Зачем?
Согласитесь, что я задала непростой вопрос. Я люблю задавать вопросы, на которые приходится отвечать глупо или совсем не отвечать.
Б. преподносит мне большую корзину цветов; он краснеет и кусает себе губы; не пойму право, что это с ним. Но оставим в покое эту скучную личность и возвратимся к глазам Пьетро А.
У него чудные глаза, особенно когда он не слишком открывает их. Его веки, на четверть закрывающие зрачки, дают ему какое-то особенное выражение, которое ударяет мне в голову и заставляет биться мое сердце.
– По крайней мере, чтобы помучить Пьетро, будь подобрее с Б., – говорит Дина.
– Помучить! Я не имею ни малейшего желания. Мучить, возбуждать ревность, фи! В любви это похоже на белила и румяна, которыми мажут лицо. Это вульгарно, это низко. Можно мучить невольно, естественно, так сказать, но… делать это нарочно, фи!!.
Да и потом, я не смогла бы сделать это нарочно, у меня не хватило бы характера. Есть ли какая-нибудь возможность говорить и быть любезной с каким-нибудь уродом, когда А. тут и можно с ним говорить!
8 марта
Я надеваю свою амазонку, а в четыре часа мы уже у ворот del Popolo, где А. ждет меня с двумя лошадьми. Мама и Дина следуют за нами в коляске.
– Поедем здесь, – говорит мой кавалер.
– Поедем.
И мы въехали в поле – славное, зеленое местечко, называемое Фарнезиной. Он опять начал свое объяснение, говоря:
– Я в отчаянии.
– Что такое – отчаяние?
– Это когда человек желает чего-нибудь и не может иметь то, чего желает.
– Вы желаете луны?
– Нет, солнца.
– Где же оно? – говорю я, глядя на горизонт. – Оно, кажется, уже зашло.
– Нет, мое солнце здесь: это вы.
– Вот как?
– Я никогда не любил, я терпеть не могу женщин, у меня были только интрижки с женщинами легкого поведения.
– А увидев меня, вы полюбили?
– Да, в ту же минуту, в первый же вечер, в театре.
– Вы ведь говорили, что это прошло.
– Я шутил.
– Как же я могу различать, когда вы шутите и когда вы серьезны?
– Да это сейчас видно!
– Это правда; это почти всегда видно, серьезно ли говорит человек, но вы не внушаете мне никакого доверия, а ваши прекрасные понятия о любви – еще менее.
– Какие это мои понятия? Я вас люблю, а вы мне не верите. А! – говорит он, кусая губы и глядя в сторону. – В таком случае я – ничто, я ничего не могу!
– Ну, полноте, что вы притворяетесь! – говорю я смеясь.
– Притворяюсь! – восклицает он, оборачиваясь с бешенством. – Всегда притворяюсь! Вот какого вы обо мне мнения!
– Да, еще вот что. Помолчите, слушайте. Если бы в эту минуту проходил мимо какой-нибудь из ваших друзей, вы бы повернулись к нему и подмигнули бы ему глазом и рассмеялись бы!
– Я притворяюсь! О! Если так… Прекрасно, прекрасно!
– Вы мучите свою лошадь, нам надо спускаться.
– Вы не верите, что я вас люблю? – говорит он, стараясь поймать мой взгляд и наклоняясь ко мне, с выражением такой искренности, что у меня сердце сжимается.
– Да нет, – говорю я едва слышно. – Держите свою лошадь, мы спускаемся.
Ко всем его нежностям примешивались еще наставления в верховой езде.
– Ну можно ли не любоваться вами? – говорит он, останавливаясь на несколько шагов ниже и глядя на меня. – Вы так хороши, – опять начал он, – только мне кажется, что у вас нет сердца.
– Напротив, у меня прекрасное сердце, уверяю вас.
– У вас прекрасное сердце, а вы не хотите любви?
– Это смотря по обстоятельствам.
– Вы – балованное дитя, не правда ли?
– Почему бы меня и не баловать? Я не невежда, я добра, только я вспыльчива.
Мы все спускались, но шаг за шагом, потому что спуск был очень крутой и лошади цеплялись за неровности земли, за пучки травы.
– Я… у меня дурной характер, я бешеный, вспыльчивый, злой. Я хочу исправиться… Перескочим через эти рвы, хотите?
– Нет.
И я переехала по маленькому мостику, в то время как он перескакивал через ров.
– Поедем мелкой рысью до коляски, – говорит он, – так как мы уже спустились.
Я пустила свою лошадь рысью, но за несколько шагов до коляски она вдруг поскакала галопом. Я обернулась направо. А. был позади меня; моя лошадь неслась в галоп; я попробовала удержать ее, но она понесла в карьер… Долина была очень велика; все мои усилия удержаться были напрасны, волосы рассыпались мне по плечам, шляпа скатилась на землю, я слабела, мне становилось страшно. Я слышала А. позади себя, я чувствовала, какое волнение происходило в коляске, мне хотелось спрыгнуть на землю, но лошадь неслась как стрела.
«Это глупо – быть убитой таким образом», – думала я. Я теряла последние силы – нужно, чтобы меня спасли!
– Удержите ее! – кричал А., который никак не мог догнать меня.
– Я не могу, – говорю я едва слышно.
Руки мои дрожали. Еще минута, и я потеряла бы сознание, когда он подскакал ко мне совсем близко, ударил хлыстом по голове моей лошади, и я схватила его руку, столько же для того, чтобы удержаться, сколько для того, чтобы коснуться ее.
Я взглянула на него: он был бледен как смерть; никогда еще я не видала такого взволнованного лица.
– Господи! – повторял он. – Как вы испугали меня!
– О, да! Без вас я бы упала: я больше не могла удержать ее. Теперь кончено. Ну, нечего сказать, это мило, – прибавила я, стараясь засмеяться. – Дайте мне мою шляпу.
Дина вышла из коляски, мы подошли к ландо. Мама была вне себя, но она ничего не сказала мне: она знала, что между нами что-то было, и не хотела надоедать мне.
– Мы поедем потихоньку, шагом, до ворот.
– Да, да.
– Но как вы испугали меня! А вы… вы испугались?
– Нет, уверяю вас, что нет.
– О, право же да, это видно.
– Это ничего, совершенно ничего.
И через минуту мы принялись спрягать глагол «любить» на все лады. Он рассказывает мне все – с самого первого вечера, когда он увидал меня в опере и, видя Р. выходящим из нашей ложи, вышел из своей и пошел навстречу.
– Вы знаете, – говорит он, – что я никогда никого не любил, моя единственная привязанность была к моей матери, остальное… Я никогда не смотрел ни на кого в театре, не ходил на Пинчио. Это глупо, я надо всеми смеялся, а теперь я хожу туда.
– Для меня?
– Для вас. Я обязан…
– Обязаны?
– Нравственной силой: конечно, я мог бы произвести впечатление на ваше воображение, если бы сделал вам объяснение в любви из романа, но это глупо, я только о вас и думаю, только вами и живу. Конечно, человек – материальное создание; он встречает массу людей, и масса других мыслей занимает его. Он ест, говорит, думает о других вещах, но я часто думаю о вас – вечером.
– В клубе, может быть?
– Да, в клубе. Когда наступает ночь, я остаюсь там мечтать, курю и думаю о вас. Потом, особенно когда темно, когда я один, я думаю, мечтаю и дохожу до такой иллюзии, что мне кажется – я вижу вас. Никогда, – продолжал он, – я не испытывал того, что испытываю теперь. Я думаю о вас, я выхожу для вас. Доказательство – что с тех пор, как вы не бываете в опере, я тоже не хожу туда. И особенно когда я один, я всегда думаю о вас. Я представляю себе мысленно, что вы здесь; уверяю вас, что я никогда не чувствовал того, что теперь; отсюда я и заключаю, что это любовь. Мне хочется видеть вас, я иду на Пинчио… Мне хочется вас видеть, я сержусь, потом мечтаю о вас. Таким образом, я начал испытывать удовольствие любви.
– Сколько вам лет?
– Двадцать три года. Я начал жить с семнадцати лет, я уже сто раз мог бы влюбиться и, однако, не влюблялся. Я никогда не был похож на этих восемнадцатилетних мальчиков, которые добиваются цветка, портрета: все это глупо. Если бы вы знали, иногда я думаю, и мне столько хочется сказать и… и…
– И вы не можете?
– Нет, не то – я влюбился и совсем оглупел.
– Не думайте этого, вы вовсе не глупы.
– Вы не любите меня, – говорит он, оборачиваясь ко мне.
– Я так мало знаю вас, что, право, это невозможно, – отвечаю я.
– Но когда вы побольше узнаете меня, – говорит он потихоньку, глядя на меня очень застенчиво (тут он понизил голос), – вы, может быть, немножко полюбите меня?
– Может быть, – говорю я так же тихо.
Была почти ночь; мы приехали. Я пересела в коляску. Он начинает извиняться перед мамой, которая дает ему некоторые поручения относительно лошадей.
– До свидания! – говорит А. маме.
Я молча протягиваю ему руку, и он сжимает ее – не по-прежнему. Я возвращаюсь, раздеваюсь, накидываю пеньюар и растягиваюсь на диване, утомленная, очарованная, голова моя идет кругом. Я сначала ничего не понимаю. В течение двух часов я не могу ничего припомнить, и только через два часа я могу собрать в нечто целое все, что вы только что прочли. Я была бы на верху счастья, если бы верила ему, но я сомневаюсь, несмотря на его искренний, милый, даже наивный вид. Вот что значит быть самому канальей. Впрочем, это лучше.
Десять раз я бросаю тетрадь, чтобы растянуться на постели, чтобы восстановить все в своей голове, и мечтать, и улыбаться. Вот видите, добрые люди, я – вся в волнении, а он, без сомнения, преспокойно сидит в клубе.
Я чувствую себя совсем другой; я спокойна, но еще совершенно оглушена тем, что он говорил мне.
Я думаю теперь о той минуте, когда он сказал: «Я вас люблю», – а я в сотый раз отвечала: «Это неправда». Он покачнулся на седле и, наклоняясь и бросая поводья, «Вы не верите мне?» – воскликнул он, стараясь встретить мои глаза, которые я держала опущенными (не из кокетства, клянусь вам). О! В эту минуту он говорил правду. Я подняла голову и увидела его беспокойный взгляд, его темные карие глаза – большие, широко раскрытые, которые, казалось, хотели прочесть мою мысль до самой глубины души. Они были беспокойны, взволнованы, раздражены уклонением моего взгляда. Я делала это не нарочно: если бы я взглянула на него прямо, я бы расплакалась. Я была возбуждена, смущена, я не знала, что делать с собой, а он думал, может быть, что я кокетничала. Да, в эту минуту, по крайней мере, я знала, что он не лгал.
– Теперь вы меня любите, а через неделю разлюбите, – отвечала я.
– Ах, зачем вы это говорите. Я вовсе не из тех людей, которые всю жизнь поют для барышень, я никогда ни за кем не ухаживал, никого не любил. Есть одна женщина, которая во что бы то ни стало хочет добиться моей любви. Она назначала мне пять или шесть свиданий; я всегда уклонялся, потому что я не могу ее любить, – вы теперь видите!..
Ну, да я никогда бы не кончила, если бы погрузилась в свои воспоминания и стала их записывать. Так много было сказано! Ну, полно, пора спать.
14 марта
Кажется, я обещала Пьетро опять ехать кататься верхом. Мы встретили его в цветном платье и маленькой шапочке; бедняжка ехал на извозчике.
– Почему вы не попросите лошадей у вашего отца? – говорю я ему.
– Я спросил, но если бы вы знали, до чего все А. суровы.
Мне было неприятно видеть его в этом жалком извозчичьем экипаже.
Сегодня мы уезжаем из отеля «Лондон», мы наняли большое и прекрасное помещение в первом этаже на Via Babuino. Передняя, маленькая зала, большая зала, четыре спальни, studio и комнаты для прислуги.
16 марта
К десяти часам приходит Пьетро. Зала очень велика и очень хороша; у нас два рояля – один с длинным хвостом, другой – маленький. Я принялась тихонько наигрывать «Песню без слов» Мендельсона, а А. запел свой собственный романс. Чем серьезнее и горячее он становился, тем более я смеялась и становилась холодна. Для меня невозможно представить А. серьезным. Все, что говорит любимая женщина, кажется очаровательным. Я иногда могу быть забавной для людей равнодушных ко мне, для неравнодушных – и подавно. Среди фразы, преисполненной любви и нежности, я говорила какую-нибудь вещь – неодолимо смешную для него, и он смеялся. Тогда я упрекала его за этот смех, говоря, что я не могу верить ребенку, который никогда не бывает серьезен и который смеется как сумасшедший от всякого пустяка. И так – много раз, так что он наконец пришел в отчаяние. Он стал рассказывать, как это началось; с первого вечера – на представлении «Весталки».
– Я так люблю вас, – сказал он, – что готов Бог знает что сделать для вас. Скажи́те, чтобы я выстрелил в себя из револьвера, я сейчас сделаю это.
– А что бы сказала ваша мать?
– Мать моя плакала бы, а братья мои сказали бы: «Вот нас стало двое вместо троих».
– Это бесполезно, я не хочу подобного доказательства.
– Ну, так чего же вы хотите? Скажи́те! Хотите, чтобы я бросился из этого окна – вон в тот бассейн?
Он бросился к окну, я удержала его за руку, и он не хотел больше выпускать ее.
– Нет, – сказал он, глотая, как кажется, слезы, – я теперь спокоен; но была минута… Господи! Не доводите меня до такого безумия, отвечайте мне, скажите что-нибудь.
– Все это глупости.
– Да, может быть, глупости молодости. Но я не думаю: никогда я не чувствовал того, что сегодня, теперь, здесь. Я думал, что с ума сошел.
– Через месяц я уеду, и все будет забыто.
– Я поеду за вами повсюду.
– Вам не позволят.
– Кто же мне может помешать? – воскликнул он, бросаясь ко мне.
– Вы слишком молоды, – говорю я, переменяя музыку и переходя от Мендельсона к ноктюрну, более нежному и более глубокому.
– Женимся. Перед нами такое прекрасное будущее.
– Да, если бы я захотела его!
– Вот те на! Конечно, вы хотите!
Он приходил все в больший и больший восторг; я не двигалась, даже не менялась в цвете.
– Хорошо, – говорю я, – предположим, что я выйду за вас замуж, а через два года вы меня разлюбите.
Он задыхался:
– Нет, к чему эти мысли?
И захлебываясь, со слезами на глазах, он упал к моим коленям. Я отодвинулась, вспыхнув от досады. О, спасительный рояль!
– У вас должен быть такой добрый характер, – сказал он.
– Еще бы! Иначе я бы уже давно прогнала вас, – ответила я, отворачиваясь со смехом.
Потом я встала, спокойная и удовлетворенная, и отправилась выполнять долг любезности с другими. Но нужно было уходить.
– Уже пора? – сказал его вопросительный взгляд.
– Да, – говорит мама.
Передав все вкратце маме и Дине, я запираюсь в своей комнате и, прежде чем взяться за перо, сижу целый час, закрыв лицо руками, с пальцами в волосах, стараясь отдать себе отчет в своих собственных ощущениях.
Кажется, я понимаю себя!
Бедный Пьетро, не то чтобы я ничего не чувствовала к нему, напротив, но я не могу согласиться быть его женой.
Богатства, виллы, музеи всех эти Рисполи, Дорио, Торлониа, Боргезе, Чиара постоянно давили бы меня. Я прежде всего честолюбива и тщеславна. Приходится сказать, что такое создание любят только потому, что хорошенько не знают его! Если бы его знали, это создание… О, полно! Его все-таки любили бы.
Честолюбие – благородная страсть.
И почему это именно А., вместо кого-нибудь другого?
И я повторяю эту фразу, подставляя другое имя.
18 марта
Мне никогда не приходится ни на минуту остаться наедине с А. – это меня сердит. Я люблю, когда он говорит, что любит меня. С тех пор как он все высказал мне, я постоянно сижу, опершись локтями на стол, и думаю. Я люблю, может быть. Всегда, когда я утомлена и наполовину дремлю, мне кажется, что я люблю Пьетро. Зачем я так тщеславна? Зачем я честолюбива? Зачем я так рассудительна? Я не способна посвятить минуте удовольствия целые годы величия и удовлетворенного тщеславия.
Да, говорят романисты, но этой минуты удовольствия достаточно, чтобы осветить ее лучами целое существование. О! Нет! Теперь мне холодно, и я люблю, завтра мне будет тепло, и я не буду любить. И от таких изменений температуры зависят судьбы людей!
Уходя, А. говорит: «Прощайте» – и берет меня за руку, которую не выпускает из своей, делая в то же время десять различных вопросов, чтобы промедлить время.
Все это я сейчас же рассказала маме; я ей все рассказываю.
20 марта
Я преглупо вела себя сегодня вечером.
Я говорила шепотом с этим повесой и дала повод надеяться на такие вещи, которые никогда не могут исполниться. В обществе он нисколько не занимает меня; когда же мы остаемся вдвоем, он говорит мне о любви и браке. Он ревнив, и до бешенства ревнив. К кому? Ко всем. Я слушаю его речи с высоты моего холодного равнодушия и в то же время позволяю ему завладеть моей рукой. Я беру его руку с почти материнским видом, и, если он еще не совсем омрачен своей страстью, как он говорит, он должен видеть, что, отталкивая его своими словами, я в то же время удерживаю его взглядами.
И говоря ему, что я никогда не буду любить его, я его люблю, или, по крайней мере, веду себя так, как будто бы любила его. Я говорю ему всевозможные глупости. Другой был бы доволен, другой человек, постарше, а он разрывает салфетку, ломает две пары щипцов, прорывает холст. Все эти эволюции позволяют мне взять его за руку и сказать ему, что он сумасшедший.
Тогда он глядит на меня с дикой неподвижностью, и взгляд его черных глаз теряется в моих серых глазах. Я говорю ему без всякого смеха.
– Сделайте гримасу.
И он смеется, а я делаю вид, что недовольна.
– Значит, вы меня не любите?
– Нет.
– Я не должен надеяться?
– Боже мой! Да, всегда можно надеяться; надежда – в натуре человека, но что до меня, вы ничего от меня не добьетесь.
И так как я говорю это смеясь, он уходит до некоторой степени удовлетворенный.
27 марта
Вечером у нас были гости, между прочими и А.
Опять за роялем… «Я знаю, кто будет иметь у вас успех. Человек, который будет очень терпелив и будет гораздо меньше любить вас. Но вы, вы меня не любите!»
– Нет, – говорю я еще раз.
И наши лица были так близко одно от другого, что я удивляюсь, как не произошло «искры».
– Вот видите! – воскликнул он. – Что тут можно сделать, когда только один любит? Вы холодны, как снег, а я вас люблю. – Вы меня любите?
– Нет, но это может прийти.
– Когда?
– Через шесть месяцев.
– О! Через шесть месяцев!.. Я вас люблю, я с ума схожу, а вы надо мной смеетесь.
– Да, действительно! Вы удивительно догадливы. Послушайте, если бы даже я и любила вас, это было бы все-таки чрезвычайно трудно устроить: я слишком молода, и потом еще различие религий.
– Ну! Я так и знал! Да ведь у меня тоже будут затруднения; вы думаете – нет?.. Вы не можете меня понять, потому что вы меня не любите. А если бы я предложил вам бежать со мной?
– Что за ужас!
– Постойте… Я вам этого не предлагаю. Это ужасно, я знаю, когда не любят. Но если бы вы любили меня, это не было бы для вас так ужасно.
– Не будем больше говорить об этом.
– Да я и не говорю. Я говорил бы вам об этом, если бы вы меня любили.
– Я не люблю вас.
Я не люблю его и в то же время позволяю говорить себе все эти вещи – что за нелепость!
Я предполагаю, что он говорил об этом своему отцу, но был принят неласково. Я не могу решиться, я не знаю условий, а ни за что в мире не согласилась бы я жить в чужой семье. Довольно мне и моей; что бы это было с чужими? Не правда ли, я полна рассудительности для моего возраста.
– Я всюду последую за вами, – сказал он как-то раз, прежде.
– Приезжайте в Ниццу, – сказала я ему сегодня.
Он молча опустил голову, и это служит для меня лишним подтверждением того, что он говорил со своим отцом.
Я совершенно ничего не понимаю. Я люблю – и не люблю.
30 марта
Сегодня, запершись на ключ одна в своей комнате, я должна обсудить серьезнейшую вещь.
Вот уже несколько дней в положение мое закралась какая-то фальшь, и почему? Потому что Пьетро просил меня быть его женой, потому что я не отказала ему окончательно, потому что он говорил об этом со своими родителями, потому что с его родителями трудно сговориться об этом и потому что Висконти сказал следующее:
– Нужно знать, сударыня, где вы хотите выдать дочь свою замуж. – И Висконти наговорил похвал богатству и личности Пьетро.
– Право, у меня на этот счет нет никакого определенного понятия, – сказала мама, – и к тому же моя дочь так молода!
– Нет, сударыня, тут нужен решительный ответ. Хотите вы выдать ее замуж за границей или в России?
– Я предпочла бы за границей, потому что, мне кажется, она была бы счастливее за границей, так как здесь воспитана.
– Но нужно еще узнать, согласится ли вся ваша семья видеть ее замужем за католиком, а также как взглянет она на то, что дети, родившиеся от этого брака, также будут крещены по католическому обряду.
– Наша семья с радостью согласится на все, что только принесет счастье моей дочери.
– Пьетро А. – прекрасный молодой человек, и он будет очень богат, но папа вмешивается во все дела семейства А. и представит различные затруднения.
– Однако, милостивый государь, к чему вы говорите все это? Речь вовсе не идет о браке. Я очень люблю этого молодого человека – как дитя, но вовсе не как будущего зятя.
Вот приблизительно все то, что мне удалось узнать об этом от моей матери.
Самое благоразумное было бы уехать, тем более что ничто не пропадет, если мы отложим все до будущей зимы.
Завтра же надо ехать; надо приготовиться к этому, т. е. пойти осмотреть римские достопримечательности, которые я еще не видела.
Да, но что раздражает меня, так это то, что препятствия исходят не с нашей стороны, а со стороны А. Это безобразно, и гордость моя возмущается.
Уедем из Рима.
Не очень-то приятно, в самом деле, видеть это нежелание принять меня к себе, когда я сама не желаю войти к ним. Рим – город до того полный сплетен, что все уже говорят об этом, а я последняя замечаю это! И это вечно так. Я, конечно, прихожу в бешенство при мысли, что у меня хотят отнять Пьетро, но, благодаря Бога, я желаю большего для себя и стремлюсь не к такому величию! Если бы А. был человек, входящий в мою программу, я бы не сердилась; но человек, которому я в своем сознании уже отказала, как не удовлетворяющему меня… И смеют говорить, что папа не позволяет этого.
Я просто в бешенстве, но… погодите немного. Наступает вечер, а вечером появляется А. Мы принимаем его довольно холодно вследствие того, что говорил барон Висконти и вследствие бездны разных «предположений», потому что с самого разговора с Висконти у нас то и дело предполагают что-нибудь.
– Завтра, – говорит Пьетро по прошествии нескольких минут, – я уезжаю.
– Куда?
– В Террачину. Я думаю остаться там восемь дней.
– Его посылают туда, – шепчет мама по-русски.
Я так и думала, но что за стыд! Хоть плачь от бешенства!
– Да, это неприятно, – отвечала я.
О, гадкий! Понимаете ли вы, до чего это унизительно!
Разговор на этом останавливается. Мама до того оскорблена, до того взбешена, что ее головная боль усиливается, и ее уводят в ее комнату. Дина удаляется еще прежде. Все как будто молча сговорились оставить меня с ним наедине, чтобы добиться истины.
Оставшись одна, я приступила храбро, хотя не без некоторой внутренней дрожи.
– Зачем вы уезжаете? Куда вы едете?
О, как бы не так! Если вы думаете, что он ответил мне так же прямо, как я его спросила, то очень ошибаетесь.
Я спросила, но он уклонялся от ответа.
– Какой ваш девиз? – спросил он.
– Ничего – прежде меня, ничего – после меня, ничего – кроме меня.
– Прекрасно. Таков же и мой!
– Тем хуже!
Тогда начались выражения любви, сыпавшиеся без всякого порядка – до того они были правдивы. Бессвязные слова любви без начала и конца, порывы бешенства, упреки. Я выдержала этот град с таким же достоинством, как и спокойствием.
– Я так люблю вас, что умереть можно, – продолжал он, – но я вам не верю. Вы всегда насмехались надо мной, всегда смеялись, всегда были холодны со своими экзаменаторскими вопросами. Что ж вы хотите, чтобы я сказал вам, когда я вижу, что вы никогда не любили меня!
Я слушала непреклонно и неподвижно, не позволяя даже коснуться своей руки. Я хотела знать во что бы то ни стало; я чувствовала себя слишком жалкой в своем беспокойстве, приправленном миллионом подозрений.
– Э! Полноте! – сказала я. – Вы хотите, чтобы я любила человека, которого я не знаю, который все от меня скрывает! Скажите – и я поверю. Скажите – и я обещаю вам дать ответ. Слышите, после этого я обещаю вам дать ответ.
– Да вы будете надо мной смеяться, если я скажу вам. Поймите вы, что это секрет! Сказать это – это значит разоблачить себя всего! Есть вещи до того интимные, что их никому в мире нельзя сказать.
– Скажите, я жду.
– Я скажу вам, но вы будете смеяться надо мной.
– Клянусь вам, что нет.
После многочисленных обещаний с моей стороны не смеяться и никому не говорить, он наконец рассказал мне.
В прошлом году, будучи солдатом в Виченце, он наделал на тридцать четыре тысячи франков долгов; с тех пор как он вернулся домой – т. е. вот уже десять месяцев, – он не в ладах со своим отцом, который не хотел платить их. Наконец, несколько дней тому назад, он сделал вид, что уезжает, говоря, что дома с ним слишком дурно обращаются. Тогда его мать вышла к нему и сказала, что отец заплатит его долг с условием, что он будет вести благоразумную жизнь. А чтобы начать ее, прежде чем он примирится с родителями, он должен примириться с Богом. Он уже давно не говел.
Словом, он отправляется на восемь дней в монастырь San Giovani et Paolo, около Колизея.
Так вот в чем секрет!
Я облокотилась о камин и на стул, отвернув глаза, которые – Бог их знает отчего – были наполнены слезами. Он облокотился подле меня, и мы оставались так несколько секунд молча, не глядя друг на друга. Целый час мы простояли таким образом, говоря о чем? О любви, конечно. Я знаю все, что хотела знать, я все вытянула из него.
Он не говорил со своим отцом, но рассказал все своей матери; он назвал меня.
– Вообще, – сказал он, – вы можете быть уверены, что мои родители ничего не имеют против вас; затруднение только в религии.
– Я знаю, что они ничего не могут иметь против меня, потому что, если бы я согласилась выйти за вас замуж, это было бы честью для вас, а не для меня.
Я стараюсь выказать себя суровой, щепетильной, какова я, впрочем, и на самом деле, а также выставить свои нравственные принципы безусловной чистоты, чтобы он рассказал все это своей матери, так как он все говорит ей.
Он никогда еще не говорил со мной, как сегодня вечером.
Тотчас же я бегу, чтобы успокоить неприятно задетое самолюбие мамы, и все рассказываю ей, но смеясь, чтобы не показаться влюбленной.
Ну, теперь довольно! Я спокойна, счастлива, особенно счастлива за моих, которые было уже повесили уши.
Уже поздно, однако, пора спать.
31 марта
Это замечательное доказательство любви – то, что он все рассказал мне. Я не смеялась. Он просил дать ему мой портрет, чтобы взять его с собой в монастырь.
– Никогда! Как можно – такое искушение.
– Все равно, я все время буду думать о вас.
Ну, не смешно ли это – эти восемь дней в монастыре! Что сказали бы его друзья в Caccia-Club, если бы они это знали!
Я никогда никому не скажу этого. Мама и Дина не считаются: они будут молчать, как я. Монастырь для Пьетро чистая пытка!
А если он все это выдумал? Это ужасно – такой характер! Я никому не доверяю.
Бедный Пьетро – в рясе, запертый в своей келье, четыре проповеди в день, обедня, всенощная, заутреня; просто не верится, так это странно.
Боже мой! Не наказывай свое тщеславное создание! Клянусь Тебе, что в сущности я честна и не способна к подлости или низости. Я – честолюбива, вот мое несчастье!
Красоты и развалины Рима кружат мне голову. Я хочу быть Цезарем, Августом, Марком Аврелием, Нероном, Каракаллой, дьяволом, папой!..
Хочу – и сознаю, что я – ничто…
Но я всегда одна и та же; вы можете убедиться в этом, читая мой дневник. Подробности, оттенки меняются, но глубокие строки его всегда одни и те же.
3 апреля
Теперь весна. Говорят, что все женщины хорошеют в это время года; это верно, судя по мне… Кожа становится тоньше, глаза блестящие, краски живее.
Уже третье апреля! Остается только пятнадцать дней в Риме. Как странно! Пока я носила фетровую шляпу, казалось, что все еще зима; вчера я надела соломенную – и тотчас же, казалось, наступила весна. Часто какая-нибудь шляпа или платье производят такое впечатление, точно так же, как очень часто какое-нибудь слово и жест ведут за собой серьезную вещь, уже давно подготавливающуюся, но все не проявлявшуюся до этого маленького толчка.
5 апреля
Я пишу и говорю обо всех, кто за мной ухаживает… Все это происходит из-за отсутствия удовлетворяющей меня деятельности. Я рисую и читаю, но этого недостаточно.
Такому тщеславному человеку, как я, нужно привязаться к живописи, потому что это вечно живая неиссякаемая деятельность.
Я не буду ни поэтом, ни философом, ни ученым. Я могу быть только певицей или художницей.
Это уже очень много. И потом – я хочу быть популярной, это главное.
Не пожимайте плечами, строгие умы, не критикуйте меня с аффектированным безучастием. Если вы будете добросовестны, вы увидите, что в сущности вы таковы же! Вы остерегаетесь высказываться, но это не мешает вам сознавать перед судом своей совести, что я говорю правду.
Тщеславие! Тщеславие! Тщеславие! Начало и конец всего, вечная и единственная причина всего. Что не произведено тщеславием, произведено страстями. Страсти и тщеславие – вот единственные владыки мира!
6 апреля
Я пришла к своему журналу, прося его облегчить мою пустую, грустную, жаждущую, завидующую, несчастную душу.
Да, со всеми моими стремлениями, со всеми моими громадными желаниями и моей лихорадочной жизнью, я вечно и везде останавливаюсь, как конь, сдерживаемый удилами. Он бесится, он становится на дыбы, он весь в мыле – но он стоит!
7 апреля
Как это мучит меня! О, как верно русское выражение: «Кошки скребут на сердце!» У меня – кошки скребут на сердце.
Мне всегда причиняет невероятную боль мысль, что человек, который мне нравится, может не любить меня.
Пьетро не пришел – сегодня вечером только он должен был выйти из монастыря. Я видела и его брата – этого лицемерного причетника Павла А. Что за мелкое, плоское существо: маленький, черный, желтый, гаденький, лицемерный иезуит!
Если все это дело с монастырем – правда, он должен знать его, и как он должен смеяться со своим ехидным видом, как он должен рассказывать об этом своим друзьям! Петр и Павел терпеть не могут друг друга.
9 апреля
С горячей верой, растроганным сердцем и размягченной душой я исповедовалась и причастилась. Мама и Дина тоже; потом мы прослушали обедню, я прислушивалась к каждому слову и молилась.
Не возмутительно ли это – чувствовать себя подчиненной какой-то власти, неизвестной, но непреодолимой! Я говорю о власти, отнявшей у меня Пьетро. Для кардинала нет ничего невозможного, когда дело касается какого-нибудь приказания духовенству. Власть духовенства огромна, и нет возможности проникнуть в их тайные козни.
Остается удивляться, бояться их и преклоняться! Стоит прочесть историю народов, чтобы заметить их влияние во всех исторических событиях. Их виды на все так обширны, что для неопытного наблюдателя они стушевываются, расплываются в неопределенном.
Во всех странах им принадлежала высшая власть – явно или скрытно.
Нет, послушайте, это было бы слишком, если бы так, вдруг, у нас отняли бы Пьетро навсегда! Он не может не вернуться в Рим, он так уверял, что вернется!
Неужели же он ничего не делает, чтобы вернуться? Неужели он не ломает всего окружающего? Неужели он не кричит?
Боже мой! Я исповедовалась и получила отпущение и уже клянусь и сержусь до бешенства!
Известное количество грехов так же необходимо человеку, как известное количество воздуха, чтобы жить.
Зачем люди точно привязаны к земле? Тяжесть, лежащая у них на совести, притягивает их к земле! Если бы совесть их была чиста, они были бы слишком легки и понеслись бы в небеса… как красные воздушные шары.
Вот странная теория. Ну, что ж за беда! А Пьетро все не приходит.
Но ведь я же не люблю его! Я хочу быть рассудительной, спокойной и… не могу.
Это благословенье и портрет папы принесли мне несчастье.
Говорят, что он приносит несчастье.
В груди моей – какое-то свистение, у меня красные ногти, и я кашляю.
Ничего не может быть ужаснее, как не быть в состоянии молиться. Молитва – единственное утешение для тех, кто не может действовать. Я молюсь, но не верю. Это ужасно. Это не моя вина.
12 апреля
Всю эту ночь я видела его во сне; он уверял меня, что правда был в монастыре.
Наши укладываются, сегодня вечером мы едем в Неаполь. Я терпеть не могу уезжать.
Когда же я буду иметь счастье жить у себя, постоянно в одном и том же городе? Видеть постоянно одно и то же общество и время от времени предпринимать путешествия, чтобы освежиться.
Я хотела бы жить, любить и умереть в Риме. Нет, я хотела бы жить, где мне будет хорошо, любить везде и умереть… нигде.
Однако я люблю итальянскую жизнь, т. е. римскую, хотела я сказать: на ней еще лежит некоторый легкий отпечаток древнего великолепия.
Очень часто составляют себе совершенно ложное понятие об Италии и итальянцах. Их воображают себе бедными, какими-то подкупными, в полном падении. На самом деле – совершенно обратное. Очень редко в других странах можно встретить такие богатые семьи и такие роскошные. Я говорю, разумеется, об аристократии.
Рим во время господства пап был совершенно особенным городом, и в своем роде он владычествовал над целым миром. Тогда каждый римский принц был как бы маленьким царьком, имел свой двор и своих клиентов, как в древности. Этому-то положению вещей и обязаны своим величием римские семьи. Конечно, через какие-нибудь два поколения не будет больше ни этого величия, ни богатств, потому что Рим подчинен теперь королевским законам и скоро сравняется с Неаполем, Миланом и другими итальянскими городами.
Крупные богатства будут раздроблены, музеи и галереи приобретены правительством, римские князья превращены в мелких человечков, прикрывающих свое ничтожество именами, как старой театральной мантией. И когда эти великие имена, прежде настолько уважаемые, будут низвержены в грязь, когда король будет воображать себя единственным авторитетом, сбросив всю знать к ногам своим, он должен будет понять в одно прекрасное мгновение, что такое страна, где никого нет между народом и королем. Взгляните на Францию…
Нет, взгляните лучше на Англию – там люди свободны, счастливы. В Англии так много нищеты! – скажете вы. Но вообще, англичане – самый счастливый народ. Я не говорю о его коммерческом благоденствии, но о его внутреннем состоянии.
Но довольно диссертаций на тему о вещах, о которых я имею только бледное понятие и совершенно личное мнение.
Неаполь. 13 апреля
«Видеть Неаполь и умереть» – я не желаю ни того, ни другого…
Уехал ли он сам или его заставили уехать? That is the question.
Запершись у себя, я несколько раз плакала, как бывало в Риме. Господи, как я ненавижу перемену! Какой жалкой чувствую я себя в новом городе!..
Ему велели, он послушался, а чтобы послушаться, надо было весьма мало любить меня.
Ведь вот же небось он не послушался, когда дело шло о военной службе. Довольно, довольно, фи!
Ничтожество, фи! Низость! Я не могу больше останавливаться мысленно на таком человеке. Если я жалуюсь, то на свою несчастную судьбу, на свою бедную жизнь, которая едва только началась и в течение которой я только и видела, что разочарования.
Конечно – так же, как все люди, может быть, и больше других, – я грешила, но во мне есть также и хорошие стороны, и несправедливо унижать меня во всем.
Я встала было на колени среди комнаты, сложив руки и подняв глаза, но что-то говорит мне, что молитва бесполезна: я буду иметь только то, что на мою долю назначено.
И не одним горем не меньше, ни одним страданием не больше, как говорит г-н Ф.
Остается только одно: безропотно покориться.
Я отлично знаю, что это трудно, но иначе в чем же была бы и заслуга?
Я верю, безумная, что порывы страстной веры, что горячие молитвы могут что-нибудь сделать!
Думает ли Он, что покоряющиеся таким образом должны были для этого преодолеть себя?
О! Вовсе нет! Они покоряются, потому что у них в жилах вода вместо крови, потому что это для них легче.
Разве это заслуга – быть спокойным, если это спокойствие в натуре человека? Если бы я могла покориться, я добилась бы этого, потому что это было бы прекрасно. Но я не могу. Это уже не трудность, это невозможность. В момент упадка сил я буду покорна, но это будет не по моей воле, а просто потому, что это будет.
Боже мой, сжалься надо мной, успокой меня! Дай мне какую-нибудь душу, к которой я могла бы привязаться. Я устала, так устала. Нет, нет, я устала не из-за бури, а из-за разочарований!
15 апреля
Чтобы проветрить свою комнату, полную дыма, я открыла окно. В первый раз после трех долгих месяцев я увидела чистое небо и море, проглядывающее сквозь деревья, море, освещенное луной. Я в таком восторге, что невольно берусь за перо. Господи, как хорошо! После этих черных узких улиц Рима. Такая спокойная, такая чудная ночь! Ах, если бы он был здесь!
Вы, может быть, принимаете это за любовь?
Невозможно спать, когда так чудно хорошо.
Подлый, слабый, недостойный человек! Недостойный последней из моих мыслей!
16 апреля. Светлое Христово Воскресенье
Неаполь мне не нравится. В Риме дома черны и грязны, но зато это дворцы – по архитектуре и древности. В Неаполе так же грязно, да к тому же все дома – точно из картона на французский лад.
Французы, конечно, будут в бешенстве. Пусть успокоятся. Я ценю и люблю их более, чем какую-либо другую нацию, но должна признать, что их дворцы никогда не достигнут мощного, великолепного и грандиозного величия итальянских дворцов, особенно римских и флорентийских.
18 апреля
В полдень мы отправляемся в путь к Помпее. Мы едем в коляске, потому что дорога очень красива и можно любоваться Везувием и городами Кастелломар и Сорренто. Администрация, прислуга раскопок, превосходна. Странно и любопытно прогуливаться по улицам этого мертвого города.
Мы взяли стул с носильщиком, и мама и я по очереди отдыхали на нем.
Скелеты – ужасны: эти несчастные застыли в самых раздирательных позах. Я смотрела на остатки домов, на фрески, я старалась мысленно восстановить все это, я населяла в своем воображении все эти дома и улицы…
Что за ужасная сила – эта стихия, поглотившая целый город.
Я слышала, как мама говорила о замужестве.
– Женщина создана для страдания, – говорила она, – даже с лучшим из мужей.
– Женщина до замужества, – говорю я, – это Помпея до извержения, а женщина после замужества – Помпея после извержения.
Быть может, я права!
Я очень утомлена, взволнована, огорчена. Мы возвращаемся только к восьми часам.
19 апреля
Посмотрите, до чего невыгодно мое положение. У Пьетро и без меня есть кружок, свет, друзья – словом, все, кроме меня, а у меня без Пьетро – ничего нет.
Я для него только развлеченье, роскошь. Он был для меня всем. Он заставлял меня отвлекаться от моих мыслей – играть какую-нибудь роль в мире, и я только и думала, только и занималась, что им, бесконечно довольная, что могу избавиться от своих мыслей.
Чем бы я ни сделалась, я завещаю свой журнал публике. Все книги – только измышления, положения в них – натянуты, характеры – фальшивы. Тогда как это – фотография целой жизни. Но, скажете вы, эта фотография скучна, тогда как измышления – интересны. Если вы говорите это, вы даете мне далеко не лестное понятие о вашем уме. Я представляю вам здесь нечто невиданное. Все мемуары, все журналы, все опубликованные письма – только подкрашенные фантазии, предназначенные к тому, чтобы вводить в заблуждение публику. Мне же нет никакой выгоды лгать. Мне не надо ни прикрывать какого-нибудь политического акта, ни утаивать какого-нибудь преступного деяния. Никто не заботится о том, люблю я или не люблю, плачу или смеюсь. Моя величайшая забота состоит только в том, чтобы выражаться как можно точнее.
Однако я открыла тетрадь вовсе не для того, чтобы распространяться обо всем этом, я хотела сказать, что еще нет полудня, а я предаюсь, более чем когда-либо, своим мучительным мыслям, мне теснит грудь и хотелось бы просто… рычать. Впрочем, это мое обычное состояние.
Небо серо, и на Chiaja виднеются только извозчики да грязные пешеходы, глупые деревья, которыми с обеих сторон засажена улица, заслоняют море. В Ницце с одной стороны виллы Promenade des Anglais, а с другой – море, свободно плещущее и разбивающееся о прибрежные камни. А здесь с одной стороны дома, с другой – какой-то сад, который тянется вдоль всей улицы и отделяет ее от моря, от которого сам отделяется довольно большим пространством совершенно голой земли, покрытой камнями и кое-какими постройками и представляющей картину самой безотрадной тоски. Серая погода всегда делает меня несколько грустной; но здесь, сегодня, она давит меня.
Эта мертвая тишина в наших комнатах, этот раздражающий шум извозчиков и тележек с бубенцами на улице, это серое небо, этот ветер, треплющий занавески! О! Какая я жалкая! И нечего сердиться ни на небо, ни на море, ни на землю.
21 апреля
Послушайте, вот что: если душа существует, если душа оживляет тело, если одна только эта прозрачная субстанция чувствует, любит, ненавидит, желает, если, наконец, одна только душа заставляет нас жить, каким же образом происходит, что какая-нибудь царапина на этом бренном теле, какой-нибудь внутренний беспорядок, излишек вина или пищи может заставить душу покинуть тело?
Рим. 24 апреля
Я собиралась рассказать весь день, но ни о чем больше не помню. Знаю только, что на Корсо мы встретили А., что он подбежал, радостный и сияющий, к нашей карете и спросил, дома ли мы сегодня вечером. Мы дома. Увы!
Он пришел, и я вышла в гостиную и принялась говорить совершенно просто, как остальные. Он сказал, что пробыл четыре дня в монастыре, остальные – в деревне. Теперь он в мире со своими родителями, он будет выезжать в свет, будет благоразумно вести себя и думать о будущем. Наконец он сказал мне, что я преспокойно веселилась в Неаполе, была по своему обыкновению кокетлива и что все это доказывает, что я не люблю его. Он также сказал мне, что видел меня в то воскресенье подле монастыря Giovanni et Paolo. И чтобы доказать, что говорит правду, он описал мне, как я была одета и что делала, я должна сказать – совершенно точно.
25 апреля
Мне кажется, что он меня больше не любит. Что ж, в добрый час. И от этой мысли мне становится жарко, у меня кипит кровь, и холод пробегает по спине!
Я гораздо больше люблю это, о да, по крайней мере, я в бешенстве, в бешенстве, в бешенстве.
Сегодня вечером, против всякого ожидания, у нас довольно многочисленное собрание, между другими – А.
Все общество вокруг стола, я с Пьетро – у другого. Мы рассуждали о любви вообще и о любви Пьетро в частности. У него на этот счет отчаянные принципы, или, вернее, он теперь так безумствует, что вовсе не имеет их. Он говорил в таком легком тоне о своей любви ко мне, что я не знаю, что и думать. Впрочем, он так похож на меня характером, что это просто удивительно.
Не помню, что тут было сказано, но уже через пять минут мы были в мире, объяснились и заговорили о браке. Он – по крайней мере, я большую часть времени молчала.
– Вы уезжаете в четверг?
– Да, и вы меня забудете.
– О, да нет же! Я приеду в Ниццу.
– Когда?
– Как только будет можно. Теперь я не могу.
– Почему? Скажите, скажите, сейчас же!
– Мой отец не позволил бы мне.
– Но вам остается только сказать ему правду.
– Конечно, я ему скажу, что еду туда для вас, что я люблю вас, что я хочу жениться, но только не теперь. Вы не знаете моего отца, он только что простил меня, но я еще не смею ни о чем просить его.
– Переговорите с ним завтра.
– Я не смею. Я еще не заслужил его доверия. Подумайте, целых три года он не говорил со мной… Через месяц я буду в Ницце.
– Через месяц меня уже там не будет.
– Куда же вы поедете?
– В Россию. И вот, я уеду, и вы меня забудете.
– Ну, через пятнадцать дней я буду в Ницце, и тогда… И тогда мы поедем вместе. Я вас люблю, я вас люблю! – повторял он, падая на колени.
– Вы счастливы? – спросила я, сжимая его голову своими руками.
– О, да! Потому что я верю в вас, верю вашему слову.
– Приезжайте в Ниццу теперь же, – сказала я.
– О! Если бы я мог!
– Люди могут все, чего хотят.
27 апреля
Господи! Ты был так добр ко мне до сих пор, помоги мне теперь, сжалься надо мной!
И Бог помог мне.
На вокзале я расхаживала вдоль и поперек – с Пьетро.
– Я вас люблю! – воскликнул он. – И я вечно буду любить вас, может быть, на горе себе.
– И вы видите, что я уезжаю, и вам это все равно.
– О, не говорите этого! Вы не можете говорить этого, вы не знаете что́ я выстрадал! И я ведь знал все время, где вы и что вы делаете… С той минуты, как я вас увидел, я совершенно изменился, посмотрите хорошенько. Но вы вечно третируете меня, как я не знаю кого! Ну, если я и делал глупости в своей жизни – кто же их не делал? – этого еще недостаточно, чтобы считать меня каким-то негодяем, каким-то взбалмошным повесой. Для вас я все сделал; для вас я примирился с семьей.
– Ну, это не для меня! Я совершенно не понимаю, при чем я в этом примирении.
– Ах! Да потому, что я серьезно думал о вас.
– Как?
– Вы вечно хотите, чтобы вам выкладывали все в подробностях, математически, а есть известные вещи, которые должны подразумеваться и от этого нисколько не менее очевидны! И вы просто смеетесь надо мной.
– Это неправда.
– Вы меня не любите?
– Да, и послушайте, вот что. Я не имею привычки повторять два раза. Я хочу, чтобы мне верили сейчас же. Я еще никогда никому не говорила того, что сказала вам. Я очень оскорблена, потому что мои слова, вместо того, чтобы быть принятыми как милость, приняты чрезвычайно легкомысленно и подвергаются каким-то толкованиям. И вы смеете сомневаться в том, что я говорю! Право, вы Бог знает до чего доведете меня.
Он сконфузился и извинился; мы больше почти не говорили.
– Вы мне напишете? – спросил он.
– Нет, этого я не могу, но я позволяю вам написать мне.
– А-а! Прекрасная любовь, нечего сказать! – воскликнул он.
– Послушайте, – сказала я серьезно, – не просите слишком многого. Это ведь еще очень большое снисхождение, если молодая девушка позволяет написать себе. Если вы этого не знали, то примите к сведению. Но сейчас мы должны садиться в вагон, не будем тратить время на пустые споры. Вы мне напишете?
– Да. И что бы вы ни говорили, я чувствую, что люблю вас, как никогда никого больше не буду любить. Вы любите меня?
Я сделала утвердительный знак головой.
– Вы всегда будете любить меня?
Тот же знак.
– Ну, до свиданья же, – сказала я.
– До каких пор?
– До будущего года.
– Нет!
– Ну, прощайте же!
И не подавая ему руки, я вскочила в вагон, где уже были все наши.
– Вы не пожали мне руку, – сказал А., подходя. Я протянула ему руку.
– Я вас люблю, – сказал он, очень бледный.
– До свидания, – говорю я тихонько.
– Думайте иногда обо мне, – сказал он, бледнея еще больше, – а я только о вас и буду думать!
– Да… До свиданья!
Поезд тронулся, и в течение нескольких мгновений я еще могла его видеть; он глядел на меня с таким умиленным видом, что мог показаться спокойным; потом он сделал несколько шагов к двери, но так как я была еще видна, он снова остановился как вкопанный, потом надвинул шляпу на самые глаза, сделал еще шаг вперед; потом мы были уже слишком далеко, чтобы видеть.
Я была бы в отчаянии, покидая Рим, к которому я так привыкла, если бы около четырех часов, при виде новолуния, мне не блеснула одна идея.
– Видишь ты этот месяц? – спросила я у Дины.
– Да, – ответила она.
– Ну, так этот серп будет прекраснейшей луной через одиннадцать-двенадцать дней.
– Конечно.
– Видела ты Колизей при свете луны?
– Да.
– А я не видела.
– Знаю.
– Но ты, может быть, не знаешь, что я хочу его видеть.
– Возможно.
– Да. Откуда следует, что через десять или двенадцать дней я снова буду в Риме, столько же для бегов, сколько для Колизея.
– О!
– Да. Я поеду с тетей. И это будет славно – без тебя, без мамы, а с тетей! Мы будем преспокойно прогуливаться, и я буду очень веселиться.
– Хорошо, – говорит мама, – так это и будет, я тебе обещаю! И она поцеловала меня в обе щеки.
28 апреля
Я заснула и видела сны ужасные, как кошмары.
В одиннадцать часов я уже легла, чтобы не видеть маслин и красноватой земли, а в час мы уже подъезжали к вокзалу Ниццы, к величайшей радости тети, которая очень волновалась, пришедши нам навстречу в сопровождении m-lle Колиньон, С. и т. д. и т. д.
– Вы знаете, – кричала я им еще прежде, чем открыли дверцы, – мне очень досадно, что я должна была возвратиться, и это только оттого, что иначе было невозможно.
И я обняла их всех зараз.
Дом омеблирован очаровательнейшим образом; моя комната ослепительна, обитая небесно-голубым атласом с пуговками. Открыв дверь на балкон и взглянув на наш красивый сад, бульвар и море, я должна была высказать вслух:
– Что бы ни говорили, ничего не может быть такого очаровательно-простого и чудно-поэтического, как Ницца!
4 мая
Настоящий сезон в Ницце начинается в мае. В это время здесь просто до безумия хорошо. Я вышла побродить по саду, при свете еще молодого месяца, пении лягушек и ропоте волн, тихо набегающих и плещущих о прибрежные камни. Божественная тишина и божественная гармония!..
Говорят о чудесах Неаполя; что до меня – я предпочитаю Ниццу. Здесь берег свободно купается в море, а там оно загорожено глупой стеной с перилами, и даже этот жалкий берег застроен лавками, бараками и всякой гадостью.
«Думайте иногда обо мне, а я только о вас и буду думать!» Прости ему, Господи, он сам не знал, что говорил. Я ему позволяю писать мне, а он не пользуется даже этим позволением! Пошлет ли он хоть обещанную маме телеграмму?
5 мая
Итак, я говорила… Что? Да, что Пьетро ведет себя непростительно по отношению ко мне.
Я не могу понять эту нерешительность, даже не любя его!
Я читала в романах, что часто человек кажется забывчивым и равнодушным именно потому, что любит.
Хотела бы я верить романам.
Мне скучно и хочется спать, и в этом состоянии мне хочется видеть Пьетро и слышать его рассуждения о любви. Мне хотелось бы видеть во сне, что он тут, мне хотелось бы видеть хороший сон. Действительность опасна.
Мне скучно, а когда мне скучно, я становлюсь очень нежна.
Когда же наконец кончится эта жизнь тоски, разочарований, зависти и огорчений!
Когда же наконец буду я жить, как бы мне хотелось! Замужем за человеком очень богатым, с громким именем и симпатичным, потому что я вовсе не так корыстолюбива, как вы думаете. Впрочем, если я не корыстолюбива, то тоже из эгоизма.
Это было бы ужасно – жить с человеком, которого ненавидишь. Ни богатство, ни положение не могли бы удовлетворить меня. О Боже мой! Святая Дева Мария, помоги мне!
6 мая
Знаете, я безумно хотела бы видеть Пьетро.
Сегодня вечером я даю праздник, каких уже много лет не видела улица de France. Вы, может быть, знаете, что в Ницце существует обычай встречать май, т. е. вешать венок и фонарь и плясать под ним в хороводе. С тех пор, как Ницца принадлежит Франции, обычай этот постепенно исчезает; во всем городе едва можно было видеть каких-нибудь три-четыре фонаря.
И вот, я даю им rossiqno; я называю это так потому, что Rossiqno che vola – самая популярная и самая красивая песня в Ницце.
Я велю приготовить заранее и повесить посреди улицы громадную махину из ветвей и цветов, украшенную венецианскими фонариками.
У стены нашего сада Трифону (слуга дедушки) было поручено устроить фейерверк и освещать сцену время от времени бенгальскими огнями. Трифон не чувствует под собой ног от радости. Все это великолепие сопровождается музыкой арфы, флейты и скрипки и поливается вином в изобилии. Добрые женщины пришли пригласить нас на их террасу, потому что я и Ольга смотрели одни, со ступенек деревянной лестницы.
Мы отправляемся на террасу соседей – я, Ольга, Мари и Дина, потом становимся посреди улицы, созываем танцующих и с успехом стараемся возбудить оживление.
Я пела и кружилась с остальными, к удовольствию добродушных горожан Ниццы, особенно людей нашего квартала, которые все знают меня и называют «mademoiselle Marie».
Не будучи в состоянии делать что-нибудь, я стараюсь быть популярной, и это льстит маме. Она не смотрит ни на какие издержки. Особенно понравилось всем, что я пела и сказала несколько слов на их наречии.
В то время как я стояла на лестнице с Ольгой, которая ежеминутно дергала меня за юбки, мне очень хотелось произнести речь, но я благоразумно удержалась, – на этот год… Я смотрела на пляску и слушала крики, совершенно замечтавшись, как это часто бывает со мной. Когда же фейерверк закончился великолепным «солнцем», мы вернулись домой – среди ропота удовлетворения.
7 мая
Я нахожу известное удовлетворение в разумном презрении ко всему человеческому роду. По крайней мере, не поддаешься иллюзиям. Если Пьетро забыл меня – это кровное оскорбление, и вот еще одно имя на моих табличках ненависти и мщения…
Нет, таков, каков он есть, род человеческий мне нравится, и я люблю его и составляю часть его, и живу со всеми этими людьми, и от них зависит все мое богатство и все мое счастье.
Впрочем, все это глупо. Но в этом мире все, что не грустно, глупо, и все, что не глупо, грустно.
Завтра в три часа я уезжаю в Рим, столько же чтобы развлечься, сколько для того, чтобы презирать А., если он подаст к этому повод.
11 мая
Я выехала вчера в два часа с тетей.
Это ужасное доказательство любви, которое я, по-видимому, даю Пьетро.
Что же! Тем хуже! Если он думает, что я люблю его, если он верит в такую невозможно-громадную вещь, он просто глуп.
В два часа мы уже в Риме; я бросаюсь на извозчика, тетя следует за мной и… И… Я в Риме! Боже! Какая радость!
Наши вещи приедут только завтра. Чтобы идти смотреть на бега, мы принуждены довольствоваться нашими дорожными платьями. Впрочем, это было очень мило – мой серый костюм и фетровая шляпа. Я веду тетю на Корсо (что за прелестная вещь опять увидеть Корсо после Ниццы!). Я оглушена ее всякими глупостями и объяснениями: мне все кажется, что она ничего не видит.
А вот и Caccia-Club; мой проход вызывает волнение; монах остается с разинутым ртом, потом снимает шляпу и улыбается до ушей.
Мы идем на виллу Боргезе, где в настоящее время проходит областной конкурс земледелия. Все очень удивлены, видя меня появляющейся уже в третий раз. Я очень известна в Риме.
Я делаю знак Пьетро подойти; он так и сияет и смотрит на меня глазами, говорящими, что он принимает все это всерьез.
Он заставил нас очень много смеяться, описывая свое пребывание в монастыре. Он согласился, говорит он, отправиться туда всего на четыре дня, а как только он попал туда, его продержали целых семнадцать дней.
– Зачем же вы лгали, говоря, что были в Террачине?
– Да мне было стыдно сказать правду!
– А друзья в клубе знают это?
– Да. Сначала я говорил, что был в Террачине, потом со мной заговорили о монастыре, и я кончил тем, что все рассказал, и сам смеялся, и все смеялись. Торлониа был в бешенстве.
– Почему?
– Да потому что я не сказал ему всего сначала. Потому что я не имел к нему достаточно доверия.
Затем он рассказал, как – чтобы понравиться отцу – он сделал вид, будто бы нечаянно уронил из кармана четки: чтобы тот вообразил, что он всегда носит их на себе. Я осыпала его насмешками и дерзостями, на которые он отвечал прекрасно, надо ему отдать справедливость.
13 мая
Я не скрываю ни чувств, ни мыслей своих, и у меня не хватает даже сил вынести свои огорчения с достоинством; плакала. И в то время как я пишу, я слышу шорох от слез, падающих на бумагу, крупных слез, свободно бегущих без всякой гримасы на лице. Я легла было на спину, чтобы вогнать их назад, но это не удалось.
Вместо того чтобы сказать, что заставило меня плакать, я рассказываю, как я плачу! Да и как сказать – почему? Я ни в чем не отдаю себе отчета. «Как! – говорила я себе, лежа с закинутой головой на диване. – Как же это так? Так он забыл? Конечно, потому что он повел самую равнодушную беседу, перемешанную с какими-то словами, произнесенными так тихо, что я даже не слыхала их; да еще и повторил, что он любит меня только вблизи, что я – ледяная, что он уедет в Америку, что, видя меня вблизи, он меня любит, а как только я вдали – забывает…»
Я очень сухо попросила его больше не говорить об этом.
Ах, я не могу писать, и вы сами видите, что я должна чувствовать и как я оскорблена!
Я не могу писать. И однако что-то мне приказывает. Пока я не расскажу всего, что-то внутри мучит меня.
Я болтала и преспокойно сидела за чаем до половины одиннадцатого. Тогда пришел Пьетро. С. скоро ушел, и мы остались втроем. Разговор зашел о моем дневнике, т. е. о разбираемых в нем вопросах, и А. попросил меня прочесть ему оттуда что-нибудь относительно Бога и души. Тогда я пошла в переднюю и, ставши на колени перед знаменитой белой шкатулкой, стала искать, и Пьетро держал свечу… Но, отыскивая, я натыкалась на многие эпизоды общего интереса, я прочитывала, и это продолжалось около получаса.
Потом, возвратившись в гостиную, он стал рассказывать различные анекдоты из своей жизни, начиная с восемнадцатилетнего возраста.
Я слушала все, что он рассказывал, с некоторым страхом и некоторой долей ревности.
Эта полная его зависимость леденит меня: запрети они ему любить меня, он послушается – я уверена.
Его семья, эти священники, монахи пугают меня. Хотя он и говорил мне об их доброте, но меня охватывает ужас при мысли об этих безобразиях и этой тирании. Да! Они внушают мне страх, и оба его брата – также; но дело не в этом, я всегда свободна согласиться или отказать.
Я благодарю Бога за то, что он развязал мне перо; вчера – это была пытка, я ни в чем не могла отдать себе отчета.
Все, что я слышала сегодня, все заключения, которые я отсюда вывела, и все предыдущие – как-то слишком тяжелы для моей головы. И потом, это просто сожаление о том, что он ушел; до завтра – так долго! Я почувствовала желание плакать – от неизвестности, а может быть, и от любви.
17 мая
У меня накопилось много чего сказать, еще со вчерашнего дня, но все стушевывается перед сегодняшним вечером.
Он опять заговорил со мной о своей любви; я уверяла его, что это бесполезно, потому что мои родители все равно бы никогда не согласились.
– Они в своем роде правы, – говорил он мечтательно, – я не способен никому дать счастья. Я сказал это матери, я говорил с ней о вас, я сказал: «Она такая религиозная и добрая, а я ни во что не верю, я совершенно негодный человек». Подумайте сами: я пробыл семнадцать дней в монастыре, я молился, размышлял – и не верю в Бога, религия для меня не существует; я ни во что не верю.
Я посмотрела на него испуганными, широко раскрытыми глазами.
– Нужно верить, – говорю я, взяв его руку, – надо исправиться, надо быть добрым.
– Это невозможно, и никто не может меня любить таким, каков я есть, не правда ли?
– Гм… Гм…
– Я очень несчастлив. Вы никогда не составите себе понятия о моем положении. По-видимому, я добр со своими, но это только по-видимому; я их всех ненавижу – моего отца, моих братьев, даже мою мать; я очень несчастлив. А спросят меня почему? Я не знаю!.. О, эти священники! – воскликнул он, сжимая кулаки и зубы и поднимая к небу лицо, искаженное ненавистью. – Эти попы! О! Если бы вы только знали, что это!!! – Он едва пришел в себя. – И однако я люблю вас, и вас одну. Когда я с вами, я счастлив.
– А доказательство?
– Приказывайте.
– Приезжайте в Ниццу.
– Вы выводите меня из себя, говоря это. Вы знаете, что я не могу.
– Почему?
– Потому что мой отец не хочет мне давать денег, потому что мой отец не хочет, чтобы я ехал в Ниццу.
– Я понимаю, но если вы ему скажете, зачем вы туда едете?
– Он не захочет. Я говорил матери; она мне не верит. Они все так привыкли к моему дурному поведению, что больше не верят мне.
– Надо исправиться, надо приехать в Ниццу.
– Да ведь вы говорите, что мне будет отказано.
– Я не сказала, что будет отказано мною.
– Это было бы слишком, – сказал он, близко глядя на меня, – это было бы… Как сон.
– Но хороший сон, не правда ли?
– О, да!
– Так вы спросите у вашего отца?
– Конечно да, но он не хочет, чтобы я женился. Нет, я говорю, что для этого надо заставить говорить духовника.
– Ну что ж, заставьте его говорить.
– Боже мой! И вы говорите это?
– Да, вы понимаете, что я не держусь особенно за вас, но я просто хочу дать это удовлетворение своей оскорбленной гордости.
– Я несчастный, проклятый человек в этом мире!
Бесполезно, да и невозможно передать все эти сотни фраз. Скажу только, что он повторял сто раз, что любит меня, таким нежным голосом и с такими умоляющими глазами, что я сама приблизилась к нему, и мы говорили, как добрые друзья, о множестве различных вещей. Я уверяла его, что существует Бог на небе и счастье на земле. Я хотела, чтобы он поверил в Бога, чтобы он увидел Его моими глазами и молился Ему моим голосом…
– Ну, так и кончено. – Я отодвигаюсь. – Прощайте!
– Я вас люблю.
– Я вам верю, – говорю я, сжимая обе его руки, – и мне вас жаль!
– Вы никогда не полюбите меня?
– Когда вы будете свободны.
– Когда я умру!
– Я не могу теперь, потому что я вас жалею и презираю. Вам скажут, чтобы вы не любили меня, и вы послушаетесь.
– Может быть!
– Это ужасно!
– Я вас люблю, – говорит он в сотый раз.
Он заплакал и вышел. Я приблизилась к столу, где сидела тетя, и сказала ей по-русски, что монах наговорил мне комплиментов, о которых я расскажу завтра.
Он еще раз возвратился, и я простилась с ним.
– Нет, нет, не прощайте.
– Да, да, да. Прощайте. Я любила вас до этого разговора. [Вставка 1881 года: Я никогда не любила его; все это было только действие романтически настроенного воображения, ищущего романа.] Да, тем хуже, я сказала, я любила вас; я ошибалась, я знаю это.
– Но… – начал он.
– Прощайте.
– Так вы больше не поедете верхом в Тиволи завтра?
– Нет.
– И вы отказываетесь не из-за усталости?
– Нет! Усталость только предлог, я больше не хочу вас видеть.
– Но нет! Это невозможно, – говорил А., держа мои руки.
– До свиданья!
– Вы сказали мне, чтобы я переговорил с отцом и приехал в Ниццу? – говорил А. на лестнице перед уходом.
– Да.
– Я это сделаю, и я приеду во что бы то ни стало, клянусь вам. И он ушел.
Три дня тому назад у меня явилась новая идея – что я скоро умру: я кашляю… Третьего дня я сидела в зале, было уже два часа утра; тетя торопила меня идти спать, а я не двигалась, говоря, что это доказательство тому, что я скоро умру.
– Что ж, – говорит тетя, – при таких условиях я не сомневаюсь, что ты умрешь.
– И тем лучше для вас, будет меньше расходов, не надо будет столько платить Лаферрьер!
И в сильном припадке кашля я откинулась на диван, к великому испугу тети, которая выбежала из комнаты, делая вид, что сердится.
19 мая
Тетя пошла в Ватикан, а я, не имея возможности быть с Пьетро, предпочитаю побыть одна. Он придет к пяти часам; я бы так хотела, чтобы тетя к тому времени еще не возвратилась. Я хотела бы остаться с ним наедине, но так, чтобы это казалось невольным, потому что я не могу больше показывать ему, что ищу встречи с ним.
Я только что пела и чувствую боль в груди. И вот вы уже видите, что я позирую как бы в роли мученицы! Как это глупо!
Я причесана, как Венера Капитолийская, одета в белое, как Беатриче, с четками и перламутровым крестом на шее.
Что ни говори, а есть в человеке известная потребность в идолопоклонстве, в материальных ощущениях. Бога в простоте Его величия недостаточно.
Вчера вечером я сосчитала буски своих четок, их шестьдесят, и я шестьдесят раз положила земной поклон, каждый раз прикасаясь лбом к самому полу. У меня наконец захватило дыхание от этого, и мне казалось, что этот поступок приятен Богу. Это, конечно, вздор, и однако в это вложено искреннее желание угодить Ему.
Придаст ли Бог цену этому желанию?
Ах да, у меня есть Новый Завет, прочтем… Не находя святой книги, я читаю Дюма. Это далеко не одно и то же!
Тетя возвратилась в четыре часа, а через двадцать пять минут я очень ловко возбудила в ней желание посмотреть церковь Santa Maria Maggiore. Теперь уже половина пятого. Я глупо сделала; нужно было услать ее в пять часов, а то боюсь, как бы она все-таки не пришла слишком рано.
Когда доложили о приходе графа А., я была еще одна, потому что тете пришла мысль осмотреть Пантеон, кроме Santa Maria Maggiore. Сердце мое стучало так сильно, что я боялась, как бы этого не было слышно, как говорят в романах.
Он сел подле меня и хотел взять мою руку, которую я тотчас же высвободила.
Тогда он сказал мне, что любит меня. Я отвечала вежливой улыбкой.
– Тетя сейчас возвратится, – сказала я, – будьте терпеливы.
– Мне столько надо вам сказать!
– Правда?
– Но ваша тетя сейчас возвратится!
– Ну, так поторопитесь.
– Это серьезные вещи.
– Посмотрим.
– Во-первых, вы дурно сделали, что писали обо мне все эти вещи.
– Нечего говорить об этом. Я вас предупреждаю, я очень нервна, так что вы лучше сделаете, если будете говорить попроще или уж лучше совсем не говорите.
– Послушайте, я говорил с матерью, а мать сказала отцу.
– Ну, и что же?
– Я хорошо сделал, не правда ли?
– Это меня не касается; то, что вы сделали, вы это сделали для себя.
– Вы меня не любите?
– Нет.
– А я люблю вас как безумный.
– Тем хуже для вас, – говорю я, улыбаясь и оставляя в его руках свои руки.
– Нет, послушайте, будем говорить серьезно; вы никогда не хотите быть серьезной… Я вас люблю! Я говорил с матерью. Будьте моей женой, – говорил он.
«Наконец-то!» – воскликнула я внутренне, но я ничего не ответила ему.
– Ну, что же? – спросил он.
– Хорошо, – ответила я, улыбаясь.
– Знаете, – сказал он, ободрившись, – надо будет кого-нибудь посвятить во все это.
– Как?
– Да, я сам не могу устроить все это, нужно, чтобы кто-нибудь взял это на себя, какой-нибудь человек – почтенный, серьезный, который поговорил бы об этом с отцом – словом, устроил бы все это. Кто бы например?
– Висконти, – говорю я, смеясь.
– Да, – отвечает он совершенно серьезно. – Я и сам думал о Висконти, это именно такой человек, какой нужен. Он так стар, что только и пригоден для роли Меркурия… Только, – сказал он, – я не богат, вовсе не богат. О, я согласился бы быть горбатым, чтобы только обладать миллионами.
– Вы этим ничего не выиграли бы в моих глазах.
– О! О! О!
– Мне кажется, что это, наконец, обидно, – говорю я, поднимаясь с места.
– Да нет, я не говорю о вас, вы – вы исключение.
– Ну, так и не говорите мне о деньгах.
– Боже мой! Какая вы, право… Никогда нельзя понять, чего хотите… Согласитесь, согласитесь быть моей женой.
Он хотел поцеловать мою руку, но я подставила ему крест моих четок, который он поцеловал; потом, поднимая голову, сказал:
– Как вы религиозны!
– А вы, вы ни во что не верите?
– Я, я вас люблю. Любите вы меня?
– Я не говорю таких вещей.
– Ну, ради Бога, дайте это как-нибудь понять мне, по крайней мере. После минутного колебания я протянула ему руку.
– Вы согласны?
– Отчасти, – говорю я, вставая, – вы знаете, ведь у меня еще есть дедушка и отец, которые будут иметь очень много против католического брака.
– Ах! Еще это!
– Да, еще это!
Он взял меня за руку и посадил рядом с собой, против зеркала. Мы были очень хороши таким образом.
– Мы поручим это Висконти, – сказал А.
– Да.
– Это именно тот человек. Но так как мы еще очень молоды для брака, думаете ли вы, что мы будем счастливы?
– Прежде всего, еще нужно мое согласие.
– Разумеется. Ну, предположим, если вы согласитесь, будем ли мы счастливы?
– Если я соглашусь, могу поклясться, что не будет никого в мире счастливее вас.
– Ну, так мы женимся. Будьте моей женой.
Я улыбнулась.
– О! – воскликнул он, прыгая по комнате. – Как я буду счастлив, как это будет смешно, когда у нас будут дети!
– Вы с ума сошли!
– Да, от любви.
В эту минуту послышались голоса на лестнице; я спокойно села и стала ждать тетю, которая очень скоро вошла.
У меня точно большая тяжесть отлегла от сердца, я развеселилась, а А. был просто вне себя.
Я была спокойна, счастлива, но мне хотелось очень многое высказать и выслушать.
За исключением нашего помещения, весь нижний этаж отеля пустой. Вечером мы берем свечу и обходим все громадные покои, еще дышащие прежним величием итальянских дворцов, но тетя была с нами. Я не знала, как быть.
Мы останавливаемся более чем на полчаса в большой желтой зале, и Пьетро изображает кардинала, своего отца и своих братьев.
Тетя забавляется тем, что пишет А. разные глупости по-русски.
– Спишите это, – говорю я, взяв книгу и написав несколько слов на первой странице.
– Что?
– Читайте.
Я написала ему в восьми словах следующее:
«Уходите в двенадцать часов, поговорю с вами внизу».
– Поняли? – спрашиваю я, стирая.
– Да.
С этой минуты я почувствовала облегчение и была как-то странно возбуждена. А. каждую минуту оборачивался на часы, так что я боялась, как бы не поняли наконец причину этого. Как будто бы можно было отгадать! Только нечистая совесть способна мучить себя этими страхами. В двенадцать часов он встал и простился, крепко сжимая мне руку.
– Прощайте, – сказала я ему.
Глаза наши встретились, и я не сумею описать, как между ними пробежала искра.
– Итак, тетя, завтра утром мы уезжаем; идите к себе, я вас там запру, а то вы будете мне мешать писать; я скоро лягу.
– Ты обещаешь?
– Конечно.
Я заперла тетю и, бросив взгляд в зеркало, спустилась по лестнице, куда Пьетро уже раньше проскользнул как тень.
– Когда любишь, столько говорится друг другу даже молча! По крайней мере, я вас люблю! – прошептал он.
Я забавлялась, разыгрывая сцену из романа и невольно думая о Дюма.
– Я завтра еду. И нам надо серьезно переговорить, я чуть было не забыла!..
– Да, просто ничего в голову не идет…
– Пойдемте, – говорю я, притворяя дверь так, чтобы сквозь щель падал слабый луч света.
И я села на последней ступеньке маленькой лесенки, в глубине коридора. Он стал на колени.
Каждую минуту мне казалось, что кто-то идет, я неподвижно застывала, содрогаясь от каждой капли дождя, ударявшей в стекла.
– Да это ничего, – говорил мой нетерпеливый обожатель.
– Вам хорошо говорить! Если кто-нибудь придет, вы будете польщены, а я пропаду!
Закинув голову, я смотрела на него сквозь ресницы.
– Со мной? – сказал он, поняв мои слова в другом смысле. – Со мной? Я слишком люблю вас; вы можете быть вполне спокойны.
Я протянула ему руку, услышав эти благородные слова.
– Разве я не был всегда приличен и почтителен?
– О, нет, не всегда. Раз вы даже хотели меня обнять.
– Не говорите об этом, прошу вас. Ведь я там просил вас простить меня. Будьте добрая, простите меня.
– Я простила вас, – сказала я потихоньку.
Мне было так хорошо! Так ли это, думала я, когда любят? Серьезно ли это? Мне все казалось, что он сейчас рассмеется, – так он был сосредоточен и нежен.
Я опустила глаза перед этим необычайным блеском его глаз.
– Ну, видите, мы опять забыли говорить о делах; будем серьезны и поговорим.
– Да, поговорим.
– Во-первых, как быть, если вы уезжаете завтра? Не уезжайте, прошу вас, не уезжайте!
– Это невозможно; тетя…
– Она такая добрая! Останьтесь.
– Она добра, но она не согласится… И поэтому – прощайте… Может быть, навсегда!
– Нет, нет же, ведь вы согласились быть моей женой.
– Когда?
– В конце этого месяца я буду в Ницце. Если вы согласитесь на то, чтобы я удрал, сделав долг, я поеду завтра же.
– Нет, я этого не хочу; в таком случае я вас больше не увижу.
– Но вы не можете помешать мне ехать безумствовать в Ниццу.
– Нет, нет, нет, я вам это запрещаю!
– Ну, так надо ждать, чтобы мой отец дал мне денег.
– Послушайте, я надеюсь, что он будет рассудителен.
– Да он ничего не имеет против, мать говорила с ним; но если он не даст мне денег? Вы знаете, как я зависим, как я несчастлив!
– Потребуйте.
– Дайте мне совет, вы, рассуждающая как книга, вы, говорящая о душе, о Боге; дайте мне совет?
– Молитесь Богу, – говорю я, подавая ему мой крест, и готовая рассмеяться, если он примет это в шутку, и соблюсти свой строгий вид, если он примет это серьезно.
Он увидел мой невозмутимый вид, приложил крест ко лбу и опустил голову в молитве.
– Я помолился, – сказал он.
– Правда?
– Правда. Но дальше… Итак, мы поручим это барону Висконти.
– Хорошо.
Я говорила «хорошо», а думала: «Это мы еще посмотрим».
– Но это еще нельзя сделать так скоро, – сказала я.
– Через два месяца.
– Вы смеетесь? – спросила я, как будто это было совершенно невозможно.
– Через шесть.
– Нет.
– Через год?
– Да, через год. Вы подождете?
– Если нужно; только бы я мог видеть вас каждый день.
– Приезжайте в Ниццу, потому что через месяц я уезжаю в Россию.
– Я поеду за вами.
– Это невозможно.
– Почему?
– Мать моя не захочет.
– Никто не может помешать мне путешествовать.
– Не говорите глупостей.
– Но ведь я вас люблю!
Я нагнулась к нему, чтобы не потерять ни одного его слова.
– Я всегда буду любить вас, – сказал он. – Будьте моей женой.
Мы входим в банальности влюбленных, банальности, которые становятся божественными, когда люди действительно полюбили навсегда.
– Да, право, – говорил он, – это было бы так хорошо – прожить жизнь вместе, у ваших ног… обожая вас… Мы оба будем стары, так стары, что будем нюхать табак, и все-таки всегда будем любить друг друга. Да, да, да… Милая!..
Он не находил других слов, и эти слова, такие обыкновенные, становились в его устах величайшей лаской.
Он смотрел на меня, сложив руки. Потом мы рассуждали, потом он бросился к моим ногам, крича задыхающимся голосом, что я не могу его любить, как он меня любит, что это невозможно. Потом он захотел, чтобы мы признались друг другу в своем прошлом.
– О! Ваше прошлое, милостивый государь, меня не интересует.
– О! Скажите мне, сколько раз вы любили?
– Раз.
– Кого?
– Человека, которого я не знаю, которого я видела десять или двенадцать раз на улице, который не знает о моем существовании. Мне тогда было двенадцать лет, и я никогда с ним не говорила.
– Это сказка!
– Это правда!
– Но ведь это роман, фантазия; это невозможно, это тень какая-то!
– Да, но я чувствую, что не стыжусь этой любви и что он стал для меня чем-то вроде божества. Я ни с кем его не сравниваю и не нахожу ему никого достойного.
– Где же он?
– Да я не знаю. Очень далеко, он женат.
– Вот безумие!
И мой чудак Пьетро имел весьма недоверчивый и пренебрежительный вид.
– Да, это правда. И вот, я и люблю вас, но это уж не то.
– Я вам даю все мое сердце, а вы мне даете только половину своего, – говорил он.
– Не просите слишком многого и постарайтесь удовлетвориться.
– Но это ведь не все? Есть еще что-нибудь?
– Это все.
– Простите меня, но позвольте мне на этот раз вам не поверить. (Как вам понравится такая испорченность?!)
– Нужно верить правде.
– Не могу.
– Ну, тем хуже! – воскликнула я, рассердившись.
– Это превосходит мое понимание, – сказал он.
– Это потому, что вы очень испорчены.
– Может быть.
– Вы не верите тому, что я еще никогда не позволяла поцеловать себе руку?
– Простите, но я не верю.
– Сядьте подле меня, – говорю я, – поговорим и скажите мне все. И он рассказывает мне все, что ему говорили и что он говорил.
– Вы не рассердитесь? – говорит он.
– Я рассержусь только в том случае, если вы что-нибудь скроете от меня.
– Ну, так вот что! Вы понимаете, наша семья здесь очень известна…
– Да.
– А вы иностранцы в Риме.
– Что же из этого?
– Ну, так моя мать написала в Париж разным лицам.
– Это вполне естественно; что же обо мне говорят?
– Пока ничего. Но что бы там ни говорили, я буду вечно любить вас.
– Я не нуждаюсь в снисхождении…
– Теперь, – говорит он, – затруднение в религии.
– Да, в религии.
– О! – протянул он со спокойнейшим видом. – Сделайтесь католичкой.
Я остановила его очень резким словом.
– Хотите, чтобы я переменил религию? – воскликнул А.
– Нет, если бы вы это сделали, я бы стала вас презирать.
В действительности я сердилась бы только из-за кардинала.
– Как я вас люблю! Как вы прекрасны! Как мы будем счастливы!
Вместо всякого ответа я взяла его голову в свои руки и стала целовать в лоб, в глаза, в волосы. Я сделала это больше для него, чем для себя.
– Мари! Мари! – закричала тетя наверху.
– Что такое? – спросила я спокойным голосом, просунув голову в дверь, чтобы казалось, что голос раздается из моей комнаты.
– Два часа, пора спать…
– Я сплю.
– Ты раздета?
– Да, не мешайте мне писать.
– Ложись.
– Да, да.
Я спустилась и нашла пустое место: несчастный спрятался под лестницу.
– Теперь, – сказал он, возвращаясь на свое место, – поговорим о будущем.
– Поговорим.
– Где мы будем жить? Любите вы Рим?
– Да.
– Ну, так будем жить в Риме, только отдельно от моей семьи, совсем одни!
– Еще бы, да мама никогда бы и не позволила мне жить в семье моего мужа.
– Она была бы совершенно права. И к тому же у моей семьи такие странные принципы! Это была бы пытка. Мы купим маленький домик в новом квартале.
– Я предпочла бы большой. – И я подавила многозначительную гримасу.
– Ну, хорошо, большой.
И мы принялись – он, по крайней мере, – строить план на будущее. Сейчас видно было, что этот человек торопится изменить свое положение.
– Мы будем выезжать в свет, – сказала я, – мы будем жить широко, не правда ли?
– О, да! Говорите, рассказывайте мне все.
– Да, когда собираешься провести вместе жизнь, нужно обставить себя как можно лучше.
– Я понимаю. Вы знаете все о моей семье. Но дело еще за кардиналом.
– Надо будет как-нибудь поладить с ним.
– Еще бы, я это непременно сделаю. И вы знаете, большая доля его богатства достанется тому, кто первый будет иметь сына; и надо непременно сейчас же иметь сына. Только ведь я небогат.
– Что ж такое! – сказала я, несколько неприятно задетая, но владея собой настолько, чтобы не сделать презрительного жеста, – быть может, это была с его стороны ловушка.
Потом, как бы утомленный этой серьезной беседой, он опустил голову.
– Occhi neri, – сказала я, закрывая их рукой, потому что эти глаза пугали меня.
Он бросился к моим ногам и наговорил мне столько, столько, что я удвоила бдительность и велела ему сесть подле меня.
Нет, это не настоящая любовь. При настоящей любви не может быть сказано ничего мелкого, вульгарного.
Я чувствовала в глубине души недовольство.
– Будьте благоразумны!
– Да, – сказал он, складывая руки, – я благоразумен, я почтителен, я люблю вас!
Любила ли я его действительно или только вообразила это? Кто мог бы мне сказать наверное? Однако с той минуты, как существует сомнение… Сомнение уже не существует.
– Да, я вас люблю, – говорю я, взяв и сильно сжимая обе его руки. Он ничего не ответил – быть может, он не понял всего значения, какое я придавала этим словам; быть может, они показались ему совершенно естественными? Сердце мое перестало биться. Конечно, это был чудный момент, потому что он остался неподвижен, как я, не произнося ни одного слова. Но мне стало страшно, и я сказала ему, что пора идти.
– Уже пора.
– Уже? Подождите еще минутку, подле меня. Как нам хорошо! Вы меня любите? – сказал он. – И ты всегда будешь любить меня, скажи, ты всегда будешь любить меня?
Это «ты» охладило меня и показалось мне унизительным.
– Всегда! – говорила я, недовольная. – Всегда, и вы меня любите?
– О! Как можете вы спрашивать такие вещи! О! Милая, я хотел бы, чтобы отсюда никогда нельзя было выйти!
– Мы бы умерли с голоду, – сказала я, оскорбленная этим ласкательным именем, которое он дал мне, и не зная, как ответить.
– Но какая прекрасная смерть! Так значит, через год? – сказал он, пожирая меня глазами.
– Через год, – повторила я более для формы, чем для чего-либо другого. Я действовала в роли влюбленной, проникнутой сознанием своего чувства, опьяненной, вдохновленной, серьезной и торжественной.
В эту минуту я слышу тетю, которая, видя все еще свет в моей комнате, вышла из терпения.
– Слышите? – говорю я.
Мы поцеловались, и я убежала без оглядки. Это как в сцене из романа, который я когда-то где-то читала. Фи! Я недовольна собой. Буду ли я всегда собственным критиком или это потому, что я не люблю по-настоящему?
– Уже четыре часа! – кричала тетя.
– Во-первых, тетя, теперь только десять минут третьего, а во-вторых, оставьте меня в покое.
Я разделась, не переставая думать: если бы кто-нибудь видел меня входящей в залу подле лестницы в полночь и выходящей оттуда в два часа, после двух часов, проведенных с глазу на глаз с одним из самых беспутных итальянцев, да этот человек не поверил бы самому Господу Богу, если бы Ему вздумалось спуститься с неба, чтобы засвидетельствовать, насколько это было невинно!
Я сама на месте этого человека не поверила бы, и однако, видите! Или нужно не обращать внимания на внешнее? Часто таким образом судят и делают решительные заключения, когда в сущности почти ничего не было.
– Это ужасно! Ты умрешь, если будешь сидеть так поздно! – кричала тетя.
– Послушайте, – говорю я, открывая дверь, – не бранитесь, или я вам ничего не скажу.
– О! Дьявол! Дьявол!
– О! Тетя, вы раскаетесь…
– Что еще такое! О! Что за девушка!
– Во-первых, я не писала, а сидела с Пьетро.
– Где еще, несчастная?
– Внизу.
– Какой ужас!
– А! Если вы кричите, вы ничего не узнаете.
– Ты была с А..?
– Да!
– Прекрасно, – сказала она голосом, который заставил меня содрогнуться, – я это прекрасно знала, когда только что позвала тебя.
– Как?
– Я видела во сне, что мама пришла и сказала мне: «Не оставляй Мари одну с А.».
Я почувствовала холод в спине, поняв, что подвергалась действительной опасности. Я выразила свои опасения, как бы не пустили печатной клеветы, как в Ницце.
– Ну, об этом нечего говорить, – сказала тетя, – если даже станут говорить, писать не посмеют.
Ницца. 23 мая
Я хотела бы, однако, отдать себе отчет в одном: люблю я или не люблю?
У меня сложился такой взгляд на величие и богатство, что Пьетро кажется мне очень ничтожным человеком. О, Г.!
А если бы я подождала? Но чего ждать? Какого-нибудь миллионера князя, какого-нибудь Г. А если я ничего не дождусь?
Я стараюсь уверить себя, что А. очень шикарен, но при виде его совершенно вблизи он кажется мне еще незначительнее, чем он, быть может, есть на самом деле.
Что за печальный день! Я начала портрет Колиньон на фоне голубого занавеса. Он уже набросан, и я очень довольна собой и своей моделью, потому что она очень хорошо позирует.
Я отлично знаю, что А. еще не может написать мне, и однако я беспокоюсь. Сегодня вечером я люблю его. Хорошо ли я поступлю, приняв его предложение? Пока будет продолжаться любовь – это будет хорошо, а потом?
Боюсь, что золотая посредственность заставит меня когда-нибудь повеситься от бешенства! Я рассуждаю и спорю, как будто я полная хозяйка в этом положении вещей. О, ничтожество из ничтожеств!
Ждать? Чего ждать?..
А если ничто не придет? Ба! С моей физиономией всегда можно найти и доказательство… Это то, что мне едва шестнадцать лет, а я уже два с половиной раза могла сделаться графиней. Я говорю «с половиной» относительно Пьетро.
24 мая
Сегодня вечером, уходя, я поцеловала маму.
– Она целует, как Пьетро, – сказала она смеясь.
– Разве он тебя целовал? – спросила я.
– А тебя он целовал? – сказала Дина, смеясь, думая, что говорит самую невозможную вещь и заставляя меня почувствовать сильное раскаяние, почти стыд.
– О! Дина! – сказала я с таким видом, что мама и тетя обернулись к ней с видом упрека и неудовольствия.
– Чтобы Мари поцеловал какой-нибудь господин! Гордую, строгую, высокомерную Мари, помилуйте! Мари! Которая так хорошо рассуждает об этом!..
Все это заставило меня устыдиться. Действительно, для чего изменила я своим принципам? Я не хочу допустить, что это была слабость, увлечение. Если бы я это признала, я перестала бы себя уважать! Я не могу сказать, что это была любовь.
Достаточно прослыть за неприступную. Все так привыкли видеть меня такой, что не поверили бы своим глазам; даже я сама, столько раз говорившая о щепетильности в таких вещах, не поверила бы этому, не будь у меня этого журнала.
К тому же надо быть доступной только для такого человека, в любви которого уверен и который не выдаст; относительно же людей, которые только ухаживают, надо быть покрытой иглами, как еж.
Будем легкомысленны с серьезным любящим человеком, но будем суровы с человеком легкомысленным.
Боже! Как я довольна, что написала совершенно точно то, что думаю!
26 мая
Тетя говорит, что А. еще вполне ребенок.
– Это правда, – говорит мама.
Эти совершенно справедливые слова показывают мне, что я замаралась из-за ничего, так как все-таки я замаралась, без любви и без интереса… Вот что досадно.
После его отъезда в Рим я посмотрела в зеркало, думая, что мои губы изменили цвет. Я такая недотрога, как никто в мире. С тех пор как запачкано мое лицо, я чувствую себя грязной, точно после двадцатичетырехчасовой езды по железной дороге.
А. будет иметь право говорить, что я его любила и была очень несчастна, что свадьба не состоялась.
Несостоявшаяся свадьба всегда пятно в жизни молодой девушки.
Все будут говорить, что мы любили друг друга. Но никто не скажет, что отказала я. Для этого мы недостаточно популярны и недостаточно важны.
Притом, по-видимому, они будут правы; это приводит меня в бешенство!..
Если бы не эти несколько слов В. я никогда бы не зашла так далеко… «О молодая девица! Вы еще очень юны!..» Право, мне было нужно, для успокоения моего самолюбия, получить все эти предложения. Заметьте, что я не сказала ничего положительного, я позволяла говорить, но так же, как я позволяла брать мои руки и целовать их; молодой фат не заметил моего тона и, вполне счастливый и возбужденный, не стал ни в чем сомневаться. Я отлично знала, что он относится ко мне серьезно, но хотя и ожидая, я все-таки не думала, что его семья и все эти люди поднимут такой шум. Я этого не ожидала, потому что я говорила несерьезно.
Надо вам сказать, что человек – это мешок, наполненный самолюбием и покрытый тщеславием. Одно только меня немного утешает: перед большим объяснением он мне часто повторял, что он сильно страдал, что моим кокетством и моим ледяным сердцем я делала его очень несчастным.
Это меня утешает, но не удовлетворяет.
Чтобы ослабить все записанные мною жалобы, я хотела бы воспроизвести все его жалобы и его страдания, которые мне казались ничтожными, потому что не я их испытывала.
Говорят, что белокурая женщина – женщина поэтическая, а я говорю, что белокурая женщина – женщина по преимуществу материальная.
Взгляните на эти золотистые волосы, на эти пунцовые губы, на эти темно-серые глаза, на это розоватое тело и скажите мне, какие мысли приходят вам в голову? Впрочем, мы имеем Венеру у язычников и Магдалину у христиан – обе белокурые.
Между тем как брюнетка, которая, в сущности, такая же нелепость, как белокурый мужчина, – брюнетка с бархатными глазами, с лицом цвета слоновой кости может оставаться чистой, дивной.
Есть во дворце Борджиа чудная картина Тициана под названием: «Любовь чистая и любовь нечистая». Любовь чистая – это прекрасная женщина с розовыми щеками, с черными волосами, нежно смотрящая на своего ребенка, которого она купает в каком-то бассейне.
Любовь нечистая – белокурая женщина, быть может рыжеватая, облокотилась не помню уже на что, ее руки сложены над головой.
Нормальная женщина – блондинка, нормальный мужчина – брюнет.
Разнородности и феномены бывают иногда удивительные, но это нелепости.
Никогда не увижу я ничего подобного герцогу Г., он высок, силен, с приятно рыжеватыми волосами, такими же усами, небольшими проницательными серыми глазами, с губами, точно скопированными с губ Аполлона Бельведерского.
И во всей его личности было столько величия, даже высокомерия, и так ему все были безразличны!
Быть может, я смотрю на него глазами влюбленной. Гм!.. Не думаю.
Как любить человека некрасивого, брюнета, очень худого, обладающего прекрасными глазами, но еще несмелой походкой, человека еще совершенно не определившегося, после такого человека, как герцог, любить даже на расстоянии трех лет? И примите во внимание, что три года – от тринадцати до шестнадцати – в жизни молодой девушки это три века.
Итак, я не люблю никого, кроме герцога! Он не будет этим гордиться, ему нет дела до этого. Часто я рассказываю себе сказки, я представляю себе людей знакомых и незнакомых, и знаете: даже императору я не говорю «Я вас люблю» с убеждением. Есть некоторые, которым я совсем не могу сказать этого!.. Стой! Я это сказала в действительности!..
Боже мой, да, но я так мало это думала, что об этом не стоит и говорить.
28 мая
Я вернулась с прогулки и подошла к окну. Странно, ничего, по-видимому, не изменилось; мне кажется, что это прошлый год. Никогда песни Ниццы не казались мне так прекрасны; кваканье лягушек, журчанье фонтана, отдаленное пение – все это теряется при прозаическом шуме кареты.
Я читаю Горация и Тибула. Последний говорит только о любви, а это ко мне подходит. И притом у меня есть при латинском французский текст; это служит мне упражнением. Однако как бы вся эта затеянная мною история с Пьетро не повредила мне! Я этого очень боюсь.
Не надо было ничего обещать А., надо было ему ответить:
«Благодарю вас, милостивый государь, за честь, которую вы мне делаете, но без совета своих я не могу вам ничего сказать. Пусть ваши переговорят с моими. Что же касается меня, могла бы я прибавить для смягчения, я не буду ничего иметь против вас».
Этого, в сопровождении одной из моих любезных, милых улыбок и руки для поцелуя, было бы достаточно.
И я бы себя не скомпрометировала, и об этом не болтали бы в Риме, и все было бы хорошо.
У меня есть ум, но всегда он является слишком поздно.
Конечно, я поступила бы лучше, ответив, как вы сейчас прочли, но это убавило бы у меня столько удовольствия, и притом жизнь так коротка!.. И притом, всегда есть какое-нибудь притом!
Я дурно поступила, не ответив так прекрасно, но, право, я была так взволнована; рассудительные скажут, что да, чувствительные скажут, что нет.
31 мая
Не говорят ли, что умные люди сходятся в своих мнениях? Я вот читаю Ларошфуко и нахожу у него многое, что у меня написано здесь. Я думала, что делаю открытия, а это все уже известно, все давным-давно сказано… Затем я читала Горация, Лабрюера и еще третьего.
Я боюсь за свои глаза. Во время рисования я должна была несколько раз останавливаться, так как ничего не видела. Я их слишком утомляю, потому что я все время рисую, читаю или пишу.
Сегодня вечером я просмотрела мои конспекты классиков, это меня заняло. И кроме того, я открыла очень интересное сочинение о Конфуции – латинский и французский перевод. Нет ничего лучше, как занятый ум: работа все побеждает, особенно умственная работа.
Я не понимаю женщин, которые все свободное время проводят за вязанием и вышиванием, сидя с занятыми руками и пустой головой… Должна приходить масса ненужных, опасных мыслей, а если еще есть что-нибудь особенное на сердце, мысль, постоянно работая над одним и тем же, должна производить прискорбные результаты.
Если бы я была счастлива и спокойна, я могла бы, я думаю, исполнять ручную работу, думая о моем счастье… Нет, тогда я стала бы думать о нем с закрытыми глазами, я ничего не могла бы делать.
Спросите всех, кто меня знает, о моем расположении духа, и вам скажут, что я девушка самая веселая, самая беззаботная, с самым твердым характером и самая счастливая, так как я испытываю величайшее наслаждение казаться сияющей, гордой и недоступной и одинаково охотно пускаюсь в ученый спор или пустую болтовню.
Здесь меня видят с внутренней стороны. С наружной я совсем другая. Можно подумать, что у меня нет ни одной неприятности, что я привыкла к тому, что мне повинуются и люди и обстоятельства.
3 июня
Сейчас, выходя из своей уборной, я суеверно испугалась. Я увидела сбоку женщину в длинном белом платье, со свечой в руке, грустно наклоненной головой, похожую на призрак немецких легенд. Разуверьтесь, это было не что иное, как мое отражение в зеркале.
О! Мне страшно, я боюсь, что последует какое-нибудь физическое нездоровье из-за всех этих нравственных мучений.
Почему все обращается против меня же?
Господи, прости мне, что я плачу! Есть люди несчастнее меня, есть люди, которые терпят недостаток в хлебе, между тем как я сплю на кружевной постели; есть люди, которые ранят свои босые ноги о камни мостовой, между тем как я хожу по коврам; которым кровом служит только небо, между тем как надо мною голубой атласный потолок. Быть может, Господи, ты меня наказываешь за мои слезы: так сделай так, чтобы я более не плакала!
Ко всему, мною уже выстраданному, присоединяется еще личный стыд, стыд за мою душу.
«Граф А. просил ее руки, но этому воспротивились; он раздумал и ретировался».
Видите, как вознаграждаются добрые порывы!
О! Если бы вы знали, какие отчаянные чувства овладели моим существом, какая невыразимая тоска охватывает меня, когда я гляжу кругом! Все, до чего я дотрагиваюсь, вянет и разрушается.
И снова работает воображение, снова, мне кажется, я слышу:
«Граф А. просил ее руки», – и т. д. и т. д.
4 июня
Когда Христос исцелил бесноватого, ученики спросили его, почему те, которые пробовали исцелить его, не могли этого сделать? Христос отвечал им: это из-за вашего неверия, потому что, истинно говорю вам, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали бы этой горе: «Перейди сюда», – и она перешла бы, то ничего не было бы невозможного для вас.
Читая эти слова, я как бы прозрела и, быть может, в первый раз поверила в Бога. Я поднималась, я не чувствовала себя; я складывала руки, я поднимала глаза, я улыбалась, я была в экстазе.
Никогда, никогда не буду я более сомневаться, не для того, чтобы заслужить что-нибудь, но потому что я убеждена, потому что я верю.
До двенадцати лет меня баловали, исполняли все мои желания, но никогда не заботились о моем воспитании. В двенадцать лет я попросила дать мне учителей, я сама составила программу. Я всем обязана самой себе…
5 июня
Дина, m-lle Колиньон и я оставались до двух часов на моей террасе, любуясь луной, отражавшейся в море.
Я рассуждала о дружбе и об отношении к ближним; разговор произошел по поводу того, что С. еще не писали.
Известно восхищение, которое питает к нам m-lle Колиньон. К тому же она имеет потребность обожать кого-нибудь; это самая романтическая, самая сентиментальная женщина на свете. Она видит дружбу и счастье в доверии. Я – наоборот.
Подумайте, как бы я была несчастна, если бы питала большую дружбу к С. Никогда не раскаиваются в благодеянии, в любезности, в услуге, в порыве, исходящем из сердца; раскаиваются только тогда, когда за это платят неблагодарностью. И для сердечного человека большое горе знать, что симпатия, которую чувствуешь, дружба, которую к кому-нибудь испытываешь, потеряны!
– О! Мари, я не согласна с вами.
– Но нет, послушайте… Вот я, например, из сил выбиваюсь, стараясь что-нибудь объяснить вам, я исчерпываю всевозможные рассуждения, и когда целый час я говорила, убеждала, уверяла – и вдруг замечаю, что вы глухи.
– Тогда, разумеется.
– Я вас не обвиняю, я никогда ни в чем не обвиняю, потому что я ничего и ни от кого не жду. Противоположность неблагодарности могла бы меня удивить. Уверяю вас, лучше смотреть на жизнь и на людей, как я, не давать им никакого места в своем сердце и пользоваться ими как ступеньками лестницы.
– Мари! Мари!
– Что хотите! Вы созданы иначе, чем я! Послушайте, я уверена, что вы уже говорили С. и другим довольно дурно обо мне. Я уверена в этом так же, как если бы слышала это собственными ушами. И между тем я отношусь к вам как относилась прежде, как буду относиться всегда.
– Это чтение философов внушает вам подобные мысли, вы подозреваете весь мир.
– Я не подозреваю, я только не доверяю, а это большая разница.
– Нет, Мари, вы ни к кому не питаете дружбы…
– Но подумайте, что бы было, если бы я ее питала! Предположим, что вместо того, чтобы принимать Мари и Ольгу за то, что они есть на самом деле, т. е. за добрых девушек, которые немало подсмеивались надо мной, как и я над ними, что я бы нежно подружилась с Ольгой. Я пишу ей из Рима, она отвечает мне три слова через три недели; я пишу ей еще, и на этот раз она совсем не отвечает. Что вы скажете об этом? И это не первый пример.
– Но как вы можете требовать чего-нибудь от ваших подруг, когда сами ничего им не даете?
– Мы не понимаем друг друга. Я оказываю им всевозможное внимание. Я готова сделать для них все, что я могу; пусть они попросят у меня что угодно, я все сделаю с величайшим удовольствием; но я не даю моим подругам моего сердца, потому что, поверьте, мне досадно давать его, ничего не получая взамен.
– Никогда не может быть досадно, когда поступил хорошо, когда исполнил свой долг.
– Дружба не есть долг. Вы не делаете ни добра, ни зла, даря вашу дружбу. Такая дружба, как ваша, не чувствительна, потому что у вас это постоянная потребность, но если она идет из глубины сердца, то очень прискорбно видеть, что на нее отвечают неблагодарностью.
– Если кто-нибудь неблагодарен, тем хуже для него.
– Вот это эгоистично. Прежде я думала, что люблю весь мир; но я вижу, что эта всемирная любовь есть не что иное, как всемирное равнодушие. Я питаю величайшее расположение к себе подобным. Я вижу, какие они дурные, и это делает меня в высшей степени снисходительной… Вы получаете толчок, и вы не можете удержать проявления удивления или страха – это не от вас зависит; но от вас зависит – не покориться вашим первым чувствам. Нельзя помешать себе почувствовать то или другое предпочтение, но можно помешать себе покориться ему.
– Эти чтения ведут к атеизму. Вы кончите полным неверием.
– О, нет. Если бы вы знали мои мысли, вы бы этого не сказали.
– Философов вредно читать.
– Нет, не вредно, когда имеешь солидный ум… Но знаете, – сказала я, – если взвесить хорошенько, только одно на свете стоит чего-нибудь (я говорю о чувствах) – любовь.
– Да.
– Нет на свете большего наслаждения, как любить и быть любимой.
– Это правда.
– Но и тут, ради Бога, не углубляйтесь! Не будем искать ничего, кроме удовольствия, которое нам дают и которое мы даем. Любовь сама по себе божественна, т. е. божественна, пока она продолжается; она делает человека совершенным по отношению к любимому предмету; преданность, нежность, страсть, постоянство, искренность – в ней есть все. Будем углубляться в любовь, но не в человека. Человека можно сравнить с гротом, в глубине которого есть или сырость, или грязь, или выход, т. е. отсутствие всякой глубины. Все это не мешает мне любить моих ближних.
– Нельзя ничем наслаждаться, если быть ко всему равнодушным.
– Постойте, постойте, пожалуйста, я не равнодушна, но я ценю людей по достоинству…
Мама сегодня плакала; у тети совсем расстроенное лицо; они говорили обо мне и о моих мучениях.
Я возвращалась к себе с опущенными руками, с устремленными вперед глазами, со сдвинутыми бровями; я задыхалась, несмотря на голубое небо, на брызжущий фонтан, на покрытый плодами куст кизила, на чистый воздух. Я шла вперед, сама того не замечая.
Почему не предположить, что я люблю его, такого недостойного, каков он есть?
О, небо! Объясните же мне, что это за человек и что это за любовь?
Во мне все должно быть раздавлено; самолюбие, гордость, любовь.
6 июня
Я прочла то, что записала вчера, и нашла одно горе и слезы.
К двум часам я настолько оправилась, что больше не сердилась и вздыхала только от презрения. Эти мысли недостойны, не следует вспоминать об оскорблениях, когда нельзя отомстить за них. Думать о них – значит придавать слишком много значения людям недостойным, это унижение; и я думаю не о людях, а о себе, о своем положении, о беззаботности моих родителей…
Если бы А. подняли вопрос о религии, это только позабавило бы меня; и если бы они стали просить меня выйти за Пьетро, я бы не согласилась.
Но меня мучит стыд и мысль, что им сказали про нас дурное.
Все говорили об этом браке и уже, конечно, не скажут, что отказ идет от нас. Впрочем, они будут правы. Разве я не согласилась? Чтобы тянуть, чтобы сохранить его во всяком случае; я в этом не раскаиваюсь, я хорошо поступила, а если это дурно вышло, то не по моей вине.
Нас не знают, слышат одно слово здесь, другое там, увеличивают, придумывают, о, Господи Боже! И не быть в состоянии ничего сделать!
Поймите меня, я не жалуюсь, я просто рассказываю.
Я глубоко презираю весь мир, и потому я не могу ни жаловаться, ни сердиться на кого бы то ни было.
Значит, любовь, такая, какой я себе представляла ее, не существует? Это только фантазия, идеал.
Итак, высшая чистота, высшая скромность просто выдуманные мною слова?
Когда я сошла вниз, чтобы говорить с ним накануне отъезда, он в моем поступке видел простое любовное свидание?
Когда я опиралась на его руку, он дрожал только от желаний?
Когда я смотрела на него, серьезная и вдохновенная, как древняя жрица, он видел только женщину и свидание?
А я, значит, я его любила? Нет, или, вернее, я его любила за его любовь ко мне.
Но так как я не способна к подлости в любви, я любила и чувствовала, как будто я сама его любила.
Это от экзальтации, фанатизма, близорукости, глупости; да, от глупости.
Если бы я была умнее, я бы лучше поняла характер этого человека.
Он любил меня как умел. Это уж я должна была распознать и понять, что не следует метать бисер перед свиньями.
Наказание жестоко; надолго разрушенные иллюзии и упреки самой себе. Я была не права.
Надо быть прозаичной и вульгарной, как другие.
Разумеется, меня заставила так поступить моя крайняя молодость. К чему эти понятия из другого мира? Их не понимают, потому что свет не изменился…
И вот я опять впадаю в общее заблуждение, и вот опять я обвиняю весь свет за негодность одного. Из-за того, что один оказался подлым, я отрицаю величие души и ума!
Я отрицаю любовь этого человека, потому что он ничего не сделал ради этой любви. И если даже угрожали лишить его наследства, проклясть его, могло ли это помешать ему написать мне? Нет, нет. Это подлец…
8 июня
Философские книги потрясают меня. Это продукты воображения, переворачивающие все вверх дном. Читая много, со временем я к ним привыкну, но теперь у меня дух захватывает.
Когда мною овладевает лихорадка чтения, я прихожу в какое-то бешенство и мне кажется, что никогда не прочту я всего, что нужно; я бы хотела все знать, голова моя готова лопнуть, и я снова словно окутываюсь плащом пепла и хаоса.
Я спешу, как сумасшедшая, читать Горация.
О! Когда только я подумаю, что есть избранные, которые веселятся, двигаются, наряжаются, смеются, танцуют, пляшут, любят, которые, наконец, предаются всем прелестям светской жизни, а я… я плесневею в Ницце!
Я остаюсь еще довольно рассудительной, пока не думаю о том, что живут только один раз. Нет, вы только подумайте, живут только раз – и жизнь так коротка!
Когда я только подумаю об этом, то становлюсь безумной, и мозг мой кипит от отчаяния.
Живешь только раз! А я теряю эту драгоценную жизнь, запрятанная дома, никого не видя.
Живешь только раз! А мне еще портят эту жизнь!
Живешь только раз! А меня заставляют недостойно терять мое время! А дни все бегут и бегут, они уже никогда не вернутся, они все укорачивают мою жизнь!
Живешь только раз! И неужели жизнь, без того короткую, нужно еще укорачивать, портить, красть, да, красть подлыми обстоятельствами.
О! Боже!
9 июня
Перечитывая о моем пребывании в Риме и о моих мучениях со времени исчезновения Пьетро, я очень удивлена живостью написанного.
Я читаю и пожимаю плечами. Я бы не должна была удивляться, зная, как легко мне вскружить голову.
Бывают минуты, когда я сама не знаю, что я ненавижу, что люблю, чего желаю, чего боюсь. Тогда мне все безразлично, и я стараюсь во всем дать себе отчет, и тогда происходит в моем мозгу такой вихрь, что я качаю головой, зажимаю свои уши и предпочитаю состояние отупения этим исследованиям и расследованиям самой себя.
10 июня
– Знаете ли, – сказала я доктору, – что я харкаю кровью и меня надо лечить?
– О! – сказал Валицкий. – Если вы будете продолжать ложиться каждый день в три часа утра, у вас будут все болезни.
– А почему я ложусь поздно, как вы думаете? Потому что мой ум неспокоен. Дайте мне спокойствие, и я буду спокойно спать.
– Вы могли получить его. У вас был случай в Риме.
– Какой?
– Выходили бы замуж за А., не меняя религии.
– О! Друг мой Валицкий, какой ужас! За такого человека, как А! Подумайте, что вы говорите! За человека, у которого не ни убеждений, ни воли! Какую глупость вы сказали! Как это возможно!
И я тихонько засмеялась.
– Он не приезжает, не пишет, – продолжала я, – это бедный ребенок, значение которого мы преувеличиваем. Нет, голубчик, это не человек, и мы ошибались, думая иначе.
Я сказала эти последние слова так же спокойно, как говорила в продолжение всего разговора, так как была убеждена, что говорю правдиво и верно.
Я вернулась к себе, и мой ум как бы сразу осветился. Я поняла наконец, что я была не права, позволив себе поцелуй, хотя бы и один, назначая свидание на лестнице; что, если бы я не пошла ни в коридор, ни куда бы то ни было, если бы я не искала tête-a-tête, этот человек имел бы ко мне больше уважения, а у меня не было бы ни досады, ни слез.
[Как я себе нравлюсь, когда так рассуждаю! Как я мила! Париж, 1877 г.]
Всегда надо держаться этого принципа; я от него удалилась, я сделала глупость, происходящую от привлекательности новизны, от того, что легко воодушевляюсь, от моей неопытности.
О! Как хорошо начинаю я все понимать!
Что делать, мои милые друзья! Молодость заставляет делать ошибки. А. научил меня поведению с ухаживателями.
Век живи, век учись!
Как я ясно вижу, как я спокойна, я совсем больше не испытываю любви!
Каждый день я буду выезжать, веселиться, надеяться.
Я пою Миньону, и сердце мое так полно!
Как прекрасна луна, отражающаяся в море! Как восхитительна Ницца!
Я люблю весь мир! Все люди проходят передо мной такие милые, улыбающиеся.
Кончено! Я уже говорила, что это не может продолжаться. Я хочу жить спокойно! Я поеду в Россию! Это улучшит наше положение; я привезу в Рим моего отца.
13 июня
Я, которая хотела бы сразу жить семью жизнями, живу только четвертью жизни. Я скована.
Бог сжалился надо мной, но я чувствую себя такой слабой, и мне кажется, что я умираю.
Я уже сказала, что или я хочу иметь все то, что Бог дал мне понять, и тогда я буду достойна достигнуть всего этого, или я умру!
Но Бог, не будучи в состоянии дать мне, без несправедливости, все, не заставит жить несчастную, которой он дал понимание и желание обладать тем, что она понимает.
Бог не без намерения создал меня такой, как я есть. Он не мог дать мне способность все видеть, только для того, чтобы мучить меня, ничего не давая. Это предположение не согласуется с природой Бога, который есть сама доброта и милосердие.
Я буду иметь все или умру. Пусть Он делает, как знает! Я люблю Его, я в Него верю, я Его благословляю, я умоляю Его простить мне мои дурные поступки.
Он дал мне это понимание, чтобы удовлетворить его, если я буду достойна.
Если я буду недостойна, Он пошлет мне смерть!..
Мне жаль стариков, особенно с тех пор, как дедушка совсем ослеп; мне так его жалко!
Сегодня я должна была свести его с лестницы и накормить. Он совестится; вследствие особого рода самолюбия, из желания всегда казаться молодым, так что надо было обращаться с ним с большой деликатностью. Действительно, он принимал мои услуги с благодарностью, потому что я их предлагала с бесцеремонной, но нежной настойчивостью, которой нельзя противиться.
14 июня
Кроме торжества, которое я доставляю этому итальянскому мальчишке и которое так мучит меня, я еще предвижу скандал как результат этого дела.
Я не ожидала приключения такого рода, я не предвидела ничего подобного! Я никогда не воображала, что такая вещь может случиться со мной! Я знала, что это случается, но я этому не верила, я не отдавала себе в этом отчета, как не дают себе отчета в смерти, не видав никогда смерти. О, моя жизнь, моя бедная жизнь!..
Если я так хороша собой, как я говорю, отчего меня не любят? На меня смотрят, в меня влюбляются. Но меня не любят! Меня, которая так нуждается в любви!
Это романы возбуждают мое воображение. Нет, я читаю романы, потому что воображение мое возбуждено. Я перечитываю старое, я выискиваю с прискорбной жадностью сцены, слова любви, я их пожираю, потому что мне кажется, что я люблю, потому что мне кажется, что меня не любят.
Я люблю, да, потому что я не хочу назвать иначе то, что я чувствую.
Хорошо же, нет, не этого я хочу. Я хочу выезжать в свет, я хочу блистать в нем, хочу занимать в нем выдающееся положение. Я хочу быть богата, хочу иметь картины, дворцы, бриллианты; я хочу быть центром какого-нибудь блестящего кружка, политического, литературного, благотворительного, фривольного. Я хочу всего этого… Пусть Бог поможет мне!
Боже, не наказывай меня за эти безумно-честолюбивые мысли.
Разве нет людей, которые родятся среди всего этого и находят обладание всем этим совершенно естественным, которые не благодарят даже за это Бога?
Виновата ли я, если желаю быть великой?
Нет, потому что я хочу употребить мое величие на то, чтобы благодарить Бога и чтобы стремиться к счастью! Разве запрещено желать счастья?
Те, кто находят свое счастье в скромном и удобном доме, разве они честолюбивы менее меня? Нет, так как они большего не понимают.
Разве тот, кто довольствуется скромной жизнью в кругу семьи, может быть назван человеком скромным, умеренным в своих желаниях из добродетели, из убеждения, из мудрости? Нет, нет, нет! Он таков потому, что счастлив этим, что для него жить в неизвестности есть высшее счастье. И если он не желает известности, то только потому, что, имея ее, он был бы несчастен. Есть тоже люди, которым не хватает смелости, – это не мудрецы, а подлецы: они глухо стремятся и не двигаются вперед – не из христианской добродетели, но из-за своей робкой и неспособной натуры. Боже, если я рассуждаю неправильно, научи меня, прости меня, сжалься надо мной!
22 июня
Я смеялась, когда мне хвалили Италию, и спрашивала себя, почему так много говорят об этой стране и почему говорят о ней как о чем-то особенном. А потому что это правда. Потому, что в ней иначе дышится. Жизнь другая – свободная, фантастическая, широкая, безумная и томная, жгучая и нежная, как ее солнце, ее небо, ее равнина. Я поднимаюсь на крыльях поэзии (иногда я бываю совсем поэтом, а иногда с одной какой-нибудь стороны) и готова воскликнуть вместе с Миньоной: «Italia, reggio di cielo, Sol beato!»
24 июня
Я ждала, чтобы меня позвали к завтраку, когда совсем запыхавшийся доктор пришел сказать мне, что получено письмо от Пьетро. Я очень сильно покраснела и, не поднимая глаз от книги, которую читала, сказала:
– Хорошо, хорошо, что же он там пишет?
– Ему не дают денег; впрочем, я не знаю, вы сами увидите лучше.
Я очень удерживалась, чтобы спешить спрашивать: мне было стыдно выказать столько интереса.
Против обыкновения, я была первая за столом, я ела с нетерпением, но ничего не говорила.
– Это правда, что сказал мне доктор? – наконец спросила я.
– Да, – ответила тетя, – А. ему написал.
– Доктор, где письмо?
– У меня.
– Дайте его мне.
Это письмо помечено 10 июня, но так как А. написал просто в Ниццу, то оно пропутешествовало по Италии, прежде чем пришло сюда.
«Я употребил все это время, – писал он, – на то, чтобы просить моих родителей отпустить меня сюда, но они положительно не хотят слышать об этом». Так что ему невозможно приехать и ничего не остается, кроме надежды в будущем, а это всегда неверно…
Письмо написано по-итальянски, и все ждали от меня перевода. Я не говорю ни слова, но с аффектированной медлительностью подбираю шлейф, чтобы не подумали, что я убегаю, выхожу из комнаты, прохожу сад, со спокойствием на лице, с адом в сердце.
Это не ответ на телеграмму его друга из Монако. Это ответ мне, это признание. И это мне! Мне, которая вознеслась на воображаемую высоту!.. Это мне он говорит все это!
Умереть? Бог этого не хочет. Сделаться певицей? Но я не обладаю ни достаточным здоровьем, ни достаточным терпением.
В таком случае что же, что?
Я бросилась в кресло и, устремив бессмысленно глаза в пространство, старалась понять письмо, думать о чем-нибудь…
– Хочешь ехать к сомнамбуле? – закричала мне мама из сада.
– Да, – ответила я, быстро поднимаясь, – когда?
– Сию минуту.
Все, все, все, чтобы не оставаться одной, не сойти с ума, чтобы убежать от самой себя.
Сомнамбула оказалась уехавшей. Эта поездка по жаре не принесла мне никакой пользы. Я взяла горсть папирос и мой журнал, с намерением отравить себе легкие и написать зажигательные страницы. Но воля, казалось, совсем покинула меня. Я пошла прямо и тихо, как во сне, к моей кровати и сразу бросилась на нее, отодвинув разом кружевной занавес.
Невозможно передать мое горе; притом бывают минуты, когда уже не можешь жаловаться. Раздавленная, как я, – на что хотите вы, чтобы я жаловалась?
Невозможно себе представить, какое глубокое отвращение, какой упадок духа я испытываю. Любовь! О незнакомое для меня слово! Так вот истина! Этот человек никогда меня не любил и смотрел на брак как на средство освобождения. Что касается его обещаний, я о них не говорю, я ничего не говорила о них вслух, я не придавала им достаточной веры, чтобы серьезно говорить о них.
Я не говорю, что он всегда лгал, почти всегда думают то, что говорят в ту минуту, когда говорят, но… потом?
И, несмотря на все рассуждения, несмотря на Евангелие, я горю желанием отомстить. Я дождусь своего времени, будьте спокойны, и я отомщу.
Сhi lungo а tempo aspetta Vede al fin la sua vendetta.Я пришла к себе, написала несколько строк и затем вдруг, потеряв бодрость, начала плакать. О! Все-таки я еще ребенок! Все эти горести слишком тяжелы для меня одной, и мне хотелось пойти разбудить тетю. Но она подумает, что я оплакиваю мою любовь, а я не могу этого вынести.
Сказать, что тут совершенно не было места любви, было бы справедливо, мне теперь стыдно всего этого.
Мальчишка, горемыка, подбитый проказником и покрытый иезуитом, ребенок! И это я любила! Ба! Отчего нет? Любит же мужчина кокотку, гризетку, дрянь какую-нибудь, крестьянку. Великие люди и великие короли любили ничтожества и не были за то развенчаны.
Я была близка к сумасшествию от бешенства и бессилия; все мои нервы были напряжены; я начала петь – это успокаивает.
Если я просижу хоть всю ночь, я не сумею сказать всего, что я хочу, а если я и сумею высказать, то не скажу ничего нового, ничего такого, чего бы я еще не говорила.
В самом деле, все, что я видела и слышала в Риме, приходит мне на ум, и, думая об этом странном смешении благочестия, разврата, религиозности, низости, подчинения, разнузданности, неприступности, высокомерной гордости и подлости, я говорю себе: в самом деле, Рим – город единственный в своем роде, странный, дикий и утонченный.
Все в нем отличается от других городов. Словно находишься не на земле, а на другой планете.
И действительно, Рим, имеющий баснословное начало, баснословное процветание, баснословное падение, должен быть чем-то поражающим и в нравственном, и во внешнем отношении.
Это город Бога, или, вернее, город попов. С тех пор, как там король, все там меняется, но только у мирян. Попы всегда одинаковы. Поэтому-то я ничего не понимала из того, что говорил мне А., и я всегда смотрела на его дела как на сказки или на нечто совсем особое. Между тем это было как все в Риме.
Нужно же было напасть как раз на жителя луны, древней луны, древнего Рима, хочу я сказать, – на племянника кардинала.
Ба! Это интересно для меня, так как я люблю необыкновенное. Это оригинально. Нет, все-таки все это… страшно – и Рим, и римляне.
Вместо того, чтобы удивляться, я лучше расскажу, что я знаю о Риме и римлянах; это удивит гораздо больше, чем мои удивления и восклицания.
Знаете, когда шесть лет тому назад Пьетро почти умирал, мать заставляла его есть бумажные полосы, на которых было написано без счету: Мария, Мария, Мария. Это для того, чтобы Богородица исцелила его. Быть может, поэтому он и был влюблен в Марию… хотя очень земную. Кроме того, вместо лекарств его заставляли пить святую воду.
Но это еще ничего. Мало-помалу я все вспомню и тогда обнаружатся крайне любопытные вещи.
Кардинал, например, недобр, и, когда ему сказали, что племянник его на исправлении в монастыре, он смеялся, говоря, что это глупость, что двадцатитрехлетний человек не сделается умнее, просидев восемь дней в монастыре, что если он покажется исправившимся, значит, ему надо денег.
2 июля
О, какая жара! О, какая скука! Я не права, говоря «скука»; нельзя скучать с теми внутренними ресурсами, которые есть во мне. Я не скучаю, потому что я читаю, пою, рисую, мечтаю, но я чувствую беспокойство и грусть.
Неужели моя бедная молодая жизнь ограничится столовой и домашними сплетнями? Женщина живет от шестнадцати до сорока лет. Я дрожу при мысли, что могу потерять хоть месяц моей жизни.
Я имею понятие обо всем, но изучила глубже я только историю, литературу и физику, чтобы быть в состоянии читать все, все, что интересно. А все интересное возбуждает во мне настоящую лихорадку.
Ни одной живой души, с которой можно было бы обменяться словом. Одна семья не удовлетворяет шестнадцатилетнее существо, особенно же такое существо, как я.
Конечно, дедушка человек образованный, но старый, слепой и раздражающий со своим Трифоном и постоянными жалобами на обед.
У мамы много ума, но мало образования, никакого умения жить, отсутствие такта, да и ум ее огрубел и заплесневел от того, что она говорит только с прислугой, о моем здоровье да о собаках.
Тетя немного более образованна, она даже импонирует тем, кто ее мало знает.
3 июля
Amor[6] decrescit ubique crescere non possit. «Любовь уменьшается, когда не может больше возрастать».
Поэтому-то, когда люди вполне счастливы, они начинают незаметно любить меньше и кончают тем, что отдаляются друг от друга.
Завтра я уезжаю. Не знаю, почему-то жаль покидать Ниццу.
Я отобрала ноты, которые увезу с собой, несколько книг: энциклопедию, один том Платона, Данте, Ариоста, Шекспира, затем массу романов Бульвера, Коллинза и Диккенса.
Я наговорила грубостей тете и ушла на террасу. Я оставалась в саду до сумерек, которые так хороши на море – фоном служит бесконечность, и эта роскошная растительность, эти широколистные деревья и для контраста бамбуки и пальмы. Фонтан, грот с каплями воды, беспрерывно падающими с уступа на уступ, прежде чем попадут в бассейн; все окружающее, густые деревья придают этому уголку уютность и таинственность, располагающие к лени и мечтательности.
Почему вода всегда располагает к мечтательности?
Я оставалась в саду, глядя на вазу, в которой распускается великолепная розовая саппа, представляя себе, как красивы в этом прелестном саду мое белое платье и зеленый венок.
Неужели у меня нет другой цели в жизни, как только одеваться с таким искусством, украшать себя зеленью и думать об эффекте?
Откровенно говоря, я думаю, что если бы прочли, что я пишу, меня нашли бы скучной. Я еще так молода! Я так мало знаю жизнь!
Я не могу говорить так авторитетно и беззастенчиво, как писатели, имеющие непомерную претензию знать людей, диктовать законы и предписывать правила.
Я выдвинула ящик моего стола. А! Вот чего мне особенно жаль!.. Моего журнала… Это половина меня самой!
Погода такая чудная!
Как хорошо: накануне моего отъезда чудесная бледная луна освещает все красоты моего города!
Невольно чувствуешь себя грустной в такую ночь!
Я прошлась два раза по комнате, мне чего-то недоставало, хотя я не чувствовала себя несчастной, напротив. Я ничего не желаю, я всегда хотела бы чувствовать себя так спокойно и хорошо. Моя душа расширилась чувством тихого счастья, она, казалось, рвалась наружу; я села за рояль, и мои длинные бледные пальцы стали блуждать по клавишам. Но мне недоставало чего-то, быть может кого-то…
Я еду в Россию… Мне бы хотелось накануне дня, ожидаемого с таким нетерпением, лечь пораньше, чтобы сократить время.
Меня тянет в Рим. Рим такой город, который не сразу поддается пониманию. Сначала я видела в Риме только Pincio и Corso. Я не понимала простой и полной воспоминаний красоты равнины, лишенной деревьев и домов. Одна волнообразная равнина, словно океан в бурю, усеянная тут и там стадами овец, которых стерегут пастухи, подобные тем, о которых говорит Вергилий.
Ведь только наше беспутное сословие претерпевает тысячи изменений, а люди простые, люди природы, не меняются и сходны во всех странах.
Рядом с этой огромной пустынной местностью, изборожденной водопроводами, прямые линии которых перерезают горизонт, производя захватывающий эффект, видны прекраснейшие памятники как варварства, так и всемирной цивилизации. Зачем говорить «варварства»? Разве потому только, что мы, современные пигмеи, с нашей маленькой гордостью, считаем себя цивилизованнее благодаря тому, что родились последними.
Никакое описание не может дать полного понятия об этой грациозной и великолепной стране, об этой стране солнца, красоты, ума, гения, искусства, об этой стране, так низко упавшей и лишенной возможности подняться.
Оставить здесь мой дневник – вот истинное горе!
Этот бедный дневник, содержащий все эти порывы к свету, все эти порывы, к которым отнесутся с уважением, как к порывам гения, если конец будет увенчан успехом, и которые назовут тщеславным бредом заурядного существа, если я буду вечно коснеть.
Выйти замуж и иметь детей? Но это может сделать каждая прачка!
Но чего же я хочу? О! Вы отлично знаете. Я хочу славы!
Мне не даст ее этот дневник. Этот дневник будет напечатан только после моей смерти: в нем я слишком обнажена, чтобы показать его, пока я жива. К тому же он будет не чем иным, как дополнением к замечательной жизни. Жизнь, исполненная славы! Это безумие – результат исторического чтения и слишком живого воображения.
Я не знаю в совершенстве ни одного языка. Моим родным языком я владею хорошо только для домашнего обихода. Я уехала из России десяти лет; я хорошо говорю по-итальянски и по-английски. Я думаю и пишу по-французски, а между тем, кажется, делаю еще грамматические ошибки. Часто мне приходится искать слова, и с величайшей досадой я нахожу у какого-нибудь знаменитого писателя мою мысль, выраженную легко и изящно!
Вот послушайте: «Путешествие, что бы там ни говорили, одно из печальнейших удовольствий жизни; если вы чувствуете себя хорошо в каком-нибудь чужом городе, это значит, что вы начинаете создавать себе новое отечество».
Это говорит автор «Коринны». А сколько раз, с пером в руках, я выходила из себя, не умея выразить того, что хотела, и кончала тем, что раздражалась восклицаниями вроде следующих: я ненавижу новые города; новые лица для меня пытка!
Все чувствуют одинаково; разница только в выражении; все люди созданы из одного материала, но как они отличаются чертами лица, ростом, цветом лица, характером!
Вот увидите, что на этих же днях я прочту что-нибудь в этом роде, но высказанное умно, увлекательно и красиво.
Что я такое? Ничто. Чем я хочу быть? Всем.
Дадим отдых моему уму, утомленному этими порывами к бесконечному. Вернемся к А.
Бедный Пьетро! Моя будущая слава мешает мне думать о нем серьезно. Мне кажется, что она упрекает меня за те мысли, которые я ему посвящаю.
Я сознаю, что Пьетро только развлечение, музыка, чтобы заглушить вопли моей души… И все-таки я упрекаю себя за мысли о нем, раз он мне не нужен! Он даже не может быть первой ступенью той дивной лестницы, на верху которой находится удовлетворенное тщеславие.
5 июля
Вчера в два часа я уехала из Ниццы с тетей и Амалией (моей горничной). Шоколада, у которого болят ноги, пришлют нам только через два дня.
Мама уже три дня оплакивает мое будущее отсутствие, поэтому я очень нежна и кротка с ней.
Любовь к мужу, к возлюбленному, к другу, к ребенку исчезает и возобновляется, ибо все эти существа могут быть дважды.
Но мать только одна, и мать единственное существо, которому можно довериться вполне, любовь которого бескорыстна, преданна и вечна. Я почувствовала это, может быть, в первый раз при прощании. И как мне кажется смешна любовь к Г., Л. и А.! И как они все мне кажутся ничтожны!
Дедушка растрогался до слез. Впрочем, всегда есть что-то особенное в прощании старика; он благословил меня и дал мне образ Божьей Матери.
Мама и Дина провожали нас на станцию.
По обыкновению, я старалась казаться как можно веселее, но все-таки я была очень огорчена.
Мама не плакала, но я чувствовала, что она несчастна, и у меня явился целый ряд упреков самой себе за то, что я уезжаю и что часто я была жестока по отношению к ней. Но, думала я, глядя на нее из окна нашего вагона, я была жестока не от злости, а от горя и отчаяния; теперь же я уезжаю, чтобы изменить нашу жизнь.
Когда поезд тронулся, я почувствовала, что глаза мои полны слез. И я невольно сравнивала этот отъезд с моим последним отъездом из Рима.
Оттого ли это было так, что мое чувство было слабее и я не чувствовала, что оставляю за собой горе столь же великое, как горе матери?
Я начала читать «Коринну». Это описание Италии имеет совершенно особую прелесть для меня. С каким счастьем, читая, я видела снова Рим!.. Мой чудный Рим со всеми его сокровищами!
Я признаюсь совершенно просто, что не сразу поняла Рим. Самое сильное впечатление произвел на меня Колизей, и если бы я умела писать то, что думаю, я бы написала массу прекрасных вещей, которые пришли мне в голову в то время, как я молча стояла в ложе весталок, против ложи цезарей.
В половине второго мы приехали в Париж, и надо сознаться, что если Париж не самый красивый, то по крайней мере самый изящный и умный из городов. Разве нет и у него своей истории величия, падения, революций, славы и террора? О да, но все бледнеет перед Римом, так как из Рима произошли все остальные державы.
Рим поглотил Грецию, родину цивилизации, искусств, героев и поэтов. Все, что с тех пор было построено, изваяно, продумано – разве все это не подражание древним?
У нас новое – только Средние века. А почему? Почему мир так обветшал? Разве ум человеческий дал уже все, что он мог дать?
10 июля
Легко рассуждать и писать романы, но могущество и блеск (эти ничтожные сокровища сего мира) образуют как бы ореол около того, что мы любим, и заставляют почти любить то, чего мы не любим.
Так же верно и ясно, несмотря на возражения чувствительных душ, и то, что даже самые умные люди поддавались влиянию призрачных благ.
Но отложим все это в сторону и взглянем на дело с точки зрения сердца.
Не правда ли, ужасно быть в разлуке по нелепой причине, страдать от сомнений, разлуки, печали, из-за денег?.. Я презираю деньги, но сознаю, что они необходимы.
Когда человек счастлив материально, то ум и сердце свободны, и тогда можно любить без расчета, без задних мыслей, без подлостей.
Почему столько женщин любили королей?
Потому что король есть воплощение могущества, потому что женщина любит властвовать, но ей нужно опираться на что-нибудь сильное, как нежному, хрупкому растению нужно прислониться к дереву.
Не приписывайте мое поведение ужасным расчетам. Я не потому люблю человека, что он богат, но потому, что он свободен, волен во всех своих движениях. Я хочу богатства, чтобы не думать более о силе, не подчиняться этой грубой, но несомненной, неизбежной силе.
Я хотела продолжать, но все, что я могу сказать, сводится всегда к следующему: полное нравственное счастье может существовать только тогда, когда материальная сторона удовлетворена и не заставляет заботиться о себе, наподобие пустого желудка.
Когда любовь достигает высшей степени, страсть торжествует надо всем, но только на мгновение; и насколько сильнее чувствуется потом все то, о чем я говорила!
Все, что я говорю, я не вычитала из книг и не испытала сама, но пусть все те, которые пожили, кому не шестнадцать лет, как мне, отложат в сторону ложный стыд, который испытывают, признаваясь в таких вещах, и скажут, что мои слова неправда? Если кто-нибудь довольствуется малым, то только потому, что не видит дальше того, что имеет.
13 июля
Я приняла Реми, одетая капуцином. Да, капуцином. Каролина, служащая у Лаферрьер, сделала мне этот костюм полностью, до веревки и капюшона включительно.
Реми – мужчина! Я не могу к этому привыкнуть и обращаюсь с ним, как и шесть лет тому назад.
Вечером мы были у графини М.[7] Она говорила со мной о замужестве.
Мы уселись в маленькой угловой гостиной. Я разговаривала, читала стихи, пела, рассказывала все, что только возможно было рассказывать. Словом, если бы это случилось в большом обществе, меня бы высоко превознесли.
Эти дамы смеялись, удивлялись, восхищались. M-me де М. негодовала на то, что мы поселились в Ницце.
– Это жалкая дыра, – сказала она, – какой узкий горизонт! Как все здесь ничтожно! Тогда как в Париже с вашим состоянием и с такой дочерью…
– Но, madame, – сказала я, – иностранцам очень трудно попасть в парижское общество.
– Совсем нет! Если бы у вас там было всего только трое друзей: один в финансовом мире, другой – в мире аристократическом и третий – в артистическом! Тогда у вас вырос бы салон на редкость. Кроме того, вы понимаете, mesdames, с этой девочкой, такой прекрасной и, особенно, такой образованной… Ведь это встречается так редко – посмотрите на американок! Но такое образованное, такое остроумное дитя… Своей оригинальностью, своей увлекательностью, и с этим умением говорить… Да уверяю вас, к концу первого же года она сделается центром парижского общества. О это несомненно! Вы очутились бы в самом центре Сен-Жерменского предместья… Вы сделали бы блестящую партию!
– О! Нет, – отвечала я, – я не хочу; я хочу сделаться певицей!.. Знаете, милая графиня, надо сделать вот что: я оденусь бедной девушкой, а вы с тетей отвезете меня к лучшему профессору пения здесь, в Париже, как итальяночку, которой покровительствуете и которая подает надежды сделаться певицей.
– О! О!
– Потому что, – продолжала я спокойно, – это единственное средство узнать правду о моем голосе. У меня есть одно прошлогоднее платье, которое произведет такой эффект! – договорила я, то подбирая, то вытягивая губы.
– В самом деле, конечно, вот прекрасная мысль!
Боже мой! Какая мысль тревожит меня? Париж, да, Париж! Центр ума, славы! Центр всего! Париж! Свет и тщеславие! Голова кружится.
Боже мой! Дай мне такую жизнь, какой я хочу, или пошли мне смерть…
14 июля
С утра я тщательно оберегаю свою особу, ни разу не кашляю громко, не двигаюсь, умираю от жары и жажды, но не пью.
Только в час я выпила чашку кофе и съела яйцо, но такое соленое, что скорее это была соль с яйцом, чем яйцо с солью.
Я уверена, что соль полезна для гортани.
Наконец мы отправляемся, заезжаем за графиней и подъезжаем к № 37, Chaussee d’Antin, к Вартелю, первому парижскому профессору.
Графиня М. была у него и говорила об одной молодой девушке, которую особенно рекомендовали в Италии и о которой родители хотели знать, чего можно ожидать в будущем от ее голоса.
Вартель отвечал, что будет ждать ее завтра, и только с большим трудом достигли того, чтобы он назначил это свидание в четыре часа.
Нас ввели в небольшую залу, примыкавшую к той, где находился учитель, в это время дававший урок.
– Ведь в четыре часа, – сказал какой-то молодой человек, входя.
– Да, monsieur, но вы позволите этой молодой девушке послушать?
– Конечно.
В продолжение часа слушали мы пение англичанки; голос гадкий, но метода! Я никогда не слыхала, чтобы так пели.
Стены той комнаты, где мы сидели, увешаны портретами известнейших артистов, с самыми сердечными посвящениями.
Наконец бьет четыре часа, англичанка уходит; я чувствую, что дрожу и теряю силы.
Вартель делает мне знак, означающий: войдите! Я не понимаю.
– Войдите же, – говорит он, – войдите!
Я вхожу в сопровождении моих двух покровительниц, которых я прошу вернуться в маленький зал, потому что они меня стесняют, и действительно мне очень страшно.
Вартель очень стар, но аккомпаниатор довольно молод.
– Вы читаете ноты?
– Да.
– Что вы умеете петь?
– Ничего, но я спою гамму или сольфеджио.
– Попробуйте сольфеджио, m-r Chose. Какой у вас голос? Сопрано?
– Нет, контральто.
– Посмотрим.
Вартель, который не встает с кресла, сделал знак начать. Я начала сольфеджио, сначала дрожа, потом с досадой и довольная собой в конце. Я не сводила глаз с длинной фигуры учителя. Это удивительно.
– Ну, – сказал он, – у вас скорее меццо-сопрано. Это голос, который будет увеличиваться.
– Что же вы скажете? – спросили обе дамы, входя.
– Я скажу, что голос есть, но вы знаете, надо много работать. Это голос совсем молодой, он будет расти, наконец, он будет следовать за развитием молодой девушки. Ест материал, есть орган, надо работать.
– Так что вы думаете, что это стоит труда?
– Да, да, надо работать. О да, надо работать!
– Я дурно спела? – сказала я наконец. – Я так боялась!
– Ах, барышня, нужно привыкнуть, нужно превозмочь этот страх, он был бы совершенно неуместен на сцене!
(Но я была в восторге уже от того, что он сказал, потому что то, что он сказал, страшно много для бедной девушки, которая не доставит ему никакой выгоды. Привыкнув к лести, я приняла было этот холодный рассудительный тон за холодность, но скоро поняла, что в сущности он остался доволен.)
Он продолжал:
– Нужно работать, у вас есть данные… Это уже страшно много!
Между тем аккомпаниатор мерил меня взглядом с ног до головы, тщательно осматривая мою талию, плечи, руки, фигуру. Я опустила глаза, прося провожающих меня дам выйти.
Вартель сидел, я стояла перед его креслом.
– Вы брали уроки?
– Никогда, то есть только десять уроков.
– Да. Словом, нужно работать. Не можете ли спеть какой-нибудь романс?
– Я знаю одну неаполитанскую песню, но у меня здесь нет нот.
– Арию Миньоны! – закричала тетя из другой комнаты.
– Отлично, спойте арию Миньоны.
По мере того, как я пела, лицо Вартеля, выражавшее сначала только внимание, стало выражать некоторое удивление, потом прямо изумление, и наконец он дошел до того, что стал качать в такт головой, приятно улыбаться и подпевать.
– Гм… – произнес аккомпаниатор.
– Да, да, – отвечал профессор наклонением головы.
Я пела, очень возбужденная.
– Держитесь на месте, не шевелитесь, ну отдохните!
– Ну, что же? – спросили мы все три зараз.
– Что ж! Хорошо! Заставьте-ка ее сделать… (А, черт, я забыла слово, которое он сказал!)
Аккомпаниатор заставил меня сделать… ну, все равно, какое слово; он заставил меня взять одну за другой все мои ноты.
– До si naturel, – сказал он старичку.
– Да. Это меццо-сопрано; что ж, это еще лучше, гораздо выгоднее для сцены.
Я продолжала стоять перед ним.
– Сядьте, барышня! – сказал аккомпаниатор, снова осматривая меня с головы до ног.
Я присела на край дивана.
– Что ж, барышня, – сказал строгий Вартель, – надо работать, вы добьетесь.
Он говорил мне еще много разных вещей относительно театра, пения, уроков – все это со своим невозмутимым видом.
– Сколько времени потребуется, чтобы сформировать ее голос? – спросила графиня.
– Вы понимаете, сударыня, что это смотря по ученице; для некоторых нужно очень немного времени; это зависит от ее понятливости.
– Ну, у этой ее более чем достаточно.
– А! Тем лучше. В таком случае это легче.
– Ну, сколько именно времени?
– Чтобы вполне сформироваться, чтобы ее закончить, нужно добрых три года… Да, добрых три года работы, добрых три года…
Я молчала, обдумывая, как бы отомстить негодному аккомпаниатору, выражение которого говорило: «Хорошо сложена и миленькая! Это будет занимательно!»
Сказав еще несколько слов, мы поднялись. Вартель, не вставая с места, снисходительно протянул мне руку. Я искусала себе все губы.
Как только мы вышли, я попросила тетю вернуться и рассказать ему, кто мы такие.
Мы снова вошли в комнату, от души смеясь. Тетя протянула свою карточку. Я объяснила строгому маэстро весь этот фарс.
Но что за мину состроил аккомпаниатор! Я никогда этого не забуду! Я была отомщена.
– Если бы вы поговорили еще несколько времени, я признал бы вас за русскую, – сказал Вартель.
– Еще бы! И, однако, разве я не говорила!
Тетя и графиня М. объяснили ему мое желание узнать истину из его знаменитых уст.
– Я уже сказал вам, сударыня! Голос есть, нужно только, чтобы был талант.
– Он будет! Он есть у меня, вы сами увидите это.
Я была так довольна, что согласилась идти пешком до Grand-Hotel.
– Все равно, моя милая, – сказала графиня, – я из другой комнаты наблюдала за лицом профессора, и, когда вы пели Миньону, он был просто изумлен. Ведь он сам подпевал, и это со стороны такого-то человека! И по отношению к маленькой итальянке, которую он судил с величайшей строгостью!..
Мы обедали вместе. Я была очень довольна и высказалась вся как есть, со всеми своими странностями, причудами, со всеми своими надеждами.
После обеда мы долго оставались на балконе, наслаждаясь свежестью воздуха и зрелищем проходящих по двору – взад и вперед – путешественников.
Итак, я буду учиться с Вартелем. А Рим? Надо это обдумать… Уже поздно, я скажу это завтра.
16 июля
При одной мысли о счастье M-lle К., княгини S. во мне просыпаются все мои дурные инстинкты, т. е. зависть. Она хороша, но это красота горничной, одетой в причудливый костюм, красота женщины, предназначенной обувать и обмахивать других большим веером.
А между тем она королева, королева в момент, неоцененный для честолюбивых. Конечно, ее роль отмечена историей. А я!!!
18 июля
Сегодня я видела так много необыкновенного. Мы посетили знаменитого сомнамбулиста Alexis. Он консультирует почти исключительно о здоровье.
Нас ввели в полуосвещенную комнату, и так как графиня М. сказала, что мы пришли спросить не о здоровье, то доктор вышел, оставив нас одних со спящим человеком.
То, что передо мною был мужчина и особенно отсутствие всякого внешнего шарлатанства возбудило во мне недоверчивость.
– Дело не касается вопроса о здоровье, – сказала графиня, кладя мою руку в руку Alexis.
– А! – сказал он с полузакрытыми и стеклянными, как у мертвеца, глазами. – В ожидании чего другого, ваша маленькая приятельница очень больна.
– О! – вскрикнула я испуганно и хотела просить его не говорить о моей болезни, боясь услышать что-нибудь ужасное. Но прежде чем я успела это сделать, он мне назвал мою болезнь – воспаление гортани, нечто хроническое: воспаление гортани, при очень сильных легких, что меня и спасло.
– Легкие были прекрасны, – сказал Alexis с сожалением, – теперь они попорчены; вам надо беречься.
Надо было бы записывать, так как я не запомнила всего сказанного о бронхах и гортани; для этого я вернусь завтра.
– Я пришла, – сказала я, – спросить вас об этой личности.
И я вручила ему запечатанный конверт с фотографией кардинала.
Но прежде чем рассказывать все эти необыкновенные вещи, надо заметить, что в моей наружности не было ничего, что могло бы указывать на то, что я интересуюсь кардиналом. Я никому не говорила об этом. Да и зачем бы, казалось, молодой изящной русской девушке идти к сомнамбулисту говорить о папе, кардинале, о дьяволе?
Alexis держался за лоб и соображал; я теряла терпение.
– Я его вижу, – сказал он наконец.
– Где он?
– В большом городе в Италии; он во дворце; окружен очень многими; это человек молодой… Нет, меня обмануло его выразительное лицо. Он седой… Он в форме… Ему за шестьдесят…
Я, слушавшая до сих пор с возрастающей жадностью, была неприятно поражена.
– В какой форме? – спросила я. – Это странно, он не военный.
– Разумеется, нет!
– Нет, тогда как же на нем форма?
– Странная, не нашей страны… Это…
– Это?..
– Это священническая одежда… Подождите… Он занимает очень высокий пост, он управляет другими, он епископ… Нет! Он кардинал.
Я вскочила и отбросила мои калоши на другой конец комнаты. Графиня умирала со смеху, глядя на мое волнение.
– Кардинал? – повторила я.
– Да.
– О чем он думает?
– Он думает об очень важном деле, он очень занят им!
Медлительность Alexis и трудность, с которой он произносил слова, раздражали меня.
– Дальше посмотрите, с кем он? Что он говорит?
– Он с двумя молодыми людьми… военными, два молодых человека, которых он видит часто, они придворные.
Я всегда видела на субботних аудиенциях двух военных, довольно молодых, которые находились в папской свите.
– Он с ними говорит, – продолжал Alexis, – говорит на иностранном языке… На итальянском!
– На итальянском?
– Э, да он очень образован, этот кардинал, он знает почти все европейские языки.
– Видите вы его в эту минуту?
– Да, да. Те, которые его окружают, тоже духовные. Один из них очень высокий, худой, в очках, приближается и тихо говорит с ним; он видит только вблизи, он должен подносить предметы к самым почти глазам, чтобы видеть…
А, черт! Это портрет того, имя которого я постоянно забываю; он очень известен в Риме, – это тот, который говорил обо мне на обеде в вилле Matel.
– Чем занят кардинал, спросила я, – что он намерен делать, кого он видел в последнее время?
– Вчера!.. Вчера у него было большое собрание… люди, имеющие отношение к церкви… все! Да, обсуждали важный вопрос, очень важный, вчера, в понедельник. Он очень беспокоится, так как дело идет о…
– О чем?
– Говорили, стараются, хотят…
– Чего? Смотрите же!
– Хотят его сделать… папой!
– Ого!!
Тон, которым это было сказано, удивление сомнамбулиста и слова сами по себе дали мне как бы электрический толчок; я не чувствовала ничего под ногами, я сбросила шляпу, растрепала волосы, вытащив шпильки и бросив их на середину комнаты.
– Папой! – воскликнула я.
– Да, папой, – повторил Alexis, – но есть большие препятствия. У него шансов для этого меньше, чем у другого.
– Но он будет папой?
– Я не читаю в будущем.
– Но попробуйте, вы можете, ну…
– Нет, нет, я не вижу будущего! Я его не вижу.
– Но кто этот кардинал, как его имя? Не можете ли вы видеть это из окружающего, из того, что ему говорят?..
– Постойте, А.! – сказал он. – Я держу его изображение… и, – прибавил он с неожиданной живостью, – вы так волнуетесь, что страшно утомляете меня; ваши нервы дают толчки моим; будьте спокойнее.
– Да, но ведь вы говорите вещи, которые заставляют меня просто подпрыгивать. Итак, имя этого кардинала?
Он начал сжимать голову и ощупывать конверт (который был серый, двойной и очень толстый).
– Антонелли!
Мне больше нечего было спрашивать; я откинулась в кресле.
– Думает он обо мне?
– Мало… и дурно. Он против вас… Существует какое-то недовольство… политические мотивы…
– Политические мотивы?
– Да.
– Но он будет папой?
– Этого я не знаю. Французская партия будет разбита, то есть французский кандидат имеет так мало шансов, он почти их не имеет… Его партия соединяется с партией Антонелли или с партией другого итальянца.
– С которой из двух? Которая восторжествует?
– Я буду в состоянии сказать это только тогда, когда они будут уже действовать, но многие против А., это другой…
– А они скоро начнут действовать?
– Этого нельзя знать. Папа еще есть, нельзя же убивать папу! Папа должен жить…
– А Антонелли долго проживет?
Alexis покачал головой.
– Значит, он очень болен?
– О, да!
– Что с ним?
– У него болят ноги, у него подагра, и вчера… Нет, третьего дня у него был страшный припадок. У него разложение крови; я не могу говорить это даме.
– Да это и не нужно.
– Не волнуйтесь, – сказал он. – Вы меня утомляете. Думайте спокойнее, я не могу следить за вами…
Его рука дрожала и заставляла дрожать меня всем телом; я отпустила его руку и успокоилась.
– Возьмите это, – сказала я ему, подавая письмо Пьетро, запечатанное в конверт, совершенно подобный предыдущему.
Он взял его и точно так же, как предыдущий, прижал к сердцу и ко лбу.
– Эге, – сказал он, – этот моложе, он очень молод. Это письмо написано уже некоторое время назад; оно написано в Риме, и с тех пор эта личность уже уехала оттуда. Она все еще в Италии… Но не в Риме… Там есть море… Этот человек в деревне. О, конечно, он переселился со вчерашнего дня, не более суток… Но этот человек имеет какое-то отношение к папе, я его вижу сзади папы… Он связан с Антонелли, между ними близкое родство.
– Но каков его характер, каковы его наклонности, мысли?
– Это странный характер… Замкнутый, мрачный, честолюбивый… Он думает о вас постоянно… Но более всего он хочет достигнуть своей цели… Он честолюбив.
– Он меня любит?
– Очень, но это странная натура, несчастная. Он честолюбив.
– Но тогда он меня не любит?
– Нет, он вас любит, но у него любовь и честолюбие идут рука об руку. Вы ему нужны.
– Опишите мне его подробнее с нравственной стороны.
– Он противоположность вам, – сказал Alexis улыбаясь, – хотя такой же нервный.
– Навещает он кардинала?
– Нет, они не ладят; кардинал давно уже против него из-за политических мотивов.
Я вспомнила, что Pietro мне говорил всегда: «Дядя не стал бы сердиться на меня за клуб или за волонтариат – что ему до всего этого? Это он из-за политики».
– Но он его близкий родственник, – продолжал Alexis. – Кардинал им недоволен.
– В последнее время они не виделись?
– Подождите! Вы думаете о слишком многих вещах; это вопросы трудные, я смешиваю этот листок с другим! Они были в одном конверте.
Это верно, вчера они были в одном конверте.
– Смотрите же, постарайтесь увидеть.
– Я вижу! Они виделись два дня тому назад, но они были не одни: я его вижу с дамой.
– Молодой?
– Пожилой, его матерью.
– О чем они говорили?
– Ни о чем ясно; что-то стесняло их… Сказали лишь несколько неопределенных слов, почти ничего, об этом браке.
– О каком браке?
– О браке с вами.
– Кто говорил об этом?
– Они. Антонелли не говорил, он предоставлял им говорить. Он против этого брака, особенно с самого начала. Теперь он смотрит на это лучше и несколько лучше переносит эту мысль.
– А каковы мысли молодого?
– Они уже установились, он хочет жениться на вас… но Антонелли этого не хочет. С очень недавнего времени он все-таки менее враждебен.
Графиня М. очень смущала меня, но я храбро продолжала, хотя мое радостное настроение совершенно исчезло.
– Если этот человек думает только о своей цели, то он не думает обо мне?
– О, но я же вам говорю, что для него вы и честолюбие составляете одно и то же.
– Значит, он меня любит?
– О! Очень.
– С каких пор?
– Вы слишком волнуетесь, вы меня утомляете, и вы задаете мне слишком трудные вопросы… Я не вижу.
– Ну… Постарайтесь!
– Я не вижу… давно! Нет, я не вижу.
– Какое отношение он имеет к Антонелли?
– Близкий родственник.
– А Антонелли имеет свои виды на этого молодого человека?
– О да, но они разъединены политикой, хотя теперь все обстоит лучше.
– Вы говорите, что Антонелли против меня?
– Очень. Он не хочет этого брака из-за религии… Но он начинает смягчаться… О, очень мало… Все это зависит от политики. Я же вам говорю, что Антонелли и этот молодой человек несколько времени тому назад были совершенно разъединены, Антонелли был безусловно против него…
Итак, что скажете вы обо всем этом? Вы, считающие все эти вещи шарлатанством? Если это и шарлатанство, то оно дает удивительные результаты.
Я записала все совершенно точно; быть может, я что-нибудь пропустила, но ничего не прибавила. Разве это не удивительно, разве это не странно?
Тетя разыграла неверующую, так как она ужасно рассердилась на кардинала; она начала против Alexis целый ряд фраз, без цели и смысла, которые страшно раздражали меня, так как я знала, что она не думает ничего из того, что говорит.
Насколько вчера мое настроение было повышено, настолько же оно понизилось сегодня.
19 июля
Сегодня m-me М. спросила меня:
– Хотите пойти к m-me Моро? Я была у нее перед свадьбой моей дочери, и все, что она ей предсказала, действительно сбылось.
– Это сомнамбула?
– Нет, это ученица m-lle Ленорман.
– Пойдемте.
Это очень веселая и полная женщина. Она решительно потребовала, чтобы я осталась с нею наедине, и это несколько обеспокоило моих дам. Она рассмотрела мою руку.
– Вы созданы, чтобы сделаться первоклассной артисткой, – сказала она. – Если вы будете петь, вы добьетесь большой славы. Будете вы писать картины – добьетесь не меньших успехов. Вы музыкантша. А как женщина, вы будете иметь успех чрезвычайный! Вы выйдете замуж по любви на девятнадцатом году – и за человека высокопоставленного. Вам семнадцать лет… Вам предстоит большое путешествие. Через восемнадцать месяцев вас ждет большой артистический успех. (Восемнадцать месяцев… Теперь июль… это легко будет проверить.) У вас будет трое детей. Но – прибавила она, – в этом году вы будете носить траур по какой-то пожилой особе… Наверное… Впрочем, карты пророчат вам блестящую будущность.
Я дала ей конверт кардинала.
– Это старик, – сказала она, – вероятно, чиновник, на службе у какого-нибудь правительства. Да, не правда ли? Ну, так в недалеком будущем, через восемнадцать месяцев, он добьется того высокого положения, к которому стремится. Это… Но этот человек дурно думает о вас.
Я дала ей другой конверт. Она пощупала его рукой, как раньше конверт кардинала.
– Этот молод, – сказала она. – Вы думаете о браке, и карты говорят, что этот брак возможен. Он скоро совершится, в конце будущей зимы. Но брак этот встретит затруднения – у вас будут неприятности. Вы выйдете замуж за этого человека только после траура по пожилой особе, а он женится на вас после траура по какой-то женщине, не раньше. Вам скоро будет предлагать свою руку господин 28 лет, брюнет, с черной бородой. Вы выйдете замуж за человека высокопоставленного, но ваша жизнь – жизнь артистки. Как женщина и как артистка вы будете иметь огромный успех через восемнадцать месяцев. Вы добьетесь его и раньше, но настоящий, полный успех придет через восемнадцать месяцев…
Это легко будет проверить.
– А характер этого человека, madame?
– Он? Он мрачен, тщеславен, но он вас любит.
Я вышла ошеломленная. Как только я очутилась в карете, я стала рассказывать об этом странном предсказании, так сходном с двумя прежними.
Возможно ли, чтобы все трое только случайно предсказывали одно и то же! Француженки вернулись домой. Мы с тетей поехали в лес. В присутствии дам я шутила, позировала и хвастливо говорила: «Все равно, mesdames, я не в ладах с великим кардиналом, и к тому же предмет нашей ссоры – политика»!
Все это я говорила при них… Но оставшись одна с тетей, я не говорила больше ни слова. Я с ужасом смотрела на предстоящее путешествие. Вражда кардинала, любовь, Пьетро…
Мне казалось, что я люблю его, что я скажу ему столько нежных слов… Я почти плакала от невозможности сделать это сейчас же…
Я была огорчена, но все же меня занимала и доставляла удовольствие мысль, что я занята такими серьезными делами…
Мои француженки были вечером у нас. Снова говорили о Монгрюэле, об ясновидящем Алексее, о Моро.
Я не верю. И все же это чрезвычайно странно…
Из-за этого несносного Пьетро я забыла самую интересную часть предсказания модного ясновидящего Алексея, к которому я вчера ездила. Я расспрашивала его, конечно, о том, что меня больше всего занимает. Наш разговор заслуживает особого внимания. Еще не называя кардинала, он мне сказал:
– Я уже вам говорил, что нужно очень и очень многое для того, чтобы его избрали папой… Есть еще один кандидат, ему покровительствует… итальянский король. О, этот итальянец силен, сильнее его… он непременно сделается папой, разве уже произойдет что-либо необычайное или же он сам откажется. Француз стушевывается… О, я вижу – только они вдвоем являются серьезными претендентами на папский престол. Наименее шансов на успех имеет тот, чья карточка у меня в руках. О да, итальянский король не хочет, чтобы его выбрали. Мне даже кажется, что это его враг… Король выдвигает другого…
Тут я потребовала, чтобы Алексей попытался узнать имя этого человека. Ведь, наверное, вокруг этого имени найдется что-нибудь такое, что поможет ему отгадать его. И он действительно назвал его. Мне это кажется вполне естественным, потому что все, что он прозревал вокруг этого человека, навело его на мысль об его имени.
Все сегодняшнее утро я только о том и думала, чтобы снова побывать у него. В 2 часа дня мы поехали к нему вдвоем, только с тетей. Сначала я обратилась к нему с вопросами о своем здоровье. Алексей отлично объяснил мою болезнь – ту боль в горле, о которой я говорила доктору Валицкому. Я взяла у врача, усыпившего его, рецепт, попросив его оставить нас наедине.
Тетю я тоже заставила выйти, и мы с Алексеем остались в комнате вдвоем.
– Я снова здесь, – сказала я, взяв его за руку. – Вчера мне помешали внимательно вас выслушать.
– Ах, да, – улыбнулся он, – вас вчера порядком подразнили.
– Не сможете ли вы мне сказать, что делала с прошлого понедельника та особа, о которой мы с вами говорили?
– Хорошо, скажу вам, только дайте мне то же письмо, что и вчера…
– Извольте!..
Лицо Алексея приняло странное и страшное выражение, которое делало его похожим на выходца с того света. Взоры его как будто проникали далеко, далеко – за пределы этого мира.
– Позвольте… Жизнь этого молодого человека чрезвычайно сложна. Он разбрасывается во все стороны… Он хватается за все. Я сказал бы, что он ведет какое-то двойное существование.
– Как так, двойное существование?
– День он проводит среди священников и монахов, а ночь – среди светских людей. Сам он не священник.
– Что он делает во вторник и в среду?
– Судя по его простому серому костюму, он, несомненно, ездил за город. Он в Риме.
– Получил ли он письма?
– О, да, он получил много писем и, между прочим, одно от вас.
– Каково же содержание этого письма?
– Вы пишете ему о какой-то перемене места, требуете его приезда сюда. Но он не может этого сделать, его семья удерживает его от этого… Кроме того, его останавливает еще много других препятствий. Не будь этого – он давно был бы здесь… Но я вижу, он скоро приедет во Францию… Погодите… Это письмо подписано… Странно, это не фамилия… Это не полное имя… Погодите… Мне трудно разглядеть, я утомляюсь, это…
– Что?
– Это… Здесь два слова… Нет, только одно и за ним следует имя, не вполне законченное, очень короткое… Тут только две буквы. О, да! Наверное!..
Неправда ли, какое странное ясновидение!..
– Прочтите письмо.
– Я не могу… Вы требуете от меня почти невозможного.
– Скажите же, когда и где получилось это письмо?
– Оно прибыло не по почте и побывало у двух лиц прежде, чем дошло по назначению… Я вижу, оно получилось в богатом доме, похожем на дворец… На папский дворец – это, должно быть, Ватикан…
– Смотрите, не ошибайтесь.
– Я плохо вижу сегодня, вы утомляете меня. Бывают у меня хорошие, счастливые минуты, когда все само собою предстает передо мной ярко, и тогда я могу говорить… Но вы вынуждаете меня разбрасываться… Вы думаете сразу о слишком многих вещах…
– Ну, пожалуйста, я постараюсь быть спокойной. Глядите!
– Я ведь говорю вам, что дворец. Я вижу знамя… Я вижу военных у дверей…
– Много их?
– Да, много.
– Случайно они там очутились?..
– Двое из них находятся там всегда, другие зашли только мимоходом.
– Что же делается в самом дворце?
– Там много молодых людей…
Он, вероятно, видит клуб.
– Как они одеты?
– Позвольте… На них одежда духовных лиц… Да, так мне кажется…
– Этого не может быть. Смотрите лучше.
– Повторяю вам, что это трудно. Мне уже давно следовало бы отдохнуть – вы утомляете меня… Помимо того…
– Посмотрите еще, кто получил это письмо? – спросила я.
Я уже поняла, что он видит телеграфную станцию в Риме, но не могла понять, при чем тут духовные лица.
– Это письмо получила женщина. Она отдала его какому-то мужчине. А тот уже передал письмо ему.
– Так он его, значит, получил?
– О, да, наверное.
– Что же он сделал?
– Он в ту же минуту вышел… Его смутило содержание вашего письма; вы делаете намеки… только намеки на этот брак…
– Где он в данную минуту? Видите вы его?
– Я вижу, он в комнате… И не один.
– Скажите, что он делал два-три дня тому назад?
– Я ведь вам сказал: он был с матерью у кардинала.
– Хорошо. Посмотрите же теперь, – что он делает?
– Он сидит в комнате с молодым человеком лет девятнадцати – двадцати. Это юноша со светлыми, очень коротко остриженными волосами. Они говорят по-итальянски.
– Мое письмо у него?
– Да, у него, здесь! – И он указал на левый карман своего сюртука.
– И он не думает приехать сюда?
– Напротив, он хочет это сделать, но не может. Будь у него возможность, он был бы уже здесь.
– Где он?
– Странно… Он в монастыре, да, в монастыре.
– Что это за монастырь?
– Он находится подле… постойте… подле каких-то сводов. Какие они великолепные!..
– Это развалины?
– О, нет, это цельные большие своды, и там много…
– Чего?
– Там много статуй… и…
Я узнала сен-тьерские своды и статуи. А я думала, что ясновидящий увидит Колизей.
– И?.. Кончайте же, – сказала я.
– И гробниц, – сказал он с таким видом, как будто все ближе и ближе всматривался в них. – Там древние гробницы, развалины… Куски мрамора… и еще статуи… Все это удивительно красиво и великолепно!.. Удивительно…
Он, очевидно, видел Ватикан.
– Как одеты монахи этого монастыря?
– На них белая одежда.
– И только?
– На груди красный крест и чьи-то инициалы.
– Чьи?
– Я не знаю.
– Нет, вы знаете.
– Ах, это нехорошо… Мы поступаем очень дурно!..
И, несмотря на все мои просьбы, он ничего больше не хотел сказать. Я расспрашивала его еще о многом, но каждый раз он повторял то же, что и вчера.
– Он богат? – спросила я, наконец.
– Конечно, это всем известно. Он даже гораздо богаче, чем предполагают.
– В чем заключаются его богатства?
– Погодите… У него много драгоценностей. С ним всегда маленький ящичек, полный бриллиантов. Там их на несколько миллионов. В этом его главное богатство.
– А деньги?..
– Он не держит у себя денег.
– Ну, что вы! Если их нет при нем, поищите их в другом месте.
– Он самый молодой в этом монастыре. Тем не менее все относятся к нему с большим уважением. Как странно, он не монах и все же находится в монастыре!
Несчастный Пьетро! Так он теперь у доминиканцев! Но, как бы там ни было, а раз он получил мою телеграмму, он должен был мне ответить. Это ужасно!
– О чем он думает?
– Все его думы сосредоточены на браке с вами. Но он хорошо видит, что для этого придется бороться со множеством препятствий. Это будет страшно трудно!.. Тут такая масса препятствий и со стороны национальности, религии…
Я попросила тетю войти и начала расспрашивать о кардинале.
– Это Антонелли, – сказал Алексей.
– Взгляните же, что он делает теперь.
– Я вижу он сидит у стола. Направо от него сидит его секретарь… Они оба заняты.
– Чем?
– Мы поступаем очень дурно. Кардинал был бы недоволен, если бы узнал о том, что мы тут делаем.
– Вы хорошо знаете, что у меня нет дурных намерений.
– Но тут слишком много любопытства. Это дурно… Очень дурно.
– Ну, если бы к вам пришел кардинал, он был бы еще любопытнее меня. Ну, пожалуйста, продолжайте.
– Он вечно занят мыслями о крупных деньгах, которые он отдал куда-то… Поместил куда-то… У себя он держит очень мало денег…
– Куда же он поместил свои деньги?
– Ну, нет, этого я вам не скажу. Такие вещи нас не касаются.
– Но я хочу это знать, говорите!
– Его денег нет в Риме. Они в Брюсселе… Большая часть их в Брюсселе.
Это меня удивило. Все говорили, что кардинал хранил свои деньги в Англии.
– А кроме того?
– В Вене, в Австрии.
– Сколько?
– Я не вижу, но их там больше, чем предполагают.
Я настойчиво требовала, чтобы он назвал точную цифру его денег, но он не хотел.
– Завещание он составил?
– Да, восемь лет тому назад.
Пьетро говорил мне об этом. Он сказал мне также, что с тех пор кардинал сильно изменил это завещание.
– Что же написано в этом завещании?
– Вы задаете мне нехорошие… непозволительные вопросы.
– Я пришла сюда с целью непременно узнать все это. Говорите!
– Я должен вам прежде всего сказать, что он сильно изменил завещание за эти восемь лет… Да, очень сильно…
– Но вы все-таки видите, что он рассчитывает сделать со своим состоянием? Как он его распределил?
– У кардинала ум глубокий и слишком скрытный, даже для меня. Я теряюсь… Я не могу точно определить… Да и нехорошо с нашей стороны насильно вторгаться в его тайны. Ведь вы отлично знаете, что он был бы очень недоволен, если бы знал, что мы тут делаем.
– Понятно.
Тем не менее я продолжала настаивать до тех пор, пока он наконец сказал:
– Я скажу вам только, что его состояние разделено… Постойте… Оно разделено на четыре части… Да, так, на четыре части… Две части крупные, другие две много меньше…
Он не хотел мне сказать, для кого предназначались первые. Ему, очевидно, ясно было, что они предназначались не для Пьетро. Что касается деления на четыре части, о котором он говорил, то это возможно, так как у кардинала четыре наследника: Августино, Доменико, Паоло и Пьетро.
С большим трудом удалось мне заставить его говорить. Он все твердил, что мы поступаем дурно, что мы не имеем права вмешиваться в такие интимные дела. Я все-таки заставила его сказать мне:
– Самую значительную долю состояния кардинала получит его племянница. Много денег получит от него еще графиня?..
Не ошибайтесь только, дорогие читатели: Алексей отгадывает не будущее, а завещание и мысли кардинала. Каждый раз он повторял, что не может видеть того, чего я от него добиваюсь, что это дурно, что я утомляю его и что он больше не в силах говорить.
– Я не Бог, – твердил он.
Тут я оставила его, и мы поехали к другой ясновидящей, madame Абель. Живет она по улице Жан-Жак Руссо, № 61. Никогда в жизни я не видела более ужасных, грязных квартир. Мы проходили через столярные и кузнечные мастерские, пробирались по разным дворам и лестницам. Наконец мы очутились в комнате, где две женщины заливались каким-то блаженным смехом юродивых; тут же сидел какой-то мрачный старик в черной бархатной шапочке.
Моим первым ощущением при виде их было ощущение страха – мне казалось, что меня убьют. Я даже подумывала о том, чтобы позвать на помощь столяра и кузнецов.
Когда мнимую ясновидящую загипнотизировали, я дала ей портрет.
Она спросила меня, где именно происходит действие, где живут эти люди:
– Но ведь мысленно я вас туда и направляю!
– Нет, нет, вы должны назвать местность, и тогда я сейчас же буду там… Я всегда так делаю…
– Ну, попытайтесь все-таки!
– Я на севере.
– Из чего вы это заключаете?
– Я чувствую это по воздуху той местности. Я вижу юношу… У него каштановые волосы…
Словом, она сказала мне, что кардинал любил меня, что теперь он меня больше не любит, что у него недавно было воспаление легких и что сейчас он находится взаперти.
– Где?
– Позвольте… Это не больница, это большой дом.
«Хорошо, – подумала я, – теперь пойдет лучше».
– Это… – продолжала женщина, – это… нечто вроде дома умалишенных.
Господи! Это Ватикан-то дом умалишенных!
– Скажите мне, что он делал в понедельник? – спросила я, смеясь. Алексей видел его в понедельник в собрании.
– В понедельник? Ага, в понедельник вечером ему удалось бежать! Но… его снова запрятали.
Бедный кардинал! Сумасшедший дом после такой блестящей карьеры! С нас взяли 20 франков за этот прекрасный сеанс. Я не посмела возражать: я была счастлива, что выбралась оттуда живой и невредимой.
Мама прислала мне письмо от Л. и говорит, что считает его одним из моих наиболее преданных поклонников. Он жил в Ницце и бывал в тамошнем обществе. Несмотря на свою толщину, он остроумен и любит посплетничать. И если бы о нас действительно злословили, как я это предполагала, то он не был бы так любезен со мной теперь.
Помимо своей воли, стараясь найти извинение для Антонелли, я считала положение более серьезным, чем оно было на самом деле. Теперь я положу этому конец. Довольно снисходительности, довольно мягкости! Я не желаю брать на себя все ошибки. Я слишком долго носила повязку на глазах! Он недостаточно сильно любит меня. Впрочем, уже с самого начала его поведение говорило против него. Мне больше нечего сказать – разве только то, что я устала от этого вечно напряженного состояния. Меня уже утомили эти постоянные старания оправдывать его. А между тем его поведение всегда было странным, редко приличным, а часто даже оскорбительным! Я боялась, что мне трудно будет пережить эту низость, о которой знают все мои домашние, знает и тетя. Но я держу себя просто. Я говорю правду. Я говорю только то, что думаю, и нет тут никакой тягостной неловкости и натянутости. Я не прихожу в бешенство, потому что вообще хладнокровно смотрю на вещи.
Глубоко сожалею, что мои губы были осквернены его прикосновением. Бедные мои губы! Я снова утверждаю и буду постоянно утверждать то, что говорила на этот счет, когда в первый раз уезжала из Рима.
Если бы он даже вернулся ко мне теперь, я с презрением оттолкнула бы его. Мое терпение истощилось. Я имею право не прощать больше. Я не хочу, чтобы со мною играли в любовь.
Не думайте, пожалуйста, что это слова ясновидящего перевернули вверх дном все мои мысли. Я и без всяких ясновидящих отлично знаю, что он получил мою телеграмму. Да разве мог он не получить ее? Ведь уже целая неделя прошла с тех пор. Он получил ее, иначе быть не может!
Он не ответил. Впрочем, этого можно было ожидать – даже смешно было думать иначе. Разве с самого же начала трудно было предвидеть все это? Так вот она какова, любовь! Так вот как он явился бы мне на помощь, если бы я нуждалась в ней! Недурное доказательство «страсти», как он осмеливался называть свое чувство!
Допускаю, что он находился под моим влиянием, когда мы были вместе. И если бы он был племянником папы, я сумела бы воспользоваться этим влиянием, да и всякого рода влиянием, – я не пренебрегла бы тогда ничем, чтобы овладеть им.
Но для такого ничтожного господина я сделала и без того слишком много. Я забыла свою роль королевы и свое женское достоинство.
Итак, Пьетро Антонелли, пеняй на себя. Прощай.
22 июля
Я больше не думаю о Пьетро, он недостоин этого, и, слава Богу, я не люблю его.
До третьего дня я каждый вечер просила Бога, чтобы он сохранил мне его и дал возможность одержать победу. Я больше не молюсь об этом. Но Бог знает, как я желала бы отомстить, хотя и не смею просить на это Его помощи.
Месть, конечно, чувство не христианское, но оно благородно; предоставим мелким людям забвение оскорблений. Да, впрочем, это возможно только тогда, когда ничего другого не остается делать.
23 июля
Рим… Париж… Сцена, пение… живопись! Нет, нет. Прежде всего – Россия! Это самое главное. Итак, рассуждая благоразумно, будем благоразумны и на деле. Не позволим сбить нас с пути блуждающим огням воображения.
Прежде всего Россия! Только бы Бог помог мне!
Я написала маме. Я отделалась от любви и ушла по уши в дела. О, только бы Бог помог мне, и все пойдет хорошо.
Да будет моей заступницей Святая Дева Мария!
27 июля
Наконец вчера в 7 часов утра мы выехали из Парижа. Во время путешествия я занималась преподаванием истории Шоколаду, и этот разбойник благодаря этому уже имеет некоторое понятие о древних греках, о Риме во время царей, республики и, наконец, империи и из истории Франции, начиная с «короля, которого свергли с престола». Я объяснила ему сущность различных теперешних историй, и Шоколад находится аi courant всего; он даже знает, что такое депутат. Я ему все рассказала, а затем задавала ему вопросы.
Я спросила его, к какой партии примкнул бы он, и этот разбойник отвечал мне: «Я бонапартист!»
Вот как он рассказывает все то, чему я его научила: последним королем был Людовик XVI, который был очень добр, но республиканцы – люди, ищущие денег и почестей, казнили как его, так и жену его, Марию-Антуанетту, и учредили республику. Франция была в это время очень ничтожна, а на острове Корсика родился между тем человек, Наполеон Бонапарт, который был так умен и храбр, что его избрали сначала полковником, потом генералом. Он покорил весь мир, и французы очень любили его. Но, отправляясь в поход на Россию, он забыл взять шубы для своих солдат, и они очень страдали от холода; русские же сожгли Москву. Тогда Наполеон, бывший в это время уже императором, возвратился во Францию.
Но так как он был теперь несчастлив, то французы, которые любят только тех, кому сопутствует удача, больше не любили его, а все остальные государи, чтобы отомстить ему, принудили его сложить с себя власть. Тогда он отправился на остров Эльба, потом на сто дней возвратился было в Париж, но его опять заставили спасаться бегством. Увидев одно английское судно, он стал умолять его экипаж о спасении, но, едва он взошел туда, его объявили пленником и отвезли на остров Св. Елены, где он и умер. Уверяю вас, что Шоколад был во многом прав.
Наконец сегодня утром мы прибыли в Берлин. Город произвел на меня в общем впечатление приятное. Дома очень красивы.
Не могу написать сегодня ни слова толком: дорога ужасно утомляет.
«Два чувства свойственны натурам гордым и любящим: величайшая чуткость к мнению о них и величайшая горечь, когда мнение это несправедливо».
28 июля
Берлин напоминает мне Флоренцию… Позвольте – он напоминает мне Флоренцию, потому что я опять с тетей и веду тот же образ жизни.
Прежде всего мы осмотрели музей. Ничего подобного я не ожидала встретить в Пруссии – может быть, по невежеству, может быть, по предубеждению.
По обыкновению, статуи удержали меня всего дольше, и мне кажется, что я обладаю какой-то особенной, большей, чем у других людей, чуткостью в отношении понимания статуй.
В большой зале находится одна статуя, которую я приняла за Аталанту, вследствие пары сандалий, которые могли бы выражать здесь главную идею, но надпись гласит, что это Психея. Все равно, Психея или Аталанта – это замечательная фигура по красоте и естественности.
Осмотрев греческие гипсы, мы прошли далее. Глаза и голова моя уже устали, и я узнала египетский отдел только по его сжатым и беглым линиям, напоминающим круги, произведенные на воде падением какого-нибудь предмета.
Ничего не может быть ужаснее, как быть где-нибудь с человеком, которому скучно то, что для вас интересно. Тетя скучала, торопилась, ворчала. Правда, что мы проходили там два часа!.. Что очень интересно, так это исторический музей: миниатюр, статуй, древних гравюр и миниатюрных портретов. Я обожаю это. Я обожаю эти портреты, и, глядя на них, фантазия моя совершает невероятные путешествия, создает различные приключения, драмы…
Но довольно…
Затем картины.
Мы достигли времени, предназначенного для крайнего усовершенствования живописи – идеала искусства. Начали с жестких линий, с красок слишком ярких, не сливающихся между собой, потом перешли к мягкости, доходящей до неясности очертаний. Полного подражания природе, вполне верного снимка с нее – что бы там ни говорили и ни писали, – еще не было.
Закроем глаза на то, что было между самой примитивной и современной[8] манерой в живописи и сосредоточим на них все внимание.
Жесткость, ослепительные краски, резко проведенные линии – вот в чем состоит первая.
Мягкость, краски, настолько сплывающиеся между собой, что рисунок проигрывает в рельефности, какое-то избегание линий – вот вторая.
Теперь нужно было бы, так сказать, взять концом кисти слишком яркие краски древних картин и перенести их на безжизненные современные. Тогда будет совершенство.
Есть еще род живописи, еще совершенно новый, состоящий в том, что пишут картины «пятнами». Но это ужасно, хотя таким образом и достигается некоторый эффект.
В картинах новых мастеров значение обстановки – обыденных предметов, как то: мебели, домов, церквей – недостаточно оценено. Пренебрегают точностью в передаче обстановки и таким образом производят какую-то сбивчивость линий; слишком злоупотребляют ретушевкой (тогда как можно было бы пользоваться ею, не возводя этого в обыкновение); таким образом фигуры выделяются недостаточно резко и кажутся такими же мертвенными, как окружающие их предметы, которые сделаны не с достаточной точностью и кажутся как бы не вполне твердо стоящими и неподвижными. В таком случае, дитя мое, так как, по-видимому, ты так хорошо понимаешь, что нужно для совершенства… Не беспокойтесь, я буду работать и, что еще лучше, добьюсь в этом успеха!
Я возвратилась страшно усталая, купив себе тридцать два английских тома, отчасти переводы первоклассных немецких писателей.
«Как! И здесь уже библиотека!» – воскликнула тетя в ужасе.
Чем больше я читаю, тем больше чувствую потребность читать, и чем больше я учусь, тем больше открываются передо мной многие вещи, которые хотелось бы изучить. Я говорю это вовсе не из пустого подражания известному мудрецу древности. Я действительно испытываю то, что говорю.
И вот я в роли Фауста! Старинное немецкое бюро, перед которым я сижу, книги, тетради, свертки бумаги… Где же Мефистофель? Где Маргарита? Увы! Мефистофель всегда со мной: мое безумное тщеславие – вот мой дьявол, мой Мефистофель.
О, честолюбие, ничем не оправдываемое! Бесплодный порыв, бесплодное стремление к какой-то неизвестной цели!
Я ненавижу больше всего золотую середину. Мне нужна или жизнь… шумная, или абсолютное спокойствие.
Не знаю, отчего это зависит, но я чувствую, что совершенно не люблю А., не только не люблю его, но больше и не думаю о нем, и все это кажется мне каким-то сном.
Но Рим привлекает меня; я чувствую, что там только и буду в состоянии работать. Рим – шум и тишина, развлечения и тихие грезы, свет и тени. Позвольте… свет и тени… Это ясно: где свет, там и тени и… vice versa… Нет, но я смеюсь над собой, – серьезно! И, право, есть чего, только пожелай!.. Я хочу ехать в Рим, это единственное место, подходящее к моим наклонностям, единственное место, которое я люблю за него самого.
Берлинский музей прекрасен и богат, но обязан ли он этим Германии? Нет – Греции, Египту, Риму! После созерцания всей этой древности, я села в карету с глубоким отвращением к нашим искусствам, нашей архитектуре, нашим модам.
Я думаю, что если бы другие, выходя из такого рода мест, проанализировали свои чувства, то оказалось бы, что все думают так же. Впрочем, к чему желать быть во всем похожей на других!
Я не люблю немцев за их сухость и материализм, но нужно отдать им справедливость: они очень вежливы, очень предупредительны. И что мне в них особенно нравится, так это их уважение к государям и их истории. Это потому, что они еще не испорчены всеми прелестями республики.
Ничто не может сравниться с идеальной республикой. Но республика – как горностай: малейшее пятно убивает ее. А где вы найдете республику без единого пятна?
Нет, эта жизнь просто невозможна, это ужасная страна! Прекрасные дома, широкие улицы, но… но ничего для души и воображения. Самый маленький городишко Италии стоит Берлина.
Тетя спрашивает меня, сколько страниц я исписала. «Страниц сто, я думаю», – говорит она.
Действительно, может показаться, что я все время пишу; но нет. Я думаю, мечтаю, читаю, потом напишу два слова, и так целый день.
Удивительно, как хорошо я стала понимать благодетельные стороны республики с тех пор, как причислила себя к бонапартистам.
Нет, правда, республика – это единственный счастливый род правления, но только во Франции это невозможно.
Да и потом, французская республика выстроена на грязи и крови. Но… ну не будем больше думать о республике; вот уж неделя, как я об этом раздумываю; и что же, в сущности, разве Франция стала несчастней с тех пор, как она республика? Нет, напротив. Но тогда как же? А злоупотребления-то! Они повсюду.
Но довольно на этот вечер, другой раз, когда буду знать больше, поговорю об этом еще.
30 июля
Ничего не может быть печальнее этого Берлина! Город носит печать простоты, но простоты безобразной, неуклюжей. Все эти бесчисленные памятники, загромождающие улицы, мосты и сады скверно расположены и имеют какой-то глупый вид. Берлин похож на картинку в часах, где в известные моменты военные выходят из казармы, лодочники гребут, дамы в шляпках проходят, держа за руку безобразных детей.
Накануне момента, когда я приеду в Россию и останусь совсем одна, без мамы, без тети, я падаю духом и боюсь. Беспокойство, которое я причиняю тете, огорчает меня.
Все это дело, неизвестность исхода, все это… и потом, и потом, – я не знаю, право, но я боюсь, что ничего не изменю.
Мысль – начать по возвращении тот же самый образ жизни, и теперь уже без надежды на перемену, на эту «Россию», которая утешала меня во всем и подкрепляла мои силы… Боже мой! Сжалься надо мной, ты видишь состояние моей души, будь ко мне милостив.
Через два часа мы выезжаем из Берлина; завтра я буду в России. И нет же, нет, я не падаю духом, я сильна.
Только… Если я еду напрасно! Вот что ужасно. Но не следует отчаиваться заранее.
О! Если бы только кто-нибудь знал, что я испытываю!
31 июля
Вчера мы все – тетя, я, Шоколад и Амалия – прибыли на станцию в десять часов.
Я была довольно утомлена, но при виде купе, большого и удобного, как маленькая комнатка, совсем ободрилась, тем более что вагон был освещен газом, и мы могли быть уверены, что останемся одни. Мне очень хотелось накануне предстоящей разлуки поговорить с тетей; но я не бываю разговорчива, когда во мне преобладает какое-нибудь глубокое чувство, а тетя молчала, боясь огорчить или раздражить меня, если станет говорить со мной. Таким образом, волей-неволей, я погрузилась в «Светский брак» Октава Фелье. Вот благотворное чтение! Оно внушило мне самое глубокое отвращение ко всем этим гадостям… На этих рассуждениях я заснула, чтобы проснуться за три часа до границы, в Эйдкунене, куда мы приехали около четырех часов.
Местность здесь низменная, деревья густы и зелены, но листья, несмотря на свою свежесть и яркость, производят грустное впечатление после крупной и роскошной зелени юга.
Мы отправились в гостиницу, которая называется «Hotel de Russie», и поместились в двух маленьких комнатках с выбеленными известью потолками, с деревянными полами и с простой, светлой деревянной мебелью.
Благодаря моему дорожному несессеру я тотчас же устроила себе ванну и туалет и, поев яиц и напившись молока, поданного толстой и свежей немкой, я принимаюсь писать.
Я нахожу, что сама я имею известную прелесть в этой бедной маленькой комнатке – в моем белом пеньюаре, с моими красивыми, обнаженными руками, с моими золотистыми волосами.
Я только что посмотрела в окно. Бесконечность утомляет взор. Это полное отсутствие холмов, эта равнина представляется мне вершиной горы, которая возвышается над всею вселенной.
Шоколад очень тщеславный мальчик.
– Ты мой курьер, – сказала я ему, – ты должен говорить на нескольких языках.
Мальчик отвечал, что говорит по-французски, по-итальянски, по-ниццарски, немного по-русски и что он будет говорить по-немецки, если я соглашусь научить его.
Он пришел весь в слезах, сопровождаемый смехом Амалии, и стал жаловаться на то, что хозяин указал ему постель в той комнате, где уже поместился какой-то торгаш.
Я приняла серьезную мину и сделала вид, будто нахожу вполне естественным, что его поместили вместе с торгашом. Шоколад так плакал, что я начала смеяться и, чтобы его утешить, велела ему прочесть несколько страничек всемирной истории, купленной специально для него.
Этот негритенок забавляет меня – это живая игрушка: я даю ему уроки, учу его прислуживать, выслушиваю его капризы – словом, это моя собачка и моя кукла.
Мне положительно нравится жизнь в Эйдкунене; я занимаюсь воспитанием молодого Шоколада, который делает огромные успехи в нравственности и философии.
Сегодня вечером он отвечал мне Священную историю; дойдя до того места, где рассказывается о предательстве Иуды, он в трогательных словах передал мне рассказ о том, что Иуда продал Спасителя за тридцать сребреников и выдал его страже поцелуем.
– Шоколад, друг мой, – сказала я, – согласился ли бы ты продать меня врагам за тридцать франков?
– Нет, – отвечал он, опуская голову.
– А за шестьдесят?
– Также нет.
– А за сто двадцать?
– Тоже нет.
– Ну, а за тысячу франков? – продолжала я допрашивать.
– Нет, нет, – отвечал Шоколад, теребя край стола своими обезьяньими пальцами, не поднимая глаз и шевеля ногами.
– Ну, Шоколад, а если бы тебе дали десять тысяч? – ласково настаивала я.
– Тоже нет.
– Славный мальчик! Но если бы тебе предложили сто тысяч франков? – спросила я для успокоения совести.
– Нет, – сказал Шоколад, и голос его перешел в шепот, – я взял бы больше…
– Что?!.
– Я взял бы больше.
– Ну, милый человек, скажи, сколько же, говори же! Два, три, четыре миллиона?
– Пять или шесть.
– Несчастный, – вскричала я, – разве не все равно продать за тридцать франков или за шесть миллионов?
– О, нет! Когда у меня будет столько денег… Другие ничего не посмеют мне сделать.
И, вопреки всякой нравственности, я упала на диван, разражаясь смехом, а Шоколад, довольный произведенным впечатлением, удалился в другую комнату.
Но знаете ли вы, кто приготовил мне обед? Амалия. Она зажарила двух цыплят, а то я просто умирала с голоду; что же касается жажды – нам подали бутылку невозможного шато-лароза.
Нет, право, странно: это Эйдкунен! Увидим, что-то будет в России.
1 августа
Я хотела бы опять приняться за рыцарский роман; тот, который я начала, брошен на дно белой шкатулки.
Мы с тетей все еще в гостинице Эйдкунена и ждем приезда моего многоуважаемого дядюшки.
Мне надоело сидеть взаперти, и около половины девятого я сама пошла на станцию к поезду, а так как мне сказали, что мои часы идут на несколько минут вперед, то я отправилась погулять с Амалией.
В Эйдкунене есть хорошенькая аллея, хорошо вымощенная и тенистая, с маленькими домиками по сторонам; тут есть даже два кафе и нечто вроде ресторана. Свисток поезда раздался во время моей прогулки, и, несмотря на мои маленькие ноги и большие каблуки, я пустилась бежать через огороды, через кучи камней, через рельсы, чтобы только поспеть к поезду и – напрасно!..
Что же это думает мой прекрасный дядюшка?
2 августа
В ожидании других огорчений у меня начинают падать волосы. Кто этого не испытал, тот не может понять, какое это для меня горе!
Дядя Степан телеграфирует из Конотопа, что выезжает только сегодня. Еще сутки в Эйдкунене – как вам это нравится? Серое небо, холодный ветер, несколько бедных евреев на улице, стук телеги от времени до времени и всевозможные невыносимые беспокойства!
Сегодня вечером тетя заговорила со мной о Риме… Давно уже я не плакала – не от любви, нет! Но от унижения при воспоминании о нашей жизни в Ницце, которую я оплакивала еще сегодня вечером!
4 августа
Вчера в три часа я пошла к поезду, и, к счастью, дядя был там. Но он мог остаться только на четверть часа: на русской границе, в Вержболове, он с трудом добился позволения приехать сюда без паспорта и должен был дать честное слово одному из таможенных чиновников, что вернется со следующим же поездом.
Шоколад побежал за тетей, когда оставалось всего несколько минут. Когда она приехала, они успели только перекинуться двумя словами. Тетя, в своем беспокойстве за меня, придя в гостиницу, вообразила, что у дяди был какой-то странный вид, и своими полунамеками довела меня до того, что я начала беспокоиться. Наконец в полночь я вошла в вагон; тетя плакала; я делала над собой усилие, стараясь не опускать глаз и не двигать ими, чтобы сдержать слезы. Кондуктор подал знак, и в первый раз в жизни я осталась одна!
Я начала громко плакать; но не думайте, что я не извлекла из этого выгоды!.. Я изучала по опыту, как люди плачут.
Ну, довольно же, дитя мое, сказала я сама себе и встала. Я была уже в России. Меня приняли в свои объятия дядя, два жандарма и два таможенных чиновника. Со мною обошлись как с принцессой, даже не осмотрели моих вещей. Здесь большая станция, чиновники изящны и замечательно вежливы. Мне казалось, что я нахожусь в идеальной стране – так все хорошо. Здесь простой жандарм лучше офицера во Франции.
Мне дали отдельное купе, и, поговорив с дядей о делах и о прочем, я заснула, продолжая сердиться на себя за мою депешу к А.
На станциях в буфете очень чисто, так что я выходила часто.
Мои соотечественники не возбуждают во мне никакого особенного волнения или того восторга, какой я испытываю, когда снова вижу знакомые места, но я чувствую к ним симпатию, и мне приятно быть с ними.
И потом, все так хорошо устроено, все так вежливы, в самой манере каждого русского держать себя столько сердечности, доброты, искренности, что сердце радуется.
Дядя явился сегодня будить меня в десять часов.
Здесь топят локомотивы дровами, что избавляет от ужасающей угольной пыли. Я проснулась совсем чистая и весь день то болтала, то спала, то смотрела в окно на нашу прекрасную русскую равнину, напоминающую окрестности Рима.
В половине десятого было еще светло. Мы проехали Гатчину, древнюю резиденцию Павла I; вот мы наконец в Царском Селе и через двадцать пять минут будем в Петербурге.
Я остановилась в отеле «Демут», в сопровождении дяди, горничной, негра и многочисленного багажа – и с 50 рублями в кармане. Что вы на это скажете?
Пока я ужинала в довольно просторной гостиной, без ковра и без живописи на потолке, вошел дядя.
– Знаете ли, кто здесь у меня? – спросил он.
– Нет, а кто?
– Угадайте, принцесса.
– Я не знаю!
– П. И. Можно позвать его сюда?
– Да, пусть войдет.
И. в Петербурге вместе с Виленским генерал-губернатором Альбединским. Он получил мою депешу из Эйдкунена в минуту отъезда; служба не позволяла ему отлучиться, и он поручил графу Муравьеву выйти ко мне навстречу. Но граф был потревожен напрасно; мы проезжали Вильну в три часа ночи, и я спала, как праведница.
Кто станет отрицать мою доброту после того, как я скажу, что я была весела сегодня вечером, чувствовала, что И. рад меня видеть? А может быть, это эгоизм?
Я радовалась только удовольствию, которое доставляла другому. Вот и кавалер, который будет служить мне в Петербурге, ведь я в Петербурге!
Я в Петербурге, но не видела еще ничего, кроме дрожек, экипажа в одно место, с восемью рессорами (как в больших экипажах Биндера) и в одну лошадь; заметила я Казанский собор с его колоннадой, сделанной по образцу колоннады римского собора Св. Петра.
Со всех сторон слышатся восхваления принцессы Маргариты, ее простоты и доброты. Никто не ценит простоты в обыкновенных женщинах – не принцессах; будьте просты и добры, и любезны – и низшие будут позволять себе вольности, между тем как равные скажут: «Славная дамочка» – и во всех отношениях будут отдавать предпочтение женщинам, в которых нет ни простоты, ни доброты.
О! Если бы я была королевой! Передо мной преклонялись бы, я бы была популярной!
Итальянская принцесса, ее муж и свита еще в России; в настоящее время они в Киеве, в «матери русских городов», как назвал его Владимир Св., приняв христианство и окрестив половину Руси в Днепре.
Киев богаче всех городов в мире церквами, монастырями, монахами и мощами; что же касается драгоценных камней, находящихся в этих монастырях, то количество их баснословно: ими наполнены целые погреба, точно в сказках «Тысячи и одной ночи». Я была в Киеве лет восемь тому назад и еще помню подземные ходы, которые проходят под всеми улицами и соединяют между собою монастыри, представляя таким образом коридор, тянущийся на много верст и уставленный по обе стороны гробницами святых.
6 августа
Вместо того чтобы идти в церковь, я проспала, и Нина увезла меня к себе завтракать. Попугай ее говорил, дочери ее кричали. Я пела, и мы воображали, что мы в Ницце. Двуместная карета – в проливной дождь – повезла трех граций осматривать Исаакиевский собор, известный своими колоннами из малахита и из ляпис-лазури. Эти колонны необычайно роскошны, но безвкусны, так как зеленый цвет малахита и голубой цвет ляпис-лазури уничтожают эффект друг друга. Мозаики и картины идеальны – настоящие лица святых, Богоматери, ангелов. Вся церковь мраморная; четыре фасада с гранитными колоннами красивы, но не гармонируют с византийским позолоченным куполом. Внешний вид вообще оставляет неприятное впечатление, так как купол слишком велик, и перед ним исчезают четыре маленькие купола над фасадами, которые без этого были бы так красивы.
Обилие золота и украшений внутри собора эффектно, самая пестрота гармонична, с большим вкусом, кроме двух колонн из ляпис-лазури, которые были бы прелестны в другом месте.
В это время происходила свадьба; жених и невеста, из простого народа, были некрасивы, и мы смотрели недолго. Я люблю русский народ – добрый, честный, прямой, наивный. Мужчины и женщины останавливаются перед каждой церковью, перед каждой часовней или иконой и крестятся на улице.
Из Исаакиевского собора мы отправились в Казанский. И тут – свадьба и прелестная невеста. Этот собор – подражание Петропавловскому собору в Риме, но колоннада кажется излишней, точно не принадлежащей к зданию; она недостаточно длинна, так что не образует полного полукруга, а это невыгодно для целого и придает ему незаконченный вид.
Далее, на Невском, памятник Екатерине Великой. А перед Сенатом, недалеко от Зимнего дворца, – конная статуя Петра Великого, одной рукой указывающая на Сенат, а другою – на Неву.
Я обедала одна с моими грациями; дядя Степан и Поль были зрителями, они серьезно называют себя моей свитой и сердят меня ужасно. Я хотела бы видеть только Жиро и Мари.
Идет дождь, и у меня насморк. Я пишу маме: «Петербург – гадость! Мостовые – невозможные для столицы, трясет на них нестерпимо; Большой театр – казармы; соборы роскошны, но нескладны и плохо передают мысль художника».
Прибавьте к этому климат – и вы поймете всю прелесть.
Я попробовала воодушевиться, глядя на портрет Пьетро А., но он кажется мне недостаточно красивым для того, чтобы я могла забыть, что он низкий человек, тварь, которую можно только презирать.
Я больше не сержусь на него, потому что вполне его презираю, и не за личное оскорбление, а за его жизнь, за его слабость… Постойте, я дам определение тому чувству, которое только что назвала. Слабость, влекущая за собой добро, нежные чувства, прощение обид, может называться этим именем; но слабость, которая ведет к злу и низости, называется подлостью!
Я думала, что буду живее чувствовать отсутствие своих; я недовольна, но это происходит скорее от присутствия людей неприятных и пошлых, чем от отсутствия тех, кого я люблю.
7 августа
«Оригинальны у нас только Средние века», – сказала я в последней тетради моего дневника.
У кого – у нас? У христиан. Действительно ли мир возродился или же, хотя и с другим оттенком, со времени Сотворения мира все продолжает течь та же самая жизнь, не переставая стремиться к усовершенствованию?
Жизни народов похожи на реки, которые тихо текут то по скалам, то по песку, то между двумя горами, то под землею, то через океан, с которым они смешиваются, пересекая его, но из которого они снова вытекают самими собой, переменяя название и даже направление, – и все это для того только, чтобы следовать одному направлению – тому, которое предназначено и неизвестно…
Я заходила на почту и получила мои фотографии и депешу от отца: он телеграфирует в Берлин, что мой приезд будет для него «настоящим счастьем».
Застав Жиро уже в постели, я осталась у нее на некоторое время; мы заговорили о Риме, и я рассказала, увлеченно и жестикулируя, мои похождения в этом городе. Я останавливалась только тогда, когда смеялась, а Жиро и Мари катались от смеху в своих постелях. Несравненное трио! Я могу так смеяться только с моими грациями.
И по внезапной, если и не естественной, реакции я впала по возвращении в меланхолию. Вернулась я в полночь, с дядей и с Ниной.
Петербург выигрывает ночью. Не могу себе представить ничего великолепнее Невы, с цепью фонарей по набережным, составляющей контраст с луной и темно-синим, почти серым небом. Недостатки домов, мостовых, мостов ночью скрадываются в приятных тенях. Ширина набережных выступает во всей красоте. Шпиль Адмиралтейства теряется в небе, и в голубом тумане, окаймленном светом, виднеются купол и изящные формы Исаакиевского собора, который кажется какой-то тенью, спустившейся с неба.
Мне хотелось бы быть здесь зимой.
9 августа
У меня нет ни копейки денег. Приятное положение! Дядя Степан – отличный человек, но он всегда оскорбляет мои задушевные чувства. Сегодня утром я рассердилась, но полчаса спустя уже смеялась, точно ничего и не случилось.
Здесь был доктор N., и я хотела попросить у него средства против моей простуды, но у меня не было денег, а этот господин ничего не сделает даром. Очень щекотливое положение, уверяю вас. Но я не пла́чу заранее; неприятность уже достаточно несносна тогда, когда она разыгрывается, чтобы нужно было заранее плакать.
В четыре часа Нина с тремя грациями поехала в коляске на Петергофскую станцию. Мы трое были в белом, в длинных cache-poussiere.
Поезд готовился отходить, мы сели без билетов, но нас сопровождали гвардейские офицеры, которых, без сомнения, пленило мое белое перо и красные каблуки моих граций. Вот мы и приехали; я и Жиро, как благородные военные лошади, заслышав музыку, настораживаем уши, с блестящими глазами и в радостном настроении.
Вернувшись, я застала ужин, дядю Степана и деньги, которые прислал мне дядя Александр. Я поужинала, отослала дядю и спрятала деньги.
И, странное дело, я почувствовала большую пустоту, грусть; я взглянула в зеркало – у меня были такие же глаза, как в последний вечер в Риме. Воспоминание наполнило и голову и сердце.
В тот вечер он просил меня остаться еще на один день. Я закрыла глаза и мысленно перенеслась туда.
«Я останусь, – шептала я, точно он был здесь, – я останусь для моей любви, для моего жениха, для моего дорогого! Я тебя люблю, я хочу тебя любить; ты этого не заслуживаешь – все равно, мне нравится тебя любить…»
И, пройдясь по комнате, я начала плакать перед зеркалом; слезы в небольшом количестве идут ко мне.
Раздражившись по капризу, я успокоилась от усталости и села писать, тихонько смеясь над собою.
Часто я таким образом выдумываю себе героя, роман, драму и плачу над вымыслом, как над действительностью.
Я в восхищении от Петербурга, но здесь нельзя спать: теперь уже светло – так коротки ночи.
10 августа
Сегодня знаменательный вечер. Я окончательно перестаю смотреть на герцога Г. как на любимый образ. Я видела у Бергамаско портрет великого князя Владимира и не могла оторваться от этого портрета: нельзя представить себе более совершенной и приятной красоты. Жиро восхищалась вместе со мной, и мы дошли до того, что поцеловали портрет в губы. Знакомо ли вам наслаждение, которое ощущаешь, целуя портрет?
Мы поступили как истые институтки: у них мода обожать государя и великих князей; да, право, они так безупречно красивы, что в этом нет ничего удивительного. Но этот поцелуй привел меня в какую-то необъяснимую меланхолию, заставившую промечтать целый час. Я обожала герцога, когда могла бы обожать одного из русских великих князей; это глупо, но такие вещи не делаются по заказу, и я вначале смотрела на Г. как на равного мне, как на человека, предназначенного для меня. Я его забыла. Кто будет моим идолом? Никто. Я буду искать славы и человека.
Избыток чувства выльется, как он вылился случайно, на дорогу, в пыль, но сердце не опустеет; оно будет постоянно наполняться обильными источниками, которые не иссякнут никогда в его глубине.
Где вы вычитали это, сударыня? – спросят меня. В моем уме, назойливые читатели.
И вот я свободна, я никого не люблю, но я ищу того, кого буду боготворить, я хотела бы, чтобы это было поскорее: жизнь без любви то же, что бутылка без вина. Но нужно, чтобы и вино было хорошее.
Воображение мое воспламенено; буду ли я счастливее, чем тот грязный сумасшедший, которого звали Диогеном?
12 августа
Все было готово, И. простился со мной, С-вы проводили меня на станцию, как вдруг… О, досада! У нас не хватило денег – мы неверно рассчитали. Я принуждена была ждать у Нины до 7 часов вечера, пока дядя искал для меня денег в городе.
В семь часов я уехала, достаточно униженная этим происшествием, но в минуту отъезда я была приятно поражена появлением двенадцати гвардейских офицеров и шести солдат в белом со знаменами. Эта блестящая молодежь только что проводила двух офицеров, которые, с разрешения правительства, отправляются в Сербию. Сербия вызывает настоящую эмиграцию; так как государь не хочет объявлять войны, вся Россия подписывается и поднимается в защиту сербов. Только о них и говорят, и все восхищаются геройской смертью одного полковника и двух офицеров из русских.
Можно чувствовать только сострадание к нашим братьям, которых мы давали душить и резать на куски этим ужасным дикарям туркам, этой нации без гения, без цивилизации, без нравственности, без славы.
И я даже не могу подписаться!
За час до приезда я отложила в сторону книгу, чтобы видеть Москву, нашу настоящую столицу, истинно русский город. Петербург – копия с немцев, но – лучше немцев, так как сделана русскими. А здесь все русское – архитектура, вагоны, дома, мужик, наблюдающий на краю дороги за поездом, деревянный мостик, переброшенный через что-то вроде реки, грязь на дороге – все это русское, сердечное, прямое, простодушное.
Церкви с их куполами, напоминающими и формою и цветом опрокинутые зеленые смоквы, производят приятное впечатление при приближении к городу.
Артельщик, пришедший взять наши вещи, снял фуражку и поклонился нам как друзьям, с широкой улыбкой, полной уважения.
Здесь люди далеки от французского нахальства и от немецкой положительности – и глупой, и тяжеловесной.
Я не переставала смотреть в окно экипажа, в котором мы поехали в гостиницу. Было свежо, но не той сырой и нездоровой свежестью, как в Петербурге. Москва – самый обширный город во всей Европе по занимаемому им пространству; это старинный город, вымощенный большими неправильными камнями, с неправильными улицами: то поднимаешься, то спускаешься, на каждом шагу повороты, а по бокам – высокие, хотя и одноэтажные, дома с широкими окнами. Избыток пространства здесь такая обыкновенная вещь, что на нее не обращают внимания и не знают, что такое нагромождение одного этажа на другой.
«Славянский базар» – гостиница, как «Grand Hotel» в Париже; здесь есть даже большой ресторан. «Славянский базар» хотя и не так роскошен, как «Grand Hotel», но несравненно чище и дешевле, особенно по сравнению с отелем Демут.
Дворники – в черных жилетках, шароварах, в высоких сапогах и фуражках.
Попадается много национальных костюмов – весь народ носит их, и не видно этих противных немецких курток; немецкие вывески здесь реже, хотя все-таки встречаются, к сожалению.
Извозчики с такой готовностью предлагают свои услуги, что, отдавая предпочтение одному, боишься нанести смертельную обиду другому. Наконец мы уселись в какой-то узкий фаэтон, и началась скачка с препятствиями. Мы неслись с быстротой ветра по камням мостовой, по рельсам, среди экипажей и прохожих, несмотря на тряску и опасение ежеминутно вылететь из коляски. Дядя вскрикивал от беспокойства, а я смеялась над ним, над собой, над нашей дикой скачкой, над ветром, который растрепал мои волосы и от которого разгорелись мои щеки, – смеялась над всем, и перед каждой церковью, каждой часовней или иконой набожно крестилась, в подражание встречным. Неприятно поразили меня только босоногие женщины.
Я была в Пассаже Солодовникова и шла с поднятой головой, опущенными руками и улыбающимся лицом, как у себя дома. Я уеду завтра – я ничего не могу купить: денег хватит только на то, чтобы доехать к дяде Степану.
Триумфальная арка Екатерины II красного цвета с зелеными колоннами и желтыми украшениями. Несмотря на яркость красок, вы не поверите, как это красиво; притом же это подходит к крышам домов и церквей, крытых листовым железом зеленого или красного цвета. Само простодушие внешних украшений заставляет чувствовать доброту и простоту русского народа. А нигилисты стараются совратить его, как Фауст Маргариту. Пропаганда делает свое дело, и день, когда восстанет этот добрый народ, возмущенный и обманутый, будет ужасен: если в мирное и спокойное время он кроток и прост, как ягненок, то, восстав, он был бы свиреп до ярости, жесток до исступления.
Но любовь к Государю еще сильна, слава Богу, так же, как уважение к религии. Есть что-то трогательное в благочестии и простодушии народа.
На площади Большого театра прогуливаются целые стаи серых голубей; они нисколько не боятся экипажей, которые проезжают почти рядом с ними, не пугая их. Знаете, русские не едят этих птиц, потому что Дух Святой являлся в виде голубя.
Я не пойду никуда сегодня. В Москве нельзя оставаться меньше недели. На обратном пути, когда у меня будут деньги, я осмотрю все исторические достопримечательности. Я видела только Кремль, и то мельком: в ту минуту, когда мне его показывали, все мое внимание было приковано к дрожкам, выкрашенным под малахит.
Между именами лиц, остановившихся в гостинице, я прочла имя княгини Суворовой и немедленно послала узнать Шоколада, может ли она принять меня; оказалось, что княгини нет дома до семи часов.
На обеденной карте напечатано отчаянное воззвание к русскому народу и духовенству от Славянского комитета в Москве; мне вручили это раздирающее душу воззвание сегодня утром, как только я приехала. Я сохраню его.
Господи! Как могла я поцеловать его! Я, первая! Безумное, презренное существо! Это заставляет меня плакать и дрожать от ярости. Turpis, execrabilis.
Он подумал, что для меня это обычное дело, что это случилось не в первый раз! Ватикан и Кремль! Я задыхаюсь от ярости и стыда.
Чашка бульона, горячий калач и свежая икра – таково ни с чем не сравнимое начало моего обеда. Чтобы иметь понятие о калаче, нужно поехать в Москву: московские калачи почти так же знамениты, как Кремль. Кроме того, мне подали телячью котлету громадных размеров, целого цыпленка, а блюдечко, наполненное икрой, представляло полпорции.
Дядя засмеялся и сказал человеку, что в Италии этого хватило бы на четверых. Человек, высокий и худой, как Джаннето Дория, и неподвижный, как англичанин, отвечал с невозмутимым спокойствием, что это потому, что итальянцы худы и малы ростом, а русские, прибавил он, очень любят плотно поесть и потому здоровы. Затем неподвижное существо улыбнулось и вышло из комнаты, как деревянная кукла.
Достоинство здешней пищи не только в количестве, но и в качестве. Хорошая пища вызывает хорошее настроение духа, а в хорошем настроении более наслаждаешься счастьем, более философски переносишь несчастье и чувствуешь расположение к ближним. Обжорство в женщине – уродство, но любить и уметь хорошо поесть так же важно, как иметь ум и хорошие платья, не говоря уже о том, что изысканная и простая пища поддерживает свежесть кожи и округлость форм. Доказательство – мое тело. Мари С-а права, говоря, что при таком теле нужно было бы гораздо более красивое лицо, а я далеко не безобразна. Воображая себе, какова я буду в двадцать лет, я только прищелкиваю языком!.. В тринадцать лет я была слишком толста, и мне давали шестнадцать. Теперь я тоненькая, хотя с вполне развившимися формами, замечательно стройная, пожалуй, даже слишком; я сравниваю себя со всеми статуями и не нахожу такой стройности и таких широких бедер, как у меня. Это недостаток? Плечи должны быть чуть-чуть круглее.
Русские и обе их столицы совершенно новы для меня. До отъезда за границу я знала только Малороссию и Крым. Изредка заходившие к нам странствующие торговцы из русских казались нам почти чужими, и все смеялись над их одеждой и языком.
Что бы я там ни говорила, но губы мои почернели со времени постыдного поцелуя.
Вы, мудрые люди и циничные женщины, я прощаю вам улыбку презрения над моей напускной скромностью!.. Но я уже, кажется, нисхожу до того, что допускаю мысль о недоверии к себе? Быть может, уж не прикажете ли мне побожиться?.. О нет, достаточно того, что я не скрываю мои мысли, когда ничто меня к тому не обязывает; но я и не считаю это достоинством; мой дневник – это моя жизнь, и среди всех удовольствий я думаю: «Как много мне придется рассказывать сегодня вечером»! Как будто это моя обязанность!
14 августа
Вчера в час мы уехали из Москвы; она была полна движения и убрана флагами по случаю приезда греческого и датского королей.
Всю дорогу дядя выводил меня из терпения.
Вообразите себе чтение о Клеопатре и Марке Антонии, ежеминутно прерываемое фразами, вроде следующих: не хочешь ли поесть? Не холодно ли тебе? Вот жареный цыпленок и огурцы. Не хочешь ли грушу? Не закрыть ли окно? Что ты будешь есть, когда мы приедем? Я телеграфировал, чтобы тебе приготовили ванну, наша царица; я выписал мраморную ванну, и весь дом приготовлен к твоему приезду.
Он несомненно добр, но бесспорно надоедлив.
За Амалией ухаживают, как за дамой, вполне приличные люди, а Шоколад изумляет меня своей независимостью и своей неблагодарной и лукавой кошачьей природой.
На станции Грусское нас встретили две коляски, шесть слуг-крестьян и мой милейший братец. Он большого роста, полон, но красив, как римская статуя; ноги у него сравнительно невелики. До Шпатовки мы едем полтора часа, и за это время я успеваю заметить массу всяческих несогласий и шпилек между моим отцом и Бабаниными; но я не опускаю головы и не выказываю моих ощущений брату, который, впрочем, очень рад меня видеть. Я не хочу принадлежать ни к той, ни к другой партии. Отец мне нужен.
– Грицко (малороссийское уменьшительное Григорий) две недели ждал тебя, – сказал мне Поль, – мы думали, что ты уже не приедешь.
– Он уже уехал?
– Нет, он остался в Полтаве и очень желает тебя видеть. «Ты понимаешь, – сказал он мне, – я знал ее совсем маленькой».
– Так он считает себя за мужчину, а меня за девочку?
– Да.
– И я также. Что он из себя представляет?
– Он всегда говорит по-французски, ездит в свет в Петербурге. Говорят, что он скуп, но он только благоразумен и comme il faut. Мы с ним хотели встретить тебя с оркестром в Полтаве; но папа сказал, что так можно встречать только королеву.
Я замечаю, что отец боится показаться хвастливым и тщеславным. Я скоро его успокою; я и сама обожаю все эти пустяки, которым он придает такое значение.
Проехав восемнадцать верст между обработанными полями, мы въехали в деревню, состоящую из низких и бедных хижин. Крестьяне, завидев издали коляску, снимают шапки. Эти добрые, терпеливые и почтительные лица умиляют меня; я улыбаюсь им, и они, удивленные этим, отвечают улыбками на мои приветливые поклоны.
Дом небольшой, одноэтажный, с большим, довольно запущенным садом. Деревенские бабы замечательно хорошо сложены, красивы и интересны в своих костюмах, которые обрисовывают формы тела и оставляют ноги незакрытыми до колен.
Тетя Мари встречает нас на крыльце. Я беру ванну, и мы садимся обедать. Происходит несколько стычек с Полем. Он старается меня уколоть, быть может, сам этого не замечая, но невольно подчиняясь толчку, данному отцом. Но я искусно обрываю его, и он является униженным, когда хотел унизить меня. Я читаю в его душе. Недоверие к моим успехам, шпильки по отношению к нашему положению в свете. Меня называют царицей; отец хочет развенчать меня, но я заставлю покориться его самого. Я знаю его: он – это я во многих отношениях.
15 августа
Дом светлый и веселый, как фонарь. Цветы благоухают, попугай болтает, канарейки поют, лакеи суетятся. Около 11 часов звон колокольчиков возвещает нам прибытие соседа. Это г-н Гамалей. Можно подумать англичанин? Ничуть не бывало: это старинная малороссийская фамилия. Его жена одна из здешних Броджер.
Так как мой багаж еще не привезен (мы вышли станцией раньше, чем следовало), я должна была выйти в белом пеньюаре. Какая огромная разница сравнительно с тем, чем я была год тому назад! Тогда я едва осмеливалась говорить, не знала, что сказать. Теперь я взрослая, как Маргарита. Этот господин завтракал с нами; но что сказать о нем и о тех, кого я вижу? Прекрасные люди, но за версту отдающие провинцией.
Перед обедом, который следует скоро за завтраком, еще посетитель – брат названного выше: молодой человек, много путешествовавший и очень предупредительный.
Неожиданно привезли мои восемь чемоданов, и я могла спеть два романса и играть на рояле. Наконец я занялась вышиванием, погрузившись в разговор о французской политике и выказывая познания выше моего… пола. Потом я пела до одиннадцати часов, утомляя свой бедный голос, едва оправившийся от скверного петербургского климата.
Второй, бородатый, Гамалей оставался до десяти часов.
В благословенной Шпатовке только и делают, что едят: поедят, потом погуляют полчаса, потом опять едят – и так весь день.
Я слегка опиралась на руку Поля, и мысли мои блуждали Бог знает где, как вдруг, когда мы проходили под ветвями, очень низко спускавшимися над нашими головами, образуя сплошной потолок из перемежающихся листьев, мне пришло в голову, что бы сказал А., если бы я проходила по этой аллее с ним под руку. Он сказал бы, слегка наклонившись ко мне, своим томным и вкрадчивым голосом, каким он говорил только со мной… он сказал бы мне: «Как здесь хорошо и как я вас люблю!»
Ничто не может сравниться с нежностью его голоса, когда он говорил, предназначая свои слова для меня одной. Эти движения кошки-тигра, эти жгучие глаза, этот упоительный голос, глухой и дрожащий, шепчущий слова любви, жалобный и умоляющий с такой покорностью, с такой нежностью, с такой страстью! Он говорил так только со мной.
Но такого рода нежность свойственна всем, а он казался проникнутым ее потому, что это его манера: есть люди, которые всегда точно спешат куда-то, другие как будто удивлены, третьи – огорчены, хотя этого и нет на самом деле.
Как бы мне хотелось узнать правду во всем этом! Я желала бы вернуться в Рим уже замужем, иначе это было бы унижением. Но я не хочу выходить замуж, я хочу быть свободной и учиться: я нашла свою дорогу.
К тому же, говоря откровенно, глупо выходить замуж для того, чтобы уколоть А.
Это не то, но я хочу жить, как все.
Я недовольна собой сегодня вечером и не знаю, за что именно.
16 августа
Съехалась толпа соседей и соседок – все сливки здешних благословенных мест. Одна из дам была в Риме, любит древности и имеет дочь, которая не произносит ни слова. Совершенно неожиданно явились три амура: судебный следователь, нотариус и секретарь. Дядя уже семь лет мировой судья и постоянно имеет дело с этими чиновниками.
Через два года он будет статским советником и сгорает нетерпением получить орден.
Я надела голубое шелковое платье и восхитительные башмачки.
Все эти господа не раздражали меня, как, бывало, запыленные жители Ниццы, а заставили меня только смеяться от чистого сердца, они не посмели даже приблизиться ко мне, и мы любовались друг другом на расстоянии.
20 августа
Я уехала вместе с Полем, который отлично служит мне. В Харькове пришлось ждать два часа. Там был дядя Александр. Несмотря на мои депеши, он был изумлен при виде меня. Он говорит мне о беспокойстве отца, о его опасениях, что я к нему не приеду. Отец постоянно присылал за депешами, которые я писала дяде, чтобы знать, где я.
Словом, величайшее желание видеть меня как можно скорее, если не из любви ко мне, то из самолюбия.
Дядя Александр бросил несколько камней в его огород, но моя политика – оставаться нейтральной. Он достал мне карету, или, вернее, представил мне жандармского полковника Мензенканова, который уступил мне свою.
Я хорошо себя чувствую на родине, где все знают меня или моих. Нет этой двусмысленности в положении: можно ходить и дышать свободно. Но я не желала бы жить здесь – о, нет, нет!
В шесть часов утра мы были в Полтаве. На станции – ни души. Приехав в гостиницу, я пишу следующее письмо (резкость часто удается):
«Приезжаю в Полтаву и не нахожу даже коляски. Приезжайте немедленно, я жду вас в 12 часов. Не могли даже встретить меня прилично. Мария Башкирцева».
Едва успела я отправить письмо, как в комнату вбежал отец. Я бросилась к нему в объятия с благородной сдержанностью. Он был, видимо, доволен моей внешностью, так как первым долгом с поспешностью рассмотрел мою наружность:
– Какая ты большая! Я и не ожидал! И хорошенькая; да, да, хорошо, очень хорошо, право.
– Так-то меня принимают, даже коляски не прислали! Получили вы мое письмо?
– Нет, я только что получил телеграмму и примчался. Я надеялся поспеть к поезду, я весь в пыли. Чтобы ехать скорее, я сел в тройку молодого Э.
– А я написала вам недурное письмо.
– Вроде последней депеши?
– Почти.
– Хорошо, да, очень хорошо.
– Уж я такая: мне нужно служить.
– Так же, как и я; но, видишь ли, я капризен, как черт.
– А я как два.
– Ты привыкла, чтобы за тобой бегали, как собачонки.
– За мною должны бегать, иначе ничего не добьешься.
– Нет, со мной так нельзя.
– Как вам угодно.
– Но зачем обращаться со мной как со стариком. Я еще живой, молодой человек!
– Прекрасно, и тем лучше.
– Я не один. Со мной князь Мишель Э. и Павел Г., твой кузен.
– Так позовите же их.
Э. – совершенный фат, страшно забавный и смешной, низко кланяющийся, в панталонах втрое шире обыкновенных и в воротничке, доходящем до ушей. Другого называют Пашей; фамилия его слишком замысловатая. Это сильный малый, с каштановыми волосами, хорошо выбритый, с русской фигурой – широкоплечий, искренний, серьезный, симпатичный, но мрачный или очень занятой, я еще не знаю.
Меня ждали с невыразимым любопытством. Отец в восторге. Его восхищает моя фигура: тщеславному человеку приятно показывать меня.
Мы были готовы ехать, но пришлось ждать прислугу и багаж, чтобы отправиться с полной торжественностью. Ехали карета, запряженная четверкой, коляска и тарантас молодого князя с бешеной тройкой.
Мой родитель смотрел на меня с удовольствием и употреблял всевозможные усилия, чтобы казаться спокойным и даже равнодушным. Желание не выражать своих чувств в его характере.
На половине дороги я пересела в тарантас, чтобы мчаться, как ветер. В 25 минут мы сделали 10 верст. За две версты от Гавронцев я опять села к отцу, чтобы доставить ему удовольствие торжественного въезда.
На крыльце встретила нас княгиня Э., мачеха Мишеля и сестра моего отца.
– Посмотрите-ка, – сказал отец, – какая она большая… и интересная, не правда ли? А?
Надо полагать, что он доволен мною, если решился на такое излияние при одной из своих сестер (но эта очень милая).
Управляющий и другие пришли поздравить меня с благополучным приездом.
Имение расположено живописно; холмы, река, деревья, прекрасный дом и несколько маленьких строений. Все здания и сад содержатся хорошо; дом к тому же был переделан и почти весь вновь меблирован нынешней зимой. Живут на широкую ногу, но стараются иметь вид простоты и как будто говорят: «Это так каждый день».
Разумеется, за завтраком шампанское. Претензия на аристократизм и простоту доходит до натянутости.
На стенах портреты предков – доказательства древности рода, которые мне очень приятны. Красивая бронза, севрский и саксонский фарфор, предметы искусства. По правде сказать, я не ожидала всего этого.
Отец мой прикидывается несчастным, покинутым женой, тогда как сам он желал быть образцовым супругом.
Большой портрет maman, сделанный в ее отсутствие, является выражением сожаления о потерянном счастье и ненависти к моему деду и бабушке, которые разбили это счастье… Мне усиленно желают показать, что мой приезд ничего не меняет в привычках.
Сели играть в карты; я принялась работать по канве и иногда говорила что-нибудь, что слушалось с любопытством.
Папа встал из-за карт и подсел ко мне, отдав карты Паше. Я говорила с ним, продолжая вышивать, и он слушал меня с большим вниманием.
Потом он предложил прогулку; сначала я шла под руку с ним, потом с братом и с молодым князем. Мы зашли к моей кормилице, которая сделала вид, будто утирает слезу; она кормила меня только три месяца, а настоящая моя кормилица в Черняковке.
Меня повели довольно далеко.
– Это для того, чтобы возбудить в тебе аппетит.
Я жаловалась на усталость и уверяла, что боюсь травы, где есть змеи и другие «дикие животные».
Отец и дочь – оба сдержанны. Если бы не было княгини, Мишеля и Паши, было бы гораздо лучше.
Он усадил меня рядом с собой, чтобы видеть гимнастические штуки Мишеля, который изучал гимнастику в цирке; он следовал за ним даже на Кавказ из любви к молодой наезднице.
Как только я пришла к себе, я вспомнила фразу отца, сказанную случайно или нарочно, и, преувеличивая ее значение в моем воображении, я села в угол и долго плакала, не двигаясь и не моргая глазами, но упорно рассматривая цветок на обоях. Я была поражена, встревожена, и отчаяние мое доходило до равнодушия.
Вот в чем дело. Говорили об А. и спрашивали меня о нем. Против обыкновения, я отвечала сдержанно и не распространялась о моих победах, предоставляя предполагать или отгадывать, и отец заметил с большим равнодушием:
– Я слышал, что А. женился три месяца тому назад.
Придя к себе, я не рассуждала – я вспомнила эти слова, легла и лежала, ничего не понимая и чувствуя себя несчастной.
Я взглянула на его письмо: «Мне необходимы слова утешения от вас», – эти слова взволновали меня, и я чуть было не начала обвинять себя.
И потом… О, какой ужас думать, что любишь, и не любить! Я не могу любить такого человека – существо почти невежественное, слабое, зависимое. И у меня нет любви, мне это только причиняет неприятности.
У меня зеленая спальня и голубая гостиная. Не странно ли это, когда представить себе мои странствования с этой зимы! А с тех пор, как я в России, сколько раз менялись мои проводники, мои помещения! Перемена мест, родных, знакомых не вызывает во мне никакого удивления, как это было прежде. Все эти равнодушные или покровительствующие люди, все эти предметы роскоши или пользы смешиваются, а я остаюсь хладнокровной и спокойной.
22 августа
Здешняя жизнь далека от искреннего гостеприимства дяди Степана и тети Марьи, которые уступили мне свою комнату и служили мне, как негры.
Да это и совсем иное дело. Там я была у друзей, у себя; сюда же я приезжаю, минуя установившиеся отношения и попирая моими маленькими ножками сотни ссор и миллионы неприятностей.
Отец – человек сухой, с детства поломанный страшным генералом, отцом своим. Едва сделавшись свободным и богатым, он набросился на все и вполовину разорился.
Полный тщеславия и гордости, он предпочитал казаться чудовищем, чем показать то, что он чувствует, особенно если что-нибудь его трогает, – и в этом отношении я на него похожа.
Слепой бы увидел, как он счастлив, что я здесь, и он даже немного показывает это, когда мы остаемся одни.
В два часа мы поехали в Полтаву. Сегодня утром у нас уже была стычка по поводу Бабаниных, а в коляске отец позволил себе бранить их, вспоминая свое утраченное счастье и обвиняя во всем бабушку. Кровь бросилась мне в лицо, и я резко просила его оставить мертвых в покое.
– Оставить мертвых! – вскричал он. – Но если бы я мог взять прах этой женщины и…
– Замолчите! Вы дерзки и неблаговоспитанны.
– Шоколад может быть дерзким, а не я.
– Вы также, милый папа, и все те, кому недостает деликатности и воспитания. Если я настолько деликатна, что молчу, странно, что другие жалуются. Вам нет дела до Бабаниных, вы имеете дело с вашей женой и детьми, а о других не говорите, как я не говорю о ваших родных. Оцените мое умение держать себя и берите с меня пример.
Говоря таким образом, я была очень довольна собой.
– Как ты можешь говорить мне такие вещи?
– Я говорю и повторяю: я жалею, что я здесь.
Я сидела спиной к нему; слезы и рыдания душили меня.
Отец смутился, сконфузился, начал смеяться и попытался меня поцеловать и обнять:
– Ну, Мари, помиримся, мы никогда не будем говорить об этом, я не буду говорить об этом с тобой, даю тебе честное слово.
Я приняла обычное положение и не выражала ни прощения, ни расположения, и потому папа удвоил свою любезность:
«Дитя мое, мой ангел, – я обращаюсь к самой себе, – ты ангел, положительно ангел!! Если бы ты всегда так умела держать себя! Но ты еще не могла и только теперь начинаешь прилагать к практике свои теории!»
В Полтаве отец мой – царь, но какое плачевное царство!
Отец очень гордится своей парой буланых лошадей; когда нам подали их, запряженных в городскую коляску, я едва вымолвила: «Очень мило».
Мы проехались по улицам… безлюдным, как в Помпее.
Как эти люди могут так жить?.. Но я здесь не для того, чтобы изучать нравы города, а потому – мимо…
– Если бы ты приехала немного раньше, – сказал отец, – то застала бы много народа; можно было бы устроить бал или что-нибудь. Теперь, после ярмарки, не встретишь и собаки.
Мы зашли в магазин заказать полотно для картины; в этом магазине собираются все полтавские франты, но мы не встретили там никого.
В городском саду – то же самое.
Отец неизвестно почему никого мне не представляет; может быть, он боится слишком сильной критики?
Во время обеда приехал М.
Шесть лет тому назад, в Одессе, maman часто виделась с m-me М., и сын ее, Гриц, каждый день приходил играть с Полем и со мной, ухаживал за мной, приносил мне конфеты, цветы, фрукты. Над нами смеялись, и Гриц говорил, что он не женится ни на ком, кроме меня; на это один господин всякий раз отвечал: «О, о! Какой мальчик! Он хочет, чтобы у него была жена министр!» М. провожала нас на пароход, который должен был отвезти нас в Вену. Я была большая кокетка, хотя еще ребенок, я позабыла свой гребень, и Гриц дал мне свой, а в минуту расставания мы поцеловались с разрешения родителей. Далеки эти счастливые дни детства!
– Знаете, прелестная кузина, Гриц глуповат и глуховат, – сказал Мишель Э., пока М. поднимался по лестнице ресторана.
– Я его знаю хорошо, он не глупее нас с вами, а глух он немного после болезни и особенно потому, что кладет ваты в уши, боясь простудиться.
Несколько человек вошли и пожимали руку отцу, сгорая нетерпением быть представленными дочери, приехавшей из-за границы, но отец не исполнил их желания, сделав презрительную гримасу. Я боялась, что и с Грицем будет то же самое.
– Мари, позволь представить тебе Григория Львовича М., – сказал он мне.
– Мы уже давно знакомы, – отвечала я, грациозно протягивая руку другу моего детства.
Он совсем не переменился: тот же прекрасный цвет лица, тот же тусклый взгляд, тот же маленький, слегка презрительный рот, крошечные усики. Отлично одет и прекрасные манеры.
Мы смотрели друг на друга с любопытством, причем Мишель саркастически улыбался. Папа подмигивал, как всегда.
Я совсем не была голодна. Пора было ехать в театр, который находился в саду, как и ресторан.
Я предложила сначала погулять. Примерный отец бросился между мной и Грицем, и, когда пора было идти в театр, он с живостью предложил мне руку. Вот настоящий отец – честное слово, как в книжках.
У нас огромная ложа первого яруса, обтянутая красным сукном, против губернаторской.
Князь привез букет – он целый день делает мне признания и получает в ответ: «Уйдите, пожалуйста!» или «Вы олицетворение фатовства, кузен!»
Народу немного, и пьеса незначительная. Но в нашей ложе было много интересного.
Паша странный человек. Искренний и откровенный до ребячества, он все принимает за чистую монету и говорит все, что думает, с такой простотой, что я готова подозревать, что под этим добродушием скрывается дух сарказма.
Иногда он молчит десять минут, и если заговорить с ним, он как будто пробуждается от сна. Если улыбнуться на его комплимент и сказать: «Как вы любезны!», он обижается и уходит, бормоча: «Я совсем не любезен, я говорю это потому, что думаю».
Я села впереди, чтобы польстить самолюбию отца.
– Вот, – говорил он, – вот я теперь в роли отца. Это даже забавно. Ведь я еще молодой человек!
– А, папа, так вот ваша слабость! Хотите быть моим старшим братом, и я буду называть вас Константином? Хорошо?
– Отлично!
Нам очень хотелось поговорить наедине с М., но Поль, Э. или папа мешали нам. Наконец я села в угол, составляющий отдельную маленькую ложу, обращенную на сцену, откуда видны приготовления актеров. Мишель, конечно, последовал за мной, но я послала его за стаканом воды, и Гриц сел рядом со мной.
– Я с нетерпением ждал вас, – сказал он, рассматривая меня с любопытством. – Вы совсем не переменились.
– О! Это меня огорчает, я была некрасива в десять лет.
– Нет, не то, но вы все та же.
– Гм…
– Я вижу, что означал этот стакан воды, – сказал князь, подавая мне стакан, – я вижу!
– Смотрите, вы прольете мне на платье, если будете так наклоняться.
– Вы не добры, вы моя кузина, и говорите все с ним.
– Он мне друг детства, а вы для меня только мимолетный франт. Мы принялись вспоминать всякие мелочи.
– Мы были оба детьми, и как все это остается в памяти, когда были детьми… Вместе, не правда ли?
– Да.
М. умом старик. Как странно слышать, когда этот свежий, розовый молодой человек говорит о предметах серьезных и полезных! Он спросил, хорошая ли у меня горничная, потом заметил:
– Это хорошо, что вы много учились: когда у вас будут дети…
– Вот идея!
– Что же, разве я не прав?
– Да, вы правы.
– Вот твой дядя Александр, – сказал мне отец.
– Где?
– Вон, напротив.
Он в самом деле был тут, с женой. Дядя Александр пришел к нам, но в следующий антракт отец отослал его к тете Наде. Эта милая женщина рада мне, я радуюсь также.
В один из антрактов я пошла в сад с Полем; отец побежал за мной и повел меня под руку.
– Видишь, – сказал он мне, – как я любезен с твоими родственниками. Это доказывает мое умение жить.
– Прекрасно, папа, кто хочет быть со мной в хороших отношениях, должен исполнять мои желания и служить мне.
– Ну, нет!
– Да! Как вам угодно! Но признайтесь, что вам приятно иметь такую дочь, как я: хорошенькую, хорошо сложенную, хорошо одевающуюся, умную, образованную… Признайтесь.
– Признаюсь, это правда.
– И это несмотря на то, что вы молоды и все удивлены видеть у вас таких больших детей?
– Да, я еще очень молод.
– Папа, давайте ужинать в саду!
– Это не принято.
– Но с отцом, с предводителем дворянства, которого здесь все знают, который стоит во главе полтавской золотой молодежи!
– Но нас ждут лошади.
– Я хотела просить вас, чтобы вы отослали их; мы вернемся на извозчике.
– Ты – на извозчике? Никогда! А ужинать не принято.
– Папа, когда я снисхожу до того, чтобы находить что-нибудь приличным, странно, что со мной не соглашаются.
– Ну, хорошо, мы будем ужинать, но только для твоего удовольствия. Мне все это наскучило.
Мы ужинали в отдельной зале, которую потребовали из уважения ко мне. Башкирцевы отец и сын, дядя Александр с женой, Паша, Э., М. и я. Последний постоянно накидывал мне на плечи мой плащ, уверяя, что иначе я простужусь.
Пили шампанское; Э. откупоривал бутылку за бутылкой и наливал мне последнюю каплю.
Провозгласили несколько тостов, и друг моего детства взял свой бокал и, нагнувшись ко мне, тихо сказал:
– За здоровье вашей матушки!
Он смотрел мне прямо в глаза, и я отвечала ему так же тихо, взглядом искренней благодарности и дружеской улыбкой.
Через несколько минут я сказала громко:
– За здоровье мамы!
Все выпили. М. ловил мои малейшие движения и старался подделаться под мои мнения, мои вкусы, мои шутки. А я забавлялась тем, что изменяла их и конфузила его. Он все слушал меня и наконец воскликнул:
– Но она прелестна! – с такой искренностью и радостью, что мне самой это доставило удовольствие.
Тетя Надя вернулась в коляске с папа; я поехала к ней, и мы вдоволь наболтались.
– Милая Муся, – сказал дядя Александр, – ты меня восхищаешь; я в восторге от твоего поведения с твоими родителями и особенно с твоим отцом. Я боялся за тебя, но, если ты будешь так продолжать, все устроится хорошо, уверяю тебя!
– Да, – сказал Поль, – в один месяц ты покоришь отца, а это было бы счастьем для всех.
Отец взял комнату рядом со мной, направо, и в моей передней положил спать своего лакея.
– Надеюсь, что она в сохранности, – сказал он дяде. – Я веселый человек, но, когда мать поручает ее мне, я оправдаю ее доверие и свято исполню свой долг.
Вчера я взяла у отца 25 рублей и сегодня имела удовольствие возвратить их ему.
Мы уехали тем же порядком, как вчера.
Как только мы выехали в поле, отец спросил меня:
– Что же, мы будем еще сражаться сегодня?
– Сколько угодно.
Он обнял меня, завернул меня в свою шинель и положил мою голову к себе на плечо.
А я закрыла глаза – я всегда так делаю, когда хочу быть ласковой. Мы сидели так несколько минут.
– Теперь сядь прямо, – сказал отец.
– В таком случае дайте мне шинель, а то мне будет холодно.
Он укутал меня в шинель, и я начала рассказывать о Риме, о заграничной жизни, о светских удовольствиях, старалась доказать, что нам там было хорошо, говорила о г-не Фаллу, о бароне Висконти, о папе. Я заговорила о полтавском обществе:
– Проводить жизнь за картами… Разоряться в глуши провинции на шампанское в трактирах! Погрязнуть, заплесневеть!.. Что бы ни было, всегда следует быть в хорошем обществе.
– Ты, кажется, намекаешь на то, что я в дурном обществе, – сказал он смеясь.
– Я? Нисколько, я говорю вообще, ни о ком особенно.
Мы договорились до того, что он спросил, сколько может стоить в Ницце большое помещение, где бы можно было устраивать празднества.
– Знаешь, – сказал он, – если бы я поехал туда на одну зиму, положение бы совсем изменилось.
– Чье положение?
– Птиц небесных, – сказал он смеясь, как будто чем-то задетый.
– Мое положение? Да, правда. Но Ницца – неприятный город… Отчего бы вам не приехать на эту зиму в Рим?
– Мне? Гм!.. Да… Гм!
Все равно первое слово сказано и упало на добрую почву. Я боюсь только влияний. Мне надо приучить к себе этого человека, сделаться ему приятной, необходимой и воздвигнуть для моей тетки Т. стену между ее братом и ее злостью.
Он рад, что я могу говорить обо всем. Перед обедом я говорила о химии с К., отставным гвардейским офицером, огрубевшим от жизни в провинции и от всеобщих насмешек. Это всегдашний посетитель.
Отец сказал, вставая:
– Не правда ли, Паша, она очень ученая?
– Вы смеетесь, папа?!
– Нисколько, нисколько, но это очень хорошо, да. Очень хорошо, гм… Очень хорошо!
23 августа
Я пишу maman почти столько же, сколько в мой дневник. Это будет ей полезнее всех лекарств в мире. Я кажусь вполне довольной, но я еще не довольна; я все рассказала с точностью, но не уверена в успехе, пока не доведу дела до конца. Во всяком случае, увидим. Бог очень добр.
Паша мне двоюродный брат, сын сестры моего отца. Этот человек меня интересует. Сегодня утром зашел разговор о моем отце, и я сказала, что сыновья всегда критикуют поступки отцов, а став на их место, поступают так же и вызывают такую же критику.
– Это совершенно верно, – сказал Паша, – но мои сыновья не будут критиковать меня, так как я никогда не женюсь.
– Еще не бывало молодых людей, которые не говорили бы этого, – сказала я после минутного молчания.
– Да, но это другое дело.
– Почему же?
– Потому что мне двадцать два года, а я не был влюблен, и ни одна женщина не была мне привлекательна.
– Это вполне естественно. До этих лет и не следует быть влюбленным.
– Как? А все эти мальчики, которые влюблены с четырнадцати лет?
– Все эти влюбленные не имеют никакого отношения к любви.
– Может быть, но я не похож на других: я вспыльчив, горд, т. е. самолюбив, и потом…
– Но все эти качества, которые вы называете…
– Хорошие?
– Да, конечно.
Потом, не знаю по какому поводу, он сказал мне, что сошел бы с ума, если бы умерла его мать.
– Да, на год, а потом…
– О, нет, я сошел бы с ума, я это знаю.
– На год… Все забывается, когда видишь новые лица.
– Значит, вы отрицаете вечные чувства и добродетель?
– Совершенно.
– Странно, Муся, – сказал он, – как скоро сближаешься, когда нет натянутости. Третьего дня я говорил вам Марья Константиновна, вчера m-lle Муся, а сегодня…
– Просто Муся, я вам это приказала.
– Мне кажется, что мы всегда были вместе, так вы просты и привлекательны.
– Не правда ли?
Я заговаривала с крестьянами, которые попадались нам на дороге и в лесу, и вообразите, я очень недурно говорю по-малороссийски.
Ворскла, протекающая в имении отца, летом так мелка, что ее переходят вброд, но весной это большая река. Мне вздумалось войти с лошадью в воду; я так и сделала, приподняв мою амазонку. Это приятное чувство и прелестное зрелище для других. Вода доходила до колен лошади.
Я согрелась от жары и езды и попробовала мой голос, который понемногу возвращался. Я спела «Lacrymosa» – из заупокойной мессы, как пела в Риме.
Отец ожидал нас под колоннадой – и осматривал нас с удовольствием.
– Что же, обманула я вас и плохо езжу верхом? Спросите Пашу, как я езжу. Хороша я так?
– Это правда, да, гм!.. Очень хорошо, право.
Он разглядывал меня с удовольствием. Я нисколько не жалею, что привезла тридцать платьев: отца можно победить, действуя на его тщеславие.
В эти минуту приехал М. с чемоданом и камердинером. Когда он поклонился мне и я ответила на обычные комплименты, я ушла переменить платье, сказав: «Я сейчас вернусь».
Я вернулась в платье из восточного газа со шлейфом длиною в два метра, в шелковом корсаже, открытом спереди, как во времена Людовика XV, и связанном большим белым бантом; юбка, конечно, вся гладкая, и шлейф четырехугольный.
М. говорил со мной о туалетах и восхищался моим платьем.
Его считают глупым, но он говорит обо всем – о музыке, об искусстве, о науке. Правда, что говорю я, а он только отвечает «Вы правы, это верно».
Я не говорила о моих занятиях, боясь его испугать. Но за обедом я была к этому вынуждена; я сказала латинский стих, и у меня завязался с доктором разговор о классической литературе и современных подражаниях.
Все воскликнули, что я удивительное существо, что нет ничего в мире, о чем бы я не могла говорить, нет такого предмета разговора, в котором бы я не чувствовала себя свободно.
Папа делал усилия, достойные героя, чтобы не дать заметить своей гордости. Потом цыпленок с трюфелями вызвал разговор о кулинарном искусстве, и я выказала такие гастрономические познания, что М. еще больше раскрыл глаза и рот.
Потом, переходя к «подделкам», я начала объяснять всю полезность хорошей кухни, доказывая, что хорошая кухня создает хороших людей.
Я поднялась на первый этаж. Гостиные очень большие, особенно бальная зала; туда только вчера поставили фортепьяно.
Я начала играть. Бедный К. делал отчаянные жесты, чтобы заставить Поля прекратить его болтовню.
– Боже мой, – восклицал этот добрый малый, – слушая вас, я забываю, что уже шесть лет я ржавею и плесневею в провинции. Я оживаю.
Я нехорошо играла сегодня, я часто мазала, но некоторые вещи я играла недурно, все равно я знала, что бедный К. говорит искренне и удовольствие, которое я ему доставляла, доставляло удовольствие и мне.
Капитаненко стоял налево от меня, Э. и Поль сзади, а Гриц смотрел на меня и слушал со сдерживаемым восторгом, других я не видела.
Когда я кончила играть «Ручей», все они поцеловали мне руку.
Папа подмигивал, лежа на диване. Княгиня работала, не говоря ни слова, но она добрая женщина.
Я чувствую себя свободно у отца, одного из первых лиц губернии, я не боюсь ни недостатка уважения, ни легкомыслия.
В десять часов папа подал знак, что пора расходиться, и поручил Полю молодых людей, которые помещаются вместе с ним в красном доме.
Я сказала отцу:
– Вот как мы сделаем: когда я поеду за границу, вы поедете со мной.
– Я подумаю об этом, да, может быть.
Я была довольна; наступило молчание, потом мы заговорили о другом, и, когда он вышел, я отправилась к княгине, чтобы посидеть с нею четверть часа.
Я просила отца пригласить дядю Александра, и он написал ему очень любезное письмо.
Что вы обо мне скажете?
Я скажу, что я ангел, только бы Бог продолжал быть добрым.
Не смейтесь над моей набожностью, только начните, и вы найдете все странным в моем дневнике. И если бы и стала критиковать себя, как писателя, я провела бы над этим всю жизнь.
24 августа
В девять часов я пришла к отцу. Я застала его без сюртука, завязывающего с усилиями галстук. Я завязала ему галстук и поцеловала его в лоб.
Мужчины сошлись пить чай; пришел и Паша. Вчера вечером его не было, и лакей объявил, что он «лежит, как больной». Другие смеялись над его медвежьей предупредительностью по отношению ко мне, но он так глубоко чувствует малейшую вещь, что об этом не говорили ни слова сегодня утром.
Э. выписал для моего удовольствия кегли, крокет и микроскоп с коллекцией блох.
Произошло нечто вроде скандала. Впрочем, посудите сами. Поль вынул из своего альбома портрет актрисы, хорошо знакомой отцу; папа, заметив это, вынул и свой портрет.
– Зачем ты это делаешь? – спросил Поль с удивлением.
– Я боюсь, что ты бросишь и мои портреты.
Я не обратила на это внимания, но сегодня Поль отвел меня в другую комнату и показал мне свой пустой альбом, с портретом одной только актрисы.
– Я сделал это для отца, но я должен был вынуть все другие портреты, вот они все.
– Покажи мне.
Я отобрала все фотографии дедушки, бабушки, maman и мои и положила их в карман.
– Что это значит? – вскричал Поль.
– Это значит, – отвечала я спокойно, – что я беру назад наши портреты, здесь они в слишком дурном обществе.
Брат чуть не заплакал, разорвал альбом и вышел. Я сделала это в гостиной, при других, и отец это узнает.
Мы долго гуляли по саду, были в часовне и склепе, где лежали останки дедушки и бабушки Башкирцевых. М. был моим кавалером и помогал мне подниматься и спускаться.
Мишель следовал за мной, точно собака на задних лапках, и делал Грицу отчаянные жесты.
Паша шел впереди и иногда смотрел на меня так злобно, что я отворачивалась.
Если бы мама знала, что за ужином в Полтаве я выпила последнюю каплю шампанского и что, когда пили за мое здоровье, руки тети Нади, дяди Александра, мои и Грица скрестились, как для свадьбы!.. Бедная мама, как бы она была счастлива!
Гриц, без сомнения, тает, но я в глубине души молюсь о том, чтобы он не делал мне предложения. Ограниченный, тщеславный, а мать – настоящая ведьма!
Мы вспоминали наше детство, общественный сад в Одессе.
– Я тогда ухаживал за вами.
Я отвечаю самыми любезными улыбками, пока наш фат с умоляющим видом просит позволить ему нести мой шлейф. Он уже вчера нес его и получил прозвание пажа.
Мы сыграли партию в крокет. Приятно возбужденная, я вернулась в китайскую гостиную (названную так по вазам и куклам) и, сев на пол, начала разбирать мои кисти и краски. Отец не доверяет моим талантам. Я усадила Мишеля в кресло, Грица – в другое и, сидя на полу, в четверть часа сделала карикатуру Мишеля на доске, которую поддерживал Гриц, служа мне мольбертом. И пока я проводила кистью направо и налево, я чувствовала, что меня пожирают глазами.
Отец был доволен, а Мишель поцеловал мне руку.
Я взошла наверх и села за рояль. Паша слушал меня издали. Скоро пришли другие и разместились, как вчера. Но когда перешли от музыки к разговору, Гриц и Мишель начали говорить о том, как они проведут зиму в Петербурге.
– Воображаю, что вы там будете делать, – сказала я. – Хотите, я опишу вам вашу жизнь, а вы мне скажете, правда ли это?
– Да, да!
– Прежде всего, вы меблируете квартиру самой нелепой мебелью, купленной у ложных антикваров, и украсите самыми обыкновенными картинами, выдаваемыми за оригиналы, ведь страсть к искусству и редкостям необходима. У вас будут лошади, кучер, который будет позволять себе шутить с вами; вы будете советоваться с ним, и он будет вмешиваться в ваши сердечные дела. Вы будете выходить с моноклем на Невский и подойдете к группе друзей, чтобы узнать новости дня. Вы будете смеяться до слез над остротами одного из этих друзей, ремесло которого состоит в том, чтобы говорить остроумные вещи. Вы спросите, когда бенефис Жюдик и был ли кто-нибудь у m-me Дамы. Вы посмеетесь над княжной Лизой и будете восторгаться молодой графиней Софи. Вы зайдете к Борелю, где будет непременно знакомый вам Франсуа, Батист или Дезире, который подбежит к вам с поклонами и расскажет вам, какие ужины были и каких не было; вы услышите от него о последнем скандале князя Пьера и о происшествии с Констанцией. Вы проглотите с ужасной гримасой рюмку чего-нибудь очень крепкого и спросите, лучше ли было приготовлено то, что подавалось на последнем ужине князя, чем ваш ужин. И Франсуа или Дезире ответит вам: «Князь, разве эти господа думают об этом?» Он скажет вам, что индейки выписаны из Японии, а трюфели – из Китая. Вы бросите ему два рубля, оглядываясь вокруг, и сядете в экипаж, чтобы следовать за женщинами, смело изгибаясь направо и налево и обмениваясь замечаниями с кучером, который толст, как слон, и известен вашим друзьям тем, что выпивает по три самовара в день чаю. Вы поедете в театр и, наступая на ноги тех, которые приехали раньше вас, и пожимая руки или, вернее, протягивая пальцы друзьям, которые говорят вам об успехе новой актрисы, вы будете лорнировать женщин с самым дерзким видом, надеясь произвести эффект.
И как вы ошибаетесь! И как женщины видят вас насквозь!
Вы готовы будете разориться, чтобы быть у ног парижской звезды, которая, погаснув там, приехала блистать тут.
Вы ужинаете и засыпаете на ковре, но лакеи ресторана не оставляют вас в покое: вам подкладывают подушку под голову и накрывают вас одеялом поверх вашего фрака, облитого вином, и вашего помятого воротничка.
Утром вы возвращаетесь домой, чтобы лечь спать, или, скорее, вас привозят домой. И какие вы тогда бледные, некрасивые, все в морщинах! И как вы жалки сами себе!
А там, там… около тридцати пяти или сорока лет вы кончите тем, что влюбитесь в танцовщицу и женитесь… Она будет вас бить, а вы будете играть самую жалкую роль за кулисами, пока она танцует…
Тут меня прервали, Гриц и Мишель падают на колени и просят позволения поцеловать мою руку, говоря, что это баснословно и что я говорю, как книга!
– Только последнее, – сказал Гриц. – Все верно, кроме танцовщицы. Я женюсь только на светской женщине. У меня есть семейные наклонности; я буду счастлив, когда у меня будут дом, жена, толстые дети, которые кричат, – я буду безумно любить их.
Мы играли в крокет, папа наблюдал за нами. Он замечает ухаживания Грица. И как ему не ухаживать? Я здесь одна.
Он должен был уехать в четыре часа, но в пять часов он просил у меня позволения остаться обедать, а после обеда объявил, что ему было бы приятнее не пускаться в путь ночью.
Я говорила о мебели, об экипажах, о ливреях, о порядке дома. И мне было приятно видеть, как отец ловил мои слова и задавал мне всевозможные вопросы, забывая свою сдержанность и гордость.
Гриц говорил много, как человек неумный, но светский и знакомый со всеми.
У меня были в руках все мои фотографии, и он просил меня дать ему одну. Я не умею отказывать, да к тому же это старый друг, и дала ему.
Но я не согласилась дать ему маленькую карточку, за которую он готов был отдать «два года своей жизни».
О! Dio mio!
25 августа
М. и Мишель уехали после завтрака.
Отец предложил поехать в Павловск, свое другое имение. Ко мне он относится как нельзя лучше, но сегодня я нервна и говорю мало – малейшие разговоры могли бы вызвать у меня слезы.
Но, думая о том, какое впечатление произведет на maman это полное отсутствие празднеств и блеска, я сказала отцу, что мне хочется видеть людей и иметь развлечения и что я нахожу мое положение странным.
– Если ты этого желаешь, – ответил он, – твое желание будет исполнено! Хочешь, я повезу тебя к губернаторше?
– Хочу.
– Ну, хорошо.
Успокоившись на этот счет, я спокойно побывала на работах, на хуторе и даже входила в подробности того, что меня не занимало, но могло мне пригодиться, чтобы при случае сделать замечание знатока о хозяйстве и удивить кого-нибудь разговором о посеве ячменя или о качестве ржи рядом со стихом из Шекспира и тирадой из философии Платона.
Вы видите, я извлекаю пользу из всего.
Паша достал мне мольберт, и перед обедом мне прислали из Полтавы два больших холста через М.
– Как ты находишь М.? – спросил папа.
Я сказала, что думаю о нем.
– Мне, – сказал Паша, – он в первый день не понравился, а потом я полюбил его.
– А я понравилась вам с первого раза? – спросила я.
– Вы? Зачем?
– Скажите же.
– Ну, хорошо, вы мне понравились. Я не ожидал, что вы такая, я думал, что вы не умеете говорить по-русски, что вы неестественная… И вот!
– Хорошо.
Я сказала ему, какое печальное впечатление производят на меня деревня и сжатые поля.
– Да, – сказал Паша, – все желтеет. Как время летит! Мне кажется, что еще вчера была весна.
– Всегда говорят одно и то же. Мы там гораздо счастливее, у нас не бывает таких заметных перемен.
– Но зато вы не наслаждаетесь весной, – сказал Паша с увлечением.
– Тем лучше для нас. Резкие перемены вредят ровности настроения, и жизнь гораздо лучше, когда мы спокойны.
– Как вы говорите?
– Я говорю, что весна в России – время, благоприятное для обманов и подлостей.
– Как так?
– Зимой, когда все вокруг нас холодно, мрачно, спокойно, мы сами мрачны, холодны, недоверчивы. Настают жаркие, солнечные дни, и мы меняемся, так как погода сильно действует на характер, настроение и даже убеждения человека. Весной чувствуешь себя счастливее и потому лучше, отсюда недоверие к злу и к подлости людей. Каким образом, когда я так счастлив, так восторженно настроен к добру, каким образом может оставаться место для дурных помыслов в сердцах других? Вот что говорит себе каждый. А у нас не испытываешь этого опьянения или испытываешь гораздо слабее; я думаю, что это состояние более нормальное и почти всегда одинаковое.
Паша пришел в такой восторг, что просил дать ему мой портрет, обещая носить его в медальоне всю жизнь.
– Потому, что я люблю и уважаю вас, как никого на свете. Княгиня широко раскрыла глаза, а я засмеялась и просила Пашу поцеловать мне руку.
Он противился мне, краснел и наконец повиновался. Странный и дикий человек. Сегодня днем я говорила о моем презрении к человеческому роду.
– А, так вы вот как! – воскликнул он. – Так я, значит, только жалкий подлец!..
И, весь красный и дрожащий, он выбежал из гостиной.
26 августа
Можно умереть с тоски в деревне!
С изумительной быстротой я сделала эскизы двух портретов – отца и Поля, в тридцать пять минут. Сколько женщин, которые не могли бы этого сделать!
Отец, считавший мой талант за тщеславное хвастовство, теперь признал его и остался очень доволен; я была в восторге, так как рисовать значит приближаться к одной из моих целей. Каждый час, употребленный не на это или не на кокетство (так как кокетство ведет к любви, а любовь, может быть, к замужеству), падает мне на голову, как тяжесть. Читать? Нет! Действовать? Да!
Сегодня утром отец вошел ко мне, и, когда после нескольких незначительных фраз Поль вышел, водворилось молчание; я чувствовала, что отец хочет что-то сказать, и, так как я хотела говорить с ним о том же, я нарочно молчала, сколько для того, чтобы не начинать первой, столько и для того, чтобы видеть колебание и затруднительное положение другого.
– Гм… Что ты сказала? – спросил он наконец.
– Я, папа? Ничего.
– Гм… ты сказала… гм… чтобы я поехал с тобой в Рим. Так как же?
– Очень просто.
– Но… – Он колебался и перебирал мои щетки и гребни. – Но если я поеду с тобой… гм… гм… и maman не приедет? Тогда… видишь ли, если она не приедет… гм… то как же быть?
А! А! Милейший папа! Наконец-то! Это вы колеблетесь… Это чудесно! Это отлично!
– Мама? Мама приедет.
– Ты думаешь?
– Мама сделает все, чего я хочу. Ее больше нет, существую только я. Тогда, видимо облегченный, он сделал мне несколько вопросов относительно того, как мама проводит время, спросил и о многих других вещах.
Отчего это мама предостерегала меня от злобного направления его ума, от его привычки смущать и унижать людей? Потому что это правда.
Но почему же я не унижена, не сконфужена, между тем как это было всегда с мамой?
Потому что отец умнее мамы, а я умнее его.
Кроме того, он уважает меня, потому что я всегда его побеждаю, и разговор со мной полон интереса для человека, ржавеющего в России, но достаточно образованного для того, чтобы оценить познания других.
Я напомнила ему о моем желании видеть полтавское общество, но по его ответам я видела, что он не хочет мне показывать людей, среди которых он блистает. Но когда я сказала, что желаю этого непременно, он ответил, что желание мое будет исполнено, и вместе с княгиней принялся составлять список дам, к которым нужно поехать.
– А m-me М., вы с ней знакомы? – спросила я.
– Да, но я не езжу к ней: она живет очень уединенно.
– Но мне нужно будет поехать к ней с вами; она знала меня ребенком, она дружна с maman, и, когда она меня знала, я производила невыгодное впечатление в физическом отношении. Я бы желала изгладить это дурное впечатление.
– Хорошо, поедем. Но я на твоем месте не поехал бы.
– Почему?
– Потому… гм… что она может подумать…
– Что?
– Разные вещи.
– Нет, скажите, я люблю, когда говорят прямо, и намеки меня раздражают.
– Она подумает, что ты имеешь виды… Она подумает, что ты желаешь, чтобы сын ее сделал тебе предложение.
– Гриц М.! О, нет, папа, она этого не подумает. М. прекрасный молодой человек, друг детства, которого я очень люблю, но выйти за него замуж! Нет, папа, не такого мужа я желаю. Будьте покойны.
Кардинал умирает.
Ничтожный человек (я говорю о племяннике)! За обедом говорили о храбрости, и я сказала замечательно верную вещь: тот, кто боится и идет навстречу опасности, более храбр, чем тот, кто не боится; чем больше страх, тем больше заслуга.
27 августа
В первый раз в жизни я наказала кого-нибудь, а именно Шоколада. Он написал своей матери, прося у нее позволения остаться в России на более выгодном месте, чем у меня.
Эта неблагодарность огорчила меня за него, я позвала его, обличила его перед всеми и приказала ему стать на колени. Мальчик заплакал и не повиновался. Тогда я должна была взять его за плечи, и скорее от стыда, чем от насилия, он стал на колени, пошатнув этажерку с севрским фарфором. А я, стоя среди гостиной, метала громы моего красноречия и кончила тем, что грозила отправить его во Францию в четвертом классе, вместе с быками и баранами, при посредстве консула негров.
– Стыдно, стыдно, Шоколад! Ты будешь ничтожный человек! Встань и уйди.
Я рассердилась не на шутку, а когда через пять минут эта обезьянка пришла просить прощения, я сказала, что если он раскаивается по приказанию г. Поля, то мне не нужно его раскаяния.
– Нет, я сам.
– Так ты сам раскаиваешься?
Он плакал, закрыв глаза кулаками.
– Скажи, Шоколад, я не рассержусь.
– Да…
– Ну, хорошо, иди, я прощаю, но понимаешь ли ты, что все это для твоей же пользы?
Шоколад будет или великим человеком, или великим негодяем.
28 августа
Отец был в Полтаве по службе. Что же касается меня, то я пыталась рассуждать с княгиней, но скоро мы перешли на разговор о любви, о мужчинах и королях.
Мишель привез дядю Александра, а позднее приехал Гриц.
Есть дни, когда чувствуешь себя не по себе. Сегодня такой день.
М. привез букет княгине и минуту спустя начал говорить с дядей Александром о разведении баранов.
– Я предпочитаю, чтобы вы говорили о букетах, чем о баранах, Гриц, – сказал отец.
– Ах, папа, – заметила я, – ведь бараны дают букеты.
У меня не было никакой задней мысли, но все переглянулись, и я покраснела до ушей.
А вечером мне очень хотелось, чтобы дядя видел, что Гриц ухаживает за мной, но не удалось. Этот глупый человек не отходил от Мишеля.
Впрочем, он в самом деле глуп, и все здесь говорят это. Я хотела было вступиться за него, но сегодня вечером, вследствие ли дурного настроения или по убеждению, я согласна с другими.
Когда все ушли в красный дом, я села за рояль и излила в звуках всю мою скуку и раздражение. А теперь я лягу спать, надеясь увидеть во сне великого князя – может быть, это меня развеселит.
Здесь луна как-то безжизненна; я смотрела на нее, пока стреляли из пушки. Отец уехал на два дня в Харьков. Пушки составляют его гордость, у него их девять, и сегодня вечером стреляли, пока я смотрела на луну.
29 августа
Вчера я слышала, как Поль говорил дяде Александру, указывая глазами на меня:
– Если бы ты знал, милый дядя! Она все перевернула в Гавронцах! Она переделывает по-своему папа! Ей все повинуется.
В самом деле, сделала ли я все это? Тем лучше.
Мне хочется спать и скучно с утра. Я еще не допускаю для себя скуки от недостатка развлечений или удовольствий и, когда мне скучно, ищу этому причины – я убеждена в том, что это более или менее неприятное состояние происходит от чего-нибудь и не является следствием недостатка удовольствий или одиночества.
Но здесь, в Гавронцах, я ничего не желаю, все идет согласно моему желанию, и все-таки мне скучно. Неужели я просто скучаю в деревне? Nescio… Но к черту!
Когда сели за карты, я осталась с Грицем и Мишелем в моей мастерской. Гриц решительно изменился со вчерашнего дня. В его движениях проглядывает смущение, которого я не могу себе объяснить.
Завтрашняя поездка откладывается до четверга, и он хочет отправиться в далекое путешествие.
Я задумалась, и это заметили другие. Впрочем, уже с некоторого времени я витаю между двух миров и не слышу, когда со мной говорят.
Мужчины пошли купаться в реке, которая прелестна, глубока и осенена деревьями в том месте, где купаются, а я осталась с княгиней на большом балконе, который образует навес для экипажей.
Княгиня, между прочим, рассказала мне любопытную историю. Вчера Мишель приходит к ней и говорит:
– Maman, жените меня.
– На ком?
– На Мусе.
– Глупец! Да тебе только восемнадцать лет!
Он настаивал так серьезно, что она вынуждена была отправить его к черту.
– Только не рассказывайте ему этого, милая Муся, – прибавила она, – а то он не даст мне покоя.
Молодые люди застали нас на балконе изнемогающими от нестерпимой жары; о воздухе нечего и говорить, а вечером не было ни малейшего ветерка. Вид прелестный. Напротив – красный дом и разбросанные беседки, направо – гора со стоящей на ее склоне церковью, утонувшей в зелени, дальше – фамильный склеп. И подумать, что все это принадлежит нам, что мы полные хозяева всего этого, что все эти дома, церковь, двор, напоминающий маленький городок, все, все наше, и прислуга, почти шестьдесят человек, и все!..
Я с нетерпением ждала конца обеда: мне хотелось пойти к Полю, чтобы спросить у него объяснения нескольких слов, сказанных во время игры в крокет и неприятно меня поразивших.
– Ты не заметила, – сказал мне Поль, – что Гриц изменился со вчерашнего дня?
– Я? Нет, я ничего не заметила.
– А я заметил, и все это благодаря Мишелю.
– Как?
– Мишель хороший малый, но он встречался с женщинами только за ужином и не умеет держать себя; кроме того, у него злой язык, что доказывает эта история. Он сказал, что желает… словом, он безумно влюблен в тебя и способен на всякую подлость. Я говорил об этом с дядей Александром, и он сказал, что следовало бы мне выдрать его за уши. Тетя Наташа того же мнения… Постой! Я думаю, что Грица уверили мать или знакомые, что его ловят, чтобы женить, из-за его богатства. Ну, вот… До вчерашнего дня он превозносил тебя до небес, а вчера… Конечно, ты не хочешь выходить за него, я знаю, что тебе до этого дела нет, но это нехорошо. Это Мишель всегда сплетничает.
– Да, но что же делать?
– Нужно… Ты достаточно умна для этого… Нужно сказать, дать понять; он глуп, но он это поймет. Словом, это нужно… За обедом я тебе помогу, и ты расскажешь историю или что-нибудь.
Это была и моя мысль.
– Мы увидим, брат.
Дядя Александр был в театре после нас и слышал, как говорили о приезде дочери Башкирцева, замечательной красавицы.
В фойе он встретил Грица, который отвел его в сторону и говорил ему обо мне с увлечением.
Я не могла лишить себя удовольствия порисоваться на большой лестнице! Я села посредине; молодые люди, которые шли наверх вместе со мной, сели ниже, на ступеньки, а князь стал на колени. Видели вы гравюру, изображающую Элеонору Гёте? Это было точно так же, даже мой костюм был тот же. Только я ни на кого не смотрела, я смотрела на лампы.
Если бы Поль не потушил одной из них, я бы долго так просидела.
Покойной ночи. Ах! Как мне скучно!
30 августа
Пока молодые люди преследовали экономку и бросали ей под ноги фейерверк, княгиня, дядя и я говорили о папе и о Риме.
Я делала вид, что смерть кардинала меня тревожит.
Я видела во сне, будто Пьетро А. умер; я подошла к его гробу и надела ему на шею четки из топаза с золотым крестом. Как только я это сделала, я заметила, что мертвый человек совсем не Пьетро.
Смерть во сне, кажется, означает брак. Вы поймете мое раздражение, а у меня раздражение всегда выражается неподвижностью и подлым молчанием. Но берегись тот, кто меня дразнит или только говорит со мной!
Говорили о полтавских нравах. Распущенность там большая; о том, что ночью встретили m-me М., в пеньюаре, с М. Ж. на улице, говорят как о вещи весьма обыкновенной. Барышни ведут себя с такой ветреностью… Но когда принялись говорить о поцелуях, я начала быстро шагать по комнате.
Один молодой человек был влюблен в молодую девушку, и она любила, но через некоторое время он женился на другой; когда его спросили о причине такой перемены, он отвечал;
– Она поцеловала меня, следовательно, целовала или будет целовать других.
– Это верно, – сказал дядя Александр. – И все мужчины так рассуждают.
Рассуждение в высшей степени ложное, но благодаря ему я сижу у себя, раздетая, и вне себя от досады.
Мне казалось, что говорили про меня. Так вот причина!
Но дайте же, ради Бога, возможность забыть! О, Господи, разве я совершила преступление, что ты заставляешь меня так мучиться?
Ты хорошо делаешь. Господи, и моя совесть, не давая мне ни минуты покоя, излечит меня.
Чему не могли научить меня ни воспитание, ни книги, ни советы, тому научит меня опыт.
Я благодарю за это Бога и советую молодым девушкам быть немного более подлыми в глубине души и опасаться всякого чувства. Их сначала компрометируют, а потом обращают в посмешище.
Чем выше чувство, тем легче обратить его в смешное; чем оно выше, тем смешнее. И нет ничего не свете более смешного и унизительного, чем любовь, обращенная в смешное.
Я поеду с отцом в Рим, буду выезжать, и тогда посмотрим.
Очаровательная прогулка! Тройка князя, несмотря на тяжесть дяди Александра, летела как молния. Мишель правил. Я обожаю быструю езду; все три лошади понесли в карьер, и на несколько минут у меня захватило дыхание от удовольствия и волнения.
Потом крокет задержал нас до обеда, к которому приехал М. Я уже думала о том, какую бы рассказать «историю», когда княгиня назвала молодых девиц Р.
– Они очень милы, но очень несчастны, – сказал Гриц.
– Чем же?
– Они только и делают, что разъезжают в погоне за мужьями – и не находят… Они даже меня хотели поймать!
Тут все рассмеялись.
– Вас поймать? – спрашивали его. – Так вы им, значит, нравились?
– Я думаю… Но они видели, что я не желаю.
– Знаете, – сказала я, – ведь это несчастье быть таким! Не говоря уже о том, что это несносно для других.
Все смеялись и обменивались взглядами, вовсе не лестными для М. Нет! Какое несчастье быть глупым!
В его манерах я заметила то же смущение, как вчера. Может быть, он думает, что его желают поймать.
И все это благодаря Мишелю.
Гриц едва осмеливался говорить со мной из отдаленного угла гостиной, и только около половины десятого он решился сесть рядом со мной. Я улыбалась от презрения.
Господи, как глупо быть глупым! Я сделалась холодной и строгой и подала знак, что пора расходиться.
Я отлично вижу, что Мишель начиняет его всевозможными глупостями. Княгиня говорила мне: «Вы не знаете, что за человек Мишель, какой он злой и хитрый».
Но какое несчастье быть глупым!
31 августа
Поль, в полном разочаровании, пришел мне объявить, что папа не желает ехать обедать в лес.
Я накинула пеньюар и пошла сказать ему, что мы поедем.
Через три минуты он уже был у меня. После многих весьма комичных недоразумений мы поехали в лес; я – в отличном настроении, против всякого ожидания. Гриц держит себя так же просто, как в первый день, и наших натянутых и неприятных отношений больше не существует.
Мы обедали в лесу, как дома. Все были голодны и ели с большим аппетитом, насмехаясь над Мишелем. Это он должен был устроить пикник, но сегодня утром постыдно отказался, и припасы были посланы из Гавронцев.
Пустили несколько ракет и заставляли жида говорить глупости. Жид в России занимает среднее положение между обезьяной и собакой. Жиды все умеют делать, и их употребляют на все. У них занимают деньги, их бьют, их подпаивают, им поручают дела, ими забавляются.
Вернувшись в свою комнату, я почувствовала себя до того расстроенной, что готова была провести всю ночь в слезах, но Амалия начала болтовню, которая направила мои мысли на другое.
Всегда нужно прервать чем-нибудь дурное настроение, это предупреждает сцены со слезами и катанье по полу.
И я ненавижу делать эти сцены.
Бедный Гриц! Теперь мне стало жаль его – он уехал не совсем здоровый.
2 сентября
Мне сделалось дурно от жары, и, когда к обеду приехали два полтавских «крокодила», я надела нарядное платье, но осталась в дурном настроении. Пускали фейерверк, на который мы смотрели с балкона, украшенного фонариками так же, как красный дом и двор.
Потом отец предложил идти гулять, так как ночь была замечательно хороша. Я переоделась, и мы отправились в село. Мы сели перед шинком, вызвали скрипача и дурачка, чтобы заставить его плясать. Но скрипач – вторая скрипка – не хотел понять, что первой скрипки нет, и не хотел играть своей второй партии. Через четверть часа мы направились к дому с предательским намерением, именно: отец, я и Поль взобрались на колокольню по ужасной лестнице и начали бить в набат. Я звонила изо всех сил. Мне никогда не случалось быть так близко к колоколам; если заговорить во время звона, то на вас нападает какой-то ужас: кажется, что слова замирают на губах, точно в кошмаре.
Словом, все это было нисколько не весело, и я была очень рада вернуться к себе; ко мне пришел отец, и мы имели с ним длиннейший разговор.
Но я была расстроена, и вместо того, чтобы говорить, я все время плакала. Между прочим, он говорил со мной об М., утверждая, что maman наверное считает его прекрасной партией, но что он не сделает и шагу, чтобы это устроить, так как М. только животное, нагруженное деньгами. Я поспешила его разуверить. Потом мы говорили обо всем. Отец старался выказать упорство, я не уступала ему ни в чем, и мы расстались в отличных отношениях. Впрочем, он был, как всегда с некоторых пор, замечательно деликатен и говорил мне, по своему обыкновению, сухо и жестко такие нежные вещи, что я была тронута.
Я не стеснялась относительно его сестры Т., я даже сказала отцу, что он находится под ее влиянием и поэтому я не могу на него рассчитывать.
– Я! – вскричал он. – О, нет! Я люблю ее меньше других сестер. Будь покойна; увидев тебя здесь, она будет льстить тебе, как собака, и ты увидишь ее у твоих ног.
3 сентября
Со стороны кажется, что мне весело. Меня несли на ковре, как Клеопатру, я укротила коня, как Александр, и рисовала… еще не так, как Рафаэль.
Утром отправились большой компанией ловить рыбу сетями. Лежа на ковре (я нарочно говорю это – я не хочу, чтобы думали, что я лежала в пыли) на берегу реки, очень красивой и глубокой в этом месте, в тени деревьев, кушая арбузы, привезенные полтавскими «крокодилами», мы провели ни худо, ни хорошо два часа. При возвращении я играла роль Клеопатры: до забора меня несли на ковре, а потом Мишель и Капитаненко сделали носилки из своих скрещенных рук. Наконец меня нес один Паша. Испытав таким образом все способы передвижения, я оказалась внизу большой лестницы, по которой поднялась уже сама, причем Мишель неизменно нес конец моего шлейфа.
Я явилась к завтраку в восхитительном костюме: неаполитанская рубашка из китайского крепа небесно-голубого цвета, обшитая старинными кружевами, очень длинная юбка из белой тафты, спереди задрапированная куском полосатой восточной материи, состоящей из цветов – белого, голубого и золотого и связанной сзади. Вся материя падает естественными складками, как простыня, завязанная передником. Вы не можете себе представить ничего более красивого и более странного.
Пока одни играли в карты, а другие ворчали на жару, кто-то заговорил о буланых лошадях – восхищались их молодостью, свежестью и силой.
Уже на днях поднимался вопрос о том, чтобы оседлать мне одну из них; но тут же являлось целое море опасений, и я было оставила эту мысль. Но сегодня, досадуя ли на свою трусость или желая наполнить мешок новостей «крокодилов», я приказала оседлать лошадь.
Пока я играла, отец, лежа на траве, то и дело подмигивал и переводил глаза с меня на «крокодилов». Он был доволен производимым мною впечатлением.
Мой оригинальный, но прелестный костюм был дополнен белым фуляром, которым я повязала голову спереди и который спускался низко на лоб, причем концы завязаны были спереди, как у египтянки, а затылок и шея были закрыты. Привели лошадь, и поднялся хор возражений. Наконец Капитаненко сел на лошадь, вспоминая свою службу в гвардии, но уже с первых шагов его начало так подбрасывать, что все разразились самым глупым смехом.
Лошадь становилась на дыбы, останавливалась, горячилась, и Капитаненко, среди общего смеха, объявил, что мне можно ездить на ней… через три месяца. Я смотрела на вздрагивающее животное, кожа которого ежеминутно покрывалась жилами, как поверхность воды покрывается рябью. Я говорила сама себе: «Ты покажешь, что храбрость твоя была напускная, дитя мое, и “крокодилам” нечего будет о тебе рассказывать. Ты боишься? Тем лучше, храбрость не в том, чтобы делать то, чего другие боятся и что вам не страшно; настоящая, единственная храбрость – это заставить себя сделать то, что страшно».
Перескакивая через ступеньки, я поднялась по лестнице, надела черную амазонку, черную бархатную шапочку и сбежала вниз для того, чтобы подняться… на лошадь.
Я объехала шагом вокруг газона. Капитаненко ехал рядом на другой лошади. Чувствуя, что глаза присутствующих направлены на меня, я вернулась к крыльцу, чтобы успокоить их. Отец сел в кабриолет с одним из молодых людей; другие поместились в тройке князя, и я поехала по большой аллее в сопровождении всех этих экипажей. Не знаю, как это случилось, но, не делая никаких усилий, я поехала галопом, сперва мелким, потом крупным, затем рысью и вернулась к экипажам, чтобы слышать похвалы.
Я была в восторге, и мое раскрасневшееся лицо, казалось, метало искры, как и ноздри лошади. Я сияла от радости: на этой лошади еще никогда не ездили верхом.
Вечером пускали фейерверк, дома были в иллюминации, и со всех сторон красовался мой вензель. Крестьяне плясали под окнами под звуки деревенской музыки.
Стол накрыли на другом конце дома, и нам пришлось проходить через толпу любопытных.
– Точно крестный ход, – сказал женский голос в толпе, – а вот и плащаница.
Мы в самом деле были освещены факелами, и Мишель нес мой шлейф, а в Страстную пятницу носят полотно с изображением Спасителя.
Мишель выкидывал свои гимнастические штуки, и деревенские мальчишки смотрела на него с удивлением, уцепившись за веревки и качели, что напоминало повешенных, как они изображены на старинных гравюрах.
Эти славные люди окружили меня; я напрасно называю их славными, так как мужчины и женщины, как придворные, говорили мне комплименты в таком роде:
– Лошадь хороша, а наездница-то еще лучше.
Знаете, я очень люблю быть запанибрата с народом; я говорила со всеми – и еще немного, я пустилась бы плясать. Пляска наших крестьян, с виду покорных и простодушных, но на деле хитрых, как итальянцы, пляска их – настоящий парижский канкан самого соблазнительного свойства. Ног они до носа не поднимают, да это и некрасиво, но мужчина с женщиной кружатся, приближаются друг к другу, преследуют друг друга, и все это сопровождается такими движениями, вскрикиваниями и улыбками, что дрожь пробегает по телу.
Девушки пляшут мало и очень просто. Им «поднесли», и, покинув этих любезных дикарей, я хотела идти спать; но на лестнице я остановилась, как накануне вечером, и молодые люди собрались на ступеньках. Шоколад пропел нам, к моему великому удовольствию, ниццскую песню.
За пением следовала музыка. Я извлекала из скрипки самые невозможные звуки, и эти пронзительные, серьезные, крикливые, неясные звуки смешили меня до слез, а от моего смеха с этим ужасным аккомпанементом помирали со смеху другие, даже Шоколад.
7 сентября
Будничный наряд хохлушки состоит из холщовой рубашки с широкими, оттопыривающимися рукавами, расшитыми красным и синим, и из куска черного крестьянского сукна, которым они завертываются, начиная с пояса; эта юбка короче рубашки, так что виден вышитый низ ее; сукно сдерживается цветным шерстяным поясом. На шею надевается множество бус, а голова повязывается лентой. Волосы заплетены в одну косу, в которую вплетается одна или несколько лент.
Я послала купить себе такой костюм, надела его и пошла по селу в сопровождении молодых людей. Крестьяне не узнавали меня, так как я была одета не барышней, а крестьянской девушкой; женщины одеваются иначе. На ногах у меня были черные башмаки с красными каблуками.
Я кланялась всем и, дойдя до шинка, села у двери.
Отец был удивлен, но… в восторге.
– Все к ней идет! – воскликнул он.
И, посадив всех нас в тележку, он начал катать нас по улицам деревни. Я громко смеялась, к великому изумлению добрых людей, которые никак не могли понять, что это за девушка катается со «старым барином» и «молодыми господами».
Успокойтесь, папа не стар.
Китайский тамтам, скрипка и шарманка увеселяли общество.
Мишель ударял в тамтам, я играла на скрипке (играла! Господи Боже мой!), а шарманка играла одна.
Вместо того чтобы лечь рано, по своему обыкновению, мой родитель оставался с нами до полуночи. Если я не одержала других побед, то одержала победу над отцом. Когда он говорит, он ищет моего одобрения, слушает меня со вниманием, позволяет мне говорить все что угодно о его сестре Т. и соглашается со мной.
Шарманка – его подарок княгине; мы все подарили ей что-нибудь – сегодня ее именины. Лакеи с радостью служат мне и очень довольны, что избавлены от «французов». Я даже обед заказываю! А мне прежде казалось, что я в чужом доме, я боялась установившихся привычек и назначенных часов.
Меня ждут так же, как в Ницце, и я сама назначаю часы.
Отец обожает веселье и не приучен к нему своими.
8 сентября
Проклятый страх, я тебя преодолею! Не вздумала ли я бояться ружья?
Правда, оно было заряжено, и я не знала, сколько Поль положил пороху, и не знала самого ружья; оно могло бы выстрелить, и это была бы нелепая смерть или изуродованное лицо.
Тем хуже! Трудно сделать только первый шаг; вчера я выстрелила на пятидесяти шагах и сегодня стреляла без всякого страха; кажется, боясь ошибиться, я попадала всякий раз.
Если мне удастся портрет Поля, это будет чудо, так как он не позирует, и сегодня я рисовала четверть часа одна, то есть не совсем одна, так как против меня сидел Мишель, который имеет смелость быть в меня влюбленным.
Так прошло время до девяти часов. Я тянула, тянула, тянула время, видя нетерпение отца. Я знала, что он ждет только того, чтобы мы ушли из гостиной для того, чтобы убежать в лес… как волк.
Я снова собрала свой придворный штат на лестнице… Я люблю лестницы – по ним поднимаешься вверх. Паша хотел уехать завтра, но я так старалась удержать его, что он, вероятно, останется; было бы благоразумнее уехать, так как для двадцатидвухлетнего деревенского жителя и мечтателя любить меня, как сестру, опасно.
Я держу себя с ним и с Мишелем как нельзя лучше, и он меня очень любит. Но с глупыми мужчинами я сама глупею: я не знаю, что сказать, чтобы им было понятно, и боюсь, что они могут заподозрить, что я в них влюблена. Например, этот бедный Гриц; он думает, что все барышни хотят выйти за него замуж, и в каждой улыбке видит ловушку и покушение против его холостой жизни…
Как только я услыхала, что отец ушел, я побежала к княгине, каталась по ее постели, причесывала Пашу, приглаживала Мишеля – и наговорила столько глупостей, что я до сих пор в восторге от них.
Боже мой, не допусти, чтобы я возненавидела Пашу! Он такой честный и славный.
Читали вслух Пушкина и говорили о любви.
Как бы мне хотелось любить, чтобы знать, что это такое! И я уже любила? В таком случае любовь – ничтожная вещь, которую можно поднять только для того, чтобы бросить.
– Ты никогда не полюбишь, – сказал мне отец.
– Если бы это была правда, я благодарила бы небо, – отвечала я. Я и желаю и не желаю этого.
Впрочем, в моих мечтах я люблю. Да, но воображаемого героя.
Но А.? Я его люблю? Разве так любят? Нет. Если бы он не был племянником кардинала, если бы он не был окружен священниками, монахами, если бы не было вокруг него развалин, папы, я бы его не любила.
И зачем мне объяснять это? Вы знаете все лучше меня; вы знаете, что музыка оперы и А. в «barcaccia» производили прелестное впечатление, вы знаете также силу музыки. Это была игра, а не любовь.
Когда же я буду любить? Я еще буду забавляться тем, что буду расточать избыток чувства, буду еще воодушевляться, плакать… и все из пустяков!..
9 сентября
Дни уходят, и я теряю драгоценное время в самые лучшие годы жизни. Вечера в тесном кругу, шутка, веселость, которую вношу я… Потом заставишь Мишеля и другого нести себя вверх и вниз по большой лестнице в кресле. Спускаясь, рассматриваешь в зеркале свои башмаки… И так всякий день.
Какая тоска! Ни одного умного слова, ни одной фразы образованного человека… А я, к несчастью, педантка и так люблю, когда говорят о древних и о науке… Поищите-ка этого здесь! Карты – и ничего больше. Я бы могла уйти к себе читать, но цель моя – заставить себя любить, а это был бы оригинальный способ ее добиваться.
Как только устроюсь на зиму, я начну учиться по-прежнему.
Вечером у Поля была история с прислугой. Отец поддерживал лакея, я сделала выговор (именно выговор) отцу, и он проглотил его. Это вульгарное выражение, но мой дневник наполнен ими. Прошу не думать, что я вульгарно выражаюсь из невежества или из вульгарности. Я усвоила себе эту манеру как наиболее удобную и легкую для выражения многих мыслей. Словом, раздражение носилось в воздухе, я рассердилась, и в голосе у меня звучали дрожащие ноты, которые предвещают грозу.
Поль не умеет себя держать, и я вижу из этого, что моя мать была вправе быть несчастной.
10 сентября
Мое величество, отец, брат и двое кузенов отправились сегодня в Полтаву.
Я могу только восторгаться собою: мне уступают, льстят и, что важнее, меня любят. Отец, сначала желавший низвести меня с трона, теперь почти вполне понял, почему мне оказывают царские почести, и, несмотря на некоторую жесткость характера, оказывает мне их.
Этот сухой человек, чуждый семейных чувств, ко мне имеет порывы отеческой нежности, которые удивляют окружающих. У Поля поэтому явилось ко мне двойное уважение, а так как я добра ко всем, то все меня любят.
– Ты так изменилась с тех пор, что я тебя не видел, – сказал мне сегодня отец.
– Как?
– Но… Гм… Если ты освободишься от некоторой незначительной резкости – впрочем, она и в моем характере, – ты будешь совершенством и настоящим сокровищем.
Это значит, что… Знающие этого человека могут оценить значение этих слов.
А сегодня вечером он обнял меня, поцеловал (вещь неслыханная, по словам Поля) с нежностью и сказал:
– Посмотри, Мишель, посмотрите все, какая у меня дочь. Вот дочь, которую можно любить!
– Не правда ли, папа? Я сокровище. Мишель, – продолжала я, – я обещаю женить вас на моей дочери; подумайте только о чести: это, может быть, будет принцесса крови.
Я пишу из Полтавы. Дождь идет с утра, и лошади не хотели взбираться на эту ужасную гору, которая находится на половине дороги. Отец сел на козлы, кучер слез и пошел за нами по грязи, погоняя лошадей, которых нужно было пустить в галоп, чтобы не давать им задумываться перед препятствиями. Звон колокольчика, удары кнута, крики лакея, кучера и папа, немое изумление Шоколада. Это зрелище могло бы взволновать хоть кого. Точно скачка, возбудившая много споров и приближающаяся к концу.
В город мы приехали в восемь часов, прямо к князю, который уехал сегодня в пять часов утра, чтобы приготовить нам дом. Дом маленький и очень простой снаружи, но прелестный внутри. Еще ничего не было кончено; ковер был разложен, зеркала, лампы, кровати были куплены и поставлены.
Во всех русских домах вход из прихожей в залу; эта зала все белая, за ней следует прелестная коричневая гостиная и спальня для меня, наполненная всеми необходимыми и приятными мелочами, – на каждом шагу видно внимание… Подумайте, на туалете я нашла белила и румяна!
Только в семь часов догадались, что нам нечего будет есть. Когда мы приехали, Мишель сделал вид, что уже перестал ждать нас, солгав очень неловко, и, преследуемый нашими насмешками, сидел за обедом совсем смущенный; обед принесли из клуба около десяти чесов вечера. Я соблазнилась серебряными вызолоченными бокалами и выпила их два, после чего похорошела, и язык мой развязался настолько, что я оживилась. Впрочем, я оживлена уже с утра.
План отца не удался: все те, к которым он хотел везти меня, разъехались. Когда Мишель ушел, мы говорили о глупости Грица.
– Как он глуп! – воскликнула я. – Нет, подумайте только! С моими честолюбивыми планами, с моим образованием выйти замуж за г-на М.!
– Гм… – сказал отец, – да, он, конечно, глуп. – И он смотрел на меня, не зная, принять ли ему презрительный вид или высказать свою мысль, которая, наверно, была следующая: «М. желательная партия, даже для тебя».
А теперь я лягу спать в постель, сделанную самим г-ном князем.
– Он сделал постель! – воскликнула Амалия. – Un principe! Dio! Точно для королевы!
Я сейчас слышала пронзительные крики. Это кричит Амалия, потому что Поль открыл окно в галерею и смотрит, как она купается. Каков мальчик! Паша и князь уже давно спят.
На столе едва помещается тетрадь – он заставлен флаконами, коробочками для пудры, щетками, саше и т. д.
Вне себя от радости, что я сумела завоевать отца, я восклицаю: только грубые люди могут не любить меня, и только подлецы могут любить меня не так, как следует.
12 сентября
Провести день в Полтаве! Это невероятно! Не зная, что делать, отец повел меня пешком по городу, и мы видели колонну Петра Великого, которая стоит среди сада.
В понедельник ночью мы уехали из Полтавы, а сегодня мы в Харькове. Путешествие было веселое; мы завладели целым вагоном.
Около Харькова меня разбудили букетом от князя Мишеля.
Харьков – большой город и освещается газом. Гостиница, в которой мы остановились, называется «Большой гостиницей» и оправдывает свое название. Содержатель ее Андрие, и дом представляет все удобства; впрочем, здесь всегда ужинает, завтракает, обедает золотая молодежь, обращаясь с содержателем гостиницы как с равным; но он не забывается, вот что меня удивляет. Странные здесь нравы!
Меня причесал Луи, другой французский живодер.
Потом пили чай с пряниками…
Ах, да! Я была в зверинце; вид этих бедных животных в клетках расстроил меня.
Я виделась с дядей Н-й, младшим в семье, который делает вид, что занимается медициной. Бедный дядя когда-то помогал мне играть в куклы, я била его и дергала за уши.
Я поцеловала его и чуть не заплакала.
– Войди, без церемоний, – сказала я ему. – Папа тебя не любит, но я люблю тебя от души. Я все та же, только немного побольше – вот и все. Милый Nicolas, я не оставляю тебя завтракать – я не одна, тут много чужих, но приходи завтра, непременно.
Я пришла в отдельную, только что отделанную столовую.
– Сердиться не на что, – сказал отец. – Ели бы ты хотела, ты пригласила бы его, а я ушел бы под благовидным предлогом.
– Папа, вы не добры сегодня, и нечего об этом больше говорить, довольно!
14 сентября
Говорили о намерении Паши уехать, пока тот ходил взад и вперед и пересматривал ружье, так как он «охотник перед Господом», как Нимрод. Отец просил его остаться, но раз этот упрямый человек сказал «нет», то не изменит слова ни за что на свете.
За его молодость и мечтательность я прозвала его «зеленым человеком». Скажу без обиняков, так как уверена в этом: «зеленый человек» считает меня лучшим существом в мире. Я сказала ему, чтобы он остался.
– Не просите меня остаться, умоляю вас, потому что я не могу вас послушаться.
Мои просьбы были напрасны, но мне приятно бы было удержать его, особенно потому, что я знала, что это невозможно.
На станции мы встретились с тетей Лелей, его матерью, и с дядей Николаем, которые пришли проводить меня.
Толпа была огромная, по случаю отъезда 57 волонтеров в Сербию. Я бегала по станции то с Полем, то с Мишелем, с тетей, с Пашей, с каждым поочередно.
– Право, Паша не любезен, – сказала тетя Леля, услыхав, в чем дело.
Тогда, стараясь не смеяться, я подошла к Паше и прочла ему внушение сухим и оскорбленным тоном, но так как у него были слезы на глазах, а я боялась рассмеяться, то я ушла, чтобы не нарушить смехом произведенного впечатления.
Трудно было двигаться, и мы едва добрались до нашего отделения.
Мне приятно было видеть толпу после деревни, и я подошла к окну. Давка, крик… Но вдруг меня поразили молодые мужские голоса, которые лучше и чище женских. Они пели церковную песнь, и могло показаться, что это хор ангелов. Это были архиерейские певчие, певшие на молебне за волонтеров.
Все обнажили головы, и у меня захватило дыхание от этих звучных голосов и этой божественной гармонии. Когда молебен кончился, я увидела, как все машут шляпами, платками, руками, и с блестящими от одушевления глазами, тяжело дыша, я могла только прокричать «ура!», как кричали другие, и плакать, и смеяться.
Крики продолжались несколько минут и замолкли только тогда, когда тот же хор запел «Боже, царя храни!».
И Государь оставляет в покое турок! Боже!
Поезд тронулся среди неистовых «ура!».
Я обернулась и увидела Мишеля, который смеялся, и папа́, который кричал: «Дурак!» Это вместо того, чтобы кричать «ура!».
– Папа, Мишель! Да как же можно! Кричите же! Из чего вы созданы, Господи!
– Вы не прощаетесь со мной? – спросил Паша, не переменивший своего решения и весь красный.
Поезд уже тронулся.
– До свидания, Паша, – сказала я, протягивая ему руку, которую он схватил и молча поцеловал.
Мишель играет роль ревнивого и влюбленного. Я наблюдаю за ним, когда он слишком долго на меня смотрит, потом бросит свою шляпу и уйдет взбешенный. Я наблюдаю за ним и смеюсь.
Вот и снова в Полтаве, в этом гадком городе. Харьков более знаком мне: я провела там целый год перед отъездом в Вену. Я помню еще все улицы, все магазины и сегодня на станции узнала даже доктора, который лечил бабушку. Я подошла к нему и говорила с ним.
Он был удивлен, увидев меня взрослую, хотя дядя Николай уже обращался ко мне при нем.
Мне хочется вернуться туда. «Ты знаешь край, где лимонные рощи цветут?» Не в Ниццу, а в Италию.
15 сентября
Сегодня утром Поль привел ко мне маленького Степу, сына дяди Александра. В первую минуту я его не узнала. Я не обратила внимания на большее или меньшее удовольствие, которое доставило отцу присутствие одного из Бабаниных, и занялась миленьким мальчиком.
Наконец отец поехал со мной к полтавской знати.
Прежде всего, мы были у губернаторши. Губернаторша – светская женщина, очень любезная, что можно сказать и о губернаторе. У него было «собрание», но он вышел в гостиную и сказал отцу, что никакое собрание не может помешать ему посмотреть на такую очаровательную барышню.
Губернаторша проводила нас в переднюю, и мы отправились к другим порядочным людям.
Мы были у вице-губернатора, у начальницы института для благородных девиц, у m-me Волковицкой, дочери Кочубея. Потом я взяла извозчика и отправилась к дяде Александру, который здесь в гостинице с женой и детьми.
Ах! Как хорошо быть у своих! Не боишься ни критики, ни сплетен… Может быть, семья отца кажется мне холодной и злой по сравнению с нашей, где все замечательно дружны, согласны и любят друг друга.
В разговорах о делах, о любви, о сплетнях я провела очень приятно два часа, по прошествии которых ко мне начали являться посланные от отца. Но так как я отвечала, что еще не расположена уезжать, то он приехал сам, и я промучила его еще полчаса, копалась, искала булавки, мой платок и т. д.
Наконец мы уехали, и, когда мне показалось, что он успокоился, я сказала:
– Мы сделали большое невежество.
– Какое?
– Мы были у всех, кроме m-me М., которая знает maman и знала меня ребенком.
Последовал целый разговор, окончившийся отказом. Когда губернатор спросил меня, сколько времени я пробуду у отца, я сказала, что надеюсь увезти его с собой.
– Ты слышала, что сказал губернатор, когда ты сказала, что собираешься увезти меня? – спросил мой славный родитель.
– А что?
– Он сказал, что на это нужно разрешение министра как предводителю дворянства.
– Ну, так хлопочите скорее, чтобы ничто не могло задержать нас.
– Хорошо.
– Так вы едете со мной?
– Да.
– Серьезно?
– Да.
Было более восьми часов, в карете было темно, и я могла говорить, не боясь вмешательства моего несносного лица.
16 сентября
Я все еще продолжаю быть довольной; похвалы губернатора и губернаторши еще возвысили меня в глазах отца.
Впечатление, производимое мною, льстит его самолюбию; я и сама не сержусь на то, что говорят: «Вы знаете, дочь Башкирцева замечательная красавица». (Эти бедные дураки ничего, значит, не видали!)
Гавронцы. 17 сентября
В ожидании моей будущей известности я хожу на охоту в мужском платье, с ягдташем через плечо.
Мы отправились в шарабане – отец, Поль, князь и я – около двух часов.
Теперь я в состоянии описывать, не зная даже названия всех предметов охоты: ежевика, тростник, трава, лес – такой густой, что едва можно было проехать, ветки, хлеставшие нас по лицу со всех сторон, чудесный чистый воздух и мелкий дождик, очень приятный для охотников, которым жарко.
Мы бродили, бродили, бродили.
Я обошла с заряженным ружьем вокруг маленького озера, готовясь выстрелить, если вылетит утка. Но… ничего! Я уже хотела выстрелить в ящериц, которые прыгали у меня под ногами, или в Мишеля, который шел за мной, не спуская с меня глаз: я была в мужском костюме, и это возбуждало в нем самые преступные мысли.
Я нашла золотую середину, ту золотую середину, которой никак не может найти Франция: я убила наповал ворону, сидевшую на верхушке дуба и ничего не подозревавшую, тем более что отец и Мишель, лежавшие на лужайке, привлекали ее внимание.
Я вырвала перья из ее хвоста и сделала себе хохолок.
Другие даже ни разу не стреляли, а только шли вперед.
Поль убил дрозда, и тем охота и кончилась.
Мать, думающая, что ребенок ее умер, и умер по ее же вине, не уверенная в его смерти и не решающаяся ничего сказать, боясь в ней убедиться, вдруг опять находит этого оплакиваемого ребенка, причинившего столько горя, столько сомнений и страданий… Эта мать должна быть счастлива. Мне кажется, что она должна чувствовать то, что переживаю я, когда у меня после хрипоты возвращается голос.
Посмеявшись в гостиной, я остановилась на минуту и вдруг почувствовала, что могу петь.
Я этим обязана лекарству доктора Валицкого.
19 сентября
Меня раздражают постоянные оскорбительные намеки на моих и невозможность обижаться. Я бы сумела зажать рот отцу, если бы не было этого опасения потерять мое средство. Он добр ко мне. С моей стороны очень мило повторять это. Как мог бы он относиться иначе к умной, образованной, милой, кроткой и доброй дочери (я здесь такая – он сам это говорит), которая ничего у него не просит, приехала к нему из любезности и всеми способами льстит его тщеславию.
Придя в мою комнату, я почувствовала желание броситься на землю и плакать; но я сдержалась, и это прошло. Я всегда так буду поступать. Нельзя допускать, чтобы люди, вам безразличные, могли заставить вас страдать. Страдание меня всегда унижает; мне противно думать, что тот или другой мог меня оскорбить.
И все-таки жизнь лучше всего на свете!
22 сентября
С меня положительно довольно такой жизни! Деревня действует на меня одуряющим, притупляющим образом. Я сказала это отцу; а когда я сказала ему, что желаю выйти замуж за короля, он стал мне доказывать, что это невозможно, и снова начал свои насмешки над моей семьей. Я ему не вторила (можно говорить самому известные вещи, но невозможно позволять, чтобы их говорили другие).
Я сказала, что все это выдумки его сестры Т. Я не щажу ее, эту тетку, и употребила верное средство, чтобы пошатнуть ее влияние.
О, Рим, Пинчио, возвышающийся как остров среди Кампаньи, пересекаемой водопроводами, ворота del Populo, обелиск, церкви кардинала Гастоло по обе стороны Корсо, дворец Венецианской республики, эти темные, узкие улицы, эти дворцы, почерневшие от времени, развалины небольшого храма Минервы и, наконец, Колизей!.. Мне кажется, что я вижу все это. Я закрываю глаза и мысленно проезжаю по городу, посещаю развалины, вижу…
Я противоположна тем людям, которые говорят: с глаз долой – из сердца вон. Исчезнув с глаз моих, предмет получает двойное значение: я его разбираю, восхищаюсь им, люблю его.
Я много путешествовала, много видала городов, но только два из них привели меня в восторг.
Первый – Баден-Баден, где я пробыла два лета ребенком; я еще помню эти очаровательные сады. Второй – Рим. Совсем другое впечатление, оно более сильное, если только это возможно.
Некоторых людей сначала не любишь, но чувство к ним понемногу усиливается; то же и с Римом. Такие привязанности прочны, полны нежности и не лишены страсти.
Я люблю Рим, один только Рим! А собор Св. Петра? Собор Св. Петра, когда падает сверху луч солнца, и свет и тени ложатся так же правильно, как сама архитектура колонн и алтарей! Луч солнца, создающий среди этого мраморного храма храм света!…
Закрыв глаза, я переношусь в Рим… Но теперь ночь, а завтра приедут полтавские «гиппопотамы». Нужно быть хорошенькой… и я буду хорошенькой.
В деревне я замечательно поправилась – я никогда не была такой прозрачной и свежей.
Рим!.. И я не поеду в Рим!.. Почему? Потому что не хочу. И если бы вы знали, что мне стоит это решение, вы пожалели бы меня. Я даже плачу…
24 сентября
Начинает становиться холодно, и я с довольно сильным неудовольствием велела разбудить себя в семь часов. В восемь часов я старалась отвоевать еще несколько минут, а в девять я была уже в гостиной, в черной бархатной шапочке и в амазонке, приподнятой так, что видно было оружие, вышитое на сапогах.
Охотники уже все собрались: Каменский, настоящий Портос; Волковицкий, похожий на фурию Ифигении в Тавриде; Павелка, ужасный адвокат; Салько, отвратительный архитектор; Швабе, обладатель семнадцати охотничьих собак; Любович, чиновник, почти такого же огромного роста, как Каменский; господин, имени которого я не знаю; отец, Мишель и я.
Все осматривали ружья, говорили о патронах, пили чай и обменивались пошлыми и вульгарными шутками, исключая отца и наших двух молодых людей.
Я села в экипаж с отцом и нашими двумя ружьями. За нами на близком расстоянии следовали четыре коляски.
Знаете ли вы, как происходит охота на волка в России?
Вот как это делается.
Об охоте за неделю оповещают общину, старосту, чтобы он собрал достаточное количество людей, но так как в Полтаве ярмарка, то их явилось только сто двадцать. Собралось всего человек двести, и сети расставили на 6–8 километров. Князь Кочубей прислал свои сети, так как сам не мог приехать.
Я дрожала от холода. Отец всех без различия разместил по обе стороны дороги, сосчитал нас и разделил на две партии – на вооруженных и невооруженных. Нашлось человек двадцать с ружьями между мужиками; другим дали багры, предназначенные для того, чтобы подлым образом убить животное, когда оно попадется в сети.
Сети располагаются так, что зверь, преследуемый криками людей, запутывается в них, сначала пробежав мимо охотников, поставленных в засаду впереди.
Охота начинается. Управляющий-поляк, верхом, в клеенчатом колпаке, похожем по форме на каску, держа в руке багор, который то опускается до земли, то поднимается над его головой, ездит взад и вперед в галоп и – ничего не делает.
Я заряжаю ружья, поправляю мою охотничью сумку, в которой находятся носовой платок и пара перчаток, откашливаюсь – и я готова.
И вот я осталась одна в лесу, с заряженным ружьем в руках, с ощущением сырости в ногах, насквозь проникнутая холодом. Мои стальные каблуки уходили в мокрую землю, что усиливало ощущение холода и мешало ходить. Как вы думаете, что я делала, когда осталась одна? О, это очень просто. Сначала я посмотрела, не видно ли чего среди деревьев, – и увидела серое, холодное небо, потом я посмотрела вокруг себя – и увидела высокие деревья, без листьев, а затем, заметив на земле шинель отца, я легла и стала думать. Тут я почувствовала что-то теплое рядом со мной… Оборачиваюсь. Господи! Три кротких и ласковых собаки: большая черная собака и две маленьких – Жук I и Жук II.
Наконец я услышала выстрел: то был сигнал. Раздались крики мужиков издалека. По мере того, как они приближались, мысли мои разлетались, и, когда мужики были настолько близко, что я могла чувствовать волнение от приближающихся криков толпы, я вскочила на ноги, бросилась к ружью и насторожила уши. Крики все приближались: я слышала, как ударяли баграми по ветвям, чтобы усилить шум. Каждую минуту мне казалось, что я слышу треск в кустарнике (волки любят густые места).
Крики становились сильнее и сильнее, и, когда я увидела людей, сердце мое неровно забилось, я даже вздрогнула, но люди никого не гнали перед собой, сети были пусты: в них нашли только несчастного зайца, которого великан Каменский уложил на месте, толкнув его ногой.
Все поздравляли друг друга с общей неудачей и в довольно веселом настроении направились к долине, где под стогом сена или соломы расположились есть соленые припасы и пить водку. Мужиков угощали жареной бараниной, пирогами и водкой.
Эти добрые полулюди с любопытством рассматривали меня – не то женщину, не то мужчину, или скорее женщину, которая улыбалась им во весь рот. Отец говорил с ними о законах, касающихся лошадей; я думала, что он говорит с ними о Сербии.
Отдохнув, мы опять углубились в лес, но, так как вместо волков загоняли зайцев, пришлось ходить, ходить, ходить, следовать за двадцатью девятью собаками, за которыми шел охотник, присланный вчера князем Кочубеем.
Показалось солнце, и я бы развеселилась, если бы сырость не сменилась усталостью. Проходив два часа, мы не видели даже заячьего хвоста. Это вывело меня из себя, и, отыскав нашу коляску, я возвратилась с отцом, «аl paterno tetto». Я приказала натереть себя духами, оделась и сошла вниз к другим, которые принесли трех зайцев. Я была очаровательно красива (говоря относительно, насколько я могу быть красивой), но совсем напрасно: ни один из этих уродов не похож на человека.
С крестьянами я разговорчива и держу себя просто; с равными мне по образованию я довольно мила, кажется, но с этими олухами! Во избежание разговоров с ними я начала играть в карты и проиграла около сотни франков великану.
Сели играть опять, а я пошла в библиотеку писать письмо в Петербург лошадиному барышнику. Как будто имея на то причину, князь последовал за мной, попросил позволения поцеловать мне руку, которую я дала ему даже без особенного отвращения, посмотрел на меня, вздохнул и спросил, сколько мне лет.
– Шестнадцать.
– Когда вам будет двадцать пять, я буду за вами ухаживать.
– Очень хорошо.
– И тогда вы оттолкнете меня, как теперь.
Этот блестящий день закончился концертом на лестнице. Мой голос, т. е. половина моего голоса, изумил их, но мне кажется, что они в этом ничего не понимают и восхищаются наудачу.
23 сентября
Отец позвал меня в галерею посмотреть на деревенских новобрачных, которые пришли к отцу с поклоном. Свадьба была вчера. Муж одет, как обыкновенно: сапоги до колен, темные шаровары и свита, род верхнего платья, собранного у пояса, из коричневого крестьянского сукна; от вышитой рубашки видна только грудь, на месте петлицы – цветной бант.
Женщина в юбке и в «корсетке», похожей на мужской жилет, но из более светлой материи. Голова ее не убрана, как у девушек, цветами и лентами, а повязана шелковым платком, так что закрыты волосы и даже весь лоб, а уши и шея открыты.
Они вошли в гостиную вместе с дружками, девушками и сватами.
Муж и жена трижды поклонились отцу в ноги.
25 сентября
Я говорю с отцом в шутливом тоне и потому могу говорить все. Моя последняя фраза третьего дня его оскорбила.
Он жалуется, говорит, что вел безумную жизнь, что он веселился, но что ему чего-то не хватает, что он несчастлив…
– В кого же ты влюблен? – спросила я в насмешку над его вздохом.
– Ты хочешь знать это?
И он опять покраснел так, что захватил руками свою голову, чтобы скрыть свое лицо.
– Я хочу, скажи!
– В maman.
Голос его дрожал, и я взволновалась до того, что громко засмеялась, чтобы скрыть свое волнение.
– Я знал, что ты не поймешь меня! – вскричал он.
– Извини, но эта супружеско-романтическая страсть так мало на тебя похожа…
– Потому что ты меня не знаешь! Но клянусь тебе, клянусь, что это правда, перед образом, перед этим крестом, благословением моего отца! – И он перекрестился на образ и крест, висящий над постелью. – Может быть, это потому, что я представляю ее себе молодой, как тогда, что в воображении я живу прошедшим. Когда нас разлучили, я был как сумасшедший, я пешком ходил к Ахтырской Божьей Матери; но говорят, что она приносит несчастье, и это правда, так как потом все еще больше запуталось. И потом… Сказать ли?.. Ты будешь смеяться… Когда вы жили в Харькове, я ездил туда тайком один, брал извозчика и целый день ждал у вашего дома, чтобы видеть, как она выйдет, и потом возвращался, никем не замеченный.
– Если это правда, это очень трогательно.
– Скажи мне, так как мы уже заговорили о maman. У нее… У нее нет ко мне отвращения?
– Отвращения? Да почему же? Нет, совсем нет.
– Иногда… бывают… такие непреодолимые антипатии.
– Да нет же, нет.
Одним словом, мы долго говорили об этом.
Я говорила о ней как о святой, какой помню ее с тех пор, как поняла ее положение.
Было поздно, я пошла спать. У себя я бы поужинала, читала, писала.
Сегодня в восемь часов утра мы должны были уехать в Полтаву, но явилась Елена К., мать Паши, очень любезная, немного аффектированная.
Мы вместе пили чай и потом уехали. Отцу моему нужно быть в городе для председательства.
Холодно, по временам идет дождь. Гуляя, я зашла к фотографу; я снялась крестьянкой, стоя, сидя, в лежачем положении, как будто спящей. Мы встретили Г.
– Вы видели мою дочь? – спросил отец.
– Да, я видел ее…
– Лучше не найдешь, не правда ли? И нет, и не было подобной ей.
– Извините, были в те времена, когда существовал Олимп.
– Я вижу, что вы умеете говорить комплименты.
Этот господин довольно дурен собой, довольно черноволос, довольно порядочный, довольно светский, немного авантюрист, игрок и довольно честный человек. В Полтаве его считают самым образованным и порядочным человеком.
При первом морозе я надела мою зимнюю шубку; она была уложена и еще сохранила тот запах, какой имела в Риме, – и этот запах, этот мех!..
Заметили ли вы, что для того, чтобы перенестись в какое-нибудь место, достаточно вспомнить запах, воздух, цвет?.. Провести зиму в Париже? О! Нет!..
26 сентября
Я плачу от скуки; мне хочется уехать, я здесь чувствую себя несчастной, теряю время, жизнь, страдаю и раздражена до последней степени.
Эта жизнь меня измучила. Господи, Иисусе Христе, избавь меня от этой муки!
27 сентября
Вчера я была в отчаянии: мне казалось, что я на всю жизнь заключена в России; это приводило меня в неистовство, я готова была лезть на стену и горько плакать.
Мать Паши стесняет меня. Почему? Потому что она сказала несколько фраз, по которым я вижу, в каких восторженных выражениях ее сын говорил с нею обо мне. Когда же я стала настаивать на том, чтобы она уговорила его приехать, она ответила полушутя-полусерьезно:
– Нет, нет, пусть он останется там. Тебе здесь скучно, тебе нечего делать, и ты его мучишь; он приехал ко мне совсем рассеянный и измученный.
На это я отвечала с большой сдержанностью:
– Я не считаю Пашу таким человеком, который может оскорбляться дружелюбными шутками. Я шучу и немножко дразню его потому, что он мне близкий родственник, почти брат.
Она долго смотрела на меня и сказала:
– Знаете, в чем состоит верх сумасшествия?
– Нет.
– В том, чтобы влюбиться в Мусю.
Инстинктивно связывая эту фразу с другими, я краснею до ушей.
1 октября
Мы были у князя Сергея Кочубея. Отец оделся отлично, даже надел слишком светлые перчатки. Я была в белом, как на скачках в Неаполе, только шляпа была в черных перьях и такого фасона, который в России признан образцом хорошего тона; я не люблю этого фасона, но он подходит к случаю.
Имение князя в восьми верстах от Гавронцев – это знаменитая Диканька, воспетая Пушкиным вместе с любовью Мазепы и Марии Кочубей.
Особенно хорошо устроено было имение князем Виктором Павловичем Кочубеем, великим канцлером империи, замечательным государственным человеком, отцом нынешнего князя.
По красоте сада, парка, строений Диканька может соперничать с виллами Боргезе и Дориа в Риме. Исключая неподражаемые и заменимые развалины, Диканька, пожалуй, даже богаче, это почти городок. Я не считаю крестьянских изб, а говорю только о доме и службах. И это среди Малороссии! Как жаль, что даже не подозревают о существовании этого места. Там несколько дворов, конюшен, фабрик, машин, мастерских. У князя мания строить, фабриковать, отделывать. Но лишь только войдешь в дом, всякое сходство с Италией исчезает. Передняя убрана бедно в сравнении с остальными комнатами, и вы входите в прекрасный барский дом: этого блеска, этого величия, этого божественного искусства, которое приводит вас в восторг в дворцах Италии, нет и следа.
Князь – человек лет 50–55, овдовевший, кажется, года два тому назад. Это типичный русский вельможа, один из людей старого времени, на которых уже начинают смотреть как на существа иного рода, чем мы сами.
Его манеры и разговор сначала смутили меня, так как я успела уже отвыкнуть от общества, но через пять минут я была очень довольна.
Он повел меня под руку показать свои лучшие картины, через все залы. Столовая великолепна. Я села на почетное место направо, налево – князь и отец. Дальше сели несколько человек, которые не были представлены и скромно заняли свои места, точно средневековые ленники.
Все шло отлично, но вдруг у меня закружилась голова; я встала из-за стола, впрочем, когда уже кончили.
Войдя в мавританскую гостиную, я села, и мне чуть не сделалось дурно. Мне показывали картины, статуэтки, портрет князя Василия и его забрызганную кровью рубашку, висящую в шкафу, которому портрет служит дверцей. Нас повели смотреть лошадей, но я ничего не видела, и мы должны были уехать.
14 октября
Я получила из Парижа платья. Одевшись, я вышла гулять с Полем.
Полтава более интересный город, чем думают. Прежде всего, достойна внимания маленькая церковь Петра Великого. Она деревянная, и для сохранения ее сделаны снаружи стены из кирпичей, между ними и стенами церкви свободно помещается человек.
Рядом с церковью находится колонна на том самом месте, где государь, выиграв битву 1709 года, отдыхал, сидя на камне. Колонна вылита из бронзы.
Я вошла в старую деревянную церковь, стала на колени и три раза поклонилась в землю. Говорят, что если молиться так в церкви, где находишься в первый раз, то сбудется то, о чем молишься.
Продолжая осматривать достопримечательности, я отправилась в большой полтавский монастырь.
Он стоит на вершине второго холма. Полтава построена на двух холмах.
Там замечателен только деревянный иконостас, удивительной резной работы.
Тут же похоронен мой прадед, отец дедушки Бабанина; я поклонилась его могиле.
17 октября
Мы играли в крокет.
– Паша, что бы вы сделали с человеком, который бы меня оскорбил, смертельно оскорбил?
– Я бы убил его, – ответил он просто.
– У вас прекрасные слова на языке!!! Но вы смеетесь, Паша.
– А вы?
Он называет меня бесом, ураганом, демоном, бурей… Все это со вчерашнего дня.
Я только тогда становлюсь более спокойной, когда выражаю противоречивые мнения о любви.
У моего двоюродного брата замечательно широкие взгляды, и Данте мог бы позаимствовать у него божественную любовь к Беатриче.
– Я, конечно, влюблюсь, но не женюсь, – сказал он.
– Ведь за такие речи стоит высечь человека!
– Потому, – продолжал он, – что я бы желал, чтобы любовь моя длилась вечно, по крайней мере, в воображении, сохраняя божественную чистоту и силу. Брак уничтожает любовь именно потому, что дает ее.
– О! О! – сказала я.
– Отлично! – заметила его мать, пока нелюдимый оратор краснел, смущенный собственными словами.
А в это время я смотрелась в зеркало и подрезала челку, сделавшуюся слишком длинной.
– Вот вам, – сказала я Паше, бросая ему прядь золотистых нитей, – я даю вам это на память.
Он не только взял их, но даже голос у него задрожал; а когда я хотела отнять их, он так уморительно посмотрел на меня, как смотрит ребенок, завладевший игрушкой, которая кажется ему сокровищем.
Я дала ему читать «Коринну», и он ушел. Коринна и лорд Мелвиль пешком переходят через мост Св. Ангела… «Когда я переходил через этот мост, – говорит лорд Мелвиль, возвращаясь из Капитолия, – я в первый раз долго думал о вас». Я не знаю, что есть особенного в этой фразе… но я буквально замерла, прочитав ее вчера вечером. Впрочем, я всегда бываю так поражена, когда прочитываю ее.
Не говорили ли и мне чего-нибудь подобного? В этих немногих простых словах заключается какая-то волшебная сила, может быть, это их простота? Или же это ассоциация?
20 октября
В восемь часов утра, в серую погоду, мы уже отправились на охоту. Земля была покрыта легким слоем снега, как лицо m-me Б. пудрой. Мишель привел свою стаю борзых собак. Как только мы выехали в поле, я села верхом, не снимая шубки, которую я перевязала вокруг талии ремнем; мне дали держать трех собак.
Иней, снег, лошади, острые мордочки борзых собак – все это радовало меня; я торжествовала.
Паша тоже ехал верхом и был очень любезен, что к нему совсем не идет и смущает меня. Но этими переменами настроения нельзя пренебрегать.
– Паша, есть одна личность, которая меня страшно стесняет (успокойтесь, это не тетя Т.), и мне хотелось бы избавиться от этой личности приличным образом.
– Хорошо, располагайте мной.
– Правда?
– Попытайтесь.
– Честное слово? И вы ничего не скажете?
– Честное слово, никому ничего…
Благодаря нескольким словам, которыми мы обменялись, между мною и «зеленым человеком» установилась известного рода связь.
Мы иногда говорим между собой шепотом, по-английски, в отсутствие его матери.
Паша пытался продолжать быть любезным. Но я дала ему поцеловать обе мои руки, прочесть стихотворение Виктора Гюго и вообще обращалась с ним как с братом, кто он и есть на самом деле.
23 октября
Вчера, усевшись в карету, запряженную шестеркой, мы уехали в Полтаву.
Переезд был веселый. Слезы в час отъезда из родительского дома вызвали всеобщие излияния, а Паша воскликнул, что влюблен безумно.
– Клянусь, что это правда, но не скажу в кого.
– Если вы влюблены не в меня, – воскликнула я, – то я вас проклинаю. Моим ногам было холодно, он снял свою шубу и покрыл мне ноги.
– Паша, побожитесь, что скажете мне правду.
– Клянусь!
– В кого вы влюблены?
– Зачем?
– Мне это интересно, мы родственники, я любопытна, и потом… Это меня забавляет.
– Видите, это вас забавляет!
– Конечно, но не понимайте меня в дурном смысле; я интересуюсь вами, и вы хороший человек.
– Вы смеетесь, а потом будете насмехаться надо мной.
– Вот вам моя рука и мое слово, что я не смеюсь.
Но лицо мое смеялось.
– В кого вы влюблены?
– В вас.
– Правда?
– Честное слово! Я никогда не говорю так, как говорят в романах, и разве нужно падать на колени и говорить кучу глупостей?
– О! Мой милый, вы подражаете кому-то, кого я знаю.
– Как хотите, Муся, а я говорю правду.
– Но это безумие!
– Да, конечно, и это-то мне и нравится! Это безнадежная любовь, а мне это и нужно. Мне нужно страдать, мучиться, а потом… мне будет о чем думать, о чем сожалеть. Я буду терзаться, и в этом будет мое счастье.
– Молодо-зелено!
– Молодо? Зелено?
– Но мы брат и сестра.
– Нет, мы двоюродные…
– Это одно и то же.
– О, нет!
Тогда я принялась дразнить моего поклонника. И всегда не тот, кого я ищу!
Я уехала с Полем, отослав Пашу в Гавронцы. На станции мы встретили графа М., и он оказал мне несколько незначительных услуг.
Меня разбудили на третьей станции, и я, вся заспанная, прошла мимо графа и слышала, как он сказал:
– Я нарочно не засыпал, чтобы видеть, как вы пройдете.
Меня ждали в Черняковке, но я была так разбита, что сейчас же легла спать.
Дядя Степан и Александр с женами и детьми пришли ко мне, когда я уже легла.
Мне хочется вернуться к моим! Уже здесь я чувствую себя лучше. Там я буду спокойна.
Я видела мою кормилицу Марфу.
24 октября
У меня не было детства, но дом, в котором я жила ребенком, мне симпатичен, если не дорог. Мне знакомы все люди и предметы. Слуги, переходившие от отца к сыну и состарившиеся в этом доме, удивились, увидев меня такой большой, и я бы предавалась приятным воспоминаниям, если бы не была занята следующими соображениями.
Меня называли мухой, но я не могла выговорить х и говорила «мука». Мрачное совпадение.
Я видела во сне А. в первый раз после отъезда из Ниццы.
Доминика с дочерью приехали сегодня вечером; я писала им утром. Долго сидели в столовой, которая соединяется с залой посредством арки, без всякой драпировки.
Мое платье «Agrippine» имеет большой успех. Я пела, не переставая ходить, чтобы преодолеть этот страх, который всякий раз охватывает меня, когда я начинаю петь.
К чему писать? О чем мне рассказывать? Я, вероятно, навожу отчаянную скуку… Терпение!
Сикст V был только свинопасом, и Сикст V сделался папой!
Будем писать дальше.
Тетя Леля вносит точно струю воздуха из Рима… Мне казалось, что мы только что вернулись из оперы или с Пинчио.
Громадная библиотека дедушки представляет большой выбор любопытных и редких сочинений. Я выбрала из них несколько, чтобы читать с тетей Лелей.
26 октября
Благословляю железные дороги! Мы в Харькове, в знаменитой гостинице Андрие, и уехали на тридцатилетних дедушкиных лошадях. Отъезд был взрывом искренней, простой веселости. Даже дышишь иначе с людьми, которые желают вам только добра.
Гнев мой прошел, и я опять думаю о Пьетро. В театре я не слушала пьесы и мечтала, но я в том возрасте, когда мечтаешь о чем бы то ни было, лишь бы мечтать.
Ехать ли мне в Рим или работать в Париже?
Россия нестерпима в том виде, в каком я вижу ее благодаря обстоятельствам. Отец вызывает меня телеграммой.
27 октября
Вернувшись из Чернякова в наше старое гнездо, я нашла письмо от папа. Весь вечер дядя Александр и жена его советовали мне увезти отца в Рим.
– Ты можешь это сделать, – сказала тетя Надя, – сделай это – будет настоящее счастье.
Я отвечала односложно, так как дала себе нечто вроде обещания не говорить об этом ни с кем.
Придя к себе, я сняла один за другим все образа, оправленные в золото и серебро. Я поставлю их в мою образную, там.
28 октября
Я сняла картины так же, как и образа. Говорят, есть одна картина Веронезе, одна Дольчи, я это узнаю в Ницце. Принявшись снимать картины, я захотела увезти с собой все. Дядя Александр казался недовольным, но мне трудно было сделать только первый шаг, а потом я продолжала спокойно.
Тетя Надя попечительница соседних школ. Она с удивительной энергией взялась за дело просвещения здешних крестьян.
Сегодня утром я вместе с тетей Надей побывала в ее школе, а потом разбирала старые платья и раздавала их направо и налево. Явилась целая толпа женщин, надо было дать что-нибудь каждой.
Вероятно, я больше никогда не увижу Черняковки. Я долго бродила из комнаты в комнату, и это мне было очень приятно. Обыкновенно смеются над людьми, для которых мебель, картины составляют приятные воспоминания, так что они приветствуют их и видят друзей в этих кусочках дерева и материи, которые, послужив вам, приобретают частицу вашей жизни и кажутся вам частью вашего существования. Смейтесь! Самые нежные чувства всего легче обратить в смешное; а где царствует насмешка, там нет места нежным чувствам.
1 ноября
Когда Поль вышел, я осталась наедине с этим честным и чудесным существом, которого зовут Пашей.
– Так я вам все еще нравлюсь?
– Ах, Муся, как мне говорить об этом с вами?
– Очень просто. К чему молчать? Почему не быть прямым и откровенным? Я не буду смеяться, когда я смеюсь, это нервы, и ничего больше. Так я вам больше не нравлюсь?
– Почему?
– Потому, потому что… Я сама не знаю.
– В этом нельзя отдать себе отчета.
– Если я вам не нравлюсь, вы можете это сказать – вы достаточно для того откровенны, а я достаточно равнодушна. Скажите, что именно – нос? Или глаза?
– Видно, что вы никогда не любили.
– Почему?
– Потому что с той минуты, когда начинаешь разбирать черты, когда нос находишь лучше глаз, а глаза лучше рта… это значит, что уже больше не любишь.
– Это совершенно верно. Кто вам это сказал?
– Никто.
– Улисс?
– Нет, – сказал он, – я не знаю, что в вас мне нравится… Скажу вам откровенно: ваш вид, ваши манеры, особенно ваш характер.
– Что же, у меня хороший характер?
– Да, если бы вы только не играли комедии, чего невозможно делать всегда.
– И это правда… А мое лицо?
– Есть красота, которую называют классической.
– Да, мы это знаем. Далее?
– Далее, есть женщины, которые проходят мимо вас, которых называют красивыми и о которых потом не думаешь… Но есть лица и красивые и очаровательные… которые оставляют впечатление надолго, возбуждают чувство приятное… прелестное.
– Отлично… А потом?
– Как вы меня допрашиваете?
– Я пользуюсь случаем, чтобы узнать немножко, что обо мне думают; я не скоро встречу другого, кого мне можно будет так допрашивать, не компрометируя себя… И как явилось в вас это чувство – вдруг или мало-помалу?
– Мало-помалу.
– Гм… Гм!..
– Это лучше, это прочнее. Что полюбишь в один день, то в один день и разлюбишь.
Разговор длился еще долго, и я почувствовала уважение к этому человеку, для которого любовь – религия и который никогда не замарал ее ни словом, ни взглядом.
– Вы любите говорить о любви? – спросила я вдруг.
– Нет, равнодушно говорить о ней – святотатство.
– Но это забавно.
– Забавно? – воскликнул он.
– Ах, Паша, жизнь – ничтожность!.. А я была когда-нибудь влюблена?
– Никогда! – отвечал он.
– Из чего вы это заключаете?
– Из вашего характера; вы можете любить только по капризу… Сегодня человека, завтра платье, послезавтра кошку.
– Я в восторге, когда обо мне так думают. А вы, мой милый брат, были когда-нибудь влюблены?
– Я вам говорил. Я вам говорил, и вы знаете.
– Нет, нет, я говорю не о том, – сказала я с живостью, – но прежде?
– Никогда.
– Это странно. Иногда мне кажется, что я ошибаюсь и что приняла вас за нечто большее, чем вы есть.
Мы говорили о безразличных вещах, и я ушла к себе. Вот человек… Нет, не будем думать, что он прекрасный – разочарование было бы слишком неприятно. Он признался мне, что будет солдатом.
– Для того, чтобы прославиться, говорю откровенно.
И эта фраза, сказанная из глубины сердца полузастенчиво-полусмело и правдивая, как сама правда, доставила мне огромное удовольствие. Я, может быть, преувеличиваю свои заслуги, но мне кажется, что прежде честолюбие было ему незнакомо. Я помню, как его поразили мои первые слова о честолюбии, и когда я говорила однажды о честолюбии во время рисования, он вдруг встал и начал шагать по комнате, бормоча:
– Нужно что-нибудь сделать, нужно что-нибудь сделать.
2 ноября
Отец придирается ко мне из-за всего. Сто раз мне хочется отправить все к черту.
Только благодаря «историям» отца можно было увезти в Полтаву сегодня вечером. В дворянском собрании концерт. Мне хотелось ехать, чтобы показать себя, но явились препятствия без конца.
Недостаточно еще того, что он не доставил мне ни малейшего удовольствия, удалил людей, которые могли бы быть мне равными, не обращал внимания на все мои намеки и даже просьбы, касающиеся ничтожного любительского спектакля. Это недостаточно! После трех месяцев ласки, внимания, интереса, который я доставляла, любезности я встречаю… сильное сопротивление тому, чтобы я ехала в этот противный концерт. И это еще не все: вышла история с моим туалетом. Требовали, чтобы я надела шерстяное платье, костюм для гулянья. Как это все мелко и недостойно разумных существ!
Да и мне вовсе не нужен был отец. Со мной были тетя Надя и дядя Александр, Поль и Паша, которого я увезла из каприза и к моему же великому неудовольствию.
Отец нашел меня слишком красивой, и это вызвало новую историю: он боялся, что я буду слишком отличаться от полтавских дам, и умолял меня на этот раз одеться иначе, – он, который просил меня одеться таким образом в Харькове. Последствием этого были пара митенок, разорванных в клочки, злобные глаза, невыносимое настроение духа и… никакой перемены в туалете.
Мы приехали в середине концерта; я вошла под руку с отцом с видом женщины, которая уверена, что ею будут любоваться. Тетя Надя, Поль и Паша следовали за мной. Я прошла мимо m-me Абаза, не поклонившись ей, и мы сели рядом с ней в первом ряду. Я была у m-lle Дитрих, которая, сделавшись m-me Абаза, не отдала мне визита. Я держалась самоуверенно и не поклонилась ей, несмотря на все ее взгляды. Нас тотчас же все окружили. Все клубные дураки (клуб находится в том же доме) пришли в залу, «чтобы посмотреть».
Концерт скоро кончился, и мы уехали в сопровождении здешних кавалеров.
– Ты поклонилась m-me Абаза? – спросил меня несколько раз отец.
– Нет.
И я произнесла нравоучение, советуя поменьше презирать других и прежде обращать внимания на себя. Я задела его за живое; он вернулся в клуб и пришел сказать мне, что Абаза ссылается на всех слуг гостиницы и уверяет, что на другой же день отдал мне визит с племянницей.
Впрочем, папа сияет: его осыпали комплиментами на мой счет.
4 ноября
Я должна была предвидеть, что отец будет пользоваться всяким удобным случаем, чтобы отомстить жене. Я говорила это себе неопределенно, но я верила в доброту Бога. Maman не виновата, с таким человеком жить нельзя. Он вдруг обнаружился, и теперь я могу судить.
С утра идет снег, земля вся белая, деревья покрыты инеем, что вечером образует прелестные, неопределенные оттенки. Хотелось бы погрузиться в этот сероватый туман леса; он кажется другим миром. Однако тихое колыхание кареты, чудесный запах первого снега, неопределенность, вечер – все эти успокоительные силы ничуть не уменьшили моего негодования при воспоминании об А., воспоминании, которое преследует меня, преследует, как дикого зверя, не давая мне ни минуты покоя.
Как только мы приехали в деревню и вошли в гостиную, отец начал делать неприятные намеки, но, видя, что я молчу, воскликнул:
– Твоя мать говорит, что я кончу жизнь у нее в деревне! Никогда! Ответить значило бы сейчас уехать. «Еще одна жертва, – думала я, – и, по крайней мере, я все сделала и не буду себя обвинять». Я сидела и не сказала ни слова; но я долго буду помнить эту минуту – вся кровь во мне остановилась, и сердце, на секунду переставшее биться, потом забилось, как птица в предсмертных судорогах.
Я села за стол, все еще молча и с решительным видом. Отец понял свою ошибку и начал находить все дурным, бранить прислугу, чтобы потом оправдаться раздражением.
Вдруг он сел на край моего кресла и обнял меня. Я тотчас же освободилась из его объятий.
– О, нет, – сказала я твердым голосом, в котором на этот раз не слышно было слез, – я не хочу сидеть рядом с тобой.
– Да нет, нет! – Он старался обратить все в шутку. – Мне следовало бы сердиться! – прибавил он. – Да я не сержусь…
Поль Сезанн. Мальчик в красном жилете. 1888–1890
7 ноября
Я разбила зеркало! Смерть или большое несчастье. Это поверье бросает меня в холод, а если взглянуть в окно, становится еще холоднее: все бело, светло-серое небо. Я давно не видала такой картины.
Поль, со свойственной молодости жаждой показать новым лицам новое для них, велел заложить маленькие санки и с торжествующим видом повез меня гулять. Эти сани недостойны своего названия – это просто несколько сколоченных жердей, внутри набросано сено, и все покрыто ковром. Лошадь, находившаяся совсем близко от нас, бросала нам снег в лицо, в рукава, в мои туфли, в глаза. Снежная пыль покрыла мою кружевную косынку на голове, собиралась в ее складках и замерзала.
– Вы сказали, чтобы я ехал за границу в одно время с вами, – вдруг сказал Паша.
– Да, и не из каприза; вы мне оказали бы благодеяние, если бы приехали, и не хотите! Вы ничего не делаете для меня, для кого же будете что-нибудь делать?
– Ведь вы знаете, что я не могу приехать.
– Нет!
– Но вы знаете… Потому что, поехав с вами, я буду продолжать вас видеть, а для меня это будет мучением.
– Почему?
– Потому, что я вас люблю.
– Но вы оказали бы мне такую услугу, если бы согласились приехать!
– Я был бы вам полезен?
– Да.
– Нет, я не могу приехать… Я буду смотреть на вас издалека… И если бы вы знали, – продолжал он тихим и раздирающим душу голосом, – если бы вы знали, как я страдаю! Надо иметь мою силу воли, чтобы не изменять себе и всегда казаться спокойным. Не видя вас больше…
– Вы меня забудете.
– Никогда.
– Но что же?
Голос мой потерял всякий оттенок насмешливости – я была тронута.
– Я не знаю, – сказал он, – но такое положение дел для меня слишком мучительно.
– Бедный!
Я тотчас же спохватилась: это сожаление оскорбительно.
Почему так приятно слышать, когда вам признаются в страданиях, которым вы причина? Чем более несчастен кто-нибудь из любви к вам, тем вы счастливее.
– Поезжайте с нами; отец не хочет брать с собой Поля, поезжайте.
– Я…
– Вы не можете – мы это знаем. Я больше и не прошу вас об этом. Довольно!
Я приняла вид инквизитора или человека, который собирается позабавиться своей злостной проделкой.
– Так я имею честь быть вашей первой страстью? Это чудесно! Но вы лжец.
– Потому что мой голос не изменяется и потому что я не плачу! У меня железная воля, вот и все.
– А я хотела вам что-то дать.
– Что?
– Вот это.
Я и показала ему образок Божьей Матери, который висел у меня на шее на белой ленте.
– Дайте мне это.
– Вы недостойны.
– Муся, – сказал он, вздыхая, – уверяю вас, что я достоин. Я чувствую привязанность собаки, беспредельную преданность.
– Подойдите, молодой человек, я дам вам мое благословение.
– Благословение?
– Да, от чистого сердца. Если я заставляю вас говорить так, то для того, чтобы знать, что чувствуют те, кто любит; ведь и я могу когда-нибудь полюбить… Мне нужно знать признаки.
– Дайте мне образок, – сказал Паша, не спускавший с него глаз.
Он встал на колени на тот стул, на спинку которого я опиралась руками, и хотел взять образок, но я остановила его:
– Нет, нет, наденьте на шею.
Я надела ему на шею образок, еще теплый от моего тела.
– О, – сказал он, – за это спасибо, большое спасибо! И он в первый раз сам от себя поцеловал мне руку.
8 ноября
Снег лежит на аршин глубиной, но погода ясная и хорошая. Мы опять поехали кататься на санях, так же дурно устроенных, хотя и побольше: снег еще недостаточно тверд, чтобы вынести тяжелые сани, обитые железом.
Поль правил и, пользуясь минутой, когда Паша сидел наиболее неловко, погонял лошадей, осыпая нас снегом, вызывая крики Паши и смех моей уважаемой особы. Он возил нас по таким дорогам и сугробам, что мы все время просили его сжалиться и хохотали. Прогулка в санях, как бы серьезны ни были люди, всегда детская игра.
Поль сидел от меня направо, Паша – налево; я велела ему протянуть сзади руку, и таким образом составилось очень удобное кресло.
Холод раздражал меня меньше; на мне были только шубка и меховая шапочка, так что я могла свободно двигаться и говорить.
Вечером я села за рояль и сыграла «Чтение письма Венеры» – чудесное место из «Прекрасной Елены».
«Прекрасная Елена» – прелестная вещь. Тогда Оффенбах только начинал и еще не писал грошовых опереток.
Я играла долго… не знаю что – что-то тихое и страстное, нежное и прелестное, как только могут быть «Песни без слов» Мендельсона, верно понятые.
Я выпила четыре чашки чаю, говоря о музыке.
– На меня она очень действует, – сказал Паша, – я странно себя чувствую, делаюсь… сентиментальным… и, слушая ее, говорю, что нельзя выразить иначе.
– Это предательница, Паша. Не доверяйте музыке: под ее влиянием делаешь такие вещи, каких не сделал бы в спокойном состоянии. Она забирает вас, запутывает, увлекает… и это ужасно.
Я говорила о Риме и о ясновидящем Alexis. Паша слушал и вздыхал в своем углу; когда же он подошел к свету, выражение его лица сказало мне яснее всех слов в мире, как он страдает.
(Заметьте это яростное тщеславие, эту жажду видеть страдания, которые причиняешь. Я пошлая кокетка или… нет, я женщина, вот и все.)
– Мы что-то грустны сегодня вечером, – сказала я мягко.
– Да, – отвечал он с усилием, – вы играли… и я не знаю… у меня, кажется, лихорадка.
– Идите спать, мой друг, и я также пойду наверх. Только помогите мне отнести книги.
9 ноября
Мое пребывание здесь, по крайней мере, дало мне возможность познакомиться с блестящей литературой моей родины. Но о чем говорят эти поэты и писатели? О том, что там.
Сначала укажем на Гоголя, нашего гениального юмориста. Его описание Рима вызывало у меня слезы и стоны, и, только прочитав его, можно составить себе понятие об этом описании.
Завтра оно будет переведено. И те, кто имел счастье видеть Рим, поймут мое волнение.
О, когда же наконец я вырвусь из этой страны – серой, холодной, неприветной даже летом, даже при солнечном свете? Листья мелки, и небо не так сине, как… там.
10 ноября
До сих пор я все читала… Мне надоел мой дневник, я тревожусь и унываю… Рим… я ничего не могу сказать.
Я просидела минут пять с поднятым вверх пером и не знаю, что сказать, – так полно мое сердце. Но приближается время, когда я увижу А. Мне страшно его увидеть. И все-таки я думаю, что не люблю его, я даже уверена в этом. Но это воспоминание, но мое горе, но беспокойство за будущее, боязнь оскорбления… А.! Как часто я пишу это слово и как оно мне противно!
Вы думаете, что я желаю умереть? Безумные! Я люблю жизнь такой, какова она есть, и горе, и муки, и слезы посылаются мне Богом, я их благословляю, и я счастлива!
Право… я так приучила себя к мысли, что я несчастна, что, только углубившись в себя, запершись у себя одна, вдали от людей и от мира, я говорю, что, пожалуй, меня нечего особенно жалеть…
Зачем же тогда плакать?
11 ноября
Сегодня, в восемь часов утра, я уехала из Гавронцев… и не без некоторого чувства сожаления?.. Нет, нарушенной привычки.
Вся прислуга вышла на двор; я всем дала денег, а экономке – золотой браслет.
Снег тает, но его достаточно, чтобы осыпать нас дорогой, и, несмотря на все мое желание не закрывать лица, чтобы делать философские наблюдения, как Прюдом, я принуждена совсем закутаться.
Я отправилась прямо к дяде Александру, имя которого я разобрала на дощечке, и он рассказал мне следующий случай.
Один господин путешествовал вместе с офицером и сел с ним в один вагон. Разговор зашел о новом законе, касающемся лошадей.
– Это вы посланы в наш уезд? – спрашивает военный.
– Да.
– Так значит, вы записывали буланых лошадей нашего предводителя Башкирцева?
– Да, я.
И офицер начал разбирать их достоинства и недостатки.
– Вы знаете дочь Башкирцева?
– Нет, не имею чести. Я только видел ее; но я знаю Башкирцева. Дочь его прелестная особа, настоящая красавица, но вместе с тем независимая, оригинальная, наивная. Я встретил ее в вагоне около Петербурга, и она нас положительно поразила – меня и моих товарищей.
– Это мне тем более приятно слышать, что я ее дядя.
– А моя фамилия Сумароков. А ваша?
– Бабанин.
– Очень приятно.
– Очень рад. – И т. д. и т. д.
Граф все время повторял, что мое место в Петербурге и что непростительно держать меня в Полтаве. Так вот как! Милейший папа!
– Но вы, наверно, все это выдумали, дядя, – сказала я Александру.
– Чтобы мне никогда не видеть жены и детей, если я сочинил хоть одно слово, пусть гром падет на мою голову!
Отец бесится, на что я не обращаю ни малейшего внимания.
Полтава. 15 ноября
Я уехала с отцом в воскресенье вечером, повидавшись в последние два дня моего пребывания в России с князем Мишелем и другими.
На поезд провожали меня только родные, но много чужих смотрело на нас с любопытством.
Один переезд до Вены стоит мне около 500 рублей. Я за все заплатила сама. Лошади едут с нами под присмотром Шоколада и Кузьмы, камердинера отца.
Я хотела взять кого-нибудь другого, но Кузьма, горя желанием путешествовать, пришел просить по русскому обычаю, чтобы его взяли с собой. Смотреть за лошадьми будет Шоколад, так как Кузьма что-то вроде лунатика, легко может забыться, считая звезды, и дать украсть не только лошадей, но и свою одежду.
Он женился на девушке, которая давно его любила, и после венца убежал в сад, где проплакал более двух часов как безумный. Мне кажется, он немного тронут и его замечательная глупость сказывается на его растерянном виде.
Отец не переставал сердиться. Я же гуляла по станции, как у себя дома. Паша держался в стороне и не спускал с меня глаз.
В последнюю минуту заметили, что не хватает одного пакета; поднялась суматоха, начали бегать во все стороны. Амалия оправдывалась, я упрекала ее в том, что она дурно исполняет свои обязанности. Публика слушала и забавлялась, и я, видя это, удвоила мое красноречие на языке Данта. Меня это занимало особенно потому, что поезд ждал нас. Вот что хорошо в этой непривлекательной стране: тут можно царствовать.
Дядя Александр, Поль и Паша вошли в вагон; но раздался третий звонок, и все столпились вокруг меня.
– Поль, Поль, – говорил Паша, – пусти меня, по крайней мере, проститься нею.
– Пустите его, – сказала я.
Он поцеловал мне руку, и я поцеловала его в щеку, около глаза. В России это принято, но я еще никогда не подчинялась этому обычаю. Ждали только свистка, который не замедлил последовать.
– Ну, что же вы? – сказала я.
– Еще есть время, – сказал Паша.
Поезд качнулся и тихо двинулся, а Паша заговорил быстро сам не зная что:
– До свидания, до свидания, сходите же…
– Прощайте, до свидания.
И он спрыгнул на платформу, еще раз поцеловав мне руку; это был поцелуй верной и преданной собаки.
– Что же? – кричал отец из отделения, так как мы были в коридоре. Я вошла к отцу, но была так огорчена причиненным горем, что тотчас же легла и закрыла глаза, чтобы думать свободно.
Бедный Паша! Милый и благородный человек! Если мне жаль чего-нибудь в России, то только это золотое сердце, этот благородный характер, эту прямую душу.
Действительно ли я огорчена? Да, можно ли не чувствовать гордости при сознании, что имеешь такого друга!
Эту ночь со вторника на среду я спала очень хорошо в постели, как в гостинице.
Я в Вене. В физическом отношении мое путешествие было прекрасно: я хорошо спала, ела и чувствую себя чистой. Это главное, и возможно только в России, где топят дровами и где в вагонах есть уборные.
Мой отец был очень мил; мы играли в карты и смеялись над путешественниками.
Здесь пахнет Европой. Высокие, гордые дома поднимают мой дух почти до верхних этажей. Низенькие жилища Полтавы давили меня.
18 ноября
Сегодня утром в пять часов мы приехали в Париж.
Мы нашли в Grand-Hotel депешу от мамы. Помещение взяли в первом этаже. Я приняла ванну и стала ждать маму. Но я так огорчена, что ничего более меня не трогает.
Она приехала с Диной; Дина счастлива, спокойна и продолжает исполнять роль сестры милосердия, ангела-хранителя.
Вы понимаете, что никогда еще я не была в таком затруднении. Папа и мама! Я не знала, куда деваться.
Произошло несколько неловкостей, но ничего особенно тревожного.
Мы выехали, мама, папа, я и Дина. Обедали вместе и отправились в театр. Я сидела в самом темном углу ложи, и глаза мои так отяжелели от сна, что я почти ничего не видела.
Я легла с мамой, и, вместо нежных слов после такого долгого отсутствия, у меня вылился целый поток жалоб, который, однако, скоро иссяк, так как я заснула.
21 ноября
После обеда мы отправились смотреть «Павла и Виргинию», новую оперу Массэ, которую очень хвалят.
Парижские ложи – орудия пытки: нас было четверо в лучшей ложе, стоящей 150 франков, и мы не могли двинуться. Промежуток в час или два между обедом и театром, большая хорошая ложа, красивое и удобное платье; вот при каких условиях можно понимать и обожать музыку. Я была в условиях как раз противоположных, что и мешало мне слушать обоими ушами Энгали и смотреть во все глаза на Капуля, любимца дам. Уверенный в успехе, счастливейший артист ломался, как в фехтовальной зале, испуская раздирающие звуки.
Уже два часа ночи.
Мама, которая все забывает для моего благополучия, долго говорила с отцом. Но мой отец отвечал шутками или же фразами возмутительно индифферентными.
Наконец он сказал, что вполне понимает мой поступок, что даже враги мамы считали его вполне натуральным и что следует, чтобы его дочь, достигнув шестнадцати лет, имела покровителем отца. Он обещал приехать в Рим, как мы и хотели. Если бы я могла верить!
25 ноября
До вечера все шло ни хорошо, ни худо, но вдруг начался разговор очень серьезный, очень сдержанный, очень вежливый, о моей будущности. Мама выражалась во всех отношениях надлежащим образом.
Но надо было видеть в это время моего отца. Он опускал глаза, свистел, отговаривался.
Существует малороссийский диалог, который характеризует нацию и который в то же время может дать понятие о манере моего отца.
Два крестьянина:
Первый крестьянин. Мы шли вместе по большой дороге?
Второй крестьянин. Шли.
Первый. Мы нашли шубу?
Второй. Нашли.
Первый. Я тебе ее дал?
Второй. Дал.
Первый. Ты ее взял?
Второй. Взял.
Первый. Где она?
Второй. Что?
Первый. Шуба.
Второй. Какая шуба?
Первый. Да мы шли по большой дороге?
Второй. Шли.
Первый. Мы нашли шубу?
Второй. Нашли.
Первый. Я ее тебе дал?
Второй. Дал.
Первый. Ты ее взял?
Второй. Взял.
Первый. Где же она?
Второй. Что?
Первый. Шуба!
Второй. Какая шуба?
И так до бесконечности. Только так как сюжет не был смешон для меня, я задыхалась, что-то поднималось к горлу и причиняло мне страшную боль, особенно потому, что я не позволяла себе плакать.
Я попросила позволения вернуться домой с Диной, оставив маму с ее мужем в русском ресторане.
Целый час я оставалась неподвижна, со сжатыми губами, со сдавленной грудью, не сознавая ни своих мыслей, ни того, что делалось вокруг меня.
Тогда отец начал целовать мои волосы, руки, лицо с притворными жалобами и сказал мне:
– В тот день, когда ты будешь действительно нуждаться в помощи или покровительстве, скажи мне одно слово, и я протяну тебе руки.
Я собрала мои последние силы и твердым голосом отвечала:
– Этот день настал, где же ваша рука?
– Ты теперь еще не нуждаешься, – ответил он поспешно.
– Да, я нуждаюсь.
– Нет, нет.
И он заговорил о другом.
– Вы, папа, думаете, что этот день настанет, когда мне понадобятся деньги? В этот день я сделаюсь певицей или учительницей музыки, но ничего не попрошу у вас!
Он не обиделся, ему достаточно было видеть меня такой несчастной, как только я могу быть.
Мне сказали, что этот господин Л. ищет богатую и умную жену, которая сумела бы создать необходимый для него политический салон.
По отношению ко мне такая претензия показалась мне смешной, и я ответила, что у меня нет никакого желания выходить замуж. Баронесса тем не менее продолжала настаивать на всех прелестях такой партии.
– Во всяком случае, – сказала она, – уверяю вас, следовало бы познакомиться с ними.
– Познакомиться? Что ж? Я ничего не имею против.
– Это друзья Кассаньяка, ярые бонапартисты. Вы ведь любите эти конспирации, политику…
Сегодняшнее утро вознаградило меня за мое горе. Мама разбудила меня и вручила мне записку от madam М. Она приглашает нас сегодня на завтрак и посылает мне записку от Кассаньяка.
Милая, славная женщина!
Отец мой собирался было ночью уехать, но раздумал, когда получил приглашение. В парадном сюртуке, с пожалованным ему орденом в петлице, он с чарующей покорностью отправился со мной в 4-й этаж улицы Сент-Онорэ, 420.
На лестнице мы столкнулись с верным Бланом. Почему его называют верным? Не знаю, но мне кажется, это прилагательное вполне подходит к нему.
Верный Блан снял с меня шубу и шляпу. Мы вместе вошли в гостиную. Мой милый Кассаньяк был уже там. Он занял своей особой добрую половину гостиной. Начались представления. Мой отец держал себя премило – как и все русские, он в восторге от Кассаньяка.
Нас угостили таким роскошным завтраком, какого я совершенно не ожидала. Я сидела между Кассаньяком и Бланом. Беседовала я главным образом с Бланом, хотя горела желанием побеседовать с Кассаньяком. Но вид у него был до того важный, что я боялась показаться дерзкой и навязчивой и разыгрывала роль Виргинии.
Кассаньяк знает, что мама была в Париже два месяца тому назад. Заговорили как-то о фотографиях, и тогда он обратился ко мне:
– Я приготовил одну карточку для вас, но не посмел предложить ее вам, не испросив предварительного разрешения у вашей матушки.
– Господи, как строго господин де Кассаньяк соблюдает приличия, – произнес Блан своим насмешливым тоном.
– Это вас, кажется, удивляет? – спросила я.
Заметив, что я ела только виноград, он беспрерывно накладывал мне его на тарелку. Я опрокинула свой бокал, который увлек за собой и стоявший тут стакан.
26 ноября
Мой отец уехал! После четырех месяцев в первый раз я вздохнула свободно.
Сегодня мы ездили в Версаль. По дороге туда в наш вагон вошел какой-то еще довольно молодой француз, видимо галантный и любезный, – француз par exellence. Однако он произвел на меня такое впечатление, какое производят многие французы этого типа. Судя по внешним их приемам, они добры, но в глубине их души таится грубость и злость, они тщеславны и завистливы, остроумны и ограниченны. Когда он вошел в вагон, баронесса обратилась ко мне:
– Позвольте, дорогое дитя, представить вам г-на Л. – главу своей партии и, следовательно, вашего друга.
Я поклонилась, а баронесса продолжала знакомить между собою остальных.
– Есть еще место в вагоне? – вдруг раздался снаружи неприятный, резкий голос.
– А, это мой сын, – сказал г-н Л. – Да, место есть, войди. Представили нам и сына, который оказался поразительно похожим на отца. Это был молодой человек, сильный брюнет, что называется, кровь с молоком. Ему можно было дать лет двадцать семь – двадцать восемь. Он носил эспаньолку и усы.
Пока нас знакомили, г-н Л.-отец переводил свои взоры с Дины на меня, желая угадать, которая из нас она. Я не хотела помочь ему в этом, так как и отец, и сын не понравились мне с первого же взгляда.
Молодой депутат начал говорить со мной о политике. В ответ на одну из его фраз я произнесла:
– Это мне говорил вчера г-н де Кассаньяк.
– Вы видели Поля де Кассаньяка?
– Да.
– Где же?
– У нас.
– У вас? Слышишь, папа, Поль де Кассаньяк имел честь быть представленным вчера госпоже Башкирцевой!
Он почти прокричал эти слова, как бы сердясь и желая спросить, зачем его впутали в эту историю, раз сам Поль де Кассаньяк…
– О нет, холодно, – ответила я, – мы познакомились не вчера, а четыре месяца тому назад.
Я присутствовала на заседании палаты депутатов. Обсуждали вопрос о церковном бюджете. Я кое-что помнила из газетных сообщений и теперь, внимательно слушая, быстро очутилась в курсе дела.
Г-н Л.-отец подходил к нам два раза во время заседания и указал нам всех знаменитостей, находившихся в зале. Одни сидели, сжав колени руками, и вся их поза как бы говорила, что они уже окончательно устали. Другие закрывали лицо руками или делали неопределенные жесты, которые, быть может, означали: остановитесь, будет уж!..
На скамьях левого и правого центра крайняя пестрота. На скамьях правой сидят все люди красивые, хорошо сложенные, хорошо одетые. Вид у них важный и манеры отменные. Все они стоят за Бога и за короля. На крайней правой – почти такие же: все люди моего лагеря.
Все эти партии просто приводят меня в отчаяние!..
Не будем притворяться насчет этой встречи с Л.
Это настоящие смотрины, и меня ужаснул цинизм отца.
Он наклонился к madam де М. и долго шептал ей что-то на ухо, словно меня там вовсе не было. Между прочим, он сказал также:
– Я уверен, что она нравится моему сыну. Нужно только узнать ее мнение о нем.
Кровь бросилась мне в лицо, и у меня было мелькнула уже мысль повернуться в его сторону и измерить его таким взглядом, который тотчас же прояснил бы ему мои мысли на этот счет. Но я сдержалась и стала рассматривать в лорнет графа де Мэна, легитимиста, красивого и очень симпатичного человека. Это честный и глубоко религиозный человек.
В общем заседание прошло очень спокойно.
Когда мы вышли, дождь все еще лил. Не хотелось искать кареты, и мы выехали в омнибусе. Чувствовалась натянутость и крайняя неловкость.
Серьезные причины задержали сына в палате. Отец поехал с нами и вел себя как мальчишка. Он только и делал, что болтал о женских фигурках, об икрах, о ножках.
Эти господа думают, что я увлекаюсь Кассаньяком. Поэтому они не находят ничего лучшего, как злословить о нем в моем присутствии.
Кассаньяк сказал правду: его не было вчера в палате, а сегодня он уехал вечером.
Результатом этого заседания для меня было… еще большее обожание Рима…
27 ноября Сегодня утром графиня передала мне, что молодой Л. приходил к ней вчера в 11 часов вечера. Он сказал ей, что влюблен в меня, что она, графиня, сделала его несчастным, дав ему возможность увидеть меня.
Я рассказала, что получила приглашение от баронессы и попросила у нее совета, должна ли я принять это приглашение, зная, что встречусь там с г-ном Л.
– Поймите, – прибавила я, – что мне тяжело сознавать все то, что вы только что сообщили мне. Неразделенная любовь создает только врагов. Я совсем не хочу, чтобы в меня влюблялись. Я, со своей стороны, могу предложить только свою искреннюю дружбу.
– Все это прекрасно, дорогая моя, – ответила графиня. – Но я советую вам не пренебрегать такими знакомствами… Они дадут вам много связей всякого рода, и кто знает?.. Может быть, сегодня, на вечере у баронессы, вы зароните семя, а возвратясь в Париж, увидите уже выросшее дерево. Этот молодой человек представляет блестящую партию даже для вас. Во всяком случае, и положение, и связи Л. таковы, что пренебрегать знакомством с ними, повторяю, не следует.
– Вы правы. В таком случае я пойду к баронессе, но в этом же платье и шляпе.
Все прошло спокойно и с неподражаемым величием.
Гостиная была ярко освещена. Баронесса, в роскошном туалете, с прекрасным, молодым лицом, обрамленным белыми волосами, походила на портрет кисти какого-нибудь старинного мастера. Барон позировал, как всегда, и держал себя так, как будто у него 100 000 франков годового дохода.
Бедный человек! Он никак не может свыкнуться с мыслью о своей бедности. Он сохранил важный вид и привычки прежнего времени, когда был еще окружен роскошью.
В девять часов вечера в гостиную вошел молодой Л. Он медленно поцеловал руку сначала у баронессы, затем у ее сестры и у графини В.
Все эти напудренные головы и платья со шлейфами казались привидениями прошлого века. Скоро принесли стол, и некоторые из гостей уселись за вист. Все вокруг торжественно смолкло.
Со вчерашнего дня мне все кажется, что я играю какую-то комедию.
Поймите, ведь это выходят официальные смотрины!..
Я наблюдала весь вечер за Л. К сожалению, мои наблюдения ни в чем не изменили моего первого впечатления. Говорю «к сожалению», во-первых, потому, что именно его положение в свете вполне соответствовало бы моим желаниям, а во-вторых, потому, что я, со своей стороны, вполне отвечала бы его желаниям.
Но антипатии, как и симпатии, не зависят от нас. Мы не властны в наших чувствах.
Я беседовала спокойно и сдержанно, умно и грациозно. Это, однако, не мешало им в то же время восторгаться моим энергичным, решительным видом.
– Она не повышает голоса, – говорили они, – не меняет ни позы, ни жестов даже тогда, когда ей приходится высказывать самые серьезные и самые необыкновенные суждения.
Без малейшего видимого усилия я успела показать, что много читала и занималась. Заговорили о браке. Молодой Л. стал излагать довольно странные теории…
– Влюбляться можно сколько угодно, но жениться… Я, например, женюсь только на девушке, у которой будет хорошее состояние. Само собой разумеется, она обязательно должна быть хороша собой и умна, должна мне понравиться. Но состояние, безусловно, необходимо. Не могу же я, один из самых видных представителей своей страны, жениться на бедной девушке. Это было бы прямо святотатством.
Согласитесь, что это уж слишком сильно сказано. Баронесса обменялась со мной взглядом и сухо произнесла:
– Всем иностранкам это хорошо известно, поэтому-то они и составили себе очень дурное мнение о французах. Они убеждены, что французы женятся исключительно ради денег.
…Я сказала ему то же самое не далее как вчера. Оказывается, мое предположение вполне подтвердилось. Это казалось мне чрезвычайно странным, а между тем ведь так оно, в сущности, и должно быть. Мне дают имя, положение, блестящие связи с самыми видными фамилиями Франции и не менее блестящую карьеру. В обмен за это от меня требуют ума и денег. Такая коммерческая сделка вполне в порядке вещей. И не будь этот человек так антипатичен мне, я согласилась бы на такую сделку. Если бы дело шло только о его наружности, еще можно было бы столковаться. Но мне внушает отвращение его сухой, грубый, корыстолюбивый характер. Меня отталкивает его упорство и честолюбие, прикрытое тройным слоем светского лоска.
Да, он принадлежит к категории людей, у которых только и имеется один внешний лоск. Несмотря на изысканность и любезность, несмотря на милое и мягкое обращение, он должен быть человеком черствым, неприятным и злым.
Речь зашла о ясновидящем Алексее. Я как-то вскользь заметила:
– Он предсказал мне, что я никогда не буду счастлива.
– Это потому, – сказал де Л., – что, когда счастье явится к вам, вы оттолкнете его с тем же самым беспечным и спокойным видом, который мне в вас уже знаком.
Он сказал мне в тот вечер еще многое другое и делал при этом довольно прозрачные намеки: он знал, что я предупреждена о его намерениях. Так, когда я сказала, что не люблю республиканской Франции и хочу уехать отсюда, он ответил:
– В таком случае вам следует, наоборот, оставаться здесь, чтобы изгнать из Франции эту республику.
– Что же я могла бы сделать? Конечно, я употребила бы все свои силы, если бы могла оказаться полезной, но…
– Вы могли бы многое сделать. Но для этого необходимо одно условие.
– Какое? Что именно?
– Этого я вам не скажу.
Надо было слышать, как он произнес эту фразу! А тон ведь делает музыку!
Когда в сотый раз заговорили о моем «твердом характере», я почувствовала порядочную досаду. Не желая выдать себя взглядом или жестом, я произнесла спокойно и настолько громко, чтобы все слышали:
– Мне кажется, что нельзя честно прожить жизнь без некоторой твердости характера.
Эти слова произвели такое впечатление, словно все кресла, где сидели гости, оказались внезапно утыканными булавками.
– О, как это справедливо! – раздалось со всех сторон.
– Вы романтик? – спросил Л.
– Что вы понимаете под этим? Ведь есть тысяча видов романтизма.
– В присутствии такого ума приходится признать себя наперед побежденным, – лицемерно, а быть может, и искренне сказал молодой человек.
Затем последовали восклицания вроде:
– Неслыханно! Чудесно! – И т. д. и т. д.
Глупцы! Они думают, что имеют дело с богатой иностранкой, тщеславной, упрямой, которой легко вскружить голову… Они напали на Кассаньяка, называя его прекрасным, несравненным Паоло. Да, Паоло – страшилище черни, человек, всегда имеющий при себе кастет и пистолеты. В его отеле действительно устроено такое зеркало, с помощью которого он видит всех, кто приходит к нему, устроена и акустическая труба, в которую он дает вам знать, что его нет дома. А вы, жалкие кретины, как смеете вы сравнивать себя с ним? Как смеете вы выставлять его в смешном виде, притворяясь, будто поете ему дифирамбы?
Он честен, благороден и храбр – этот Паоло. Его называют машиной, которой двигает тщеславие! Да, если бы вы хоть немного уважали его, вы не выбивались бы так из сил, чтобы умалять его достоинства!
Молодой вылощенный Л. как-то сказал, что сестра его вышла замуж в шестнадцать лет.
Я удивилась, сделала жест удивления и отвращения:
– Так рано!.. Я выйду замуж не раньше, чем мне минет двадцать пять лет.
Вообще я так много говорила в этом духе, что молодой человек стал наконец распространяться о бабочках, которые обжигают себе крылышки, о предосторожностях, которые необходимо предпринимать и т. д. и т. д.
Так вот как, господин француз! Вы полагали, что имеете дело с экстравагантной девицей и, скажем прямо, богатой иностранкой! Но какого же вы мнения об иностранках? Ну, да это все равно. Что и говорить! Они действительно заслуживают, чтобы о них так думали. Но я не подхожу под общее правило. Я не русская, не иностранка – я принадлежу, я равняюсь только себе самой. Я – то, чем должна быть женщина с моим честолюбием… И теперь наступила минута удовлетворить его… Так подождем же немного!
Мама была уже в постели, когда я вернулась. Я присела к ней на кровать. Вдруг у меня мелькнула мысль, которая заставила меня вскочить.
– Мне кажется, что г-н де Л. делает мне предложение, и довольно прозрачно?
– Да, конечно…
– Ему двадцать семь – двадцать восемь лет, у него черная борода.
– Ну, так что же?
– А вспомните-ка предсказание Моро. Четыре месяца тому назад она сказала: «В скором времени вам сделает предложение человек двадцати семи – двадцати восьми лет, с черной бородой». Что вы на это скажете?
С этой минуты я опять ожила. Ах, если бы исполнилась только половина того, что она мне предсказывала!..
Она так настойчиво обещала мне всего, чего только можно желать!..
28 ноября
Мама была со мной у доктора Фовеля, и доктор этот осмотрел мое горло своим новым ларингоскопом. Он объявил, что у меня катар и хроническое воспаление гортани (в чем я и не сомневалась, ввиду дурного состояния моего горла) и что нужно энергически лечиться в течение шести недель. Благодаря этому мы проведем зиму в Париже, увы!
Я ненавижу Париж. Может быть, эта ненависть и исчезла бы со временем, если бы не эти парижские «courses» по магазинам…
В половине восьмого я поехала на обед к Бойдам. Вчера Берта пригласила меня.
Они в первый раз видели меня близко. Зато же и получила я целую кучу комплиментов, и вполне заслуженных… Превозносили все – и талию, и руки, и волосы… Берта только и говорит, что о дочери княгини Лизы Трубецкой, салон которой хорошо известен в Париже. Давно уже я не встречала таких веселых, милых и простых людей. Этот вечер освежил мой ум. Я возвратилась в наш великолепный бельэтаж «Grand-Hotel» успокоенная и в лучшем расположении духа.
Мне принесли список депутатов, при фамилии каждого из них была приложена краткая характеристика. Вот несколько силуэтов оттуда.
Об отце Л. отзываются с уважением и почтением. Ему отдают справедливость за все благодеяния, которые он оказывает своему департаменту. О сыне его сказано:
«Двадцати восьми лет, Сегре (департамент Мен и Луары), 7313 голосов. Генеральный советник, холост. Говорят, от выбора его в палату зависит успех его притязаний на одну очень богатую девушку… Непримиримый бонапартист, опирающийся на демократию, – словом сын своего отца. Лицо его похоже на лицо младенца-семинариста, которому нацепили усы и лорнет. Всегда носит под мышкой министерскую салфетку… Никогда не расстается с ней… Проходит ученический искус».
Вот силуэт Гранье де Кассаньяка:
«Внимание! Это настоящий коллега и ученый в высшем значении этого слова. Гранье де Кассаньяк принадлежит к гасконской аристократической семье. У него долго оспаривали дворянский титул, но без всяких оснований: его дворянские грамоты в полном порядке и т. д.
Поль Гранье де Кассаньяк-сын, тридцати двух лет. Кондом (департамент Жер), 9818 голосов. Журналист. Холост. Все его состояние – его доброе толедское перо. Это литературный д’Артаньян. Высокого роста, силен, с открытым лицом, с лихо закрученными усами и черными, густыми волосами. Смуглое лицо, живые глаза, жесты, произношение и храбрость – все выдает настоящего гасконца. С преданностью солдата служил империи. Служит ей и теперь, но как непослушное и заблудшее детище. Очень резок в полемике, даже слишком резок для человека с политическими видами. На его вспыльчивость и молодость сильно рассчитывают, чтобы вызвать скандал в новой палате.
Надеются, что он сделается Артаньяном трибуны, как до сих пор он был Артаньяном прессы. Г. де Кассаньяк отлично может и не оправдать этих предсказаний. Теперь, когда он оставил прессу, чтобы выступить на серьезной арене политики, мы не удивимся, если увидим в нем много перемен. Мы не удивимся, если он окажется похожим на тех сыновей из “порядочной фамилии”, которые в последний раз собирают за хорошим ужином своих друзей, чтобы проститься с холостой жизнью, а там становятся прекрасными мужьями и образцовыми отцами семейств. Господин де Кассаньяк еще с 1869 г. награжден орденом Почетного легиона. Он сражался при Седане и в Германии был взят в плен.
У него было много дуэлей, о чем он очень жалеет. Он охотно извиняется перед своими противниками, но только после того, как обменяется с ними одним-другим ударом шпаги».
1 декабря
Сегодня утром в Марселе мне вдруг безумно захотелось вернуться в Ниццу. Вечером мы туда приехали.
Нас ожидали Аничковы с детьми и тетя.
Милые Аничковы! Я обожаю их. Это такие честные и прямые люди, такие любящие и преданные!
Во время обеда пришел наш милый генерал Быховец. Все возбуждает в нем смех и забавляет его, как ребенка. Я привезла ему папиросы из Полтавы. На каждой папиросе написано его имя. Мое внимание очаровало его. Доктору Валицкому, тете и Барноле я привезла такие же папиросы.
Я снова в моем лазоревом раю. Какая досада! Здесь так хорошо… Мои глаза отдыхают на этой роскоши и грациозной красоте… А я должна оставить все это и уехать!! Уехать… чтобы работать.
Ницца. 2 декабря
Тетя сама принесла мне кофе; я велела распаковать некоторые чемоданы и стала сама собой в первый раз со времени путешествия. В России мне недоставало солнца, в Париже – платьев.
Я подумала о своем образе жизни. Укладывать, распаковывать, примерять, покупать, путешествовать… И так постоянно.
Сойдя в сад, я нашла там г-на Пеликана с его доктором, Иванова, окулиста дедушки, генералов Вольфа и Быховца и Аничковых. Надо было показаться и удовлетворить моих маменек, которые недовольны тем, что я потолстела.
Видите, какое счастье! Но я их всех покинула, чтобы увидать моих женщин с улицы Франции.
Вот так прием! Мне сообщили о свадьбах, о смертях, о рождениях.
Я спросила, как идет торговля.
– Плохо, – отвечали мне.
– Э, видимо, все идет плохо с тех пор, как Франция республика, – воскликнула я.
И я начала рассказывать. Когда узнали, что я видела lа Chambre, все попятились с большим уважением, потом столпились вокруг меня. Подбоченившись, я сказала им речь, перемешанную местными поговорками и восклицаниями, в которой изобразила республиканцев как людей, запустивших руки в народное золото, как я в этот рис, – и с этими словами я погрузила мою руку в мешок с рисом…
После такого долгого отсутствия небо Ниццы приводит меня в восхищение. Мне хочется прыгать, когда я вдыхаю этот чудный воздух и гляжу на это прозрачное небо.
Море слегка серебрится солнцем, спрятавшимся за нежно-серое, теплое облако, роскошная зелень… Как хорошо бы было жить в этом раю! Я отправилась гулять, не заботясь о непокрытой голове и о довольно многочисленных прохожих. Потом я зашла надеть шляпу и позвать тетю и Быховца. Доходила до Южного моста и вернулась, объятая ни с чем не сравнимой грустью.
Да, действительно, семья имеет прелесть. Играли в карты, смеялись, пили чай, и я чувствовала себя отлично среди своих, окруженная моими милыми собаками: Виктором, с его большой черной головой, Пинчио, белым, как снег, Багатель, Пратер… Все смотрели мне в глаза, и в это время я видела и стариков за их партией, и этих собак, и эту столовую… О, это меня давит, душит, я хотела бы убежать; мне кажется, что меня приковывают, как это бывает в кошмарах. Я не могу!!! Я не сотворена для этой жизни, я не могу!
Была минута, когда я гордилась тем, что разговаривала о серьезном с стариками… Но, в конце концов, это необразованные старики, на что они мне?
Я так боюсь остаться в Ницце, что теряю разум. Мне кажется, что и эта зима пропадет, что я ничего не сделаю.
У меня отнимают возможность работать!
Генерал Быховец прислал мне большую корзину цветов, и вечером мама полила ее, чтобы сохранить цветы… Право, эти мелочи выводят меня из себя; это буржуазное притворство приводит меня в отчаяние! Господи помилуй! Богом, сущим на небесах, уверяю вас, я не шучу.
Я ушла из павильона при чудном лунном свете, освещавшем мои розы и магнолии…
Этот бедный сад всегда вызывает во мне печальные мысли и страшную досаду.
Я вернулась к себе с мокрыми глазами и грустная, очень грустная.
При воспоминании о Риме я почти лишаюсь чувств… Но я не хочу возвращаться туда. Мы поедем в Париж…
О, Рим! Почему не могу я вновь его увидеть или умереть здесь! Я задерживаю дыхание и вытягиваюсь, как будто хочу дотянуться до Рима.
4 декабря
Взамен всяких развлечений наблюдаю небо. Вчера оно было чисто, и луна сияла, словно бледное солнце. Сегодня вечером оно покрыто черными тучами, кое-где прорванными, так что видны светлые и блестящие части вчерашнего неба… Я делаю эти наблюдения, когда перехожу через сад из павильона к себе. В Париже нельзя иметь этого воздуха, этой зелени и душистого дождя, какой был сегодня.
5 декабря
Я одолела наконец, хотя и с большим трудом, все восемь томов «Молодости короля Генриха» Понсона дю Терайля. Какая поучительная книга! Как жаль, что я не читала ее раньше! Великий Понсон! Он дал в этой книге полный курс воспитания монаха, который даже французский язык свой почерпнул из этой же книги.
6 декабря
Я начала писать портрет Ольги Аничковой. Это прелестная пятилетняя крошка. Жаль только, что ее ужасно избаловали, и она не хочет признавать ничьего авторитета. Меня она, однако, слушается.
Сегодня вечером иду в оперу на первое представление «Бала в масках».
Меня никто еще не видел с тех пор, как я вернулась из России, я нигде еще не была. Поэтому-то я и готовлюсь к сегодняшнему выходу.
Бывают счастливые дни, когда все удается. Сегодня у меня как раз такой день. Мне удалось причесаться именно так, как я хотела. Волосы как-то сами собой так красиво улеглись, что голова стала похожа на прелестные головки античных греческих статуй. Вся масса волос охвачена спереди тонким золотым обручем, только затылок остался обнаруженным, и на него падает несколько завитков. Я надела совершено гладкое платье, без шва, облегавшее меня мягкими складками, словно статую. Это меня немного стесняло, потому что такое платье не в состоянии скрыть мои почти идеально плотные формы. Само собой разумеется, что никаких украшений на платье не было. Я даже запретила подрубливать его, так что бахромчатые края его висели свободно. На шею я надела жемчужное ожерелье. И лицо мое тоже оказало мне сегодня любезность: оно показалось во всем своем блеске…
Я сильно изменилась за этот год. Я выросла, я делаюсь женщиной.
Зал был полон. Там были Суворовы, баронесса Пайкерслуз, генерал Быховец. Когда я вошла, несколько человек, сидевших в партере, поклонились мне. Что касается львов, то на них я не смотрела.
Когда мы выходили и генерал пошел разыскивать мою карету, Б. все время вертелся возле меня, очевидно стараясь столкнуться со мной лицом к лицу, чтобы удостоить меня поклоном. Я несколько раз поворачивалась спиной к нему и наконец, совсем отвернувшись, стала рассматривать стену. Он, вероятно, потерял терпение, поклонился тете и заговорил со мной. Как раз в эту минуту вернулся генерал, и я была очень довольна, что могла тотчас же покинуть этого господина.
Поль Сезанн. Девушка у пианино. 1868
7 декабря Мелкие домашние неприятности изводят меня. Я погружаюсь в серьезное чтение и с отчаянием вижу, как мало я знаю. Мне кажется, что я никогда не буду знать все это. Я завидую ученым – желтым, сухим и противным. У меня лихорадочная потребность учиться, а руководить мною некому.
10 декабря
Дочь Тамбурини, госпожа Бонэн, послала нам пригласительные билеты на панихиду по ее отцу. Я пошла туда, одетая в глубокий траур. Я очень люблю церкви и похоронное пение – для меня это праздничные минуты.
Пришлось, конечно, пройти по бульвару и показать себя. Прошли мимо оперы и зашли туда поболтать по-итальянски с Кресчи в присутствии всей труппы.
Дома я нашла букет и карточку папы. Затем мы поехали на каток, принадлежащий «Средиземному клубу». Там нас уже ждали мама с госпожой А., генерал Вольф (товарищ военного министра), Пеликан и Бруссэ.
До сих пор я никогда не бывала на катке, и мне приятно было смотреть на все эти грациозно и плавно двигающиеся, скользящие и падающие фигуры.
Граф Марков подошел поздороваться с нами. Несколько минут спустя с противоположного конца катка прискользнул к нам на своих коньках А. Он любезно поздоровался со мной, наговорил мне много о моих маленьких ножках, которые были бы прелестны в коньках, и отпустил несколько шуток по адресу конькобежцев. Я, в свою очередь, любезно отвечала ему, но в моей любезности чувствовалась заносчивость вполне хорошего тона. Отныне я буду держаться этого тона со всеми. На этого же господина я смотрю свысока еще больше, чем на других. Марков снова подошел, я повернулась к нему, а Г. вернулся на свое место. Он, вероятно, не чувствовал себя очень польщенным моим приемом, отнюдь не походившим на веселое щебетанье других девиц.
Все мое внимание было поглощено сестрами Готье. Господи, до чего они хороши! Словно гурии Магометова рая. Бархатные глаза, несколько орлиный контур носа, закругленный книзу, розовые щеки, сочные, красные губы… Они чудно хороши!
11 декабря
Я была в церкви. Погода так хороша, что я пошла погулять после того, как попробовала кататься на коньках. Я была на катке в то время, когда там никого не было. Вечером я пошла в оперу. Гладко причесанные спереди волосы легкими волнами падали на затылок, а затем снова несколькими локонами собраны были спереди. Эта прическа вполне гармонировала с русским костюмом – батистовой шемизеткой под фуляровым платьем, тем самым, в котором я бывала в парижской опере.
Мой наряд и прическа сильно изменили меня. Я походила на картину. Я не стану восхвалять свою красоту, предоставляю это другим, – я отдаю только справедливость всему ансамблю.
Все это прекрасно! Но теперь следовало бы спать, а не столбенеть перед этим Титом Ливием всяких горестей… Нынешний вечер я презираю себя, презираю и эти записки.
12 декабря
Б. поднес мне букет со словами: «Эсмеральде от Квазимодо. Эти цветы невинны, и их можно поднести такой чистой голубке, как вы. Пестрый букет был бы недостоин вас».
Когда этот человек начинает в таком тоне шутить и привирать, он делается заразительно комичным.
Газеты описали платье, в котором я была в опере третьего дня вечером. Вот что было сказано о нем:
«М-lle Башкирцева была восхитительна в тяжелом шерстяном платье, напоминающем древний римский костюм, полный самой изысканной простоты».
В первый еще раз ниццские газеты оценили и поняли мой туалет.
Любите ли вы Тита Ливия, как я? Я нахожу его таким интересным, как Александра Дюма. Не смейтесь над сравнением, жалкие невежды и педанты!
– Если бы вы провели зиму в Риме, – сказал мне капитан Б., – у меня явилось бы к вам чувство, почти похожее на презрение…
– Что касается меня, – заметил Кассаньяк, – у меня такого чувства не было бы, но я искренне жалел бы вас.
– Ну, так я и не поеду туда. Только под влиянием ваших слов я делаю это. Я еду в Париж, потом что меня привлекают туда уроки на арфе и Вартель.
Что же вы сделаете для меня, при всей вашей любезности, при всем вашем хорошем мнении о моей особе? Что можете вы сделать?
Я знаю человека, который любит меня, который понимает и жалеет меня, кто всю свою жизнь кладет на то, чтобы сделать меня более счастливой. Этот человек все сделает для меня и добьется всего. Он никогда больше не изменит мне, хотя он и изменял мне раньше. И этот человек – я сама!
Не следует ничего ждать от людей, – они могут доставлять нам одни только разочарования и огорчения. Будем твердо верить только в Бога и в свои собственные силы.
И раз уж нам честолюбие дано, то постараемся же добиться чего-нибудь, постараемся чем-нибудь оправдать это честолюбие…
С каждым днем я все более увлекаюсь живописью. Я не выходила целый день, я занималась музыкой, и это подняло мой дух и сердце.
Нужно было два часа разговора о русской истории с дедушкой, чтобы привести меня в обычное состояние духа. Я терпеть не могу быть такой чувствительной… В молодой девушке это состояние близко… ко многому… провинциальному… Дедушка – живая энциклопедия.
18 декабря
Вчера меня разбудили запиской от отца следующего содержания: «В отеле „Люксембург“ с моими сестрами; если можешь, приезжай сейчас же».
По совету моих матерей, ровно в час, я отправляюсь по этому приглашению, и, прежде чем войти, я спрашиваю себя опять, прилично ли это? Вместо всякого ответа тетя Елена и мой злополучный отец подошли к моей карете и нежно увели меня к себе.
Сан-Ремо. 23 декабря
Если я увезу моего отца? Он согласен, но вместе с мамой и на два дня. Ожидая маму, которой я телеграфировала, я провожу несколько часов в вилле Рокка у княгини Эрнстовой. Моя тетя Романова, это героическое существо, остается одна скучать в отеле. Она, конечно, не хочет смешиваться с людьми, которых я часто посещаю. Но посмотрите, какую роль играет эта женщина из-за моего каприза! Я ее обожаю.
25 декабря
Вчера мы уехали из Сан-Ремо, отец, мама и я. Что я думала во время путешествия?.. Но прелестные мечты, заоблачные фантазии заглушили все другие чувства и создали, как обыкновенно, жизнь, не имеющую ничего общего с людскими делами.
Это приятное состояние было прервано остановкой поезда вследствие повреждения пути. Надо было выйти, взять свой багаж и идти несколько минут навстречу поезду, который приехал за нами. Все это происходило при колеблющемся свете факелов, и на темном фоне, при яростном шуме морского прилива было весьма живописно.
Этот случай заставил нас начать разговор с нашими спутниками, из которых один был военный. Они несли наши вещи и поддерживали нас самих во время этого трудного перехода. Офицер был довольно образованный и интеллигентный человек. К его удивлению, я вела серьезный и даже необычайный разговор – о политике.
С утра я была у окна, чтобы ни на минуту не терять из виду Римскую Кампанью.
Зачем не умею я высказать все то прекрасное, что она мне внушает и что так многие уже столько раз и так прекрасно высказали!
Я так занялась узнаванием мест!.. Начало нашего поезда уже было под стеклянной крышей станции, а я все еще искала крышу San Giovani de Laterano.
Мы остановились в том же отеле, в том же помещении. Я взошла на лестницу и оперлась на шар в углу перил, как опиралась на него в другой памятный вечер.
Я взглянула с досадой на выходную дверь и заняла комнату, обитую красным дама – поверите ли? – с мыслью о Пьетро.
1877–1878
1877
Ницца. 17 января
Когда же я узнаю наконец, что такое любовь, о которой так много говорят?
Я бы любила А., но я его презираю. Ребенком я любила до экзальтации герцога Г. Я любила его за богатство, знатность, за его эксцентричность и благодаря моему воображению, не знавшему границ.
23 января
Вчера вечером у меня был припадок отчаяния, доходивший до стонов и побудивший меня потопить в море столовые часы. Дина побежала за мной, опасаясь какого-нибудь мрачного намерения, но дело касалось одних только часов. Эти часы были бронзовые с изображением Павла без Виргинии, удившего в хорошенькой шляпе. Дина пришла ко мне; часы, кажется, очень забавляют ее; я также много смеялась. Бедные часы! К нам приехала княгиня Суворова.
1 февраля
Наши дамы собирались ехать в Монако, чтобы проиграть приятным образом несколько презренных сотен франков. Я отговорила их, сказав исполненную горечи речь, и мы с мамой отправились с визитом к графине Б., которая так любезна и у которой мы давно не были, как какие-нибудь невежи.
В «Theatre-Francais» Агар из «Comedia-Francais» дает представление. Я видела «Горациев». Слово «Рим» двадцать раз раздалось в моих ушах, прозвучав прекрасно, чудесно.
Вернувшись домой, я читала Тита Ливия. Герои, складки тог… Капитолий… Купол… маскарад, Пинчио!..
О, Рим!
Жорж Сера. Канкан. 1889
8 февраля
Я заснула в Винтимиле и проснулась только в Риме, как физически, так и духовно. Против моего желания, мне пришлось остаться до вечера, так как поезд в Неаполь отходит только в 10 часов. Целый день в Риме!
В девять часов вечера я покидаю Рим, засыпаю – и я в Неаполе. Впрочем, я недостаточно хорошо спала, чтобы не слышать, как какой-то несговорчивый господин жаловался кондуктору на присутствие в вагоне моей собаки. Любезный кондуктор, однако, оставил собаку в покое.
И вот я в Неаполе. Так ли бывает с вами? При приближении к большому и красивому городу я волнуюсь, я чувствую желание овладеть городом.
Больше часа едем мы в гостиницу «Лувр». Суматоха, крики и чудовищный беспорядок.
У здешних женщин огромные головы; точно это женщины, каких показывают в зверинцах вместе со змеями, тиграми и т. п.
В Риме я люблю только то, что сохранилось от древних времен. В Неаполе красиво только то, что ново.
11 февраля
Чтобы понять наше положение, надо знать, что такое день, когда бросают coriandoli (конфеты с известью или с мукой). Но кто этого не видел, тот не может себе представить эти тысячи протянутых рук, черных и худых, эти лохмотья, эти великолепные колесницы, эти движущиеся руки, эти пальцы, беглости которых позавидовал бы сам Лист. Среди этого дождя муки, среди этих криков, среди этой кишащей толпы Альтамура почти донес нас до своего балкона. Там мы застали множество дам… Все эти люди предлагают мне кушать, пить, улыбаются мне, говорят любезности! Я пошла в полутемную гостиную и, задрапировавшись с ног до головы в мой бедуин, принялась проливать слезы, любуясь в то же время античными складками шерстяной ткани. Я была очень огорчена, но мое горе было из тех, которые доставляют удовольствие. Находите ли вы, подобно мне, прелесть в печали?
Неаполь. 26 февраля
Я продолжаю мои экскурсии. Мы едем в Сан-Мартино: это древний монастырь. Никогда не видала я ничего прелестнее. Музеи вообще оставляют меня холодной, но музей Сан-Мартино забавляет и привлекает к себе. Старинная карета синдика и галера Карла III особенно понравились мне. И эти коридоры с мозаичными полами, и эти потолки с грандиозной лепной работой! Церковь и часовни просто чудесны; их небольшие размеры позволяют оценить частности. Это собрание блестящих мраморов, драгоценных камней, мозаик, в каждом углу, сверху донизу, на потолке и на полу… Я немного видела замечательных картин – впрочем, да, были картины Гвидо Рени, Спаньолетто, страдальческие произведения Фра Бонавентура. Тут же старинный фарфор Капо ди Монте, портреты, сделанные шелком, и одна картина на стекле, изображающая эпизод с женой Петнефрия. Двор из белого мрамора с шестьюдесятью колоннами редкой красоты.
Наш проводник сказал мне, что в монастыре осталось только пятеро: три монаха и два мирянина, живущие наверху, в пустом флигеле.
Нас повели на какую-то башню с двумя балконами, висящими над другими высокими местами, которые кажутся пропастями. Вид оттуда так хорош, что просто можно обезуметь. Видны горы, виллы, неаполитанские равнины сквозь синеватый туман, который есть не что иное, как далекое расстояние.
– Что происходит сегодня в Неаполе? – спросила я, прислушиваясь.
– Да ничего, это неаполитанский народ, – улыбаясь, отвечал проводник.
– И всегда так бывает?
– Всегда.
От этой груды крыш поднимался крик и непрерывный вой, словно постоянные взрывы голосов, о которых нельзя себе составить понятия в самом городе. Вам становится как-то жутко, и этот шум, и этот голубой туман каким-то небывалым образом заставляют вас чувствовать, на какой вы высоте, и у вас голова кружится.
Мраморные часовни привели меня в восторг. Страна, обладающая тем, чем обладает Италия, может считаться самой богатой в мире. Италия в сравнении с остальным миром то же, что великолепная картина в сравнении с выбеленной стеной. Как смела я судить о Неаполе в прошлом году? Разве я его видела!
3 марта
Сегодня вечером я отправилась в церковь, которая находится в самом здании гостиницы. Есть бесконечная прелесть в любовных размышлениях внутри церкви. Вы видите священника, образа, сияние свечей, мерцающих во мраке, и я вспомнила Рим! Божественный восторг, небесное благоухание, восхитительные порывы! Как писать? Чувство, овладевшее мною, можно выразить разве только пением.
Колонны собора Св. Петра, его мраморы, мозаики, таинственная глубина храма, великолепие и величие искусства, древность, Средние века, великие люди, памятники – тут соединено все…
31 марта
К чему жаловаться? Мои слезы ничему не помогут, и я осуждена на то, чтобы быть несчастной. Еще это, а потом слава художника… А если… мне не удастся? Будьте спокойны, я не стану жить для того, чтобы плесневеть где-нибудь в семейных добродетелях.
Господи Иисусе Христе, дай мне умереть! Я мало жила, но испытала много: все было против меня. Я хочу умереть, все во мне так же бессвязно и противоречиво, как мое писание, и я ненавижу себя, как всякое ничтожество.
Умереть… Боже мой! Умереть! Довольно с меня!
Умереть тихой смертью с прекрасной арией Верди на устах… Теперь ничего злого не пробуждается во мне, как прежде, когда я хотела жить назло, чтобы другие не радовались и не торжествовали. Теперь мне это безразлично: я слишком страдаю.
1 апреля
Я похожа на терпеливого, неутомимого химика, проводящего ночи над своими ретортами, не упустить ожидаемого, желанного мгновения. Мне кажется, что это может случиться каждый день, и я думаю и жду… и как знать? Я с любопытством наблюдаю за собой с широко раскрытыми глазами, я с тревогой спрашиваю себя, не то ли это? Но я составила себе такое мнение об этом, что почти не верю в существование этого или думаю, что это уже было и не заключает в себе ничего необычайного.
Но к чему же тогда мои мечты и поэты?.. Неужели они имели смелость выдумать что-нибудь несуществующее, чтобы прикрыть естественную грязь? Нет… Иначе нельзя было бы объяснить предпочтения одних другим…
Неаполь. 6 апреля
Король (Виктор Эммануил) приехал вчера, и сегодня, в десять часов утра, сделал визит прусскому принцу. В минуту его приезда я находилась на лестнице, и, когда он был лицом к лицу со мной, я сказала:
– Два слова, ваше величество, сделайте милость.
– Что вам угодно?
– Решительно ничего, ваше величество; я хочу только иметь право всю жизнь гордиться тем, что со мной говорил лучший и любезнейший из королей.
– Вы очень добры, благодарю вас.
– Это все, ваше величество.
– Я очень благодарю вас, я не знаю, как благодарить вас, вы очень добры.
И он обеими руками пожал мою левую руку.
Благодаря этому я буду носить перчатки в течение недели. Я и пишу так оттого, что я в перчатках. Хороши будут через неделю мои ногти. Что скажете вы обо мне? Я не слишком испугалась.
Делая то, что я сделала, я предвидела все, кроме себя самой. Всякой другой такая выходка доставила бы кучу удовольствий, мне же кучу неприятностей. Я обречена на несчастья.
Денгоф приехал из дворца, где принц отдал визит королю. Адъютант короля сказал: «Как странно было со стороны молодой девушки стать на дороге короля!» А принц сказал королю, что девушки в России восторженно любят царскую фамилию, что для императора они готовы на все и что они так же чисты, как ангелы небесные. Благодарю вас, колбасники!
Денгоф рассказал массу вещей – словом, он успокоил нас.
После безумного волнения, оцепенения и страха я начинаю приходить в себя. Никогда в жизни я так не боялась. В один час я прожила целых два года! Как счастливы все те, кто не говорил с королем!
Все гуляют. Приехали принцесса Маргарита и Гумберт. Денгоф там, против наших окон с приближенными к королю.
Я сняла перчатки.
Вернувшись с прогулки, мы застали в передней какого-то господина. Я хотела спросить, кто он, как вдруг Розалия подбежала ко мне и сказала, отводя меня в сторону:
– Идите скорее, только не волнуйтесь.
– В чем дело?
– Это адъютант короля, он приходил уже в третий раз, он пришел от короля, чтобы передать вам его извинение.
Я подошла к господину, и мы все вошли в гостиную. Он говорил по-итальянски, и я говорила на том же языке с такой легкостью, что сама себе удивлялась.
– Mademoiselle, – начал он, – я пришел от короля, который нарочно прислал меня, чтобы выразить вам сожаление о тех неприятностях, которые могли случиться с вами вчера. Его величество узнал, что вы… получили выговор от вашей матушки, которая, может быть, думала, что король был недоволен. Но это несправедливо: король в восторге, в восхищении, он все время говорил о встрече с вами, а вечером он позвал меня и сказал: «Пойди и скажи этой барышне, что я благодарю ее за ее любезный поступок; скажи ей, что ее любезность и великодушный порыв очень тронули меня, что я благодарю и ее, и все ее семейство. Я далек от того, чтобы быть недовольным, я в восторге, скажи это ее маме, “sua mamma”, скажи, что я всегда буду это помнить». Король видел, что этот порыв исходил из вашего доброго сердца, и это польстило ему; король знает, что вы ни в чем не нуждаетесь, что вы иностранка – именно этим-то он и тронут. Он все время говорил об этом и послал меня извиниться перед вами за неприятности, которые вы имели.
«Мама» уверила графа Денгофа, что она заперла меня на целые сутки в наказание за мое бегство, и этот слух тотчас же распространился, тем более что я сидела за стеклами балкона в то время, как мама гуляла с Диной.
Я десять раз перебивала его и наконец разразилась потоком слов радости и благодарности.
– Король слишком, слишком добр, желая успокоить меня. Я поступила как безумная, воображая, что я у себя на родине… и вижу императора, с которым я говорила (это правда). Я была бы в отчаянии, если бы король хоть сколько-нибудь был недоволен моим поступком. Я ужасно боялась, что оскорбила короля. Может быть, и испугала его своей резкостью…
– Его величество не может никогда испугаться красивой девушки, «bella ragazza», и я повторяю вам от имени короля – это его слова, я ничего не прибавляю, – что он далек от того, чтобы быть недовольным, что он в восторге, в восхищении и благодарит вас. Вы доставили ему огромное удовольствие. Король заметил вас в прошлом году в Риме и в Неаполе на карнавале… и король очень сетует на графа Денгофа, имя которого он запомнил, за то, что он что-то сказал вам и помешал вам быть тут, когда король выходил.
Надо вам сказать, что Денгоф в испуге запер дверь, чего я и не заметила, так как была слишком взволнована, чтобы мечтать снова увидеть короля.
– Я говорил все время от имени величества, повторяя собственные его слова.
– В таком случае, милостивый государь, повторите ему и мои: скажите королю, что я в восторге, что для меня это слишком большая честь, что такое внимание трогает меня глубоко, что я никогда не забуду доброты и изумительной деликатности короля, что я слишком счастлива и слишком польщена. Скажите королю, что я поступила как безумная, но так как он не слишком недоволен…
– Он в восхищении…
– …то это будет моим лучшим воспоминанием. И как не боготворить королевской фамилии, когда она так добра, так приветлива? Я понимаю общую любовь к королю, к принцу Гумберту и к принцессе Маргарите!
В конце концов адъютант просил маму дать ему свою карточку, чтобы передать ее королю.
Теперь я больше не боюсь, что об этом станут говорить, напротив. Гремите, трубы!
Если король не сердится, то я на седьмом небе.
В гостинице говорят, что он поцеловал мне руку.
Денгоф приехал из дворца, где был обед на 13 персон. Король говорил обо мне и повторил несколько раз: «Она замечательно красива».
Король – хороший судья, и его суждение делает меня гораздо красивее в глазах Денгофа и всех других.
17 апреля
Каждый гражданин должен отбыть воинскую повинность; точно так же каждый человек должен любить. Я отбыла свои восемь дней и свободна до нового приказа…
Флоренция. 8 мая Хотите знать истину? Вот она, только помните хорошенько, что я скажу вам: я не люблю никого, и я полюблю только того, кто будет приятно щекотать мое самолюбие… мое тщеславие.
Когда чувствуешь себя любимой, то действуешь для другого и не стыдишься; напротив, считаешь свои поступки геройскими.
Я знаю, что ничего не стану просить для себя, но для другого я сделала бы сотню низостей, так как эти низости возвышают.
Этим я хочу вам доказать, что величайшие дела совершаются из эгоизма… Просить для себя было бы выше всего, так как это мне стоило бы… О! Даже подумать об этом страшно!.. Но для другого – это даже удовольствие и придает вам вид самоотречения, преданности и милосердия.
И в эту минуту сам веришь в свою заслугу. Наивно считаешь себя и добрым, и преданным, и возвышенным!
11 мая
Говорила ли я о том, что у нас был Гордиджиани, ободрял меня и предсказывал мне артистическую будущность, что он остался доволен моими эскизами и выразил желание написать мой портрет?
Флоренция. 12 мая
Сердце мое сжимается при мысли, что я покидаю Флоренцию… Ехать в Ниццу! Я готовлюсь к этому, как к переезду через пустыню, я хотела бы обриться, чтобы не трудиться над прической.
Укладываются, уезжают! Чернила высыхают на моем пере прежде, чем я решусь написать слово, – так я исполнена сожаления.
Ницца. 16 мая
Я пробегала все утро по магазинам, отыскивая недостающие безделушки для моей комнаты, но в этой дурацкой стране решительно ничего нет. Я была даже у живописца, разрисовывающего церковные окна, у жестянщика и еще у многих других.
Меня мучает мысль, что мой дневник не будет интересен, что невозможно придать ему интерес, избегая неожиданностей. Если бы я писала с перерывами, может быть, я могла бы… Но эти ежедневные заметки заинтересуют разве какого-нибудь мыслителя, какого-нибудь глубокого наблюдателя человеческой природы… Тот, у кого не хватит терпения прочесть все, не прочтет ничего и ничего не поймет.
Я счастлива в моем прелестном и нарядном гнездышке, в моем цветущем саду. Ницца для меня не существует, я точно у себя на даче.
Ницца. 23 мая
О, когда я думаю, что живешь только один раз и что всякая прожитая минута приближает нас к смерти, я просто с ума схожу!
Я не боюсь смерти, но жизнь так коротка, что растрачивать ее подло!
24 мая
Двух глаз слишком мало, и приходится ничего не делать. Чтение и рисование страшно утомляют меня, и я засыпаю, когда вечером пишу эти несчастные строки.
Какое чудное время молодость!
С каким восторгом буду я вспоминать эти дни учения и искусства! Если бы я так жила круглый год, а то случайно выпадает такой день, неделя… Натуры, которым Бог дал так много, расходуются в безделии…
Я стараюсь успокоиться, думая, что эту зиму я наверно примусь за работу. При мысли о том, что мне 17 лет, я краснею до ушей; мне почти 17 лет, а что я сделала? Ничего… Это меня убивает.
Между знаменитостями я ищу таких, которые начали поздно, – для того, чтобы утешиться; да, но мужчина в 17 лет еще ничего, тогда как 17-летней женщине было бы 23, если бы она была мужчиной.
Жить в Париже… на севере, после этого чудного солнца, после этих чистых и мягких ночей! Чего можно желать, что можно любить после Италии!.. В Париже, как центре цивилизованного мира, интеллигенции, ума, мод, конечно, можно жить, и жить с удовольствием; туда даже следует поехать ради… многого, чтобы вернуться с большим удовольствием в страну Бога, в страну блаженных, в очаровательную, чудесную, божественную страну, дивную красоту и таинственную прелесть которой нельзя высказать никакими словами!
Приехав в Италию, вы смеетесь над ее домишками, над ее лаццарони, смеетесь даже остроумно и справедливо, но забудьте на минуту, что вы умный человек и что весело надо всем насмехаться, и вы, подобно мне, будете в восхищении, будете плакать и смеяться от восторга…
Я хотела сказать, что луна светит чарующим блеском и что в огромном Париже я буду лишена этой тишины, этой поэзии, этих божественных радостей, доставляемых природой и небом.
29 мая
Чем более я приближаюсь к старости моей молодости, тем более я ловлю себя на равнодушии. Меня волнует немногое, а прежде волновало все; перечитывая мое прошедшее, я придаю слишком большое значение мелочам, видя, как они меня волновали.
Доверчивость и впечатлительность, составляющие основу характера, были быстро утрачены.
Тем более жалею я об этой свежести чувства, что оно уже не вернется. Делаешься спокойнее, но зато и не так наслаждаешься. Разочарования не должны бы были так рано постигать меня. Если бы у меня не было разочарований, из меня вышло бы что-нибудь сверхъестественное, я это чувствую.
Только что проглотила книгу, которая внушила мне отвращение к любви. Прелестная принцесса, влюбленная в художника! Фи! Этим я не хочу сказать ничего оскорбительного художникам, напустив на себя глупость, но… по-моему, это не подходит. У меня всегда были аристократические взгляды, и я признаю породы людей, как и породы животных. Часто или, вернее, всегда род становился благородным вследствие нравственного и физического воспитания, результаты которого передавались от отца к сыну. К чему доискиваться причины?
30 мая
Я перелистывала время моих близких отношений с А. Право, удивительно, как я тогда рассуждала. Я изумлена и исполнена восхищения. Я позабыла все эти верные, правдивые рассуждения, я беспокоилась, чтобы не поверили в мою любовь (прошлую) к графу А. Слава Богу, этому нельзя поверить благодаря моему дорогому дневнику. Нет, право, я не думала, что высказала столько истин, и особенно не думала, что они приходили мне в голову. Прошел уже год, и я боялась, что написала глупости; нет, право, я довольна. Не понимаю только, как могла я вести себя так глупо и рассуждать так умно?
Должна повторить себе, что никакие советы не помешали бы мне сделать что бы то ни было и что мне нужна была опытность.
Мне неприятно, что я такая ученая, но это нужно, и, привыкнув к этому, я буду находить, что это весьма естественно, я снова возвышусь в той идеальной чистоте, которая всегда затаена где-то в глубине души, и тогда будет еще лучше; я буду более спокойна, более горда, более счастлива, потому что будут ценить это, хотя теперь меня это оскорбляет, словно дело идет о другой.
Ибо женщина, которая пишет, и женщина, которую я описываю, – две вещи разные. Что мне до ее страданий? Я записываю, анализирую, я изображаю ежедневную жизнь моей особы, но мне, мне самой все это весьма безразлично. Страдают, плачут, радуются моя гордость, мое самолюбие, мои интересы, моя кожа, мои глаза; но я при этом только наблюдаю, чтобы записать, рассказать и холодно обсудить все эти ужасные несчастья, как Гулливер смотрел на свих лилипутов.
Мне еще многое нужно сказать, чтобы объясниться, но довольно!
11 июня
Вчера вечером, пока играли в карты, я делала набросок при свете двух свечей, которые слишком мерцали от ветра, и сегодня утром я набросала на полотне наших игроков.
Мне страшно хочется написать четырех человек, сидящих вокруг стола, схватить положение рук и выражение лиц. До сих пор я рисовала только головы, большие и маленькие…
1 июля
Вследствие всех этих политических неурядиц и волнений сегодняшнего смотра ожидали с замиранием сердца. Надеялись на восторженную встречу маршала[9], что в армии произойдут манифестации. Все, однако, прошло спокойно, ничего не случилось. Раздалось только несколько жидких аплодисментов по адресу армии.
Опишем, впрочем, по порядку этот прелестный день. Прежде всего мне принесли платья, из которых ни одно не оказалось подходящим.
Это раздражает больше всего, за исключением, впрочем, дурного обеда.
В 9 часов мы уехали с госпожой и господином де М. По дороге я ежесекундно только и слышала что разного рода наставления и опасения. То они боялись, что мы опоздаем или что места будут плохие, то являлись у них различные опасения насчет нашего кучера, насчет погоды, насчет давки и т. д. Все это страшно сердило меня. Только французы умеют раздражать такими пустяками.
Наконец мы приехали. Места наши оказались до того малоаристократическими, и со всех сторон нас так сдавили, что я не стерпела и ушла оттуда.
Мы вышли на лужайку. Но много времени прошло прежде, чем нам удалось отыскать нашего лакея и карету.
Жену маршала Мак-Магона приветствовали, как королеву… Впрочем, нет, пред ней довольно торопливо снимали шляпы, а она кланялась направо и налево. Это не произвело на меня никакого впечатления, между тем как лица тех, что приветствовали принцессу Маргариту, австрийскую императрицу и нашу великую княгиню, показались мне исполненными почтительного восторга.
Однако порядочное животное этот господин де Ф. Меня так и подмывает написать ему:
«Милостивый Государь!
Кажется, гораздо легче было просто выразить свое сожаление, а не посылать билеты на такие места».
Впрочем, мы с ним увидимся завтра. Я предпочитаю лучше сказать ему, упомянув о смотре: «Я не была там. С моими билетами пришлось бы сидеть на стульях, поэтому я отдала их своей портнихе».
3 июля
Мы осматривали замок Ворта[10] в Сюрене. Мне было страшно досадно, что о портном говорили, как о каком-нибудь короле. Но замок или, вернее, вилла действительно настоящее чудо.
Начиная с ложи привратника и кончая голубятней – там все прекрасно, на всем видна печать самых тщательных усилий и забот.
Здесь много павильонов, оранжерей, садов.
Кажется, ни одно жилище в мире не может сравниться с этим замком. Одних только наружных украшений столько и в таких разнообразных сочетаниях, что за ними исчезает самый дом, даже самые стены.
Это какое-то безумное изобилие деталей, старинного стиля и всякого рода редкостей. Строители умудрились рассыпать фарфор даже на превосходно устроенных среди зелени и цветов газонах. Сюда привнесено все, что только можно было привнести законченного, исключительного и красивого в вортовских корсажах и мантильях. Все, что можно было подобрать изысканного в мире красок, вышивок и кружев, чтобы создать шедевр туалета, – все в изобилии применено и здесь, но с удивительной тонкостью и вкусом.
Кажется положительно невозможным, чтобы человек в полном рассудке мог думать о сочетании этого миллиона безделушек. Каждая из них в отдельности представляет художественную вещицу или драгоценную игрушку.
Можно не приходить в восторг от этого удивительного жанра, но необходимо отдать ему справедливость: в своем роде это величественно. Видно, что человек любит все эти украшения, как артист. Тысячи мелочей говорят о возвышенном вкусе, даже о культе великих людей и великих дел.
Мало того. Во всем этом можно уловить даже некоторую претензию и на собственное величие. Это простительно и, собственно говоря, вполне естественно. Каждый велик в своем роде. Быть может, даже гораздо труднее возвыситься в таком искусстве, которое охотно считают ремеслом, чем в таком, которое само по себе высоко и серьезно. В этом, быть может, даже больше заслуги. Впрочем, если бы захотеть пойти дальше и серьезно разобрать, какое отношение имеют к самым важным интересам и событиям мира женские наряды, заполняющие полжизни женщины, то нашлось бы много удивительного и неожиданного. Но я не хочу заходить слишком далеко. К тому же такой анализ, если уж браться за него, должен сделать какой-нибудь признанный авторитет, иначе анализ встретит только насмешки.
Максимильен Люс. Утро, интерьер. 1890
Чертовские французы! Как только очутишься среди них, не можешь удержаться, чтобы не относиться с пренебрежением ко всякому благородству происхождения, ко всяким богатствам, состоянию и заслугам не французского происхождения. Кажется, вне этого горнила нет ничего живого, ничего мыслящего, ничего знаменитого! Кажется… да это так и есть в действительности, Париж – колокол, возвещающий миру обо всем, что оказалось достаточно сильным, чтобы привести его в движение…
4 июля
Как-то, болтая об А., об Л., о браке, я сказала, что выйду замуж только за человека, имеющего 500 000 франков дохода.
Рассказывают о несчастном браке маркиза Прео и предлагают мне выйти за него замуж: ему 65 лет, и он имеет по меньше мере 600 000 франков дохода.
Я ответила, что заранее согласна на это, что устрою ему отличный салон и буду умницей. И я это сделаю.
Нет, в самом деле это было бы по мне: древний аристократический род, великолепный замок, чудесный отель, конюшня, драгоценности…
Вот было бы отлично, если бы небо послало мне когда-нибудь подобную награду!
Этот уже не чета А.! Я отреклась бы тогда от всех этих банальных слов!..
5 июля
Доктор Фовель привел меня в восторг, сказав, что все идет как нельзя лучше. Он сказал мне еще многое относительно моего голоса, и его слова заставили меня воспрянуть духом.
7 июля
Обыкновенно мне нужна неделя, чтобы приготовить свои туалеты к отъезду. Теперь я занимаюсь этим уже с 16-го, и до сих пор у меня еще ничего нет. Ворт и Лаффьер задерживают все мои корсажи. Каждый раз их нужно переделывать, и каждый раз дело идет все хуже и хуже.
Я продолжаю размышлять о письме Фостера. Эти размышления внушили мне идеи и проекты, которыми я помаленьку займусь. Вы узнаете о них, как только они примут какую-нибудь определенную, реальную форму.
Я очень редко буду показываться в парижском обществе. Посмотрим, что даст эта зима.
Я отдыхаю душой, думая о своем искусстве, о своем последнем высшем убежище. Мне очень улыбается перспектива провести сезон в Лондоне в кругу Фостеров, друзей Аничковых по посольству, и леди Пэджет, старшей сестры Берты.
А потом… всегда это «потом»… потом путешествие в Испанию, в эту оригинальную, отрезанную от всего остального мира страну…
Кажется, я имею право сказать, что – впрочем, с очень недавнего времени – я сделалась более благоразумна, вижу вещи в более натуральном свете и пришла в себя от множества иллюзий и множества горестей. Истинная мудрость приобретается только собственным опытом.
9 июля
Мы были у гадалки, донны Стефаны. Она начала с того, что карты знают только прошедшее и только ближайшее будущее, которое непосредственно примыкает к настоящему моменту.
– У вас будет много, очень много неприятностей. Вы страдаете… В вашей душе хаос и смятение. Вас преследует мысль об одном молодом человеке; вы почти любите его. Он причинял вам много огорчений, причиняет их и теперь и будет еще причинять, но все же вы любите его. Он также любит вас, но его окружают дурные люди, которые дают ему дурные советы. Особенно много зла причинил вам один из этих людей – человек небольшого роста. Впрочем, теперь между ними холодные отношения… Все свое время этот молодой человек проводит с каким-то стариком. О! Вы артистка, вы пишете картины, вы музыкантша. У вас в руках невероятная ловкость. Вот как! У вас сильно играет воображение… Вы уже три раза воображали себе, будто любите (а может быть, вы будете любить три раза). Но, повторяю, ваше сердце не принимает в этом участия, вы переживаете это только головой. Вы одержите много побед и будете жить больше девяноста лет. У вас счастливая рука, вы созданы для счастья и восторжествуете над всем, но удовлетворение в любви вы найдете только после того, как удовлетворено будет ваше самолюбие.
Все это она говорила, разглядывая то руку, то карты. Все, что она мне сказала, верно… Все это общие места.
Не знаю почему, но я волновалась, слушая гадалку. Я волнуюсь еще и теперь, у своих поставщиков, которые меня изводят. Это предсказание все время сердило меня, и это ее решительное «нет» леденит кровь в моих жилах, как все, что кажется неизбежным.
В пятницу, 18 февраля 1876 года, я была на балу в Капитолии и беседовала с А. Он рассказывал мне об Л., которого я в то время не знала. В понедельник, 21 февраля, А. нанес мне визит. В пятницу, 10 марта 1877 года, я встретила А. в Неаполе. В понедельник, 12 февраля 1877 года, я дошла до Канчелло. В пятницу, 16 марта, я получила первое письмо. В пятницу, 6 апреля, я говорила с королем. В понедельник, 23 апреля, я получила последнюю записку от А. В пятницу, 15 июня, я узнала о его приезде в Ниццу и хотела переодеться, чтобы видеть его, не будучи им узнанной.
Я скучаю. По совету мамы я написала художнику Гордиджани.
Я не могу не думать о ком-либо. И хотя я отношусь безразлично к А., но пусть он займет тот уголок моих мыслей, который предназначен для этой стороны жизни…
Почему некоторые имена поражают нас? Слышишь какое-нибудь незнакомое имя. Оно странно звучит в твоих ушах. Потом часто вспоминаешь о нем без всякого повода, просто так.
На том балу в Капитолии А. ведь рассказывал мне о многих, называл мне всех мужчин, которые там были, а я почему-то обратила внимание только на Л.
Это имя всегда производило на меня сильное впечатление.
На том же балу А. прошел со мной мимо Л. и указал мне на него: вот Л., вы его знаете?
– Ваш Л. слишком некрасив для того, чтобы я его знала.
13 июля
Мы продолжаем осматривать отели. Между прочим мы посетили отель герцогини Риарио Сфорца, урожденной Беррие. Гербы ее предков, пап и кардиналов, ослепили меня, очаровали. Я отвлеклась от них только для того, чтобы заглянуть в ламартиновский «Жоселэн». Но когда я наткнулась на то место, где Жоселэн снова встречается с Лорансой, я не могла оторваться и прочла целых три страницы. При чтении этой сцены на меня нахлынула целая волна мыслей.
Я сама не знаю, о чем я думала! Только наверное не об А. Скорее всего я думала о Риме, о нашем мрачном балконе, о дожде, об Антонелли, который как-то раз вечером убежал с концерта, спасаясь от моих придирок. Впрочем, нет, и не об этом я думала, потому что я не любила бы, если бы была любима. Так о чем же я думала? Нет, г-н де Ламартин! Нехорошо сочинять такие книги, как «Жоселэн». От чтения этих чудесно описанных душевных страданий у некоторых честных людей глаза наполняются слезами, а сердца обливаются кровью, хотя самому г-ну Ламартину, быть может, все это и ничего не стоило…
Розали встретила сегодня вечером курьера прусского короля. Этот курьер часто приносил нам весточки и букеты от графа Денгофа. Розали говорила с ним о графе Денгофе и о г-не де Л. Об обоих шла молва, будто они умирают от любви ко мне, и прислуга спорила насчет того, у кого из них больше шансов.
15 июля
Вчера я начала рисовать. Моя мастерская готова.
Мы пошли на «Маделэн», чтобы видеть наших львиц-щеголих, но в этом отношении я была обманута. Я надела белое бумажное платье, стянутое в талии египетским поясом, белые кожаные ботинки, тонкую соломенную шляпу с белым креповым шарфом. В руках у меня был букет ландышей и большой белый, очень плоский зонтик. Проще и выдумать трудно.
А выставка! Но не будем преждевременно мучить себя.
Целый день я рассматривала чудеса античных высокохудожественных вышивок. Я видела платья – настоящие буколические или рыцарские поэмы! Я видела образцы роскоши и великолепия, каких и не подозревала. И это была роскошь настоящего beau monde’a, а не полусвета.
Да, все это прекрасно, но мне оно теперь ни к чему не послужит.
Как только нам понравится какой-нибудь наш поступок, мы тотчас же говорим: я буду это делать всегда!
Говорят: я буду всегда это любить, потому что надеюсь, что это всегда будет доставлять мне удовольствие. Но как только является что-нибудь другое, что кажется нам более желанным, – все прежнее исчезает; и желание, и обещания, и клятвы…
Я боюсь этих ужасных парадоксов. Но, быть может, это не парадоксы, а величие истины? Кто знает?
15 июля
Я скучаю до такой степени, что мне хочется умереть. Я скучаю так, что мне кажется, ничто в мире не может ни развлечь меня, ни заинтересовать. Я ничего не желаю, ничего мне не нужно! Впрочем, я хотела бы утратить чувство стыда при мысли о возможности полного уподобления животному. Хотелось бы ничего не делать, не думать, жить, как растение, без угрызений совести.
Чтение, рисование, музыка – тоска, тоска, тоска! Вне этих занятий и развлечений надо иметь что-нибудь живое, а я скучаю. Я скучаю не потому, что я взрослая девушка, которой пора замуж, – нет, вы оказали бы мне слишком много чести, думая так. Я скучаю, потому что жизнь моя сложилась не так, как следует, и потому, что я скучаю!
Париж убивает меня! Это сущий кафе-ресторан, хорошая гостиница, базар. Надо надеяться, что с наступлением зимы, оперы, гуляний я примирюсь с ним.
18 июля
Одно только слово «Италия» приводит меня в такой трепет, как никакое другое имя, ничье присутствие. О! Когда же я туда поеду!
Мне было бы досадно, если бы мои восклицания приняли за аффектацию.
Не знаю, почему мне кажется, что мне не верят, и тогда я уверяю, я клянусь, а это и неприятно, и глупо.
Видите ли, я хочу перемениться, хочу писать очень просто, и я боюсь, чтобы, сравнивая все это с моими прошлыми восторгами, меня не перестали понимать.
Но послушайте: с Неаполя, т. е. со времени моего отъезда в Россию, я уже старалась исправиться, и мне кажется, мне это до некоторой степени удается.
Я хочу говорить обо всем совершенно просто, и если я употребляю несколько образных выражений, то не для того, чтобы украсить речь – о, нет! Для того, чтобы высказать наиболее совершенным образом путаницу моих мыслей.
Меня раздражает, что я не могу написать несколько слов, которые заставили бы заплакать! Мне так хотелось бы заставить других почувствовать, что я чувствую! Я плачу, и я говорю, что я плачу. Но я хотела бы не этого, я хотела бы все это рассказать… словом, растрогать!
Это придет, и придет не без усилий с моей стороны, но этого нечего добиваться.
Время летит с ужасающей быстротой! Я в отчаянии, глядя на себя!
Почему я любила только себя?
Если бы я в жизни нашла какую-нибудь искреннюю привязанность, я забыла бы о себе.
К счастью, мне это счастье не было дано. Я принадлежу только себе одной, и теперь, глядя на себя, я прихожу в отчаяние.
Я пережила всякого рода разочарования: я боролась, плакала, приходила в отчаяние. И знаете, что со мной сталось, во что я превратилась? Знаете ли вы всю глубину моего несчастья? Понимаете ли вы, до какой степени я чувствую себя погибшей?
Так знайте же – я смирилась!!! Может ли быть что-нибудь лучше этого?..
Французы уверены, что они обладают своей школой живописи, своей школой пения.
Но все, что они знают, они приобрели у итальянцев. Все они поэтому и стремятся в Италию. Самый бедный, самый несчастный француз делает все, чтобы накопить немного денег и побывать в Италии. Господи, как глупо рассказывать о том, что всем давным-давно известно!
Мы были у доктора Фовеля. Я осведомилась у него, можно ли мне будет начать заниматься через два месяца. Он ответил:
– Да, но вы должны быть очень осторожны. Что касается учителя, то я советую вам выбрать итальянца. Что бы там ни говорили теперь, а итальянцы – лучшие учителя в мире.
26 июля
Сегодня я рисовала целый день; чтобы дать отдохнуть глазам, я играла на мандолине, потом снова рисование, потом фортепьяно. Ничто не может сравниться с искусством, каким бы то ни было, как при начале, так и в момент его высшего развития.
Все забывается, думаешь только о том, что делаешь, смотришь на эти контуры, на эти тени с уважением, с умилением, создаешь, чувствуешь себя почти великим.
Я боюсь испортить себе глаза и уже три дня не читаю по вечерам. Последнее время я стала видеть неясно на расстоянии от кареты до тротуара, а это очень близко.
Это меня беспокоит. Если, потеряв голос, я принуждена буду бросить чтение и рисование! Тогда я не стану жаловаться, так как это значило бы, что и в других моих горестях никто не виноват и что такова воля Божия.
30 июля
Говорят, что многие молодые девушки записывают свои впечатления, и эта глупая «Vie parisienne» говорит об этом довольно презрительно. Я очень надеюсь, что не принадлежу к этим средним существам, – завистливым, ничего не знающим, жаждущим тайн и разврата всеми своими порами.
Фовель уже больше не посылает меня в Энгием и, быть может, пошлет меня в Германию, что снова повернет все вверх дном. Валицкий человек знающий, он понимает все болезни; я надеялась, что он ошибается, советуя мне Соден, а вот и Фовель согласен с ним.
1 августа
«Два чувства свойственны гордым и страстным натурам: крайняя чувствительность к мнениям и крайняя горечь, если это мнение несправедливо».
Какое чудное создание написало это? Я не знаю, но я уже цитировала эти строки ровно год тому назад и прошу вас, думая обо мне, думать иногда и о них.
5 августа
Когда нуждаются в хлебе, право, уже не смеют думать о конфетах. Так и мне теперь стыдно говорить о моих артистических надеждах. Я не смею говорить, что мне хотелось бы иметь то или другое приспособление, чтобы лучше работать, что мне надо ехать в Италию, чтобы там учиться. Говорить об этом очень щекотливо.
Даже если бы мне все давали, я бы не могла удовлетвориться так, как прежде.
Ничто не может возвратить потерянного доверия, и, как все, что невозвратимо, это приводит меня в отчаяние! Делаешься разочарованной, печальной, не замечаешь ничего и никого, лицо озабоченное, что меня портит, отнимая мое прежнее доверчивое выражение. Ничего не умеешь сказать; друзья сначала смотрят на вас с удивлением, а потом уходят. Тогда стараешься быть занимательной, а вместо того становишься странной, нелепой, грубой и глупой.
6 августа
Вы думаете, что я не беспокоюсь о России?!. Какое несчастное, презренное существо тот, кто может забыть свое отечество в опасности! Вы думаете, что эта басня о беге зайца и черепахи в применении к России и Турции не заставляет меня страдать? Если я говорю о голубях и об американках, это еще не значит, что я не беспокоюсь, не беспокоюсь серьезно о нашей войне.
Думаете вы, что 100 000 убитых русских были бы мертвы, если бы для их спасения было достаточно моих тревог, моего желания защищать их?
7 августа
Я одурела в Bon Marche, который мне нравится, как все, что хорошо устроено. У нас ужинали, смеялись, я тоже смеялась, но это… все равно… я грустна, я в отчаянии.
И это невозможно!!! Странное, отчаянное, ужасное, отвратительное слово!!! Умереть, Боже мой, умереть!!! Умереть!!! Ничего не оставив после себя? Умереть, как собака!? Как умерли 100 000 женщин, имена которых едва начертаны на их могилах! Умереть, как…
Безумная, безумная, не видящая, чего хочет Бог! Бог хочет, чтобы я от всего отказалась и посвятила себя искусству! Через пять лет я буду еще совсем молодая, быть может я буду прекрасна, прекрасна своей красотой… Но если я буду только артистической посредственностью, которых так много?
Для выездов в свет этого было бы достаточно, но посвятить на это всю жизнь и не достигнуть!.. В Париже, как повсюду, есть русская колония!!
Не эти пошлые соображения бесят меня, но что, как они ни пошлы, они приводят в отчаяние и мешают мне заботиться о моем величии.
Что такое жизнь без окружающего, что можно сделать в полном одиночестве? Это заставляет меня ненавидеть весь мир, мою семью, ненавидеть себя, богохульствовать! Жить, жить!.. Святая Мария, Матерь Божия, Господи Иисусе Христе, Боже мой, помогите мне!
Но если посвящаешь себя искусству, надо ехать в Италию!!! Да, в Рим. Это гранитная стена, о которую я постоянно разбиваю голову!..
Я остаюсь здесь.
17 августа
Я уверилась, что не могу жить вне Рима. В самом деле, я просто чахну, но, по крайней мере, мне ничего не хочется. Я отдала бы два года жизни, чтобы поехать в Рим в первый раз.
К несчастью, мы научаемся, как нам надо бы поступить, когда уже дело непоправимо.
Живопись приводит меня в отчаяние! Потому что я обладаю данными для того, чтобы создавать чудеса, а между тем я в отношении знаний ничтожнее первой встречной уличной девчонки, у которой заметили способности и которую посылают в школу.
По крайней мере, я надеюсь, что, взбешенное потерей того, что я могла бы создать, потомство обезглавит всех членов моей семьи.
Вы думаете, я еще имею желание выезжать! Нет, это прошло. Я недовольна, раздосадована и делаюсь артисткой, как недовольные делаются республиканцами.
Кажется, я клевещу на себя.
18 августа
Читая Гомера, я уподобляла тетю, когда она сердится, Гекубе во время пожара Трои. Как бы ни была я глупа, как бы ни стыдилась высказывать восхищение классиками, но никто, мне кажется, не может избегнуть этого восхищения. Какое бы ни было ваше отвращение вечно повторять одно и то же, как бы вы ни боялись заимствовать ваших восторгов у почитателей по профессии или повторять слова вашего профессора, но в Париже не смеют говорить об этих вещах, право не осмеливаются.
А между тем ни одна современная драма, ни один роман, ни одна комедия, производящая впечатление, ни Дюма, ни Жорж Занд не оставляли во мне такого чистого воспоминания, такого глубокого, непосредственного впечатления, как описание взятия Трои.
Мне кажется, что я присутствовала при этих ужасах, слышала эти крики, видела пожар, была с семьей Приама, с несчастными, прятавшимися за алтарями богов, где зловещий огонь, пожиравший город, достиг и обнаружил их… И кто может удержаться от легкой дрожи, читая о появлении призрака Креузы?
Но когда я думаю о Гекторе, о сошедшем с городских стен с такими хорошими намерениями, бегущем перед Ахиллом и три раза обегающем город, не переставая быть преследуемым… я смеюсь!..
И герой, который пропускает ремень через ноги или вокруг ног мертвого врага, тащит его вокруг тех же укреплений; я представляю его себе в виде ужасного уличного мальчишки, скачущего на палке с огромной деревянной саблей на боку.
Не знаю, право… но мне кажется, что только в Риме я могла бы найти удовлетворение моим всемирным мечтам…
Там находишься словно на вершине мира.
Я бросила к черту «Journal d’un diplomate en Italie»; эта французская элегантность, эта вежливость, это батальное восхищение оскорбляют меня за Рим. Француз всегда мне представляется рассекающим все по косточкам длинным инструментом, который он деликатно держит двумя пальцами, и с лорнетом на носу.
Рим как город должен быть тем, чем я в моем представлении была как женщина. Все слова, употреблявшиеся и приложимые к другим, для нас… профанация.
19 августа
Я прочла «Ariane» Уйда. Эта книга меня опечалила и в то же время я почти желаю себе такой же участи, как судьба Жиойи.
Жиойя была воспитана на Гомере и Вергилии; по смерти отца она пешком отправилась в Рим. Там ее ждало страшное разочарование. Она думала, что увидит Рим времен Августа.
В продолжение двух лет она занималась в мастерской Марике, знаменитого в то время скульптора, который, сам того не зная, любит ее. Но она занята только искусством до появления Илариона, поэта, который своими поэмами заставляет плакать весь свет, который надо всем смеется, миллионер, прекрасен, как бог, и везде обожаем. Пока Марике любит молча, Иларион заставляет полюбить себя из каприза.
Конец романа меня опечалил, и между тем я тотчас бы согласилась на судьбу Жиойи. Во-первых, она обожала Рим; затем она любила всей душой. И если она и была брошена, то брошена им; если она и страдала, то из-за него. Я не понимаю, как можно быть несчастной от чего бы то ни было, если причиной тому тот, кого любишь… как она любила и как могла бы любить я, если бы я когда-нибудь любила!..
Она никогда не узнала, что он взял ее из одного каприза.
– Он меня любил, – говорила она, – но я не сумела удержать его. Она приобрела славу. Ее имя повторялось с удивлением и восторгом. Она никогда не переставала любить его, он для нее никогда не сошел в разряд обыкновенных людей, она всегда считала его безукоризненным, почти бессмертным, она не хотела умереть тогда, «потому что он живет».
– Как можно убить себя, когда тот, кого любишь, не умирает? – говорила она.
И она умерла у него на руках и слышала, как он говорил:
– Я вас люблю.
Но чтобы так любить, надо найти Илариона. Человек, которого вы будете так любить, не должен быть бог знает какого происхождения.
Иларион был сын австрийского дворянина и греческой принцессы. Человек, которого вы будете так любить, никогда не должен нуждаться в деньгах, никогда не должен быть слабым игроком или бояться чего бы то ни было.
Когда Жиойя становилась на колени и целовала его ноги, мне хочется думать, что ногти у него были розовые и что у него не было мозолей.
Вот она, ужасная действительность! Наконец, этот человек не должен никогда испытывать смущения при входе во дворец или в общество, никакого стеснения при виде мрамора, который он хочет купить, или неудовольствия от невозможности сделать что бы то ни было, хотя бы даже самое сумасшедшее. Он должен быть выше оскорблений, трудностей, неприятностей прочих людей. Он может быть низок только в любви, но низок, как Иларион, который, смеясь, разбивает сердце женщины и в то же время плачет при виде женщины, терпящей в чем-нибудь недостаток.
Это очень понятно. Как разбивают сердца? Не любя или перестав любить. Намеренно ли это? Вольны ли вы в этом? Нет. Ну, так нечего и делать – эти упреки так глупы и в то же время так банальны. Все осуждают, не дав себе труда понять.
Такой человек должен всегда для отдыха находить на своем пути дворец, яхту – чтобы перенестись туда, куда влечет его фантазия, бриллианты – чтобы украсить женщину, слуг, лошадей, даже флейтистов, черт возьми!
Но это сказка! Отлично, но в таком случае такая любовь тоже выдумка. Вы мне скажете, что любят людей, зарабатывающих 1200 франков в год или имеющих 25 000 франков дохода, которые экономят на перчатках, обдумывают приглашения, но тогда уже это совсем не то, совсем, совсем!
Тогда бывают влюблены, любят, приходят в отчаяние, удушают себя угаром, убивают соперников или даже самих себя. Иногда безропотно покоряются. Но это не то, совсем не то. О! Совсем!
Я так щекотлива, что каждая мелочь меня оскорбляет.
Марике и Криспэн поклялись его убить, но она не понимала, как можно мстить.
– Мне мстить, за что? – говорила она. – Мстить не за что. Я была счастлива, он меня любил.
И когда Марике бросился к ее ногам и поклялся ей быть ее другом и мстителем, она отвернулась с ужасом и отвращением.
– Моим другом? – сказала она. – И вы желаете ему зла?
Я понимаю, что можно желать смерти человеку, которого любила, но не тому, которого любишь. Я буду слишком унижена в нем. Подумайте только: если он живет во втором этаже, у своих родителей, и я держу пари (после того, что известно через Висконти), что мать два раза в месяц меняет ему простыни.
Но обратитесь лучше к Бальзаку за этими микроскопическими анализами – мои слабые несчастные усилия не могут заставить понять меня.
Клод Моне. Официантка в ресторане «Дюваль». 1875
23 августа
Я в Шлангенбаде. Как и почему? Потому, что я не знаю, зачем я скучаю в разлуке с другими, и раз надо страдать, лучше страдать вместе.
Мы с тетей взяли две комнаты в Бадегаузе, ради моих ванн; это удобно.
Фовель назначил мне отдых, и я его имею. Только мне кажется, я еще не поправилась, – в неприятных вещах я никогда не обманываюсь.
Скоро мне будет восемнадцать лет. Это мало для тех, кому тридцать пять, но это много для меня, которая в течение немногих месяцев жизни в качестве молодой девушки имела мало удовольствий и много горестей.
Искусство! Если бы меня не манило издали это магическое слово, я бы умерла.
Но для этого нет надобности ни в ком, зависишь только от себя и если не выдерживаешь, то значит – ты ничто и не должен больше жить. Искусство! Я представляю его себе как громадный светоч там, очень далеко, и я забываю все остальное, и пойду, устремив глаза на этот свет… Теперь, о нет, нет! Теперь, о Боже, не пугай меня! Что-то ужасное говорит мне, что… Нет! Я этого не напишу, я не хочу навлекать на себя несчастья! Боже мой… сделают все, чтобы его избегнуть, и если… Об этом нечего говорить… и… да будет воля Божия!
Я была в Шлангенбаде два года тому назад. Какая разница!
Тогда у меня были всевозможные надежды, теперь никаких.
Дядя Степан с нами, как и тогда; с нами попугай, как два года тому назад. Тот же переезд через Рейн, те же виноградники, те же развалины, замки, старые легендарные башни…
И здесь, в Шлангенбаде, чудные балконы, как гнездышки из зелени, но ни развалины, ни хорошенькие новенькие домики меня не пленяют. Я сознаю достоинство, прелесть, красоту, раз они есть, но не могу ничего любить, что не там.
Да и действительно, что есть подобного на свете! Я не умею это высказать, но поэты убеждали, а ученые доказывали это раньше меня.
Благодаря привычке возить с собой «кучу ненужных вещей» через какой-нибудь час я всюду устраиваюсь, как дома; мой несессер, мои тетради, моя мандолина, несколько славных толстых книг, моя канцелярия и мои портреты. Вот и все. Но с этим какая угодно комната, гостиница делается удобной. Что я особенно люблю, это мои четыре толстых красных словаря, зеленый толстый Тит Ливий, совсем маленький Данте, Ламартин среднего размера и мой портрет, величиной с кабинетный, написанный масляными красками, в темно-синей бархатной раме и в ящичке из русской кожи. Со всем этим мой стол тотчас же становится элегантным, и две свечи, освещающие эти теплые и мягкие для глаза цвета, почти примиряют меня с Германией.
Дина так добра… так мила! Я бы так хотела видеть ее счастливой.
Вот слово! Какая отвратительная ложь – жизнь некоторых личностей!
27 августа
Я прибавила одно прошение к моей вечерней молитве: Боже, благослови наше оружие!
Я бы сказала, что я беспокоюсь, но в таких важных вещах могу ли я говорить что бы то ни было? Я ненавижу праздные сострадания. Я не стала бы говорить о нашей войне, если бы я могла что-нибудь сделать. Я довольствуюсь, несмотря ни на что, тем, что упорно восхищаюсь нашей императорской фамилией, нашими великими князьями и нашим бедным милым императором.
Говорят, что мы плохо действуем. Хотела бы я посмотреть на пруссаков в этой скудной, дикой, наполненной предателями и засадами стране! Эти чудесные пруссаки шли по богатой и плодородной стране, как Франция, где каждую минуту они находили города и деревни, где они могли есть, пить и грабить сколько угодно. Желала бы я видеть их на Балканах.
Не говоря уже о том, что мы сражаемся, а они по большей части покупают, а затем устраивают человеческую бойню.
Наши храбрецы умирают «как дисциплинированные скоты», говорят люди противной партии, «как герои», говорят честные люди.
Но все согласны, что никогда еще не дрались так, как дерутся теперь русские. История подтвердит это.
29 августа
Так как меня давно мучил непонятный для меня переход от империи к царской власти, к окончательному раздроблению Италии, я взяла книгу Амедея Тьерри и ушла в лес, где я читала, и спала, и узнавала, что было нужно, бродя наудачу, не зная, куда я иду, и напрасно воображая себе встречи, подобные той, что я описала в прошлом году.
Русским не везет. Читали военные новости: Шипкинский проход, впрочем, еще в наших руках; завтра мы узнаем результат решительных действий. Я дала обет молчания до завтра – только бы наши победили.
Мне будет восемнадцать лет, это нелепо! Мои незрелые таланты, мои надежды, мои привычки, мои капризы сделаются смешны в восемнадцать лет. Начинать живопись в восемнадцать лет, стремясь все делать раньше и лучше других!
Некоторые обманывают других, я же обманула себя.
30 августа
Я молчала, и сегодня вечером в Висбадене мы узнали, что Шипка за нами и турки разбиты (по крайней мере, в настоящую минуту) и что к нашим идут большие подкрепления.
Сегодня вечером за чаем у нас было несколько знакомых, между прочим, монсеньор Филипп Бурбонский. С ним надо считаться – все-таки одним кавалером больше. Он брюнет, маленького роста. У него свежий цвет лица, черные, длинные усы, широко развитая и подвижная нижняя челюсть. Он часто морщит лоб. У него хорошие простые манеры, и, по-видимому, он не слишком глуп. Весь вид спокойный, незначительный.
Он помог мне приготовить шоколад, и вообще он, кажется, добрый малый.
Но, Господи, я все забываю сказать вам, что Поль, мой родной брат Поль, приехал сегодня утром в шесть часов из России!
Он такой толстый, коренастый. Рядом с ним я кажусь маленькой принцессой.
1 сентября
Я много бываю одна, думаю, читаю без всякого руководства. Быть может, это хорошо, но быть может, и худо.
Кто может поручиться, что я не полна софизмов и ложных идей? Об этом будут судить после моей смерти.
Прощение, простите. Вот очень употребительные на свете слова. Христианство нас учит прощению.
Что такое прощение?
Это отказ от мщения и наказания. Но если не было намерения ни мстить, ни наказывать, можно ли простить? И да и нет. Да, потому что так говорят себе и другим и поступают, как будто бы обиды и не существовало!
Нет, потому что никто не властен над своей памятью, и пока помнят – еще не простили.
Я весь день провела дома вместе с нашими, собственными руками чинила башмак из русской кожи для Дины; затем я вымыла большой деревянный стол, как горничная, и на этом столе я начала делать вареники. Мои забавлялись, глядя, как я месила муку, с засученными рукавами и с черной бархатной ермолкой на голове, «как Фауст».
6 сентября
Остаться в Париже. Я окончательно остановилась на этом, и мама тоже. Я была с ней весь день. Мы не ссорились, и все было бы хорошо, если бы она не была больна, особенно вечером. Со вчерашнего дня она почти не покидает постели.
Я решила остаться в Париже, где буду учиться и откуда летом для развлечения буду ездить на воды. Все мои фантазии иссякли; Россия обманула меня, и я исправилась. Я чувствую, что наступило наконец время остановиться. С моими способностями в два года я нагоню потерянное время.
Итак, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и да будет надо мною благословение Божие. Это решение не мимолетное, как многие другие, но окончательное.
9 сентября
Я плакала сегодня. Беспорядочное начало моей жизни мучит меня. Сохрани меня Бог видеть в себе непризнанное божество, но, право, я несчастна! Уже сколько раз я была склонна признать себя существом, «преследуемым злым роком», но каждый раз возмущалась при этой ужасной мысли: Nunquam anathematis vinculis exuenda! Есть люди, которым все удается, а другим – наоборот. И против этой истины нельзя ничего возразить. И в этом-то и заключается весь ужас положения!
Вот уже три года, как я могла бы серьезно работать, но в тринадцать лет я гонялась за тенью герцога Г., как ни плачевно в этом признаться… Я не обвиняю себя, потому что нельзя сказать, чтобы я сознательно расходовалась на все это. Я жалею себя, но не могу во всем упрекать себя. Обстоятельства во взаимодействии с моей полной свободой, постоянно стесняемой, однако, с моим невежеством, моя экзальтированность, да еще воображающая себя скептицизмом, выработанным опытностью сорокалетнего человека, все это бросало меня из стороны в сторону, Бог знает куда и как!
Другие в подобных обстоятельствах могли бы встретить какую-нибудь солидную поддержку, а это дало бы возможность приняться за работу в Риме, или где-нибудь в другом месте, или, наконец, привело бы к браку. У меня – ничего.
Я не сожалею о том, что жила все время по своему благоусмотрению; странно было бы сожалеть об этом, зная, что никакой совет мне ни к чему не служит. Я верю только тому, что испытываю сама.
10 сентября
Завтра утром мы выезжаем. Я очень люблю Шлангенбад. Здесь такие прекрасные деревья, воздух такой мягкий… Можно ни с кем не встречаться, если хочешь… Я знаю все тропинки, все аллеи. Человек, умеющий удовольствоваться Шлангенбадом, может быть вполне счастлив.
Мои матери не понимают меня. В моем желании поехать в Рим они усматривают только прогулки на Пинчио, оперу и «уроки живописи». Если бы я всю жизнь потратила на разъяснение им своего энтузиазма, они, может быть, поняли бы его, но как нечто «бесполезное», как какую-нибудь мою причуду… Мелочи обыденной жизни поглощают их… И потом, говорят, надо уж родиться с любовью ко всему этому, иначе ничего не поймешь, будь там хоть каким хочешь умным, благородным и прекрасным человеком. Или это я, может быть, глупа?
Хотела бы я быть фаталисткой.
19 сентября
Я перечла всю передрягу с А. и очень боюсь, что меня примут или за идиотку, или за особу довольно легкомысленную. Легкомысленную, нет. Я принадлежу к порядочной семье… Однако, что я говорю?
Я просто была глупа. Не подумайте, что я называю себя глупой из кокетства или желая казаться милой. Я говорю это с глубочайшей грустью, так как я убеждена в этом.
И это я, которая хотела поглотить мир?.. В семнадцать лет я уже блазированное существо, и никто даже не знает, что я существую. Я знаю, что я глупа, А. служит тому доказательством.
А между тем, когда я говорю, я говорю умно, никогда вовремя – это правда, но…
20–21 сентября
Глубокое отвращение к самой себе. Я ненавижу все, что я делаю, говорю и пишу. Я ненавижу себя, потому что не оправдала ни одной из своих надежд. Я обманулась.
Я глупа, у меня нет такта и никогда не было. Укажите мне хоть одно мое умное слово или разумный поступок. Ничего, кроме глупостей! Я считала себя умной, а я нелепа. Я считала себя смелой, а я боязлива. Я думала, что у меня талант, и не знаю, куда я его дела. И при всем этом претензия писать прелестные вели! Вы, может быть, сочтете умным то, что я только что высказала; это только так кажется, но на самом деле не умно. У меня недостает ловкости судить о себе верно, что заставляет предполагать скромность и о массе других качеств. Я ненавижу себя!
22 сентября
Не знаю, как это произошло, но мне кажется, что я хочу остаться в Париже. Мне кажется, что год в мастерской Жулиана будет для меня хорошим основанием.
2 октября
Сегодня мы переезжаем на новую квартиру на Champs Elysees, 71. Несмотря на всю эту суматоху, у меня нашлось время съездить в мастерскую Жулиана, единственную серьезную школу для женщин. Там работают каждый день от восьми часов до полудня и от часу до пяти. Когда Жулиан ввел меня в залу, то позировал какой-то обнаженный человек.
3 октября
Так как среда счастливый день для меня и, кроме того, сегодня не четвертое число, которое для меня всегда несчастливо, то я и спешу начать сегодня как можно больше дел.
Я набросала у Жулиана карандашом эскиз головы en trois quarts, и, судя по его словам, он не ожидал, что выйдет так хорошо у начинающей. Я уехала рано, мне хотелось только начать сегодня. Мы поехали в Булонский лес; я сорвала пять дубовых листьев и отправилась к Дусэ, который в полчаса сделал мне прелестную голубую накидку на плечи. Но чего пожелать?.. Быть миллионершей? Чтобы вернулся мой голос? Получить римский приз, скрываясь под мужским именем? Выйти за Наполеона IV? Войти в высший свет? Я желаю скорого возвращения моего голоса.
4 октября
День проходит скоро, когда рисуешь от восьми часов до полудня и от часу до пяти. На одни переезды идет почти полтора часа, и кроме того, я немного опоздала, так что работала только шесть часов.
Когда я только подумаю о годах, целых годах, которые потеряны мною! От гнева испытываешь желание послать все к черту… Но это было бы еще хуже. Итак, ничтожное и отвратительное существо, будь довольна и тем, что наконец принялась за дело! Я могла бы начать в тринадцать лет! Четыре года!
Я бы писала уже исторические картины, если бы начала четыре года тому назад. То, что я знаю, только вредит мне. Все это надо переделывать.
Я принуждена была два раза начинать голову en face, прежде чем нарисовала удовлетворительно.
Что же касается рисунка с живой натуры, называемого «академией», то я сделала его без труда, и Жулиан не поправил ни одной линии. Его не было, когда я приехала, и одна из учениц показала мне, как начать; я никогда раньше не видала таких рисунков.
Все, что я ни делала до сих пор, было никуда не годное вранье!
Наконец я работаю с художниками, с настоящими художниками, произведения которых выставляются в салоне, которым платят за картины и портреты, которые даже дают уроки.
Жулиан доволен моим началом. «К концу зимы вы будете делать очень хорошие портреты», – сказал он мне.
Он говорит, что его ученицы иногда не слабее его учеников. Я бы стала работать с последними, но они курят, да к тому же нет никакой разницы. Разница еще была, когда женщины рисовали только одетых; но с тех пор, как они рисуют с голой натуры, это все равно.
Служанка при мастерской такая, какие описываются в романах.
– Я всегда была с художниками, – говорит она, – я уже более не мещанка, я художница.
Я довольна, довольна!
5 октября
– Вы сами это сделали? – спросил Жулиан, войдя в мастерскую.
– Да.
Я покраснела, точно сказала неправду.
– Ну… я очень доволен, очень доволен.
– Да?
– Очень доволен.
А я-то! Следуют советы… я еще ослеплена превосходством других, но я уже не так боюсь. Все эти женщины, которые учатся уже три, четыре года в мастерской, в Лувре, занимаются серьезно.
6 октября
Я никого не видела, потому что была в мастерской.
– Будьте спокойны, – сказал мне Жулиан, – вы недолго будете в дороге.
А когда в пять часов мама приехала за мной, он сказал ей приблизительно следующее:
– Я думал, что это каприз балованного ребенка, но я должен сознаться, что она действительно работает, что у нее есть воля и что она хорошо одарена. Если это будет так продолжаться, то через три месяца ее рисунки могут быть приняты в Салон.
Каждый раз, подходя поправлять мой рисунок, он с некоторым недоверием спрашивает, сама ли я его сделала.
Еще бы! Я ни разу не спрашивала совета ни у одной из учениц, за исключением одного раза в самом начале.
Я немного усваиваю их артистические манеры…
В мастерской все исчезает; не имеет ни имени, ни фамилии; тут перестаешь быть дочерью своей матери, тут сама по себе, каждая личность имеет перед собой искусство и ничего более. Чувствуешь себя такой довольной, такой свободной, такой гордой!
Наконец я такая, какою уже давно хотела быть. Я так давно хотела этого, что теперь мне даже не верится.
Кстати, знаете, кого я встретила на Champs Elysees?
Просто-напросто герцога Г., занимавшего целый фиакр. Красивый, несколько полный молодой человек с красноватыми волосами и красивыми усами обратился в толстого англичанина, очень рыжего, с рыжими баками.
Однако четыре года… меняют человека. Через полчаса я уже не думала о нем. Sic transit gloria Ducis.
Какая я была экзальтированная!
8 октября
Новая модель головы – это утром. Нечто вроде певицы из кафешантана, которая пела во время отдыхов. После полудня нашей натурой была молодая девушка.
Говорят, что ей только семнадцать лет, но уверяю вас, что ее талия успела уже сильно пострадать. Говорят, что эти нищие ведут невозможную жизнь.
Поза трудная, мне приходится работать с усилием. Люди потому стыдятся своей наготы, что не считают себя совершенными. Если бы они были уверены, что на теле нет ни одного пятна, ни одного дурно сложенного мускула, ни обезображенных ног, то стали бы гулять без одежды и не стыдились бы. Только не дают себе отчета, но стыдятся именно по той причине, а не от чего другого. Разве можно устоять и не показать что-нибудь действительно прекрасное и чем можно гордиться? Кто, начиная с царя Кандавла, хранил про себя свое сокровище или красоту? Но насколько каждый легко удовлетворяется своим лицом, настолько всякий совестлив относительного своего тела.
Стыдливость исчезает только перед совершенством, ибо красота всемогуща. С той минуты, как могут сказать что-нибудь другое, чем «это прекрасно!» – значит, это не совершенство. И тогда есть место осуждению и всему прочему.
Я только что сказала, что совершенная красота освобождает от всяких стеснений и заставляет вас забыть все. Музыка, позволяющая вам видеть недостатки постановки, несовершенна. Геройский поступок, который в минуту его совершения оставляет в наших чувствах место чему-нибудь, кроме удивления, не есть поступок безусловно героический. Нужно, чтобы то, что вы видите или слышите, было достаточно возвышенно, чтобы наполнить всю вашу голову, тогда только оно будет бесконечно могущественно.
Раз вы видите нагую женщину и говорите, что это дурно, то эта женщина не есть воплощение красоты, потому что у вас явилась другая мысль, чем та, которая перешла в мозг через глаза. Вы забываете, что это прекрасно, говоря, что она обнажена. Следовательно, красоты ее не было достаточно, чтобы вполне поглотить вас. Поэтому те, которые показываются, стыдятся, а те, которые смотрят, шокируются.
Стыдятся, зная, что другие находят это дурным; но если бы не находили этого дурным, то есть если бы это было всеми принято, тогда и не стыдились бы.
Итак: абсолютное совершенство и красота уничтожают, даже предупреждают осуждение, следовательно, уничтожают стыдливость.
9 октября
Рисовала свою певицу с очень близкого расстояния и в ракурсе. На всю эту неделю у меня самое дурное место в мастерской, потому что я поздно пришла в понедельник.
– Но это совсем недурно, – сказал Жулиан, – я даже удивлен, что вы сделали ее так. Это самая трудная поза, и как можете вы работать на таком близком расстоянии? Ну, я вижу, что дело пойдет, как по маслу.
Вот мой мир. Мои выезжают, ездят в театр, я же рисую, в ожидании Масленицы в Неаполе, если мои мысли не изменятся и не произойдет ничего нового.
10 октября
Не думайте, пожалуйста, что я делаю чудеса, потому что Жулиан удивляется. Он удивляется потому, что приготовлялся к фантазиям богатой девушки, и притом начинающей. Мне недостает опытности, но то, что я делаю, верно, и я схватываю сходство. Что же касается исполнения, оно таково, каково может быть после восьмидневной работы.
Все мои сотоварищи рисуют лучше меня, но ни одна не рисует так верно и так похоже. Что заставляет меня думать, что я буду рисовать лучше их, это то, что, чувствуя их достоинства, я не удовольствуюсь, если достигну того же, между тем как большинство начинающих всегда говорят: если бы только я могла рисовать, как та или другая!
У них есть практика, знание, опытность, но эти сорокалетние девушки не сделают ничего лучше, чем делают теперь. Те, которые молоды… рисуют хорошо, у них есть время… но нет будущего.
Быть может, я ничего не достигну, но это будет только из-за нетерпения. Я готова убить себя за то, что не начала четыре года тому назад, и мне кажется, что теперь слишком поздно. Посмотрим.
11 октября
Лино говорит, что сожаления о прошлом бесплодны; я же каждую минуту говорю себе: как бы все было хорошо, если бы я училась уже три года! Теперь я уже была бы великой художницей и могла бы и т. д. и т. д.
Жулиан сказал служанке при мастерской, что я и Шепи подаем наибольшие надежды. Вы не знаете, кто такой Шепи? Шепи – это швейцарка. Какое произношение! Словом, Жулиан сказал, что я могу сделаться великой художницей.
Я узнала это через Розалию. Так холодно, что у меня насморк, но я прощаю все это ради того, что рисую.
А ради чего я рисую? Ради всего того, что я оплакиваю с сотворения мира! Ради всего того, чего мне недоставало и недостает! Чтобы добиться благодаря моему таланту, благодаря… всему чему угодно, но добиться! Если бы у меня было все это, быть может, я не сделала бы ничего.
12 октября
– Знаете что, – сказала я Жулиану, – я совсем потеряла бодрость. Еще вчера одна дама сказала мне, что я не должна работать, не имея никакого таланта.
– Она это сказала, эта дама?
– Ну да, и очень серьезно.
– Отлично, вы можете сказать ей, что через три месяца – три месяца не слишком много, через три месяца вы сделаете ее портрет en face, en trois quarts или в профиль – одним словом, как ей будет угодно, – и недурной портрет, понимаете? Похожий и недурно написанный. Ну, вот она увидит. Через три месяца, и если говорю это здесь и так, что все здесь присутствующие могут меня слышать, это значит, что я говорю не нечто необыкновенное, но нечто верное.
Это собственные его слова, сказанные с южным акцентом, который даже двадцать лет жизни в Париже не могли совершенно изгладить, и тем лучше. Я очень люблю южный акцент.
Винсент Ван Гог. Вид на Париж из комнаты Винсента с улицы Лепик. 1887
13 октября
По субботам в мастерскую приезжает художник Тони Робер-Флери, написавший картину «Последний день Коринфа», которая куплена государством и помещена в Люксембурге. Кроме того, первые художники Парижа время от времени приезжают давать нам советы.
Я начала в прошлую среду, а в субботу на той неделе он не был, так что для меня это было в первый раз. Когда он подошел к моему мольберту и высказал свои замечания, я прервала его:
– Извините… но я начала только десять дней тому назад…
– Где вы рисовали прежде? – спросил он, смотря на мой рисунок.
– Да нигде.
– Как нигде?
– Так, я взяла тридцать два урока рисования, для развлечения…
– Это не значит учиться.
– Я знаю, а потому…
– Вы никогда не рисовали с натуры, прежде чем попали сюда?
– Никогда.
– Это невозможно.
– Но уверяю вас.
– Вам никогда не давали советов?
– Да… Четыре года тому назад я брала уроки, как маленькая девочка: меня заставляли срисовывать гравюры.
– Это ничего не значит, я не об этом говорю.
И так как он все еще, казалось, не верил, я должна была прибавить:
– Я могу дать вам в этом честное слово, если хотите.
– В таком случае это значит, что у вас необыкновенные способности, что вы особенно даровиты, и я советую вам работать.
– Я только это и делаю уже десять дней… Хотите посмотреть, что я рисовала до этой головы?
– Да, я кончу с этими барышнями и вернусь.
– Ну, – сказал он, осмотрев три или четыре мольберта, – покажите вашу работу.
– Вот, – отвечала я, начиная с головы архангела, и, так как я хотела показать ему только два рисунка, он мне сказал:
– Нет, нет, покажите мне все, что вы сделали.
Таким образом я показала ему обнаженную фигуру, неоконченную, так как я начала только в прошлый четверг; затем голову певицы, в которой он нашел много характерности; ногу, руку и фигуру Августины.
– Вы рисовали эту фигуру самостоятельно?
– Да, и я никогда не видала таких фигур, а не только что не знала, как их делают.
Он улыбался и ничему не верил, так что я снова должна была дать честное слово, и он опять сказал:
– Удивительно, и это способности необычайны. Эта фигура очень недурна, очень, а вот эта часть даже хороша. Работайте… – И т. д. и т. д.
Следуют советы. Остальные все это слышали, и я возбудила к себе зависть, так как ни одна из них не слышала ничего подобного; а они учатся год, два, три, делают академии с прекрасных моделей, рисуют в Лувре! Конечно, с них спрашивается больше, чем с меня, но им можно бы было сказать что-нибудь равнозначащее, хотя и в другом роде…
Значит, правда, и я не… я не хочу ничего говорить, потому что этим я только принесу себе несчастье… Но я полагаюсь на Бога. Я так боюсь!..
За это мне пришлось после полудня выслушать грубость в третьем лице. Испанка – до сих пор добрая, крайне услужливая девушка, со страстью к рисованию, но без верного глаза, – так вот, эта испанка, говоря о какой-то голландке, сказала, что, поступая в мастерскую, всегда все поражают своими быстрыми успехами, но что эти пустяки кажутся значительными для тех, кто ничего не знает, и даются без труда, но что чем больше учатся, тем больше видят, как много надо еще учиться.
Но со всем тем ведь есть две или три начинающие! Разве они делают такие же быстрые успехи?
Изложим вкратце и запомним повествование о наших успехах.
– Ну что же? – воскликнул Жулиан, скрещивая передо мной руки.
Я даже испугалась и, краснея, спросила, что с ним.
– Но ведь это чудесно; вы в субботу работаете до вечера, когда все дают себе небольшой отдых!
– Ну так что же! Мне больше нечего делать, а ведь надо же что-нибудь делать.
– Это прекрасно. Знаете, что Робер-Флери совсем не недоволен вами?
– Да, он мне сказал это.
– Он, бедный, все еще немного болен.
И наш учитель, поместившись среди нас, начал болтать… что он делает редко и что ценится.
Робер-Флери, после того, как посетил нас, разговаривал с Жулианом. Понятно, что мне хотелось узнать еще что-нибудь, так как я ожидала услышать только лестные для себя вещи.
Поэтому я пошла за ним и нашла его в дополнительном классе, где он поправлял рисунок одной прелестной блондинки.
– Monsieur Жулиан… скажите мне, что сказал вам обо мне Робер-Флери… Я знаю, я знаю, что я ничего не знаю, но он, он мог судить… немного, по началу и если…
– Если бы вы узнали, что он говорил о вас, то немного покраснели бы…
– Он сказал мне, что это сделано с большим пониманием и, что…
– Боже мой, конечно нет. Разговаривая со мной, он все еще не верил этому, так что я должен был рассказать ему, как вы нарисовали голову архангела, которую я заставил вас начать сызнова… вы помните, как все было… одним словом, как у человека, ничего не знающего.
– Да.
Мы оба засмеялись. О! Это все так весело!
Теперь, когда кончились все эти сюрпризы, удивления, ободрения, недоверия, все эти восхитительные для меня вещи, теперь начнется работа. У нас обедала m-me Д. Я была спокойна, сдержанна, молчалива, едва любезна. Я ни о чем больше не думала, исключая рисования.
Я писала все это и останавливалась, думая о предстоящей работе, о времени, о терпении, о трудностях…
Сделаться художником не так легко, как сказать это; кроме таланта и гения, существует еще эта неумолимая механическая работа… И какой-то голос говорит мне: ты не почувствуешь ни времени, ни трудностей, и ты наверно достигнешь!
И знайте, я верю этому голосу! Он меня никогда не обманывал, и он не раз предсказывал мне несчастья, так что и на этот раз не лжет. Я верю и чувствую, что имею право верить.
15 октября
Сегодня начались вечерние занятия от восьми до десяти часов. Жулиан был изумлен при виде меня. Вечером он работал с нами, и мне было очень весело.
Однако сколько же нас было сегодня? Я, полька, Фаргаммер, одна француженка, Амалия (испанка), одна американка и учитель.
Дина тоже присутствовала. Это так интересно. Свет так хорошо падает на модель, тени так просты!
16 октября
После полудня был Робер-Флери и отнесся ко мне с особенным вниманием.
Я, по обыкновению, весь день провела в мастерской, от девяти часов до половины первого. Я еще не могу достигнуть того, чтобы приходить ровно в восемь.
В полдень я уезжаю, завтракаю и возвращаюсь к двадцати минутам второго и остаюсь до пяти, а вечером от восьми до девяти. Таким образом, у меня уходит на это девять часов в сутки.
Это меня нисколько не утомляет; если бы физически было возможно работать больше, я стала бы работать больше. Есть люди, которые называют это работой. Уверяю вас, что для меня это игра, я говорю это без всякого фанфаронства.
Десять часов, это так мало, а я не могу работать даже столько каждый день, потому что от Champs Elysee до улицы Вивьен очень далеко, потому что часто никто не хочет ехать со мной вечером, потому что из-за этого я возвращаюсь в половине одиннадцатого, пока я засну – уже полночь и на другой день я теряю час. Впрочем, если ездить правильно – от восьми до двенадцати и от часа до пяти, то у меня будет восемь часов.
Зимой в четыре часа будет уже темно; ну что же, тогда я непременно буду приезжать по вечерам.
У нас всегда по утрам бывает карета, а на остальной день ладно.
Видите ли, дело в том, что в один год надо сделать работу трех лет. И так как я подвигаюсь очень быстро, эти три года, заключенные в один, составят собой, по меньшей мере, шесть лет для обыкновенных способностей.
Я рассуждаю, как дураки, которые говорят, что другая сделала бы в два года, то я сделаю в шесть месяцев. Нет ничего более несправедливого.
Дело не в скорости. Тогда только пришлось бы употребить побольше времени. Конечно, терпением можно добиться известных результатов. Но того, что я смогу сделать через два года, датчанка никогда не сделает. Когда я начинаю исправлять людские заблуждения, я путаюсь и раздражаюсь, потому что никогда не успеваю кончить начатую фразу.
Словом, если бы я начала три года назад, то теперь могла бы удовольствоваться шестью часами в день; но теперь мне надо девять, десять, двенадцать, ну, одним словом, сколько только возможно. Разумеется, даже начав три года тому назад, надо было бы работать сколько возможно больше, но в конце концов, что прошло… довольно!..
Гордиджани говорил мне, что он работал по двенадцать часов в сутки.
Возьмем от двадцати четырех часов семь часов на сон, два часа на то, чтобы раздеться, помолиться, несколько раз вымыть руки, одеться, причесаться – одним словом, все это; два часа на то, чтобы есть и отдыхать немного, – это составит одиннадцать часов.
Итак, значит, это правда, ибо остается тринадцать часов.
Да, но у меня проезды отнимают час с четвертью.
Ну да, я теряю около трех часов. Когда я буду работать дома, я уже не буду их терять. Притом… притом если видеться с людьми, бывать на прогулках, в театре?
Мы постараемся избежать всего этого, так как в той степени, в какой я могу всем этим пользоваться, это только скучно.
18 октября
Моя академия показалась Жулиану так хороша, что он сказал, что это совершенно необычайно и чудесно для начинающей. Но право же, разве это не удивительно, есть и план, и торс недурен, и действительно все очень пропорционально для начинающей…
Пока я краснела, все ученицы встали и подошли посмотреть мой рисунок.
Боже, как я довольна!
Вечерняя академия была так плоха, что Жулиан посоветовал мне ее переделать. Желая сделать особенно хорошо, я ее испортила. Третьего дня она была недурна.
20 октября
Бреслау получила много похвал от Робера-Флери, я же нет. Академия довольно хороша, но за исключением головы. Я с ужасом спрашиваю себя, когда же я буду хорошо рисовать?
Ровно пятнадцать дней, что я работаю, понятно – кроме двух воскресений. Пятнадцать дней!
Бреслау работает уже два года в мастерской, и ей двадцать лет, а не семнадцать; Бреслау много рисовала еще до поступления.
А я! Несчастная!
Я рисую только пятнадцать дней… Как хорошо рисует эта Бреслау!
22 октября
Модель была уродлива, и вся мастерская отказалась рисовать ее. Я предложила отправиться посмотреть картины на римскую премию, выставленные в Beaux-Arts.
Половина пошла пешком, а мы – Бреслау, m-me Симонид, Зильгард и я – в карете.
Выставка кончилась вчера. Погуляли пешком по набережной, посмотрели старые книги и гравюры, болтали об искусстве. Потом в открытом экипаже отправились в Булонский лес. Представляете вы себе меня? Я не хотела противоречить, так как это значило бы испортить им удовольствие. Они были такие миленькие, такие приличные, и мы только что перестали стесняться друг друга.
Одним словом, все было бы не слишком дурно, если бы мы не встретили ландо с моей семьей, которая принялась следить за нами.
Я делала знаки кучеру не опережать нас, меня видели, я это знала, но и не думала говорить с ними при моих художницах. На мне была моя шапочка, и у меня был беспорядочный и сконфуженный вид.
Понятно, что моя семья была страшно рассержена и особенно раздосадована. Я была вне себя. Словом… тоска.
27 октября
Я получила много комплиментов, как говорят у нас в мастерской. Робер-Флери выразил приятное удивление и сказал мне, что я делаю поразительные успехи и что, по всей вероятности, у меня необыкновенные способности. Этот рисунок очень хорош, очень хорошо для вас. Я советую вам работать и уверяю вас, что если вы будете работать, то достигнете чего-нибудь совсем недурного.
Совсем недурного – обычное его выражение.
Кажется, он сказал: очень многие, уже много рисовавшие, не сделают так, но я не настолько уверена в этом, чтобы записать такую лестную фразу как факт.
Я потеряла Пинго, и бедное животное, не зная, что делать, вернулось в мастерскую, куда оно обыкновенно меня сопровождает. Пинго – маленькая римская собачка, белая, как снег, с прямыми ушами и с черными, как чернила, глазами и носиком.
Я ненавижу кудрявых белых собачонок.
Пинго совсем не кудрявый, и у него иногда бывают такие удивительно красивые позы, как у козочки на скале, я еще никого не встречала, кто бы не любовался ею.
Она почти так же умна, как Розалия глупа. Розалия была на свадьбе своей сестры, она отправилась туда утром, проводив меня.
– Как, Розалия, – сказала ей мама, – вы оставили барышню одну в мастерской?
– О, нет, барышня осталась с Пинго.
И уверяю вас, что она сказала это серьезно.
Но так как я немного сумасшедшая, я или позабыла, или потеряла где-нибудь моего сторожа.
28 октября
Шепи начала мой портрет. Я даже не думала, что существуют подобные создания. Ей никогда не придет в голову, что особа, ей симпатичная, пудрится или носит фальшивые волосы.
Человек, который не всегда говорит голую правду, лицемер, лжец, отвратителен. Она таких презирает.
Вчера она и Бреслау, желая меня успокоить (я завтракала), хотели тотчас же отнести мне Пинго, но испанка и другие принялись кричать, что они прислуживаются мне, потому что я богата. Я много спрашивала ее о том, как относятся ко мне в мастерской.
– Вас очень бы любили, если бы вы были менее талантливы. И потом: когда вас тут нет, только и делают, что разбирают вас.
Значит, это всегда будет так – я никогда не пройду незамеченной, как другие! Это и лестно и печально.
3 ноября
Когда я приехала, Робер-Флери уже поправил всем рисунки. Я подала ему свои и, по обыкновению, спряталась за табурет, но должна была выйти оттуда – столько приятных вещей наговорил он мне!
– В контурах видна неопытность – это и понятно, но удивительно правдиво и гибко. Это движение действительно хорошо. Конечно, теперь вам недостает опытности, но у вас есть все то, чему нельзя научиться. Понимаете? Все, чему нельзя научиться. Тому, чего у вас нет, выучиваются, и вы выучитесь. Да… это удивительно, и если вы только захотите работать, вы будете делать прекрасные вещи, за это я вам ручаюсь.
– И я также.
Два часа, я пользуюсь своим воскресеньем. Время от времени я отрываюсь от этой исторической хроники, чтобы заглянуть в анатомию или на рисунки, купленные сегодня.
7 ноября Пасмурно и сыро, я живу только в дурном воздухе мастерской. Город, Булонский лес – это смерть.
Я недостаточно работаю. Я молода, да, очень молода, я знаю, но для того, чего я хочу, нет… Я хотела быть знаменитой уже в мои года, чтобы не нуждаться ни в чьей рекомендации. Я плохо и глупо желала, ибо ограничивалась одними желаниями.
Я достигну, когда пройдет лучшая из трех молодостей – та, для которой я мечтала обо всем. По-моему, существует три молодости; от шестнадцати до двадцати, от двадцати до двадцати пяти и от двадцати пяти до… как пожелают. Другие молодости, которые придумывают, не что иное, как утешения и глупости.
В тридцать лет начинаются зрелые года. После тридцати лет можно быть красивой, молодой, даже более молодой, но это уже совсем не тот табак.
8 ноября
Только одно может оторвать меня от мастерской раньше срока и на все дообеденное время – это Версаль. Как только были получены билеты, ко мне отправили Шоколада, и я заехала домой переменить платье.
На лестнице встречаю Жулиана, который поражен, что я уезжаю так рано, я объясняю ему, что ничто, кроме Версаля, не могло бы заставить меня покинуть мастерскую. Он говорит, что это тем более удивительно, что я легко могла бы веселиться.
– Мне весело только здесь.
– И как вы правы! Вы увидите, сколько удовольствия доставит вам это через два месяца.
– Вы знаете, что я хочу сделаться очень сильной в живописи и что я рисую не ради… шутки…
– Надеюсь! Иначе это все равно что поступать с золотым слитком как с медным, это было бы грешно. Уверяю вас, что с вашими способностями, – я вижу это по тем удивительным вещам, которые вы делаете, – вам не надо более полутора лет, чтобы приобрести талант!
– О!
– Я повторяю, талант!
– Берегитесь, я уеду в восторге.
– Я говорю правду, вы сами это увидите. К концу этой зимы вы будете рисовать совсем хорошо, потом вы еще порисуете и в шесть месяцев освоитесь с красками, чтобы приобрести талант наконец!
Милосердное небо! По дороге домой я смеялась и плакала от радости и мечтала, что мне будут платить по пяти тысяч франков за портрет.
Не надо ездить часто в палату – это могло бы отвлечь меня от мастерской; заинтересовываешься, ездишь, ездишь, каждый день новая страница одной и той же книги. Я могла бы пристраститься к политике до потери сна… Но моя политика там, в улице Вивьен, там достигну я возможности иначе ездить в палату, чем теперь. Полтора года; но это пустяки!
Столько счастья пугает меня.
Полтора года для портретов, а для картин?.. Положим два или три года… там посмотрим.
Я была красива, но часам к восьми очень утомлена, что не помешало мне отправиться рисовать по крайней мере на целый час.
10 ноября
Насколько неприятные впечатления сильнее приятных.
Целый месяц я слышу одни поощрения, за исключением одного только раза, две недели тому назад: в это утро меня побранили, и я вспоминаю только это утро, но это всегда и во всем бывает так. Тысяча аплодирует, один шикает и свистит, и его слышите более других.
Академии (?!) утренние и вечерние не были исправлены. А! Но мне это извинительно! Вы помните, что модели мне не нравились и что начали мы только во вторник; в понедельник был беспорядок из-за моделей и потом особенно потому, что я сидела совсем en face, очень близко и смотрела снизу. Поза самая трудная. Не беда; это дурной знак, когда ищут оправданий.
14 ноября
Была в квартале Ecole de Medecine, искала различные книги и гипсовые слепки. У Вассера, вы, конечно, знаете Вассера, который продает всевозможные человеческие формы, скелеты и т. п. Ну, вот там у меня есть протекция, обо мне говорили профессору Beau-Arts Матиасу Дюваль и другим, и кто-нибудь будет давать мне уроки.
Я в восторге; улицы были полны студентами, выходившими из разных школ; эти узкие улицы, эти инструментальные лавки, одним словом, все. А, черт возьми, я поняла обаяние латинского квартала.
У меня женского только и есть, что оболочка, и оболочка чертовски женственна; что же касается остального, то оно чертовски другое. Это не я говорю, потому что я представляю себе, что все женщины такие же, как я.
Рассказывайте мне больше о Латинском квартале: на нем я примиряюсь с Парижем; чувствуешь себя далеко… почти в Италии; разумеется, в другом роде.
Люди светские, иначе говоря, люди буржуазные никогда не поймут меня. Я обращаюсь только к нашим.
Несчастное юношество, читай меня! Так мама пришла в ужас, при виде меня в лавке, где есть такие вещи… о! Такие вещи!
«Голые мужики». Вот буржуазка! Когда я нарисую прекрасную картину, видна будет только поэзия, цветы, фрукты. Никто не подумает о навозе.
Я вижу только цель, конец. И я иду к этой цели.
Я обожаю бывать у книгопродавцев и у людей, которые принимают меня, благодаря моему скромному костюму, за какую-нибудь Бреслау; они смотрят на вас с какой-то особенной благосклонностью, словно ободряют вас – совсем иначе, чем прежде.
Раз утром я с Розалией отправились в мастерскую на фиакре. За проезд я подала ему двадцать франков.
– О! Мое бедное дитя, у меня нет вам на сдачу.
Это так забавно!
15 ноября
Устроили конкурс мест; положено сделать – эскиз головы в час.
В субботу судьба решится; впрочем, я не беспокоюсь о том, что, может быть, буду последней, это будет справедливо. Я учусь тридцать дней, остальные же, по крайней мере для круглого счета, по году, не говоря уже о том, что они учились еще до этой мастерской; они учились серьезно, как художники по профессии.
Меня тревожит эта негодяйка Бреслау. Она удивительно одарена, и уверяю вас, что она добьется чего-нибудь совсем недурного. Я не могу вбить себе в голову, что она рисует у Жулиана уже около пятисот дней, я же только тридцать дней, т. е. что у одного Жулиана она училась почти в пятнадцать раз больше, чем я училась вообще. Если я действительно хорошо одарена, то через шесть месяцев я буду делать то же, что она. Есть вещи удивительные в этом отношении, но нет чудес, а мне их-то и хотелось бы!
Я чувствую себя не по себе потому, что по прошествии месяца я не сильнее всех других.
16 ноября
Я пошла навестить бедную Шепи, живущую в пансионе на avenue de la Grande-Armee.
Совершенно артистическая мансарда, но такой чистоты, что кажется почти богатой.
Бреслау живет там же, а также многие другие молодые художницы.
Наброски, этюды, масса интересных вещей. Уже одна эта артистическая сфера, один этот воздух действуют хорошо…
Я не прощу себе, что не знаю так многих вещей из того, что знает Бреслау… Это потому, что… я ни во что не углубляюсь, я всего знаю понемногу и боюсь, что и теперь будет то же; нет, по тому, как я веду это дело, это должно быть серьезно. Если раньше что-нибудь не получалось, еще не следует, что и потом не получится. При каждом первом опыте я чувствую недоверие.
17 ноября
Судили конкурсы, восемнадцать конкуренток. Я тринадцатая; следовательно, пять после меня, это недурно. Полька первая; это несправедливо! За свои академии я получила похвалы.
Купила атласы, руководства анатомии, скелеты, и всю ночь мне снилось, что приносят трупы для анатомирования.
Что же делать? Я огрубела, мои руки умеют только рисовать и щипать струны арфы…
Но все-таки это… нелепо, что Бреслау рисует лучше меня.
Мой эскиз был законченнее всех.
– Это все в час? – воскликнул Робер-Флери. – Да она какая-то неистовая!
И потом я должна вам сообщить, что Жулиан и другие говорили в мужской мастерской, что у меня рука, манера и способности совсем не женские, что они хотели знать, могла ли я в моей семьей унаследовать от кого-нибудь столько талантливости и силы в рисунке и мужества в труде.
Тем не менее не глупо ли, что я не могу еще составлять композиции?
Я не умею смело группировать фигуры. Я попробовала нарисовать одну сцену в мастерской. Ну, и не вышло, никуда не годится. Правда, я никогда не обращала внимания на то, как ходят эти милые люди. Нет… это ужасно!
18 ноября
Вечером я сделала набросок моего умывальника или, вернее, Розалии перед умывальником. Вышло ничего себе и довольно правдоподобно; мне нравится расположение; когда я буду рисовать получше, я сделаю из этого что-нибудь, быть может даже красками. Никогда никто не изображал горничной около умывальника без любви, цветов, без сломанной вазы, без метелочки и т. п.
23 ноября
Эта негодная Бреслау сделала композицию: «В понедельник утром, или Выбор модели». Вся мастерская тут, Жулиан около меня и Амелии, и т. д. и т. д.
Сделано верно, перспектива хороша, сходство – словом, все.
Кто может сделать такую вещь, будет великим художником.
Вы догадываетесь, не правда ли? Я завидую. Это хорошо, так как это будет толкать меня вперед.
Это ужасно – стремиться рисовать, как мастер, по прошествии шести недель учения.
Дедушка болен, и Дина на своем посту преданности и забот. Она очень похорошела и такая добрая!..
26 ноября
Наконец я взяла первый урок анатомии от четырех до четырех с половиной часов, тотчас после рисования.
Учит меня г-н Кюйе; он мне прислан Матиасом Дювалем, который обещал доставить мне возможность посетить Академию художеств. Я, конечно, начала с костей, и один из ящиков моего письменного стола полон позвонками… настоящими…
Это кажется тем более отвратительно, когда подумаешь, что в двух других надушенная бумага, визитные карточки и т. п.
Анри де Тулуз-Лотрек. Проститутка. 1890–1891
27 ноября
Жулиан пришел немного расстроенный после выслушивания мнений Робера Флери, Буланже и Лефебра и обратился к нам приблизительно со следующей речью:
– Mesdames, эти господа указали шесть голов после медали, которую получила, как вы уже знаете, m-lle Дельзарт (француженка). Остальные просто допускаются к участию в следующем конкурсе, а три последние кинут жребий, чтобы пощадить самолюбие этих дам…
Какой-то голос говорил мне, что мне придется бросать жребий; это было бы вполне натурально, но мне сделалось досадно.
После этой небольшой речи, которая произвела на всех должное впечатление, он прибавил:
– Я не знаю, кому принадлежат головы. Пусть кто-нибудь запишет имена по порядку. Первая кто?
– М-lle Вике.
– Вторая?
– M– lle Ванг.
– Третья?
– М-lle Бреслау.
– Четвертая?
– М-lle Нотлендер.
– Пятая?
– М-lle Форгамер.
– Шестая?
– Это m-lle Мари! – воскликнула полька.
– Я?
– Да.
– Но это странно.
Я между шестью первыми. Амелия, Зильгард и полька после меня.
Я последняя пришла в мастерскую, ибо нахожусь в ней только с третьего октября. Ловко!
Все стали поздравлять меня. М-lle Дельзарт сказала мне много любезностей, а сестра ее Мари назвала нас двух героинями конкурса.
– То, чего вы добились в такое короткое время, лучше, чем медаль через четыре года учения.
Успех, и какой чудесный успех!
30 ноября
Я наконец принесла в мастерскую свою мандолину, и этот прелестный инструмент очаровал всех, тем более что для тех, кто не слыхал его прежде, я играю хорошо. И вечером, когда я играла во время отдыха, а Амелия аккомпанировала мне на рояле, вошел Жулиан и стал слушать. Если бы вы посмотрели на него, то увидели бы восхищенного человека.
– А я думал, что мандолина нечто вроде гитары, я не знал, что она поет, а не скрипит, я и представить себе не мог, что из нее можно извлекать такие звуки. Как это мило! Черт возьми, никогда больше не буду бранить ее. Я тут провел, право, прекрасные минуты. А! Это хорошо! Пусть смеются, если хотят, но уверяю вас, что оно… скребет по сердцу. Это смешно!
Ага, несчастный, почувствовал!
Та же самая мандолина не имела никакого успеха, когда раз вечером я играла у нас перед обществом дам и кавалеров, которые во что бы то ни стало должны были говорить комплименты. Сильный свет, открытые жилеты и рисовая пудра разрушали очарование. Между тем как обстановка мастерской, тишина, вечер, темная лестница, усталость располагают ко всему, что есть на свете приятного… смешного, милого, очаровательного.
Мое ремесло поистине ужасно. Восемь часов ежедневной работы, переезда и особенно этот добросовестный, устойчивый труд. Ей-богу! Нет ничего глупее, как рисовать, не думая о том, что делаешь, не сравнивая, не учась, но и это все не утомляло бы.
Если бы дни были длиннее, я стала бы больше работать, для того, чтобы вернуться в Италию.
Я хочу добиться.
8 декабря
Была в театре; было очень смешно, смеялись все время, – время потерянное, и я жалею о нем.
Я плохо работала эту неделю.
Можно бы порассказать много всякой всячины о мастерской, но я отношусь серьезно к своей мастерской и не занимаюсь ничем другим, что ниже меня.
Жалею об этом вечере, я не была на виду и не занималась. Я смеялась, это правда, но это ни к чему не служит, раз оно мне неприятно, раз оно не доставляет мне удовольствия.
9 декабря
Доктор Шарко только что уехал отсюда. Я присутствовала на консультации и при том, что говорили доктора, так как я одна спокойна и ко мне относятся как к третьему доктору. Во всяком случае, сейчас нельзя ожидать катастрофы.
Бедный дедушка, я была бы в отчаянии, если бы он умер теперь, потому что мы часто ссорились; но так как его болезнь еще продолжится некоторое время, то у меня есть возможность искупить мою вспыльчивость. Я была в его комнате, когда ему было хуже всего… Впрочем, мое появление около больных есть признак опасности, так как я ненавижу излишнюю суетливость и бываю взволнована только настолько, насколько себе позволяю.
Замечаете, как при всяком удобном случае я себя восхваляю!
Я увидела новую луну с левой стороны, и мне это неприятно.
Сделайте милость, не подумайте, что я была жестка с дедушкой, я только обращалась с ним как с равным; но так как он болен, то я жалею, что не переносила от него всего.
Мы его не оставляем одного, и он зовет всегда того, кого нет. Жорж около него, Дина всегда около постели, что само собой разумеется; мама больна от беспокойства, Валицкий, милый Валицкий бегает, и хлопочет, и ворчит, и утешает.
Я сказала, что хотела бы все переносить молча; я принимаю вид несчастной, с которой дурно обращаются; совсем нечего было и переносить, но я раздражалась и раздражала, а так как дедушка был тоже раздражителен, то я выходила из себя, отвечала резко и иногда бывала не права. Я не хочу прикидываться ангелом, который прячется под маской злобы.
11 декабря
Дедушка не может больше говорить… Ужасно видеть человека, который еще так недавно был крепкий, энергичный, молодой, видеть его таким… почти трупом…
Я продолжаю рисовать кости. Я больше чем когда-нибудь с Бреслау, с Шепи и другими, даже со швейцаркой.
12 декабря
В час были священник и дьякон; дедушку исповедовали. Мама громко плакала и молилась; потом… я пошла завтракать. Дело в том, что животное неизбежно во всяком человеке.
22 декабря
Робер-Флери сказал мне следующее: никогда не следует быть довольным собой. Жулиан говорит то же самое. Но так как я никогда не бываю довольна собой, то принялась размышлять над этими словами. И когда Робер-Флери сказал мне много приятных вещей, я отвечала ему, что он хорошо сделал, сказав мне их, потому что я совсем собой недовольна, обескуражена, в отчаянии, что заставило его широко раскрыть глаза от удивления.
И действительно, я была обескуражена. С той минуты, как я никого не изумляю, я обескуражена; это несчастье!
В конце концов я сделала успехи неслыханные; у меня, мне это повторяют, «необыкновенные способности». У меня выходит «похоже», «цельно», «верно».
– Чего же вы еще хотите? Будьте благоразумны, – закончил он. Он очень долго оставался около моего мольберта.
– Когда рисуют так, – сказал он, указывая на голову, потом на плечи, – то не имеют права делать таких плеч.
Швейцарки и я ходили потихоньку к Бонна, чтобы он принял нас в свою мужскую мастерскую. Понятно, он объяснил нам, что эти пятьдесят молодых людей находятся без призора, что это абсолютно невозможно. Потом мы отправились к Мункаччи, венгерскому художнику, у которого роскошный отель и большой талант.
Он знает швейцарок: у них было к нему, год тому назад, рекомендательное письмо.
29 декабря
Робер-Флери был очень доволен мною. Он около получасу пробыл перед парой ног, в натуральную величину, которые я рисую, и снова спрашивал, рисовала ли я прежде, серьезно ли решилась заняться живописью. Сколько времени могу оставаться в Париже? Выразил желание видеть мои первые опыты красками, спрашивал, как я их писала. Я отвечала, что писала для забавы. Так как разговор продолжался, подошли остальные, стали сзади него, и среди (я могу это сказать) всеобщего изумления он объявил, что если мне очень хочется, то я могу писать красками.
На это я отвечала, что не умираю от желания писать красками и предпочитаю усовершенствоваться в рисовании.
30–31 декабря
Я грустна; праздники у нас не празднуются, и это меня огорчает. Я была на елке у швейцарок; было весело и мило, но мне страшно хотелось спать, после работы до десяти часов вечера мы гадали. Бреслау получит венки, я – римскую премию, а другие – подарки.
Все-таки все это странно.
1878
4 января
Как странно, что прежнее создание так славно уснуло! Ничего почти от него не осталось, только воспоминание, мелькающее время от времени и пробуждающее прошедшие горести; но через минуту я уже думаю о… о чем? Об искусстве?.. Просто смех!
Так это окончательно? Я так долго и так страшно искала этого выхода, этой возможности существовать, не проклиная целыми днями себя и все мироздание, что едва верю тому, что нашла эту возможность.
Благодаря моей черной блузе во мне есть нечто, напоминающее Марию-Антуанетту в Тампле.
Я становлюсь мало-помалу такой, какой желала быть. Уверенная в себе, спокойная по внешности, я избегаю всяких сплетен и пересудов и делаю мало бесполезного.
Словом, мало-помалу я совершенствуюсь. Только условимся хорошенько насчет слова «усовершенствование»: я говорю о личном усовершенствовании.
О, время!.. На все-то оно нужно!
Когда нет других препятствий, время чувствуется сильнее, чем когда-либо, кажется ужасным, раздражающим, подавляющим…
Впрочем, что бы ни случилось, я чувствую себя более подготовленной, чем прежде, когда меня приводила в бешенство необходимость сознаться, что я не вполне счастлива…
6 января
Прекрасно. Я разделяю ваше мнение; время идет, и было бы в сто раз приятнее проводить его, как я предполагала раньше, но так как это невозможно, подождем результатов от моего таланта; всегда успею…
Мы переменили помещение; теперь мы на avenue d’Alma, 67. Из моих окон видны экипажи, проезжающие с Champs Elysees. У меня отдельная гостиная – мастерская.
Дедушку пришлось перенести; это было так грустно!.. Когда его принесли в его комнату, мы с Диной окружили его и прислуживали ему, и бедный дедушка целовал нам руки.
Моя спальня напоминает мне Неаполь. У дедушки разбили зеркало.
Да, моя комната напоминает мне Неаполь. Время путешествия приближается, и я чувствую, что благоухание прежней праздности охватывает меня… Напрасно!..
Клод Моне. Девушки в лодке. 1887
7 января
Верить или не верить в будущность художницы? Два года – еще не смерть, а через два года можно опять начать праздное существование, театры, путешествия… Хочу быть знаменитой!.. И буду.
12 января
Валицкий умер сегодня в два часа ночи.
Вчера вечером, когда я зашла повидать его, он сказал мне полушутливо-полугрустно: «Addio, signorina», – чтобы напомнить мне Италию.
Быть может, это в первый раз в жизни, что я проливала слезы, свободные от эгоизма и досады.
Есть что-то особенно раздирательное в смерти существа, совершенно безобидного и доброго; точно добрая собака, никогда никому не делавшая зла.
К часу он почувствовал облегчение, и все разошлись по своим комнатам; одна тетя оставалась там, когда он вдруг стал задыхаться до такой степени, что должны были брызнуть ему водой в лицо.
Несколько очнувшись, он приподнялся, потому что хотел непременно пойти проститься с дедушкой, но, едва выйдя в коридор, он успел только три раза перекреститься и закричать по-русски: «Прощайте!» – так громко, что мама и Дина проснулись и прибежали в то время, когда он уже упал на руки тети и Трифона.
Я не могу отдать себе отчета, мне кажется это невероятным; это так ужасно!
Валицкий умер! Это незаменимая утрата; трудно представить себе, чтобы подобный характер мог существовать в реальной жизни.
Он был предан нашей семье, как собака, и притом совершенно платонически. О, Боже мой!
В книгах иногда встречаешь таких людей… Да услышит он мои мысли; я надеюсь, что Бог позволяет ему чувствовать все, что о нем говорят и думают. Пусть же услышит он меня оттуда, где теперь находится, и если ему было когда-нибудь за что на меня пожаловаться, пусть простит меня ради моего глубокого уважения, моей искренней дружбы и огорчения, идущего из самой глубины души!
29 января
Я так боялась конкурса, что бедной Розалии стоило неимоверных усилий поднять меня с постели.
Я ожидала или получить медаль, или остаться между самыми последними. Ни того, ни другого! Я осталась на том же месте, как два месяца тому назад.
Была у Бреслау, которая все еще больна.
12 февраля
Сегодня вечером у итальянцев давали «Травиату»: Альбани, Капуль и Пандольрини. Крупные артисты, но мне не понравилось. Однако в последнем акте я также не чувствовала желания умереть, но я говорила себе, что мне предстоят страдания и смерть именно тогда, когда все могло бы уладиться.
Это предсказание, которое я сама себе делаю. Я была одета à lа bébé, что очень красиво на тонких и стройных фигурах: белые бантики на плечах, шее и открытых руках делали меня похожей на инфанту Веласкуа…
Умереть?.. Это было бы дико, и, однако, мне кажется, что я должна умереть. Я не могу жить: я ненормально создана; во мне – бездна лишнего и слишком многого недостает; такой характер не может быть долговечным. Если бы я была богиней и вся Вселенная была бы к моим услугам, я находила бы, что мои владения дурно устроены… Нельзя быть более причудливым, более требовательным, более нетерпеливым; а иногда или, может быть, даже всегда во мне есть известная доза благоразумия, спокойствия, но я сама не вполне понимаю себя, я только говорю вам, что жизнь моя не может быть продолжительна.
13 февраля
Мой рисунок не удается, и мне кажется, что со мной случится какое-то несчастье, точно я сделала что-нибудь дурное и боюсь последствий или какого-нибудь оскорбления. Я жалка самой себе, но все-таки не могу отделаться от безотчетного страха.
Мама сама виновата в своих несчастьях: есть вещь, которую я ее прошу и умоляю не делать, а именно: не разбирать моих вещей, не приводить в порядок моих комнат. И вот, что я ей ни говорю, она продолжает делать это с упрямством, переходящим в какую-то болезнь. И если бы вы только знали, как это раздражает и увеличивает мою нетерпеливость и резкую манеру говорить, которая и без того вовсе не нуждается в увеличении!
Я думаю, что она очень любит меня, я тоже очень люблю ее, а между тем мы двух минут не можем пробыть вместе, чтобы не раздражить друг друга до слез. Словом, «вместе тесно, а врозь – скучно».
Я хочу от всего отказаться ради живописи. Надо твердо помнить это, и в этом будет вся жизнь.
Таким образом, я создам себе независимость, а тогда придет все, что только может прийти.
15 февраля
Я не еду в оперу завтра.
Я рисую, по обыкновению, что, однако, не мешает мне быть крайне недовольной собой. Я сказала это Роберу-Флери некоторое время назад; в субботу, исправляя наши рисунки, он спросил:
– Это вы сделали?
– Да.
– Вы не рисовали целых фигур до поступления сюда?
– Нет.
– И вы еще жаловались, кажется?
– Да.
– На то, что медленно подвигаетесь?
– О, да!
– Ну, а я так был бы очень доволен на вашем месте.
Это было сказано с благосклонной веселостью и стоило многих похвал.
Да когда же я смогу… писать портреты?.. Через год… я надеюсь, по крайней мере.
24 февраля
С субботы моя собачка пропала. Я все надеялась, что она возвратится.
Бедная моя собака, если бы я была способна на чувство, я была бы в отчаянии.
Моя собачка пропала!..
Что бы это было, если бы я стала отчаиваться из-за всего, чего мне не хватает, чего у меня нет!
В настоящую минуту я склонна думать, что я существо непонятное. Это самое ужасное из всего, что только можно о самом себе подумать.
Сто тысяч притязаний, из которых ни одно еще не имеет оправдания! Это то же, что биться головой об стену… в результате одни синяки.
Неаполь. 27 февраля
Консул Наринов пробыл у нас больше часа. Мы с ним знакомы уже пять лет. Это милый и добрый человек.
Он самым забавным образом рассказывал нам о проделках неаполитанских синьоров. Впрочем, перед нашими окнами ежедневно вертится до двадцати таких синьоров, а иногда и более, и мы можем наблюдать их проделки. В руках этих господ всегда белеет платок, который, очевидно, имеет свое специальное назначение.
Он очень мило рассказывает много интересного и забавного, и я жалею, что уже поздно и нельзя оставаться здесь дольше. Через него я могла бы получать приглашения на большие балы и вообще провести время весело и приятно.
Наконец, он посвятил нас во все, касающееся здешней жизни.
Я почти уже не безумствую. Я даже была в очень хорошем расположении духа, когда после консула пришел граф Денгоф. У госпожи де Руэ я играла в карты с его прусским превосходительством.
Париж
Удобная гостиная и славный, тихий день. В этой гостиной я увидела пожилую даму, которую никак не ожидала встретить такой, и потому преисполнилась к ней почтения и уважения. Она живет по Елисейской улице, № 4. Эта улица как-то подходит к ней, вернее, она сама подходит к этой улице и прекрасному Елисейскому саду, к этим большим и почтенным деревьям, к этим длинным гостеприимным ветвям.
Ах, если бы она помогла мне получить билеты!
Что касается К[11], то он весь поседеет раньше, нежели я у него что-либо попрошу.
Заседание состоится после завтрака. Я так взволнована этой погоней за билетами, что не могу ни читать, ни есть, ни одеваться. Весь Париж жаждет попасть туда, а ведь мест не слишком-то много!
Когда мы уселись, чтобы поехать в Версаль, Б. попросил разрешения сесть в том же вагоне. С ним было пять человек депутатов. Между ними находились и г-н де Бувиль и граф д’Эспейль, выборы которого были признаны недействительными в шесть часов вечера.
Я ответила на его поклон и продолжала читать газету, нисколько не интересуясь им больше. Я слушала этих господ, но сама говорила мало.
Вдруг среди разговора он вынимает из кармана кучу билетов и говорит:
– Я взял их у своего отца… специально заходил к нему для этого.
Сегодня утром я сказала ему, что у его отца восемь билетов. А узнала я об этом еще вчера от Г. Он говорит, будто я обыкновенно пишу ему всегда в тот самый день, когда нужны билеты, так что у него уже ни одного не остается. В этот раз я еще, слава Богу, не написала ему, да и никогда больше не буду ему писать. Тетя взяла у него два билета в депутатскую ложу.
Места у нас были хорошие. Наблюдать было интересно. Г. казался бесконечно веселым, вероятно, от мысли, что ему удалось избавиться сегодня от заседания.
Клод Моне. Живерни весной. 1899–1900
Во время послеобеденного заседания палаты я заметила, что рядом со мной сидит очень красивая женщина. Так как смотрели в нашу сторону, то я захотела точно узнать, на кого из нас смотрят, и отодвинулась в угол, подальше.
Взоры последовали за мной, в мое убежище.
Мне бы даже следовало совсем не говорить с этим господином. Но я предпочла смеяться над ним и все время только и делала, что насмехалась. Надо отдать ему справедливость, он умеет мне отвечать. Теперь тетя в восхищении. Раньше ее задевало, что другая женщина привлекала к себе внимание; она не может выносить, чтобы смотрели на кого-нибудь, раз я тут. Бедная тетя!
Я вернулась домой утомленная и осталась убежденной бонапартисткой, хотя и не соглашалась с… (я не знаю, хорошо ли я сделала, сказав это). Он сказал нашим депутатам, что этим дамам, приехавшим из страны рассудительных людей, должны казаться странными здешние порядки.
Говорят, что К. не пройдет завтра, что выборы его будут отложены до октября.
На вокзале к нам присоединился г-н Г., и мы вернулись домой вместе. В вагоне он представил нам герцога Падуанского, дядю этого кроткого М., и еще кое-кого.
Говорили о политике, об искусстве, о ниццском обществе времен империи, от которого еще сохранились кое-какие остатки. Я рассказала им некоторые новости из жизни этих остатков имперского beau monde’a.
Должно быть, я была мила и говорила умно, потому что меня слушали, казалось, с большим удовольствием, особенно герцог Падуанский. Не правда ли, приятно ехать в Версаль и возвращаться оттуда в обществе бонапартистских депутатов?
– Скажите, пожалуйста, как… Какого мнения ваша партия о К.? Кто ваш герой? Кто ваш оратор? Кто вас защищает?
– Нельзя, конечно, отрицать… как бонапартист… как оратор он имеет крупные достоинства… Но он совсем не тот человек, за которого многие еще принимают, К. не смельчак и сорванец, каким его считают. Ни разу в жизни он не кипятился. Всегда он действует по расчету, и только по расчету. Надо сознаться, что он великолепно играет раз принятую на себя роль! Чему действительно надо удивляться в нем – так это его поразительному хладнокровию, которое никогда ему не изменяет. Но мужество?..
– Что же, мужество!..
– Понятно, нельзя совершенно отрицать за ним мужества. У него было семнадцать дуэлей, и некоторые из его противников стреляли лучше его. Но он ловок, почти так же ловок, как и мужествен. Это в полном смысле южанин, вплоть до ловкости.
Так, например, ему как-то удалось удивительным образом выпутаться из истории с Клемансо и еще с одним.
Если бы он принял их вызов, то это значило бы идти на верную смерть. Будь он действительно тем смельчаком, каким его считают, он не стал бы рассуждать. Но он сказал себе: меня все знают, меня ожидает блестящая будущность, женщины благосклонно относятся ко мне… и он не дрался. Удивительнее всего в этой истории то, что все нашли его правым!
Что касается меня, то я порицаю его за это, потому что, по-моему, когда оскорбление нанесено, нужно…
12 марта
Когда я думаю о Пинчо, который теперь окончательно пропал, у меня сердце сжимается.
Я очень любила его, и эта потеря для меня почти то же, что смерть Валицкого.
Особенно когда я подумаю, что это маленькое животное теперь в чужих руках, что оно скучает обо мне и я больше не увижу его маленькой мордочки и его необыкновенных черных глаз и носика… Ну, вот, я уж и плачу…
О, шут возьми! Я думаю, право, что предпочла бы видеть С. или не знаю кого еще раненным, больным, на том свете, чем лишиться моей собачки, которая так любила меня. Я чувствую искреннюю печаль, и мне дела нет до всего остального.
16 марта
Я, право, люблю свое занятие и счастлива сознанием, что с каждым днем убеждаюсь в этом все более и более.
– С некоторого времени, – сказал мне сегодня утром Робер-Флери, – образовалась какая-то граница, которой вы не можете перешагнуть, это нехорошо! С такими действительно серьезными способностями, как ваши, вы не должны затрудняться такими пустяками, тем более что вы обладаете всем, что дается действительно трудно.
Я и сама отлично знаю это! Надо бы поработать над портретом дома, а тут эта вечная домашняя суета!.. Но это более не должно смущать меня, я не хочу. С. ничего не даст мне, тогда как живопись даст мне нечто существенное.
Но понедельник! Я перейду границу, о которой говорит Робер-Флери! Главное – это быть убежденным в том, что нужно достигнуть и что действительно достигнешь.
23 марта
Я обещала вам перейти границу, о которой говорил Робер-Флери. Я сдержала свое слово. Мной были необыкновенно довольны; мне повторяли, что с такими серьезными способностями, как мои, действительно стоит работать, что я сделала удивительные успехи и что через месяц или два…
– Вы будете считаться между самыми сильными, и заметьте, – прибавил Робер-Флери, взглянув на холст отсутствующей Бреслау, – заметьте, что я говорю и об отсутствующих.
– Приготовьтесь, – сказал мне шепотом Жулиан, – приготовьтесь к ненависти со стороны всех здешних, потому что мне еще не приходилось видеть никого, кто добился бы таких результатов в какие-нибудь пять месяцев.
– Жулиан, – сказал Робер-Флери при всех, – я только что должен был наговорить кучу комплиментов m-lle Башкирцевой, которая просто на диво одарена.
Жулиан, несмотря на свою толщину, чуть не подпрыгнул. Так как Робер-Флери дает нам свои указания не за деньги, а просто из дружбы к Жулиану, то весьма понятно, что он счастлив, когда ученицы интересуют учителя.
Все другие переходят к краскам когда кто хочет, но так как я нахожусь под особым руководством Робера-Флери, который сам пожелал этого, то я не делаю ничего без его приказания. Сегодня он велел мне делать время от времени какие-нибудь natures mortes, пока самые простенькие, чтобы привыкнуть распоряжаться с красками. Вот уже второй раз, что он говорит мне о живописи.
Я ему напишу на будущей или послебудущей неделе голову моего скелета с книгой или что-нибудь в этом роде.
25 марта
У нас идет конкурс. У меня довольно хорошее место, и дело, кажется, подвигается. Подумываю о том, чтобы не так утомлять себя поздними сидениями по ночам.
Робер-Флери пришел сегодня вечером и остался мной очень доволен, он спрашивал меня по анатомии, и я, разумеется, отвечала без запинки.
Это ужасно – быть такой, как я. Но, благодаря Бога, я благоразумна и ни в кого не влюблена. А то я бы просто убила себя от бешенства.
4 апреля
Я пошла в мастерскую очень рано, чтобы узнать приговор, который оказался совершенно бессмысленным и взбудоражил все умы.
Вике получила медаль (это еще естественно); потом идет Магдалина (которая почти всегда получает медаль), а потом я. Я до такой степени изумлена, что даже не чувствую удовольствия.
Это настолько странно, что Жулиан пошел спросить у Лефевра (который был избран первым членом в комиссии, судящей картины в Салоне), почему он разместил нас таким образом. И Лефевр, и ученики нижнего этажа сказали, что я помещена третьей потому, что в моем рисунке бросается в глаза чувство правды. Что же касается Бреслау, то им показалось, что в ее рисунке проглядывает склонность бить на эффект. Она просто была далеко от натурщика и поэтому-то в ее рисунке заметна некоторая расплывчатость, а так как профессора предубеждены против женщин, то они приняли это за битье на эффект.
На мое счастье, Робер-Флери не участвовал в суде; Лефевр и Буланже судили одни; иначе наверное сказали бы, что я помещена третьей по протекции Робера-Флери.
Я как-то не умею пользоваться своими вечерами с тех пор, как закрыты вечерние занятия; и это утомляет меня.
6 апреля
Робер-Флери, право, уж даже слишком обнадеживает меня: он находит, что я заслуживала бы даже второго места и что приговор нисколько не удивил его. Противно было видеть бешенство всех остальных.
Подумать только, что М.[12], по уходе от нас, будет предаваться мечтаниям обо мне, да еще, пожалуй, вообразит, что и я о нем думаю… А между тем – о молодость! – какие-нибудь два года тому назад я вообразила бы, что это любовь. Теперь я поумнела и понимаю, что это просто приятно, когда вы чувствуете, что заставляете любить себя, или, вернее, когда вам кажется, что в вас влюбляются. Любовь, которую внушаешь другому, это совсем особенное чувство, которое сам живо ощущаешь и которое я прежде смешивала с другим чувством.
Боже мой, Боже мой, и я воображала, что люблю А. с его толстоватым носом, напоминающим нос М. Фи, какая гадость. И как я довольна, что теперь могу оправдать себя! Так довольна! Нет, нет, я никогда не любила… и если бы вы только могли представить себе, до чего я чувствую себя счастливой, свободной, гордой и достойной… того, кто должен прийти!
9 апреля
Сегодня я удачно работала все утро, но потом должна была лечь, потому что нездоровилось, я чувствовала себя больной. Это продолжалось два часа, после чего я встала почти довольная испытанным страданием: после этого всегда так славно чувствуешь себя, так приятно, как бы насмеешься над болью; хорошая вещь – молодость!! А через двадцать лет на это будет уходить целый день.
Я кончила «Le Lys dans la Vallée» – это книга очень утомительная, несмотря на все свои красоты. Письмо Натальи Минервиль, которым оканчивается книга, очень мило и правдиво. Читать Бальзака невыгодно: употреби я это время на работу, я приблизилась бы к тому, чтобы самой стать… Бальзаком в живописи!
12 апреля
Вчера Жулиан встретил в Кафе Робера-Флери, и Робер-Флери сказал ему, что я ученица поистине интересная и удивительная и что он возлагает на меня большие надежды. Вот за это я и должна держаться, особенно в те минуты, когда ум мой подавлен каким-то необъяснимым, но ужасным страхом и когда мне кажется, что я срываюсь в какую-то бездну всяких сомнений и мучений – без всяких реальных причин.
С некоторого времени у меня очень часто горят три свечи, это примета смерти. Уж не я ли это должна отправиться на тот свет? Мне кажется, что да. А моя будущность, а моя слава? Ну, уж разумеется, тогда всему этому конец!
Если бы на моем горизонте был какой-нибудь человек, я должна была бы думать, что влюблена – до такой степени я полна тревоги, но, помимо того, что такого человека нет, мне все они опротивели…
Бывают дни, когда мне кажется, что вовсе не унизительно поддаваться своим капризам, что, напротив, этим выказываешь только свою гордость, свое презрение к другим, не желая стеснять себя. О! Но все они так низки, так недостойны, что я не способна задуматься о них ни на одну минуту. Начать с того, что у всех мозоли на ногах, а я не простила бы этого самому королю! Вообразите только себе меня мечтающей о человеке с мозолями на ногах…
Я начинаю замечать в себе серьезную страсть к своему делу, что успокаивает и утешает меня. Я не могу ничего другого, да и все остальное слишком надоело мне, чтобы еще могла быть речь о чем-нибудь другом.
Если бы не это беспокойство и страх, я была бы счастлива!
Погода такая чудесная – настоящая весна; а это чувствуется так сильно, как только возможно в Париже, где даже в самых прелестных уголках парка, под деревьями, полными таинственной поэзии, всегда можно встретить какого-нибудь приказчика с обязательным засученным белым передником.
Я встаю с солнцем и прихожу в мастерскую раньше натурщика… Только бы не этот страх, это проклятое суеверие!
Я помню, как, бывало, в детстве я томилась какими-то предчувствиями и страхом почти того же характера; мне все казалось, что я никогда не смогу одолеть языков, кроме французского, и что этим языкам никак нельзя выучиться. И вот ведь – вы отлично видите, что все это сущий вздор. И однако это был совершенно тот же суеверный страх, как теперь… Надеюсь, что этот довод разубедит меня.
Я совершенно иначе представляла себе «Искание абсолютного»: я ведь и сама ищу абсолютного. Это-то и заставляет меня думать и записывать свои блуждания в сорока тысячах направлений…
13 апреля
В двадцать два года я буду знаменитостью или умру.
Вы, может быть, воображаете, что нам приходится работать только глазами и пальцами? О, вы, мирные граждане! Вы и не воображаете, сколько требуется самого бдительного внимания, непрестанных сравнений, расчета, чувства и размышления, чтобы добиться чего бы то ни было.
Да, да, что бы вы там ни говорили… Впрочем, вы ведь ничего не говорите, но я клянусь вам головой Пинчо (вам это кажется глупым, мне – нет), что я буду знаменитостью; клянусь вам, серьезно клянусь вам, клянусь вам, что через четыре года я буду знаменитостью…
14 апреля
Бедный дедушка; он так всем интересуется и ему так тяжело, что он не может говорить. Я лучше всех других угадываю его мысли, и он был так счастлив сегодня вечером; я читала ему журналы, а потом все мы сидели и болтали в его комнате. Сердце мое было полно и боли, и радости, и умиленья.
А теперь нет слов в языке человеческом, чтобы выразить мою досаду, мое бешенство, мое отчаяние!! Если бы я взялась за рисование в пятнадцать лет, я была бы уже известна!! Понимаете ли вы меня?..
19 апреля
Я уверена, что я способна к самой идеальной любви, потому что ни в жизни, ни в литературе я не встречала такой тонкости во всех чувствах. Я часто профанирую эту чистоту и тонкость своих чувств, употребляя в разговоре об этом резкие слова и банальные шутки. Это потому, что мне еще некуда было приложить свои чувства, пережить их самой… «Бедная девочка! – скажете вы. – Так ты воображаешь, что найдутся люди, хотя бы из наиболее любящих тебя, которые способны будут понять и ответить на все эти дивные, тонкие оттенки чувства, которые ты так живо себе рисуешь?..» Конечно должен найтись кто-нибудь. Я даже думаю, что N.N.[13] к этому способен, потому что во всем так похож на меня, как только возможно. А не он, так найдется кто-нибудь другой, в котором я найду все, чего ищу. Но только за этим последует неизбежное разочарование, и все мои божественные надежды разлетятся прахом; или опять начнется искание, пока наконец душа не устанет окончательно и не смирится.
М. заставляет меня быть грубой в разговоре, а тот мог бы сделать из меня ангела, он возбуждал и мог возбуждать во мне только самые возвышенные мысли.
20 апреля
Вчера вечером, захлопнув эту тетрадь, я раскрыла тетрадь шестьдесят вторую, прочла несколько страниц и напала наконец на письмо А.
Это заставило меня долго мечтать, улыбаться, потом снова отдаваться мечтам. Я легла поздно, но нельзя назвать это время потерянным; такого рода «трата времени» не находится всегда в руках человека: эти минуты возможны только в молодости; и надо ими пользоваться, ценить их и наслаждаться ими, как и всем, что дано нам Богом. Люди обыкновенно не ценят своей молодости, но я знаю цену всему, как старик, и не хочу упустить ни одной радости.
Я не могла сегодня исповедаться перед обедней из-за Робера-Флери, так что причастие пришлось отложить на завтра. Исповедь была преоригинальная – вот она.
– Вы не без грехов, – сказал мне священник после обычной молитвы, – не согрешили ли вы в лености?
– Никогда.
– В гордости?
– Всегда.
– Вы не поститесь?
– Никогда.
– Не оскорбили ли кого-нибудь?
– Не думаю, но возможно; вообще – много всяких мелочей, батюшка, особенного – ничего.
– Да простит вас Бог, дочь моя. – И т. д. и т. д.
Ум мой в настоящее время совершенно в порядке; я имела возможность проверить это сегодня вечером во время разговора; я совершенно спокойна и решительно ничего не боюсь – ни в нравственном, ни в физическом отношении… Очень часто мне случается сказать: я страшно боялась не пойти туда-то или сделать то-то. Это просто преувеличение, которое свойственно решительно всем и ровно ничего не означает.
Что мне приятно, так это то, что я привыкаю поддерживать общий разговор: это необходимо, если желаешь завести себе порядочный салон. Прежде я брала себе кого-нибудь одного, а всех остальных оставляла на произвол судьбы.
Клод Моне. Лиловый. 1915–1926
21 апреля
В два часа пришел М.; мы несколько раз оставались одни, и он объяснился мне в любви, кажется, серьезно. Что ни говори, а это всегда волнует, и когда он сказал мне:
– Да разве вы не знаете, что я люблю вас, что я всей душой люблю вас, – я почувствовала то смущение, которое когда-то принимала за ответную любовь.
– Ну, – отвечала я, – я думаю, что вы не единственный, если это даже правда.
– Если это правда! Вы это отлично знаете, как можете вы не верить этому.
Он схватил мою руку и страстно поцеловал ее.
– Полноте, – сказала я, – вспыхнув и отдергивая руку, – как вам не стыдно заставлять меня краснеть! Право, вы ведете себя слишком неблаговоспитанно для бонапартиста, потому что я не думаю, что такое обращение с девушкой принято во Франции.
Но он еще в течение десяти минут продолжал умолять меня дать ему руку, но я не дала ему, сохраняя серьезный вид, скрывавший непритворное волнение.
– Вы украли этот поцелуй.
– Дайте же мне ваше разрешение…
– Ни за что.
– Но ведь вы знаете, что этот поцелуй будет моей отрадой в течение двадцати пяти дней, которые я пробуду вдали от вас, что…
Но тут кто-то вошел. Он хорошо играл свою роль…
После четырех часов он ушел; я несколько минут прогуливалась с Диной, потом пришло несколько человек гостей. Между прочим заговорили и об N.N., и я сказала, что я не хочу слышать о нем ничего дурного, что я его люблю и уважаю и что если бы мы с ним и разошлись, это ровно ничего не изменило бы.
Неужели М. действительно любит меня?..
Я противопоставила его излияниям стену равнодушия и насмешек, что подало повод к некоторым изречениям того рода, которые вызывают всеобщее удивление.
Я открыла свои старые тетради химии…
Когда я достигну окончательных результатов в живописи, я буду учиться декламации: у меня голос и жесты драматической актрисы.
Если только Бог даст мне здоровья и времени, я буду заниматься всем; я и так уже много делаю, но это только начало.
Я создала себе существование, достойное зависти.
23 апреля
М., в сущности, очень неглуп, особенно для такого светского молодого человека. Но в сравнении с N.N. это то же, что сравнивать какую-нибудь салонную певицу с Патти… Я надеюсь, друзья мои, что вы отдаете должную справедливость человеку, собирающемуся теперь окунуться в прелести семейной жизни, вы ведь знаете, как высоко я его ставлю, а в моей гениальности вы, конечно, не сомневаетесь!!!
Политический деятель, трибун, выразитель известного принципа, известной идеи, глава государственной партии, все еще могущественной, что бы там ни говорили! Насколько это блестяще, хотя, может быть, и суетнее, чем какой-нибудь специальный талант, который работает только над какой-нибудь одной вещью, который весь ушел в один предмет, в сущности, может быть, и более великий, но доступный только известному кругу интеллигентных людей; тогда как деятельность первого понятна всякому, начиная с железнодорожного носильщика и кончая великими мира сего…
Я ужасно дурно выражаю свои мысли, и мне просто обидно за те мысли, которые я хотела выразить; но я думаю, что все это уже высказано где-нибудь до меня, только лучше и точнее.
Если бы только мне можно было теперь читать!.. Но это слишком утомляет мне зрение для рисования. Одиннадцать часов, и я иду спать, спокойная, гордая, нечувствительная ни к чему печальному.
24 апреля
Вместо того чтобы читать, я играла на гитаре. Я разучиваю наизусть песню:
Говорят, что ты хочешь жениться, Я не в силах тот день пережить…Я пою это с достодолжным чувством, с тихим отчаянием и выражением непритворной грусти в глазах. Но это только от песни, потому что в действительности, если я чувствую что-нибудь, то только по вечерам.
По просьбе дедушки я целый вечер играла у него в комнате, но потом мама начала изливать разные жалобы по поводу брака N.N.
– Теперь уж все равно ничего не поделаешь, – сказала она, – так можно все высказать. Не могло быть в мире людей, более подходящих друг к другу, чем Мари и N.N. А теперь эта черноволосая лицемерка будет наслаждаться счастьем! – И так далее.
Как это скучно, что мама говорит все это; ну, положим, если бы даже это было чем-нибудь для меня, нужно было бы во всяком случае оставить меня в покое. Вы знаете – когда дети ушибутся, они плачут вдвое сильнее, если их начинают утешать!
Я отдамся живописи. Но я чувствую себя так, как будто бы с меня сдирали кожу и все, все, что меня наполняет, разлетается в пух и прах, вот как бывает с куклами, когда с них сдирают их коленкоровую кожу и волос, которым они набиты, так и лезет во все стороны.
Я запретила себе все, кроме живописи, а мне всячески стараются смутить и ум, и сердце, и все… Ну, полно, дитя мое! Если ты плохо чувствуешь себя, думай об одном: все это только вопрос времени; время заставит тебя забыть его, время успокаивает все скорби; будем же терпеливы и предадим себя в руки Божии. Но завтра N.N. должен прийти обедать. Если он действительно женится, лучше бы уж мне его не видеть; я буду бояться и… я буду бояться…
Он женится! Я встречаю это известие невольным ропотом, это совершенно естественно. Но, кажется, я могла бы остаться совершенно спокойна, если бы мама не была так взволнована этим. Я не проявляю никакой досады, но и не стесняюсь сказать, что это событие не из приятных… Такое поведение подобает женщине, которую грязная вода Вселенной принудила взобраться на вершину горы.
Уже половина одиннадцатого, и я ложусь спать, чтобы завтра, по своему обыкновению, быть в мастерской без пяти восемь.
27–28 апреля
Сегодня, после пасхальной заутрени в русской церкви, наше посольство устроило ужин у священника, дом которого был избран на этот раз вследствие близости к церкви. Но рассылает приглашения и принимает сам посол. Нам пришлось сесть за тот же стол, где были великий князь Лейхтенбергский с женой, посланник и самая избранная часть русской колонии в Париже.
Почему бы князю О.[14], который, как известно, вдовец, не влюбиться в меня и не жениться на мне!.. Я была бы женой посла в Париже, чуть-чуть не императрицей! Ведь женился же А.[15], бывший посланник в Тегеране, на молоденькой женщине – по любви, – будучи уже пятидесятипятилетним человеком.
Я вовсе не произвела желанного эффекта; Лаферрьер опоздала, и я должна была надеть платье, которое ко мне не шло. От платья зависело мое настроение, от настроения – выражение лица и все остальное.
29 апреля
Работаю с восьми часов утра до шести вечера, исключая только полтора часа, уходящих на то, чтобы сходить позавтракать. Что может быть лучше правильной работы.
Но чтобы перейти к чему-нибудь другому, скажу вам, что, кажется, я никогда не смогу серьезно влюбиться. Я всегда, всегда открываю в человеке что-нибудь смешное, и уж тогда конец. Или если и не смешное, то неловкое, или глупое, или скучное – словом, вечно есть что-нибудь.
Но правда и то, что прежде чем я найду человека, который сумел бы завладеть моей душой, я не поддамся никакому очарованию. Благодаря этой склонности – докапываться в каждом человеке до его недостатков – я смогу уберечься от всех Адонисов в мире…
До какой степени глупы люди, прогуливающиеся в парках, и как мне непонятна эта пустая, тупая жизнь!
2 мая
Бывают минуты, когда готов послать к черту это горнило умственной работы, славу и живопись, чтобы ехать в Италию – жить солнцем, музыкой и любовью.
3 мая
Я обожаю все, что просто – в живописи, в чувствах, во всем. У меня никогда, никогда не было и не будет простых чувств, потому что они невозможны там, где царят всякие сомнения и опасения, основанные на пережитых фактах. Простые чувства могут возникнуть только при счастье или где-нибудь в деревне в неведении всего того, что…
Я представляю из себя характер в высшей степени сложный, столько же из-за избытка разных тонких ощущений, сколько из-за самолюбия, потребности в анализе всего, постоянного искания истины, страха пойти по неверному пути, различных неудач.
А когда сердце и ум в вечной тревоге, в результате получается нечто истомленное; это, конечно, не мешает быть сильным, но в то же время легко поддаешься всяким причудам, экзальтации, легко обрываешься в своих начинаниях – словом, вечная мучительная неровность настроения. В общем это, конечно, лучше, чем безусловное однообразие, которое, как говорят, тоже утомляет. Такое однообразие и полная ровность характера исключают возможность различать во всем те тонкие оттенки, которые доставляют высшую радость тонким, сложным характерам, а эти характеры ищут тонких ощущений во всем – даже в созерцании великого и прекрасного; да без этих тонкостей и действительно вряд ли можно достигнуть таких сильных и художественных эффектов…
Можно подумать, что я что-нибудь смыслю во всем этом. А между тем я знаю только, что пишу все, что мне взбредет в голову, и ни у кого ничего не краду.
11 мая
Я, Шепи и тетя Мори отправляемся на выставку смотреть картины и любоваться Дон-Карлосом, который представляет из себя самого величественного и царственного человека, какого я только видела. Его можно одеть во что угодно, где угодно поставить, всякий задается вопросом: кто такое этот человек?
Невозможно отрицать значение выдающихся родов, породы, и если люди избранной породы оказываются безобразными и не представительными, тут уж поверьте мне – дело неспроста.
12 мая
Я сделала свою первую nature morte: ваза из голубого фарфора с букетом фиалок, а подле маленькая красная, уже несколько потрепанная книга. Таким образом я не перестану рисовать и приучусь к краскам, посвящая им всего два-три часа по воскресеньям. Каждое воскресенье я буду делать что-нибудь новое.
Вчера я наговорила глупостей моей матери. Потом, вернувшись в свою маленькую гостиную, где было совершенно темно, и упав на колени, я поклялась перед Богом никогда больше не отвечать моей матери, когда она выведет меня из себя, а просто молчать или уйти. Она больна, долго ли до беды, и я никогда не утешилась бы в сознании своих проступков против нее.
16 мая
Пока я собиралась взяться за голову скелета, успев уже, по своему обыкновению, предварительно разболтать о своем проекте, Бреслау за эту неделю уже написала ее. Этот случай научает меня не быть такой болтуньей. Все это дало мне повод сказать в разговоре с другими, что должно быть и правда, – мои идеи чего-нибудь да стоят, если находятся глупцы, подбирающие наиболее плохие и негодные из них.
17 мая
Я была бы, кажется, готова взорвать на воздух все дома – все эти семейные гнезда!.. Нужно бы, казалось, любить свое гнездо; ничего не может быть слаще, как отдыхать в нем, мечтать о своих делах, о виденных людях, но вечно отдыхать!
День – от восьми утра до шести вечера – проходит еще туда-сюда – за работой, но вечер! Я собираюсь заниматься по вечерам скульптурой, чтобы только не останавливаться мыслью на том, что вот я молода, а время все уходит, и что я скучаю и возмущаюсь, и что все это так ужасно!
Странная это вещь – люди, которым не везет ни в любви, ни в делах. В любви-то, положим, это была еще моя вина: я настраивала свое воображение на одних, не обращала внимания на других. Но в деле!..
Я пойду теперь плакать и просить Бога, чтобы он устроил мне мои дела. Это, собственно, престранно – вести разговор с Господом Богом, только это нисколько не делает его добрее по отношению ко мне.
Но другие не умеют молиться. А ведь я верю, и как я умоляю Его… Очевидно, что я просто недостойна этого. Мне кажется, что я скоро умру.
25 мая
– Дело идет что-то недостаточно хорошо для вас, – сказал мне Робер-Флери. Я и сама чувствовала это, и если бы он не ободрил меня за мои natures mortes, я бы опять свалилась с высоты своих надежд.
Мы были во французском театре, видели «Les Fourchambault». Все в восторге от пьесы, чего не могу сказать о себе.
На мне была шляпа… но это больше совсем не занимает меня… Я забочусь только о том, чтобы быть одетой вполне прилично… Последнее время я как-то несколько упустила это из виду.
Несомненно, что я буду великой художницей!!! Как же иначе, если каждый раз, что я немного выйду из моих занятий, судьба снова загоняет меня в них ударом самых разных сортов. Не мечтала ли я о политических салонах, о выездах в свет, потом о богатом браке, потом снова о политике?.. Но когда я мечтала обо всем этом, я думала, что есть возможность найти какой-нибудь женский, человеческий обычный выход из всего этого. Нет, ничего подобного нет!..
Но зато благодаря этому я приобрела большое хладнокровие, громадное презрение ко всему и всем, рассудительность, благоразумие – словом, бездну вещей, которые делают мой характер холодным, несколько высокомерным, нечувствительным, и в то же время задевающим других, резким, энергичным. Что же касается святого огня, он точно спрятался, так что обычные зрители – профаны – и не подозревают о нем. В их глазах – я ни на что не обращаю внимания, от всего отстраняюсь, не имею сердца; я критикую, я презираю, я насмехаюсь.
А все мои нежные чувства, загнанные в самую глубину моей души, что говорят они при виде этой высокомерной вывески, прикрывающей ход в мою душу? Они ничего не говорят… Они ропщут и еще глубже прячутся, оскорбленные и огорченные.
Я провожу свою жизнь в том, что говорю разную дичь, которая мне нравится, а других удивляет… Все это было бы прекрасно, если бы в этом не было оттенка горечи, если бы это не было плодом невообразимой неудачи во всем.
Все это доказывает только, что я должна окончательно посвятить себя моему искусству… Конечно, я еще буду выскакивать из этой колеи под влиянием различных толчков, но это только на какой-нибудь час, после чего я снова возвращусь, наказанная и благоразумная.
Клод Моне. Лиловый. 1915–1926
27 мая
К семи часам я уже в мастерской, а завтракаю за три су в сливочной, куда иду вместе со шведками. Я встречаю там рабочих в блузах, которые приходят туда угоститься тем же простым шоколадом, какой пью и я.
– Начать живопись с natures motres – да это для вас то же, как если бы здоровенному человеку приказали упражнять свои силы, вертя эту штучку (и говоря мне это, Жулиан стал опускать и поднимать ручку для пера), приступать к целым фигурам, пожалуй, действительно еще не следует, но пишите отдельные части: ноги, другие части тела – словом, разные модели – ничего лучше быть не может.
Он совершенно прав, и я теперь же примусь за какую-нибудь ногу.
Я завтракала в мастерской: мне принесли завтрак из дома, потому что я рассчитала, что, отправляясь для этого домой, я каждый день теряю по целому часу; а это составляет 6 часов, т. е. целый день работы в неделю = четыре дня в месяц = сорок восемь дней в год.
Что же касается вечеров… я собираюсь приняться за лепку; я говорила об этом с Жулианом, который поговорит или попросит поговорить об этом с Дюбуа, так чтобы заинтересовать его.
Я дала себе четыре года сроку; семь месяцев уже прошло. Я думаю, что трех лет будет довольно; так что мне остается еще два года пять месяцев.
Мне будет тогда двадцать первый год.
Жулиан говорит, что я буду хорошо писать через год – может быть, но не достаточно хорошо.
– Такая работа просто неестественна, – говорит он, смеясь. – Вы забываете свет, прогулки, все! В этом должен скрываться какой-нибудь тайный замысел, какая-нибудь особенная цель…
30 мая
Обыкновенно родные и все окружающие не признают гения великих людей… У нас, напротив, слишком высоко ценят меня, так что, пожалуй, не удивились бы, если бы я написала картину величиной с плот Медузы и если бы мне дали орден Почетного легиона. Уж не есть ли это дурной знак… Надеюсь, что нет.
31 мая
Я опять была у ясновидящего сомнамбула Алексиса. Я дала ему три запечатанных письма, об авторах которых он стал говорить мне, не раскрывая конвертов. Первый, сказал он, – фальшивый человек, надоедающий мне неинтересными рассуждениями о разных проявлениях моего характера. Второй – белокурый, довольно полный, с голубыми глазами, с кротким лицом и несколько странным взглядом; он чувствует ко мне возрастающее расположение, я его смущаю, и он не знает, как ему быть…
Но оба первые имеют ко мне гораздо меньшее отношение, чем третий, с которым у меня большое сходство в складе ума, сердца, который сильно любит меня, но собирается вступить в брак с какой-то высокой брюнеткой!..
Потом я спросила его, могу ли я быть замагнетизирована и магнетизировать других.
– Замагнетизировать вас трудно, но вы можете легко магнетизировать других.
Я отправляюсь в милый старый Париж, чтобы купить книг, трактующих о магнетизме, и, так как некоторых там нельзя достать, меня посылают к самому барону Дюпорт. Я иду, нахожу там большую, широкую, почерневшую лестницу, как в Италии, библиотеку и старого маньяка, объявляющего себя царем магнетизма.
Я хочу серьезно заняться этим. В этой могущественной силе мне видится какой-то особенный отблеск Божества.
Наши отправляются смотреть феерию в Шателе, я еду с ними. Видеть одну феерию – значит видеть всех. Я скучала и, машинально разглядывая рекламы на занавесе, думала о том, что жизнь моя поблекла, отцвела и… пропала. Так тяжело чувствовать вокруг себя эту пустоту, это тоску. Я считала себя созданной для полного счастья, а теперь вижу, что мне суждено быть во всем несчастной. Но с тех пор, как я знала, чего держаться, все это вполне сносно и больше не огорчает меня, потому что я все знаю заранее. Уверяю вас, что я говорю то, что думаю. Что было ужасно, так это постоянное разочарование: встречать змей там, где надеялся увидеть цветы, – вот что ужасно… Но все эти удары закалили меня до равнодушия. Все идет по-прежнему вокруг меня, но, отправляясь в мастерскую, я уж ни на что не обращаю внимания. В остальное время – читаю газету или просто закрываю глаза на все, что делается.
Вы, может быть, думаете, что это покорность отчаяния?.. Причина ее, пожалуй, отчаяние, но она спокойна и тиха, хотя и не без грустного оттенка. Вместо розового видишь все в сером цвете, вот и все.
Я просто не узнаю себя… Это – не ощущение минуты, я действительно стала такой. Мне кажется это смешным, но тем не менее это чистая правда; я даже не чувствую больше нужды в богатстве: мне было бы довольно двух черных блуз в год, белья, которое я сама стирала бы по воскресеньям на всю неделю, самой простой пищи, только без луку и свежей, и… возможности работать.
Карет не надо, можно отлично обойтись омнибусом, а то так и пешком.
Но в таком случае для чего жить? Для чего? О, вот тема! А надежда на лучшие дни! Эта надежда ведь никогда не покидает нас.
Все относительно. Так, по сравнению с моими прежними мучениями настоящее – чистое благополучие; я наслаждаюсь им, точно каким-нибудь приятным событием. В ноябре мне будет девятнадцать лет. Мусе будет девятнадцать лет! Дико, невозможно. Это ужасно.
Моментами на меня находит желание изящно одеться, отправиться на прогулку, показаться в опере, в парке, в Салоне – на выставке. Но через минуту я говорю себе: к чему все это? И все разлетается…
Между каждым словом, которое я пишу, у меня проносится миллион мыслей; я успеваю записывать только какие-то обрывки.
Подумаешь, какое несчастье для потомства! Это не несчастье для потомства, но дело в том, что это не дает возможности понять меня.
Я завидую Бреслау; она рисует совсем не как женщина. На будущей неделе я примусь за работу так, что вы увидите!.. Послеполуденные часы будут посвящены выставке… Но следующую неделю… Я хочу хорошо рисовать и добьюсь.
С. 318. Клод Моне. Домик таможенника в Варанжевилле. 1882
3 июня
Бессонная ночь, работа с восьми часов утра и беготня с двух до семи вечера то по выставке, то для отыскания нового помещения… И это проклятое здоровье никуда не годится! Эта энергия треплется без всякой пользы! Я работаю… О, прелестное положение дел! От семи до восьми часов в день, от которых не больше толку, чем от семи-восьми минут труда.
Завтра я выскажу вам мое настоящее мнение, мое истинное мнение, созданное во мне не событиями, не чьим-нибудь влиянием; я выскажу его даже сегодня вечером…
Однако доброй ночи, я заболталась, потому что тороплюсь на всех парах…
12 июня
С завтрашнего дня я снова принимаюсь за работу, почти заброшенную с субботы; я чувствую угрызения совести, и завтра все войдет в свою колею. Для моих дел мне будет достаточно вечеров…
Руэ очень удивил меня во многих отношениях. Во-первых, своей молодостью, бодростью; я воображала его важным, медлительным, чуть что не дряхлым; а он выскочил из кареты, подал руку, расплатился с извозчиком, живо взбежал в подъезд; и потом занялся своим образом мыслей. Полуобразование, сказал он, ведет только к отрицанию всех авторитетов. Он проповедует благодеяние невежества (утверждая в то же время, что этот вопрос очень трудно решить) и настаивает на том, что журналистика – настоящий яд, бросаемый в среду народа…
Представьте же себе, с каким любопытством я его рассматривала и слушала – вице-короля! Но я не собираюсь выкладывать вам здесь свои заключения, во-первых, потому, что я его недостаточно видела для этого, а во-вторых, потому, что я просто не расположена к этому сегодня вечером. Он рассказал нам много интересного – о покушении на нашего государя в 1867 году, потом еще много говорил о нашей царской фамилии, спрашивал меня, знаем ли мы великого князя. Я, конечно, держала себя с главой бонапартистов как истая православная…
Я даже сама не могу надивиться на свои тонкие любезности и свой такт. Гавини и барон, казалось, вполне одобряли мое поведение, и сам Руэ был доволен, но… все это какой-то подмоченный фейерверк!!!
Разговор шел о голосовании, о законах, о брошюрах, о приверженцах и изменниках – и все это в моем присутствии. Слушала ли я? О, еще бы. Передо мной точно двери в рай открывались. Я выразила, однако, мнение, что женщины не должны были бы ни во что вмешиваться, потому что, кроме зла, ничего не могут причинить, благодаря своему неумению отделаться от пристрастия.
Я сожалею о том, что я женщина, а Руэ – о том, что мужчина. У женщин, сказал он, нет таких тревог и неприятностей, как у нас.
– Позвольте мне вам заметить, что и у тех, и у других их одинаково. Только хлопоты мужчин доставляют им почесть, славу, популярность, а хлопоты женщин ничего не приносят.
– Так вы думаете, сударыня, что наши неприятности всегда вознаграждаются таким образом?
– Я думаю, что это зависит от самих мужчин.
Но не надо думать, что я так сразу и ввязалась в разговор; я сидела сначала минут десять несколько смущенная, потому что эта старая лиса, казалось, вовсе не была в восторге от этого представления.
Хотите знать одну вещь?.. Я в восторге.
Теперь мне хотелось бы рассказать вам все милые вещи, которые я сказала… Ну, нет, не надо. Скажу только, что я сделала все от меня зависящее, чтобы не говорить банальностей и казаться преисполненной здравого смысла; так вы лучше представите себе все, что произошло.
15 июня
Подумайте! Робер-Флери ничего не хотел сказать мне – так плох мой рисунок. Тогда я показала ему то, что сделала на прошлой неделе, и удостоилась похвал. Бывают дни, когда все утомляется.
3 июля
М. пришел проститься и, так как шел дождь, предложил проводить нас на выставку.
Предложение было принято, но еще до этого, оставшись наедине со мной, он стал умолять меня быть менее жестокой и т. д. и т. д.
– Вы знаете, что я безумно люблю вас, что я страдаю… Если б вы знали, как это ужасно – видеть одни только насмешливые улыбки, слышать только насмешки, – когда серьезно любишь.
– Вы забрали себе это в голову…
– О, нет, клянусь вам, я готов представить вам все доказательства… самую безусловную преданность, верность, терпение собаки, что хотите!.. Скажите хоть одно слово, скажите, что вы хоть немножко… верите мне!.. За что вы обращаетесь со мной, как с каким-то шутом, как с существом какой-то низшей расы…
– Я обращаюсь с вами так же, как со всеми.
– За что? Ведь вы же знаете, что я люблю вас не так, как все, что я вам так предан…
– Я привыкла к тому, что вызываю это чувство.
– Но не такое, как мое… Позвольте мне думать, что вы не питаете ко мне ужасных чувств…
– О, ужасных! – уверяю вас, что нет.
– Для меня всего ужаснее равнодушие.
– А! Но что же тут…
– Обещайте мне не забывать меня в течение этих нескольких месяцев моего отсутствия.
– Это не в моей власти.
– Позвольте мне время от времени напоминать вам о своем существовании… Может быть, я буду забавлять вас, вызову у вас улыбку?.. Позвольте мне… надеяться, что иногда вы пришлете мне одно слово, одно-единственное.
– Как вы сказали?
– О, ну, без подписи, просто только «Я здорова…» И все тут!… Я буду так счастлив!
– Я подписываю все, что я пишу…
– Вы даете мне позволение?
– Я ведь как Фигаро, я принимаю всякие письма…
– Господи! Если бы вы знали, как это ужасно – никогда не добиться серьезного слова, подвергаться вечным насмешкам… Нет, скажите, будем говорить серьезно, чтобы потом вам нельзя было упрекнуть себя в том, что вы не сжалились надо мной даже в минуту, когда я расстаюсь с вами! Могу я надеяться, что моя безграничная преданность, моя привязанность, моя любовь… Ставьте мне какие хотите условия, какие угодно испытания, но могу я надеяться, что когда-нибудь вы будете мягче? Что вы не вечно будете насмехаться?..
– Что касается испытаний, – говорю я довольно серьезно, – то только одно и есть.
– Какое? Я на все готов.
– Время.
– Ну, хорошо, пусть время. Вы увидите…
– Мне будет это очень приятно.
– Но скажите, вы доверяете мне хоть сколько-нибудь?
– Как? Я доверяю вам до такой степени, что поручаю вам письмо, с уверенностью, что вы его не распечатаете.
– Какой ужас! Нет, но безусловное доверие…
– Какие сильные выражения!
– Да если чувство сильно? – сказал он тихо.
– Да мне и самой хотелось бы верить, ведь это льстит нашему самолюбию. И право, мне и самой хочется иметь к вам некоторое доверие.
– Правда?
– Право. Этого вам достаточно, не правда ли?
Мы отправляемся на выставку. Я все время чувствовала досаду: М. был вполне счастлив и так ухаживал за мной, как будто я приняла его любовь.
Сегодня вечером я чувствую истинное удовлетворение: любовь М. производит на меня совершенно то же впечатление, как любовь А. Итак, вы видите, я вовсе не любила Пьетро! Я даже не была влюблена. Потом я была совсем близка к тому, чтобы полюбить… Но вы знаете, каким ужасным разочарованием это кончилось.
Вы отлично понимаете, что я не чувствую ни малейшего желания выйти замуж за М.
– Истинная любовь всегда почтительна, – сказала я ему, – вам нечего стыдиться ее, только не забирайте себе в голову лишнего.
– Вашу дружбу!
– Пустое слово.
– Ну, так ваше…
– Вы неумеренны.
– Но что сказать, если вы не позволяете мне начать с малого, с дружбы…
– Химеры!
– Значит, любовь…
– Вы говорите нелепости.
– Почему?
– Потому что я чувствую к вам полное пренебрежение…
5 июля
Возвращаюсь из концерта русских цыган. Я не хочу уехать и оставить дурного впечатления. Мы были вшестером: тетя, Дина, Степан, Филиппини, М. и я. По окончании концерта мы отправляемся есть мороженое и подзываем к себе двух наиболее хорошеньких цыганок и двух цыганят, которых угощаем вином и мороженым. Было презанятно говорить с этими молоденькими добродетельными девушками.
Потом тетя дает руку Степану, Дина идет с Филиппини, а я – с М. Мы идем пешком до самого дома; погода такая чудная. М., успокоенный, говорит мне о своей любви… Это опять прежняя история: я не люблю его, но его огонь согревает меня; это-то я и принимала за любовь два года тому назад…
Он говорит так хорошо… Он даже плакал. Приближаясь к дому, я смеялась меньше, я была размягчена этой прекрасной ночью и этой песнью любви. Ах, как это хорошо – быть любимой!.. Нет ничего в мире, что могло бы сравниться с этим… Теперь я знаю, что М. любит меня. Так не играют комедию. И потом, если он добивался моих денег, мое пренебрежение уж давно оттолкнуло бы его, и потом, есть Дина, которую считают такой же богатой, да и мало ли еще девушек… М. не какой-нибудь хлыщ, это настоящий джентльмен. Он бы мог найти, и он еще найдет кого-нибудь другого вместо меня.
М. право, очень милый; я, может быть, сделала ошибку, оставив свою руку в его руке в минуту расставания. Он поцеловал мою руку. Я должна была позволить ему это. И потом, он так любит и уважает меня, бедный человек! Я расспрашивала его, как ребенок, мне хотелось знать, как это с ним случилось, с каких пор? Кажется, он меня тотчас же полюбил. «Но это странная любовь, – сказал он, – другие – просто женщины, но вы стоите выше всего человеческого; и это – странное чувство; я знаю, что вы обращаетесь со мной, как с горбатым шутом, что в вас нет доброты, что вы бессердечны, и все-таки я люблю вас; обыкновенно люди восхищаются сердцем любимой женщины. А я… У меня, так сказать, нет даже симпатии к вам, и в то же время я обожаю вас».
Я все слушала, потому что, право, уверяю вас, слова любви стоят всех зрелищ в мире, исключая разве тех, куда идешь, чтобы показать себя. Но в таком случае это тоже род песни любви: на вас смотрят, вами восхищаются, и вы расцветаете, как цветок под лучами солнца.
Я была с госпожой Гавини на панихиде, торжественным образом устроенной за упокой души этой бедной испанской королевы.
Любить своего мужа и быть им любимой, иметь всего 18 лет от роду, быть испанской королевой и умереть!.. Предоставляю «Figaro» говорить об этой церемонии. Мне она показалась холодной и ни капельки не тронула меня. Я сохранила пригласительный билет.
Соден. 7 июля
В семь часов мы едем. Дедушке хотелось, чтобы я осталась, но я простилась с ним; тогда он обнял меня и вдруг заплакал, сморщив нос, раскрыв рот, закрыв глаза, точно ребенок! До его болезни – это было бы ничего, но теперь… Я обожаю его. Если бы вы знали, как он интересуется малейшими пустяками, как он любит всех нас с тех пор, как он находится в этом ужасном состоянии. Еще одна минута – и я бы осталась… Такое безумие – быть вечно такой чувствительной!
Представьте себе существо, перенесенное из Парижа в Соден. Мертвая тишина – это недостаточно передает тишину, царящую в Содене. У меня от этого голова идет кругом так же, как от слишком сильного шума.
Здесь будет время предаться размышлениям и писать.
Что за раздражающая тишина!.. Ну, долго ли еще вам придется читать мои диссертации на эту тему!
Доктор Тилениус только что вышел от нас; он расспрашивал меня о моей болезни и не сказал, как французы:
«Это ничего, в восемь дней мы вас вылечим!»
Завтра я начинаю курс лечения.
Деревья здесь так хороши; воздух чистый. Деревня идет к моему лицу. В Париже я только хорошенькая, если только я такова; здесь я кажусь нежной и поэтичной; глаза увеличиваются, щеки кажутся худее.
9 июля
Как они все мне надоедают, эти доктора! Мне осматривали горло: фарингит, ларингит и катар. Больше ничего!
Я занимаюсь чтением Тита Ливия. Рассчитываю делать это каждый вечер; мне необходимо познакомиться с историей Рима.
16 июля
Я хочу добиться своего – живописью или чем-либо иным… Не подумайте, однако, что я занимаюсь искусством только из тщеславия. Найдется, быть может, немного людей, которые так проявляли бы свои художественные наклонности решительно во всем. Впрочем, вы, конечно, сами это заметили, вы, т. е. интеллигентная часть моих читателей; до остальных мне дела нет. Остальным я покажусь только экстравагантной, потому что я действительно странный человек во всех своих проявлениях, не стараясь быть таковой.
1 августа
Я нарядилась старой немкой со смешными ужимками и маленькими странностями, и, так как появление каждой новой личности производит крайнее возбуждение среди завсегдатаев Курхауза, я произвела целую сенсацию. Только я сделала оплошность, ничего не спросив у кельнера; это возбудило подозрение, за мной стали следить, преследовать по пятам, и тут уж тайне конец. Уверяю вас, что это весьма печально: заставить умереть от хохота двадцать пять человек и не забавляться самой.
2 августа
Я думаю о Ницце последние дни… Мне было пятнадцать лет, и как я была хороша. Талия, руки, ноги были, может быть, еще не сформированы, но лицо было очаровательно… С тех пор оно уж никогда таким не было… По возвращении моем из Рима граф Л.[16] сделал мне целую сцену…
– У вас лицо совсем изменилось, – говорил он, – черты, краски те же, но что-то не то… Вы уж никогда не будете такой, как на этом портрете.
Он говорил о портрете, где я сижу, положив локти на стол и опершись щекой на руки.
– Вы имеете здесь такой вид, как будто вы только что откуда-то приехали, облокотились и, устремив глаза куда-то в будущее, спрашиваете полуиспуганно: так вот какова она, жизнь?..
В пятнадцать лет в моем лице было что-то детское, чего не было ни до, ни после этого. А ведь это выражение самое прелестное, что только может быть в мире.
Какие места для прогулок я открыла в Содене!.. Я не говорю об обыкновенных, опошленных местностях для прогулок, куда каждый иностранец считает своим долгом вскарабкаться, но аллеи и рощи, где нет ни души.
Я обожаю эту тишину. Или Париж, или пустыня. О Риме я не говорю – это заставило бы меня тотчас расплакаться.
Старик Тит Ливий так хорошо рассказывает, и когда в каком-нибудь пассаже чувствуется, что он прикрывает какую-нибудь неудачу или старается извинить какое-нибудь унижение – это почти трогательно… Можно сказать, что до сих пор я любила только Рим.
Представьте себе удовольствие, которое я испытываю, слушая разговоры дам об их нервах, об их знакомых, об их докторах, об их платьях, об их детях! Но я уединяюсь, ухожу в лес, закрываю глаза и уношусь – куда мне только вздумается.
6 августа
Моя шляпа занимает меня и весь Соден… Я купила у женщины, раздающей стакан воды при источнике, чулок из синей шерсти, который она только что начала; в то же время она показала мне, как это делается. Я тотчас же схватила теорию и чулок и уселась против окон гостиницы, принявшись вязать чулок, пока тетя и другие куда-то отправились.
Я тотчас перехожу на другой юмор: я делаюсь безмятежна, очень спокойна, кротка, – становлюсь настоящей немкой; вяжу чулок – чулок, которому конца не будет, потому что я не умею вязать пятку; я никогда не сделаю ее, и чулок будет длинный, длинный, длинный…
Нет, он даже не будет длинен… На дворе сильнейший дождь. У меня бездна ума! О, кроткая Германия!..
Прогулки мои не пропадают даром; я читаю и не теряю времени. Похвалите же меня, добрые люди!
7 августа
Господи, сделай так, чтобы я поехала в Рим. Если бы Ты знал, Господи, как мне этого хочется! Господи, будь милостив к Твоей недостойной рабе. Господи! Сделай так, чтобы я поехала в Рим… Это невозможно, конечно… потому что это было бы слишком большое счастье!..
Это не Тит Ливий вскружил мне голову, потому что мой старый друг вот уже несколько дней заброшен. Нет, просто воспоминание о полях вокруг Рима, о площади del Popola, о Пинчио, о куполе, освещенном заходящим солнцем…
И эта дивная чудная полутьма рассвета, когда солнце только встает и мало-помалу начинаешь различать предметы… Какая тогда пустота повсюду… И какое святое волнение при одном воспоминании о чудесном, волшебном городе!.. Я думаю, что не только мне, но каждому он внушает эти необъяснимые чувства, вызываемые каким-то таинственным влиянием… какой-то комбинацией… легендарного прошлого и религиозного настоящего, или… не умею выразить… Если бы я полюбила человека, то привела бы его в Рим, чтобы сказать ему это перед солнцем, заходящим позади священного купола…
Если бы меня поразило какое-нибудь огромное несчастье, я пошла бы молиться и плакать, устремив глаза на этот купол… Если бы я стала счастливейшей из всех женщин, из всех людей, я пошла бы туда же…
И как подумаешь после этого, что живешь в Париже… который, однако, можно назвать единственным сносным городом в мире после Рима.
Париж. 17 августа
Еще этим утром мы были в Содене.
Я дала обет положить пятьсот земных поклонов, если застану дедушку в живых. Я исполнила этот обет. Он не умер, но тем не менее ему вовсе не лучше. А между тем мой курс лечения в Эмсе пропал. Я ненавижу Париж! В нем можно быть счастливым и довольным и удовлетворенным более чем где бы то ни было; в Париже жизнь может быть полна, интеллигентна, украшена славой – я далека от того, чтобы отрицать это. Но для моего образа жизни нужно любить самый город. Города бывают мне симпатичны и антипатичны, как люди, и я не могу сказать, чтобы Париж мне нравился.
Клод Моне. Стога сена на закате, эффект снега. 1891
19 августа
M-lle Е., бывшая гувернанткой у N., поступила к нам; она будет чем-то вроде компаньонки.
Я буду выказывать ей полное уважение в магазинах, чтобы внушить почтение к ней других: она сама так не импозантна: маленькая, рыженькая, молодая, печальная. Лицо круглое, напоминающее луну, когда луна выглядит печальной. Это выражение лица просто смешит. В глазах какая-то комическая мечтательность… Но в шляпе, сделанной по моей идее, все это сойдет; я буду ходить с ней в мастерскую.
Я утешаюсь, что не поехала в Эмс, видя, как счастлив дедушка свиданием со мной, несмотря на свое состояние.
У меня ужасная болезнь. Я противна самой себе. Это уж не в первый раз, что я ненавижу себя, но от этого нисколько не легче.
Ненавидеть кого-нибудь другого, кого можно избегать, – да, но ненавидеть самого себя! Вот пытка!
24 августа
Я употребила час времени на то, чтобы сделать эскиз дедушки в лежачем положении. Говорят, что очень удачно. Только, знаете, все эти белые подушки, белая рубашка, белые волосы и полузакрытые глаза – все это очень трудно передать. Сделаны, разумеется, только голова и плечи. Я очень довольна, что могу сохранить это на память о нем.
Послезавтра отправлюсь в мастерскую. Чтобы сократить время, я вычистила от нетерпения мои ящики, разобрала краски, очинила карандаши. За эту неделю я справила все мои дела.
29 августа
Не знаю, какой благой силе я обязана тем, что запоздала и в девять часов была еще не одета, когда мне пришли сказать, что дедушке хуже; я оделась и несколько раз входила к нему. Мама, тетя, Дина плачут. М.Г. преспокойно прогуливался. Я ничего не сказала ему: не читать же ему наставления в эти ужасные минуты. В десять часов пришел священник, и через несколько минут все было кончено…
Я оставалась там до конца, стоя на коленях, то проводя рукой по его лбу, то щупая пульс. Я видела, как он умирал, бедный милый дедушка, после стольких страданий… Я не люблю говорить банальностей… Во время службы, происходившей у самой постели, мама упала мне на руки; ее должны были унести и уложить в постель. Все плакали навзрыд, даже Николай; я тоже плакала, но тихо. Его положили в постель, нескладно прибранную; эти слуги – ужасны, они делают все это с каким-то особенным рвением, при виде которого делается тяжело. Я сама уложила подушки, покрыв их батистом, окаймленным кружевом, и задрапировала шалью кровать, которую он любил – железную – и которая показалась бы бедной другим. Я убрала все кругом белой кисеей; эта белизна идет к честности души, только что отлетевшей, к чистоте сердца, которое перестало биться. Я дотронулась до его лба, когда он уже похолодел, и не чувствовала при этом ни страха, ни отвращения.
Все ожидали этого удара, но тем не менее он как-то придавил нас.
Я распорядилась отправить депеши и деловые письма. Нужно было также позаботиться о маме, у которой был сильнейший нервный припадок.
Я думаю, что я была совершенно прилична и что на том основании, что я не кричала, нельзя сказать, что я бессердечна.
Я совсем не могу различить, грезы это или реальные ощущения…
Атмосфера представляет ужасную смесь цветов, ладана и трупа. На улице жара, и пришлось закрыть ставни.
В два часа я принялась писать портрет с покойного, но в четыре часа солнце перешло на сторону окон; нужно было прекратить работу; это будет только эскиз…
Каждую минуту я открываю этот том, чтобы занести туда какие-нибудь происшествия.
30 августа
Реальная жизнь есть гадкий и скучный сон… и однако, как я могла бы быть счастлива, если бы мне дано было хоть капельку счастья; я обладаю в величайшей степени способностью создавать много из ничего; а то, что волнует других, нисколько не задевает меня…
1 сентября
Я не вижу впереди ничего… ничего, кроме живописи. Если бы я стала великой художницей, это заменило бы для меня все; тогда я имела бы право (перед самой собой) на чувства, убеждения; я не испытывала бы презрения к себе, записывая сюда все свои треволнения! Я представляла бы из себя нечто… Я могла бы быть ничем и все-таки чувствовать себя счастливой только в том случае, если бы сознавала себя любимой человеком, который составил бы мою славу… Но теперь надо добиться чего-нибудь самой.
4 сентября
Конт утверждает, что все вещи существуют только в нашем воображении. Это значит заходить уже слишком далеко, но я признаю его теорию в области чувств. В самом деле, чувства слагаются из впечатлений, производимых на нас предметами или существами; и так как он говорит, что предметы в действительности не таковы – словом, что они не имеют никакого объективного значения и представляют из себя нечто реальное только в нашем уме… Чтобы разобраться во всем этом, нужно было бы не быть вынужденной немедленно ложиться спать и думать о часе, когда нужно приняться за рисунок, чтобы кончить его к субботе!
На обычном языке «воображением» называют не то, о чем я теперь говорю; под воображением подразумевают просто какую-нибудь бессмысленную выдумку, глупость. Но не в этом, в другом смысле – может ли существовать любовь иначе, как в воображении? То же можно сказать и обо всех других чувствах. Как видите, все эти философские построения поистине удивительны, а между тем простая женщина, как я, может показать вам их ложную сторону.
Вещи представляют из себя нечто реальное только в нашем представлении? Прекрасно, а я вам говорю, что предмет поражает наше зрение, звук – слух, и что… Иначе могло бы ничего не существовать, все было бы нашим измышлением. Если же в этом мире ничто не существует, где же существует что бы то ни было? Ибо для того, чтобы утверждать, что ничто не существует, все-таки нужно иметь понятие о реальном существовании чего бы то ни было, хотя бы для того только, чтобы отдать себе отчет в различии между объективным и субъективным значением вещи. Конечно… обитатели другой планеты видят все совершенно иначе, чем мы, и в этом отношении они совершенно правы. Но мы ведь живем на земле, останемся же на ней, будем изучать все, что видим «горе» и «низу», и этого совершенно достаточно.
Я невольно прихожу в восторг от всех этих искусных, терпеливых, удивительных, чудесных построений; эти рассуждения, эти дедукции, такие сжатые, такие умные…
Одно только приводит меня в отчаяние: я чувствую, что это неверно, и не имею ни времени, ни силы разобрать, в чем именно.
Мне бы так хотелось поговорить об этом с кем-нибудь; я так одинока. Но клянусь вам, что я вовсе не выставляю свои рассуждения для виду, напоказ людям: я просто высказываю свои мысли и с охотой подчинилась бы всем убедительным доказательствам, какие мне привели бы…
Мне было бы так нужно, мне бы так хотелось, без всяких особенных смешных претензий, послушать ученых; мне бы так, так, так хотелось проникнуть в мир ученых, смотреть, слушать, учиться… Но я не знаю, ни кого, ни как просить об этом и остаюсь в каком-то оцепенении, не зная, куда броситься и видя со всех сторон сокровища знания: историю, языки, естественные науки – словом, всю землю… я хотела бы видеть все вместе и все знать, все изучить.
13 сентября
Я чувствую себя совсем не на своем месте; я расходую по мелочам силы, которых было бы достаточно для мужчины; я произношу речи в ответ на разные домашние дрязги, заводимые от праздности. Я ничего из себя не представляю, и свойства, которые могли бы считаться моими достоинствами, являются в большинстве случаев или бесполезными, или неуместными.
Есть большие статуи, которые поражают всех, будучи поставленными на пьедестал среди широкой площади; а поместите такую статую в свою комнату и посмотрите, до какой степени это будет выглядеть нелепо и громоздко! Вы будете стукаться об нее лбом и локтями по десяти раз в день и кончите тем, что проклянете и найдете невыносимым то, что вызвало бы всеобщий восторг на подобающем месте.
Если вы находите, что «статуя» слишком лестно для меня, я очень охотно соглашусь, что будет лучше сравнить меня… с чем вам угодно.
21 сентября
Я получила одобрения и ободрения. Бреслау, возвратившаяся с моря, привезла этюды женщин, головы рыбаков. Все это очень хороших тонов, и бедняжка А., утешавшаяся тем, что Бреслау не хватает именно этого, состроила грустную физиономию. Из Бреслау выйдет крупная художница, настоящая крупная художница, и если бы вы еще знали, как я взыскательна в своих суждениях и как я презираю всякие бабьи протекции и все их обожания к Р. потому только, что он, пожалуй, действительно красив, вы поняли бы, что я не прихожу в восторг по пустякам; впрочем, тогда, когда вы будете читать меня, мое предсказание уже исполнится.
Нужно будет принуждать себя рисовать по памяти, иначе я никогда не смогу как следует компоновать. Бреслау всегда делает разные наброски, эскизы, бездну всяких вещей. Она делала это еще за два года до поступления в мастерскую, где она уже работает два года с лишком. Она поступила сюда в июне 1876 года, как раз тогда, когда я прожигала время в России… Эдакое безумие!!!
23 сентября
Жулиан пришел сообщить мне, что Робер-Флери очень доволен мной и что, подводя итоги, он должен признать, что я делаю вещи удивительные для такого короткого времени, что вообще он возлагает на меня большие надежды и что я, конечно, сделаю ему честь как ученица.
Это глупо – писать каждый день, когда и сказать-то нечего… Я купила в русском отделе волка на ковер, который ужасно пугает Пинчо II.
Неужели я действительно буду художницей? Несомненно одно – что я выхожу из мастерской только для того, чтобы браться за римскую историю с гравюрами, примечаниями, географическими картами, текстами и переводами.
И это опять-таки глупо: никто этим не занимается, и моя беседа была бы гораздо более блестящей, если бы я читала вещи более современные. Кому какое дело до первоначальных учреждений, до числа граждан в правление Тулла Гостилия, до священных обрядов во времена Нумы, до борьбы трибунов и консулов?
Огромное издание истории Дюрюи, выходящее отдельными выпусками, – настоящее сокровище.
Когда я кончу Тита Ливия, я примусь за историю Франции Мишле, а потом буду читать греков, с которыми знакома только по слухам из цитат других авторов, и потом еще… Мои книги сложены в ящики, и надо будет найти более определенную квартиру, чтобы разобрать их.
Я знаю Аристофана, Плутарха, Геродота, отчасти Ксенофонта, кажется, и все тут. Еще Эпиктета, но, право, все это далеко не достаточно. И потом Гомера – его я знаю отлично; немножко также – Платона.
27 сентября
Часто и повсюду приходится слышать споры о провинностях мужчин и женщин; люди просто из себя выходят, доказывая, что тот или другой и есть наиболее виновный. Не нужно ли вмешаться мне, чтобы просветить несчастных граждан земли?
Мужчина, обладая известного рода инициативой почти во всем, должен быть признан наиболее виновным; хотя на основании этого он вовсе не может считаться более злым, чем женщина, которая, являясь существом в некотором роде пассивным, в известной степени избегает ответственности, не будучи, однако, на основании этого лучше, чем мужчина.
30 сентября
Я в первый раз официально перехожу к краскам.
Я должна была сделать несколько natures mortes; я написала, как вам известно, голубую вазу и два апельсина. И потом мужскую ногу; вот и все.
Я обошлась совсем без рисовки с гипсов; быть может, избегну и этих natures mortes.
Я пишу К., что хотела бы быть мужчиной. Я знаю, что я могла бы сделаться чем-нибудь; но куда прикажете деваться со своими юбками? Замужество – единственная дорога для женщины; для мужчины есть тридцать шесть выходов, у женщины только один. Как же тут не подходить к людям как можно ближе, когда приходится выбирать супруга!.. Никогда еще я не была в таком возмущении против состояния женщины. Я не настолько безумна, чтобы проповедовать это нелепое равенство, которое есть чистая утопия (и потом – это mauvais gente!), потому что какое может быть равенство между такими различными существами, как мужчина и женщина. Я ничего не прошу, потому что женщина уже обладает всем, чем должна обладать, но я ропщу на то, что я женщина, потому что во мне женского разве только одна кожа.
3 октября
Сегодня мы около четырех часов провели на драматическом музыкальном международном matinee. Давали отрывки из Аристофана в ужаснейших костюмах с такими сокращениями и переделками, что было просто гадко смотреть.
Что было чудесно, так это драматический рассказ «Христофор Колумб» в итальянском чтении Росси. Какой голос, какая интонация, какая выразительность, какая естественность! Это было лучше всякой музыки. Я думаю, это показалось бы прекрасным даже человеку, не понимающему по-итальянски.
Слушая, я почти обожала его.
О, какое могущество заключает в себе слово, даже когда оно заучено, даже когда это не есть красноречие!
Потом прекрасный Муне Сюлли продекламировал… но о нем не буду говорить. Росси дает образец возвышенного искусства; это действительно великий артист. Я видела его при выходе разговаривающим с двумя другими людьми; он – как и все люди. Он актер, но, будучи в такой мере художником, нельзя не иметь известного величия в самом характере, даже в мелочах повседневной жизни. Я посмотрела ему в глаза; он положительно не может быть обыкновенным человеком, а между тем его обаяние длится только до тех пор, пока он говорит… О! Да ведь это просто чудо!.. А нигилисты еще могут насмехаться над искусством!
Если бы я была умна… Но ведь я умна только на словах, да и притом только до тех пор, пока говорю сама с собой. Где я на самом деле проявила, доказала свой ум?
5 октября
Сегодня Робер-Флери приходит в мастерскую для поправок. Ну, и мне ужасно страшно. Он произносит на разные лады; «О! О! А! А! О! О!» И потом говорит:
– Вы взялись за живопись?
– Не совсем, профессор, я буду заниматься живописью только раз в месяц.
– Нет, вы хорошо сделали, что начали, вы вполне можете перейти к краскам. Недурно, недурно…
– Я боялась, что еще не настолько сильна, чтобы взяться за краски.
– Совершенно напрасно, вы достаточно сильны; продолжайте, это недурно. – И т. д. и т. д.
Затем следует длинный урок, который показывает, что дело небезнадежно, как говорят в мастерской. Меня не любят в мастерской и при каждом ничтожном успехе Б. мечет такие яростные взгляды, что просто смешно.
Но Робер-Флери не хочет верить, что я никогда не училась живописи.
Он оставался долго, исправляя, болтая и куря. Я получила несколько советов extra, и потом он спросил меня, как я была помещена на последнем конкурсе прошлого года. И когда я сказала, что второй…
– А в этом году, – сказал он, – нужно будет…
– Гм?
Это так глупо, он уже сказал Жулиану, что, по его мнению, я получу медаль. Итак, я уполномочена перейти к живописи с натуры, не останавливаясь на natures mortes! Я пропускаю их, как пропустила гипсы.
7 октября
Я пишу красками по утрам, а послеобеденное время уходит на рисование.
Если я взялась теперь за перо, то потому, что, читая Бальзака, наткнулась на портрет некоего Артеца. Достигнув солидного возраста, 38 лет, он сохранял в себе свежесть юности, подобающую человеку, ведущему кабинетную жизнь; как все государственные люди, он приобрел некоторую полноту; глаза черные, волосы густые, темные. Итак, она встретила наконец этого возвышенного человека, о котором мечтает каждая женщина, хотя бы для того, чтобы подпасть под его господство, она встретила наконец это соединение величия разума и простоты сердца и т. д. и т. д. Благодаря какому-то неслыханному счастью она встретила все эти богатства заключенными в форму, которая сама по себе ей нравилась… К этой благородной простоте, которая украшала его царственную голову, Артец присоединял выражение наивности, чего-то свойственного детям и какого-то трогательного доброжелательства…
Как желала бы я знать, что сказал бы Бальзак о том человеке… Благодаря отсутствию красноречия, остроумия, ловкости, употребляя самые обыденные слова, я только опошляю и разрушаю цельность представления о людях, которых описываю… А ведь, ей-богу, нет ничего легче, как найти скверную или, по крайней мере, обыденную сторону в человеке, которую к тому же еще более опошляешь. Обыкновенно прислушиваются ко всяким толкам и по этим толкам, сплетням, часто едва уловимым, и составляют себе совершенно ложно понятие о человеке… А ведь это то же, что писать портрет с маленькой фотографической карточки!
Все, что я могу сказать, не выходит из области предположений, так что, в сущности, все это крайне жалко… Но знаете ли, почему я так дурно выражаюсь? Это потому, что я боюсь писать теми словами, которые мне прежде всего попадают на перо: они кажутся мне то слишком нежными, то слишком серьезными, – словом, все это из-за какого-то глупого ложного стыда. Я стараюсь говорить в шутливом тоне какого-нибудь «Фигаро».
Глупцы скажут, что я хотела бы изображать из себя Бальзака; нет. Но знаете ли, что позволяет ему быть столь удивительным писателем? Это то, что он выливает на бумагу все, что только проходит у него в голове, все совершенно просто, без страха и без аффектации. Почти все интеллигентные люди передумали то, о чем он писал, но кто мог выразить все это, как он? Те же способности при иного рода уме не произвели бы ничего подобного.
Нет, нельзя сказать, что «это передумали почти все интеллигентные люди», но дело в том, что, читая Бальзака, они были до такой степени поражены верностью, правдивостью его замечаний, что им казалось, что они сами думали об этом. Мне сто раз случалось, говоря или думая о чем-нибудь, нестерпимо страдать от мыслей, которые я чувствовала в себе, там где-то, и которые я не имела сил распутать и извлечь из невозможного хаоса моей головы.
В то же время у меня есть одна претензия; а именно: когда я делаю какое-нибудь хорошее замечание, какое-нибудь очень тонкое наблюдение, мне кажется, что меня не поймут. Да, может быть, и в самом деле мои слова будут поняты совершенно иначе.
Ну, прощайте, добрые люди!
Робер-Флери и Жулиан строят на моей голове целое здание; они заботятся обо мне, как о лошади, которая может доставить им крупный приз. Жулиан говорит, что все это избалует, испортит меня, но я уверяю его, что все это только очень ободряет меня – это совершенная правда.
9 октября
Успех учеников Жулиана на конкурсе в Академии искусств поставил его мастерскую на хорошую ногу. Она переполнена учениками. И каждый мечтает получить в конце концов какой-нибудь pris de Rome или, по крайней мере, попасть на конкурс в академию.
Женская половина мастерской разделяет этот успех, а Робер-Флери соперничает с Лефевром и Буланже. При каждом удобном случае Жулиан говорит:
– Интересно знать, что скажут об этом внизу? Да, я хотел бы показать это нашим господам внизу.
Я очень вздыхаю, удостоившись чести видеть один из своих рисунков отправляющимся вниз. Потому что им показывают наши рисунки, только чтобы похвастаться и позлить их, потому что они ведь говорят, что у женщин – все это несерьезно. Вот уже несколько времени я думала об этой почести отправиться вниз.
Ну, и вот сегодня Жулиан входит и, вглядевшись в мою работу, говорит следующее:
– Закончите-ка мне это хорошенько, я отправлю это вниз.
Клод Моне. Льдины. Туманное утро. 1893
13 октября
Про мою работу было сказано, что «это очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо».
– О, вы прекрасно одарены, и если только вы будете работать – вы добьетесь всего, чего захотите.
Я избалована похвалами (я говорю «избалована» только для формы), и доказательство того, что Р. не лжет, это то, что мне со всех сторон завидуют. И как это ни глупо, но мне это больно. Но нужно же, чтобы действительно что-нибудь было, если мне каждый раз говорят такие вещи, особенно ввиду того, что все это говорит человек такой серьезный и добросовестный, как Р.
Что до Жулиана, то он говорил, что если б я знала все, что про меня говорят, это вскружило бы мне голову.
– У вас голова бы пошла кругом, m-lle Marie, – говорила также женщина, убирающая мастерскую.
Я постоянно боюсь, что мои читатели воображают, что меня хвалят из-за моего богатства. Но ведь это, право, ничего не значит: я плачу не больше, чем другие, а у других еще есть протекции, знакомство, родство с профессорами. Впрочем, когда вы будете читать меня, насчет того, что я действительно заслуживаю, уже не будет сомнений.
Это так приятно видеть, что вызываешь в других уважение своим личным достоинством.
Р. опять начинает изображать Карлоса; он приходит, начинает расхаживать (он получил большую медаль на Всемирной выставке); поправив рисунки, он болтает с нами, закуривает папироску, разваливается в кресле… Мне до всего этого нет дела. Я прекрасно знаю, что он обожает меня, как ученицу, так же, как и Жулиан.
Как-то раз шведка стала давать мне советы; тогда Жулиан позвал меня в свой кабинет и стал мне говорить, что я должна слушаться только своего чутья; живопись сначала, может быть, не пойдет, но я во всяком случае должна оставаться собой, «тогда как если вы будете слушаться других, я ни за что больше не отвечаю».
Он хочет, чтобы я попробовала взяться за скульптуру и собирается попросить Дюбуа давать мне указания.
16 октября
Это глупо, но мне тяжело от зависти этих девушек. Это так мелко, так гадко, так низко! Я никогда не умела завидовать: я просто сожалею, что не могу быть на месте другого.
Я всегда преклоняюсь перед всем, что выше меня; мне это досадно, но я преклоняюсь, тогда как эти твари… Эти заранее приготовленные разговоры, эти улыбочки, когда заговорят о ком-нибудь, кем доволен профессор, эти словца по моему адресу в разговоре о ком-нибудь другом, которыми хотят показать, что успех в мастерской еще ровно ничего не означает.
Они кончили тем, что пришли к заключению, будто конкурсы – чистый вздор, тем более что у Лефевра вовсе нет вкуса и он любит только рисунки, списанные с натуры, и что Робер-Флери плохой колорист! Словом, профессор ни на что не годен, несмотря на свою известность, потому что испанка, Бреслау и Ногрен взяли на себя судить их таким образом! Я вполне разделяю их мнение, когда они говорят, что звезды нашей мастерской ничего не стоят, потому что на каждые три человека найдется по крайней мере по две, которые останутся жалкими посредственностями, считаясь первостепенными художницами мастерской сравнительно с другими.
И просто забавно слышать, как эти барышни говорят совершенно противоположное тому, что говорилось ими каких-нибудь десять месяцев тому назад, когда каждая была в полной уверенности, что получит первую медаль. Это забавно, потому что это одна из тех вечных комедий, которые разыгрываются в этом мире, но это бьет меня по нервам. Может быть, это оттого, что у меня, в конце концов, честная натура?
Эти ученические треволнения мне надоедают, раздражают меня, несмотря на все мои рассуждения. Я действительно с нетерпением жду того времени, когда обгоню их всех!
20 октября
Я заказала себе коляску к девяти часам и в сопровождении моей demoiselle d’honneur отправилась осматривать соборы Св. Филиппа, Св. Фомы Аквинского, Парижской Богоматери. Я взобралась на самый верх, ходила на колокольню, точно какая-нибудь англичанка. Что действительно очаровательно в Париже, так это «старый Париж»; и, живя здесь, можно чувствовать себя счастливым только при условии не видеть всех этих бульваров, Елисейских Полей, всех этих новых прекрасных кварталов, которые я проклинаю, которые мне невыносимы. Но там, в Сен-Жерменском предместье, чувствуешь себя совсем иначе.
Осматривали Академию художеств. И право, просто хоть плачь! Почему я не могу учиться там? Где еще можно найти такое преподавание, как тут? Если я когда-нибудь буду богатой, то создам школу для женщин.
26 октября
Моя живопись идет лучше, а рисунок с натуры очень хорош. Т.Т. судил конкурс; первая Бреслау, вторая я. Словом, я должна быть довольна.
Сегодня утром, разговаривая в углу с Робером-Флери о картонах для моей скульптуры, я слушала его, как ребенок, с видом наивной девочки, меняясь в лице, не зная, куда девать руки; продолжая разговор, он не мог удержаться от улыбки, и я тоже, при мысли, что от меня пахнет свежей фиалкой, что мои волосы, от природы волнистые, сухие и мягкие, очаровательно освещены, а руки мои, в которых я что-то держала, лежат в красивой позе… Бреслау говорит, что моя манера браться за вещи удивительно красива, хотя мои руки и не могут быть названы классически красивыми. Но нужно быть художником, чтобы оценить эту красоту. Буржуа или какие-нибудь светские люди не обращают внимания на манеру браться за вещи и предпочтут руки пухлые и даже толстые моим рукам.
От десяти до одиннадцати часов я успела прочесть пять газет и два выпуска Дюрюи.
6 ноября
Есть в мире нечто истинно прекрасное, антично прекрасное: преклонение женщины перед превосходством любимого человека должно быть лучшим удовлетворением для самолюбия возвышенной женщины.
13 ноября
Робер-Флери был у нас сегодня вечером. Совершенно напрасно было бы повторять вам все те ободрения, которыми он меня осыпал после долгого урока: если все, что говорят обо мне эти господа, правда, вы уже знаете (в то время, когда будете читать меня), какого мнения обо мне следует придерживаться.
Но как бы то ни было, это положительно приятно – видеть, что вас принимают до такой степени всерьез. Я глупа… Я преисполнена величайшими надеждами, а когда мне говорят это, я точно и не подозревала этого и не знаю, куда деваться от радости! Я удивляюсь и ликую, как какой-нибудь невероятный урод, узнавший о любви прекраснейшей из женщин.
Робер-Флери – чудный профессор. Он ведет вас шаг за шагом, так что вы сами ощущаете прогресс в своих работах. Сегодня вечером он говорил со мной, как с ученицей, которая хорошо разучила гаммы и которой поэтому можно разрешить перейти к какой-нибудь пьеске. Он как бы приподнял уголок занавеса и показал более широкий горизонт. Этот вечер будет памятным в истории моего учения.
20 ноября
Сегодня вечером после ванны я сделалась вдруг такой хорошенькой, что провела двадцать минут, глядя на себя в зеркало. Я уверена, что, если бы меня сегодня видели, я бы имела большой успех: цвет лица совершенно ослепительный и притом такой тонкий, нежный; чуть-чуть розоватые щеки; яркими и резкими оставались только губы да глаза с бровями… Не воображайте, пожалуйста, что я бываю слепа в тех случаях, когда я нехороша в действительности, я это прекрасно вижу; и это в первый раз после долгого времени, что я так хороша. Живопись поглощает все.
Что безобразно в жизни, так это то, что все это должно со временем поблекнуть, ссохнуться и умереть!
21 ноября
Бреслау написала женскую щечку так хорошо и правдиво, что я, женщина, художница-соперница, хотела бы поцеловать эту щечку…
Но… и в жизни часто случается таким образом; есть вещи, к которым не надо подходить слишком близко, потому что только испачкаешь себе губы и испортишь самый предмет.
22 ноября
Меня начинает пугать будущность Бреслау, мне как-то тяжело, грустно. Она уже компонирует, и во всем, что она делает, нет ничего женского, банального, нескладного. Она обратила на себя внимание в Салоне, потому что, не говоря уже о выразительности ее вещи, она не возьмет какого-нибудь избитого сюжета.
Право, я безумно завидую ей: я еще ребенок в искусстве, а она уже женщина.
Сегодня дурной день; все представляется мне в мрачном свете.
23 ноября
Сегодня вечером я иду еще раз послушать «Les Amants de Verone» вместе с Полем и Надиной.
Капуль и Гейльбронн пели и играли удивительно. Партитура раскрывается перед вами, как цветок, по мере того, как вслушиваешься в нее вторично. Нужно будет пойти еще раз. Цветок развернется еще пышнее и распространит чудное благоухание. В этой вещи есть фразы бесподобные, но чтобы оценить их, нужно и терпение, и чутье. Эта музыка не поражает с первого раза, нужно вслушаться, чтобы найти ее тонкую прелесть.
24 ноября
Мы были с Надиной в Музее древностей. Какая простота и как это прекрасно! О, Греция никогда больше не повторится.
21 декабря
Сегодня – ничего хорошего. Живопись не идет. Я думаю, что мне нужно будет больше шести месяцев, чтобы догнать Бреслау. Она, конечно, будет замечательной женщиной… Живопись не идет.
Ну, полно же, дитя мое! Разве ты думаешь, что Бреслау писала лучше, чем ты, по прошествии двух с половиной месяцев? А она к тому же работала над разными natures mortes и гипсами! Шесть месяцев тому назад Робер-Флери говорил ей то же, что сказал сегодня мне:
– Странно, но тон у вас резок и холоден. Надо отделаться от этого. Сделайте-ка одну-две копии.
Не погибла же она после десяти месяцев живописи, не погибать же мне после двух с половиной.
27 декабря
Вся эта неделя пропала для мастерской. Вот уже три дня мне все хочется взяться за перо, а я и сама хорошенько не знаю, какие такие размышления я буду записывать. Но настроенная особенным образом пением, доносившимся из второго этажа, я принялась перелистывать мой эпизод в Италии; а потом меня оторвали, и я потеряла нить мыслей и то особенное меланхолическое настроение, которое, в сущности, довольно приятно.
Что меня поражает в том периоде, так это легкость, с которой я употребляла самые многозначительные слова для обрисовки самых простых приключений.
Но я действительно искала великие чувства: мне было просто досадно, что нет никаких удивительных, потрясающих, романтических чувств, о которых я могла бы рассказывать, и я интерпретировала свои чувства: художники поймут меня. Все это прекрасно; но каким образом могло случиться, что девушка, считающая себя умной, могла до такой степени плохо оценивать истинное значение людей и событий. Я говорю об этом, потому что мои родители должны были бы мне объяснить, сказать, что А. вовсе не серьезный человек, ни вообще человек, достойный каких бы то ни было страданий. Надо сказать правду: мне толковали обо всем этом совершенно наоборот, потому что моя мать еще моложе меня… Но обо всем этом уже нечего и говорить, потому что я сама, будучи столь высокого о себе мнения, должна была бы проникнуть в его сущность и отнестись к нему совершенно так же, как ко всем другим, вместо того, чтобы уделять ему такое большое место в этом журнале и во всем остальном.
Но я горела желанием описывать романы, а между тем… до чего я была глупа! Все это могло бы быть еще гораздо более романтично… Словом, я была молода и неопытна, сколько бы я там ни разглагольствовала и ни мудрила; вот в чем нужно наконец сознаться, как бы это ни было неприятно.
А между тем мне уже слышатся слова: такая сильная женщина, как ты, не должна была бы давать повода к подобному самоосуждению…
29 декабря
На этих словах я заснула, положив голову на спинку дивана, и проснулась только сегодня в восемь часов утра. Это славно, проспать эдак ночь не на своей постели!..
Я совсем отбилась от своего искусства и ни к чему не могу прицепиться. Книги мои упакованы, я разлучена с моей латынью и моими классиками и чувствую себя совсем глупой… Один вид какого-нибудь храма, колонны итальянского пейзажа заставляет меня чувствовать прилив отвращения к этому Парижу – такому сухому, всеведущему, все пережившему, утонченному. Люди здесь так безобразны. Этот «рай» может быть раем для каких-нибудь высших организаций, но не для меня.
О! Теперь я наконец образумилась! Я вовсе не счастлива и вовсе не умею ловко устраивать свои дела… Мне хочется ехать в Италию путешествовать, любоваться горами, озерами, деревьями, морем… Вместе со всей нашей школой, с этими вечными узелками, дрязгами, разными домашними напастями, ежедневными мелкими стычками?.. О, нет, сто раз нет. Чтобы наслаждаться всеми благами путешествия, нужно подождать… а время уходит. Ну, что же, тем хуже!.. Я всегда смогу выйти замуж за какого-нибудь итальянского князя, как только захочу; подождем же… Дело-то, видите ли, в том, что, выйдя за итальянского князя, я могла бы предаться работе, потому что в денежном отношении я была бы независима. А пока останемся здесь и будем работать над живописью.
В субботу мой рисунок, сделанный в два дня, был найден удовлетворительным. Вы ведь понимаете, что только с каким-нибудь итальянцем я могла бы жить по собственному усмотрению и во Франции, и в Италии – какая прекрасная жизнь! Я разделяю свое время между Францией и Италией.
1879–1880
1879
2 января
Чего мне страстно хочется, так это возможности свободно гулять одной, уходить, приходить, садиться на скамейки в Тюильри и особенно в Люксембургском саду, останавливаться у художественных витрин, входить в церкви, музеи, по вечерам гулять по старинным улицам, – вот чего мне страстно хочется, вот свобода, без которой нельзя сделаться художницей. Думаете вы, что всем этим можно наслаждаться, когда вас сопровождают или когда, отправляясь в Лувр, надо ждать карету, компаньонку или всю семью?
А! Клянусь вам, в это время я бешусь, что я женщина! Я хочу соорудить себе парик и самый простой костюм, я сделаюсь таким уродом, что буду свободна, как мужчина. Вот та свобода, которой мне недостает и без которой нельзя достигнуть чего-нибудь серьезного.
Мысль скована вследствие этого глупого, раздражающего стеснения; даже переодетая и обезображенная, я свободна только наполовину: ходить одной женщине всегда опасно. А в Италии, в Риме? Не угодно ли отправляться осматривать развалины в ландо!
– Куда ты, Мари?
– Посмотреть Колизей.
– Но ведь ты его уже видела! Поедем лучше в театр или на гулянье, там будет много народу.
И этого достаточно, чтобы крылья упали.
Это одна из главнейших причин, почему между женщинами нет художниц. О низменное невежество! О дикая рутина! Не стоит даже говорить об этом!
Если даже сказать, что чувствуешь, тотчас посыплются обычные и старые насмешки, которыми преследуют женщин-апостолов. Впрочем, мне думается, что смех их справедлив. Женщины никогда не будут ничем иным, как женщинами! Но все-таки… если бы их воспитывали по-мужски, то неравенства, о котором я сожалею, не существовало бы, осталось бы только то, которое присуще самой природе. Но все-таки, что бы я ни говорила, надо кричать, не бояться быть смешной (я предоставляю это другим), чтобы через сто лет добиться этого равенства.
Я же постараюсь доказать это обществу, показывая собою пример женщины, которая сделалась чем-нибудь, несмотря на все невыгоды, которыми стесняет ее общество.
Пьер Огюст Ренуар. Молодая женщина читает. 1889
10 января
Вечером в мастерской был Робер-Флери.
Если живопись не принесет мне довольно скоро славы, я убью себя, и все тут. Это решено уже несколько месяцев… Еще в России я хотела убить себя, но побоялась ада. Я убью себя в тридцать лет, потому что до тридцати – человек еще молод и может еще надеяться на успех, или на счастье, или на славу, или на что угодно. Итак это приведено в порядок, и если я буду благоразумна, я не буду больше мучиться, не только сегодня вечером, но никогда.
Я говорю очень серьезно, и, право, я довольна, придя к окончательному решению.
11 января
В мастерской думают, что я много выезжаю; это, вместе с моим богатством, отделяет меня от других и не позволяет просить у них о чем бы то ни было, как они это делают между собою, например, идти к какому-нибудь художнику или посетить мастерскую.
Я добросовестно работала всю неделю до десяти часов вечера субботы, потом вернулась и принялась плакать. До сих пор я всегда обращалась к Богу, но, так как Он меня совсем не слышит, я не верю… почти.
Только тот, кто испытал это чувство, поймет весь ужас его. Из этого не следует, что я хочу проповедовать веру из добродетели, но когда больше обратиться не к кому, когда нет больше средств, остается Бог. Это ни к чему не обязывает и никого не беспокоит, а получается высшее утешение.
Существует он или нет, надо верить этому абсолютно или же быть очень счастливым, тогда можно обойтись и без этого. Но в горе, в несчастии, наконец, во всех неприятностях лучше умереть, чем не верить.
Бог спасает нас от бесконечного отчаяния.
Подумайте же – каково, когда к Нему обращаешься как к своему единственному прибежищу и не веришь!
13 января (Новый год в России)
Ну-с, по обыкновению, веселюсь до сумасшествия… Все воскресенье в театре. Утро в Gaité, довольно скучное, а вечер в Opéra-Comique. Ночь провела в мытье, писании, чтении, лежала на полу, пила чай.
Четверть шестого: таким образом, я рано поеду в мастерскую, вечером будет хотеться спать, на другой день встану рано, и потом это пойдет само собой. Не думайте, что я люблю эти жантильничанья, у меня к ним глубокое отвращение, глубокий ужас. Все равно, я встретила Новый год оригинально на полу со своими собаками… Весь день я работала.
14 января
После этого бодрствования я не могла проснуться раньше половины двенадцатого. Конкурс судили сегодня все три учителя в полном составе: Лефевр, Буланже и Робер-Флери. Я приехала в мастерскую только к часу, чтобы узнать прекрасный результат. На этот раз конкурировали старшие, и первое, что мне сказали при моем входе:
– Ну, m-lle Мари, идите же получать вашу медаль!
Действительно, мой рисунок был приколот к стене и на нем стояло:
«Награда». На этот раз я скорее ожидала, что гора свалится мне на голову. На этот раз было для меня совсем неожиданно. Надо вам получше объяснить важность и значение конкурсов.
Как все конкурсы, и эти полезны; но награды не всегда зависят от дарования, способностей лица, получающего их. Бесспорно, что Бреслау, например, рисунок которой стоит пятым, во всем выше Бане, первой после медали. Бане идет piano е sano, ее работа – хорошее и добросовестное ремесло, но она всегда на хорошем счету, потому что вообще работы женщин неприятно поражают слабостью и фантастичностью, когда они не представляют чего-нибудь совсем элементарного.
Моделью служил мальчик восемнадцати лет, который походит, если забыть форму и цвет, на кошачью голову, сделанную из кастрюли, или на кастрюлю в виде кошачьей головы. Бреслау делала много рисунков, за которые легко могла бы получить медаль; на этот раз ей не удалось. И еще внизу не ценят ни отделку, ни изящество (потому что изящество не имеет ничего общего с учением – оно врожденно, а отделка только дополнение к другим более серьезным качествам), а чистоту, энергию и чувство правды.
Трудности не принимаются в расчет, и они правы; так что посредственное письмо ставится ниже хорошего рисунка.
В конце концов, что мы здесь делаем? Мы учимся, и только с этой точки зрения и оцениваются наши рисунки. Эти господа нас презирают и довольны только, когда работа сильная, даже грубая, потому что этот порок положительно редко встречается у женщин.
Это работа мальчика, сказали обо мне. Тут есть нервы, это натура.
– Я тебе говорил, что у нас наверху есть один мальчишка, – сказал Робер-Флери Лефевру.
– Вы получили медаль, – сказал мне Жулиан, – и притом с успехом – эти господа не колебались.
Я послала за пуншем, как это принято внизу, и мы позвали Жулиана. Меня поздравляли, так как многие воображают, что мое самолюбие удовлетворено и теперь они избавятся от меня.
Вик, которая на предпоследнем конкурсе получила медаль, восьмая; я утешаю ее, повторяя ей столь верную и так точно выражающую все это фразу Александра Дюма: «Одна дурная пьеса не служит доказательством того, что таланта нет, между тем как одна хорошая показывает, что он есть».
Гений может сделать дурную вещь, но дурак никогда не сделает хорошей.
Пьер Огюст Ренуар. Клод Ренуар в костюме клоуна. 1909
16 января
Моя медаль представляет собой двенадцать месяцев работы. После страха, испытанного при встрече с королем в Неаполе, наиболее сильное впечатление я испытала сегодня при чтении l’Нотте-Femme.
Удивление, которое я почувствовала к Дюма, заставило меня думать несколько минут, что я люблю его, питаю неистовую страсть к этому пятидесятилетнему, никогда мной не виданному человеку. Я поняла Беттину и Гёте.
17 января
Если бы мне было шестнадцать лет, я была бы счастливейшей женщиной в свете.
– Итак, – сказал Робер-Флери, – мы получили награду!
– Да.
– Это хорошо, и вы знаете, что вы ее вполне заслужили.
– О! Я рада, что вы это говорите.
– Да, вполне заслужили, не только головой, представленной на конкурсе, но и вообще своей работой. Вы сделали большие успехи, и я рад, что вы получили медаль. Вы ее вполне заслужили.
Я покраснела и сконфузилась, слушая, что даже уменьшило для меня удовольствие это слышать, но тут же была тетя, которая дрожала больше меня.
22 января
Весь день я думала о голубом море, о белых парусах, о небе, залитом светом…
Вернувшись из мастерской, нашла П. Этот старый гриб говорит, что через неделю он едет в Рим. Пока он болтал, я чувствовала, что бледнею перед этой перспективой солнца, старого мрамора в зелени, развалин, статуй, церквей. Кампанья – пустыня, да, но я обожаю эту пустыню. И слава Богу, есть и другие, которые тоже обожают ее.
Эта дивная, артистическая атмосфера – этот свет, который, при одной мысли о нем, заставляет меня плакать от бешенства, что я здесь. Каких живописцев я знаю там!
Есть три категории людей. Первые любят все это, они артисты и не находят, что Кампанья ужасная пустыня, холодная зимой, грубая летом. Вторые, которые не понимают искусства и не чувствуют красоты, но не смеют в том признаться и стараются казаться такими, каковы первые. Эти мне не слишком не нравятся, потому что они понимают, что они наги, и хотят покрыться. Наконец, третьи – такие же, как вторые, но без этого хорошего чувства. Вот этих-то я не терплю, потому что они осуждают и леденят. Не чувствуя и не понимая ничего сами, они утверждают, что все это глупости, и гадкие, злые, отвратительные валяются на солнце.
3 февраля
Вчера ездила смотреть Assomoir и нахожу, что это очень хорошо. Но раньше, от четырех до пяти часов, до наступления сумерек, я пыталась сделать один эскиз. Надо хорошенько привыкнуть… Внизу делают это каждое воскресенье, им дают сюжет, и они должны на память сделать эскиз.
Я начинаю с самого начала: Адам и Ева. А теперь, раз начав, я буду продолжать так каждую неделю. Если я буду слушаться себя, мой талант не иссякнет. Как первая попытка, мой эскиз очень хорош…
Я покажу его Жулиану, вместе с другим, который я еще сделаю.
4 февраля
Сегодня вечером не было модели; я позировала, и в то время, как была на столе, пришел Жулиан, с которым я болтала о политике. Я люблю болтать с этим тонким человеком.
Когда я весела, я смеюсь надо всем и надо всеми в мастерской, декламирую, поднимаю все на смех, смешу, составляю политические проекты, а Жулиан говорит мне: «Продолжайте в таком роде и живопись… С такой обстановкой вы можете быть единственной в Париже». Он думает, что я умная, знающая, что я руковожу нашим салоном и имею влияние.
5 февраля Мы были в Версале в первый день президентства Гамбетты. Речь, им прочитанная, была принята с энтузиазмом; и будь она еще хуже, она была бы принята так же. Гамбетта читал дурно и отвратительным голосом. Он совершенно не походит на президента, и кто видел Греви, спрашивает себя, что станет делать этот человек. Чтобы быть президентом, недостаточно иметь талант, надо еще иметь особый темперамент. Греви президентствовал с какой-то механической правильностью и точностью. Первое слово его фразы походило на последнее. У Гамбетты есть усиления и ослабления, удлинения и укорачивания; движения головой вверх и вниз… Словом, он или говорит несвязно, или он очень хитер.
16 февраля
В субботу меня бранили.
– Не понимаю, почему вам, с вашими способностями, так трудно даются краски.
Да, я тоже не понимаю, но я парализована. Больше нечего бороться. Надо умереть. Боже мой, милостивый Боже! Больше, значит, нечего и не от кого ждать! Всего возмутительнее то, что я наполнила дровами камин без всякой надобности; мне совсем не холодно… когда, быть может, в ту же самую минуту есть несчастные, голодные, холодные, плачущие от нищеты. Эти размышления сразу останавливают слезы, которые я была готова проливать. Быть может, это только так кажется, но я думаю, что предпочла бы полную нищету, так как тогда уже нечего бояться, а с голоду не умирают, пока есть силы работать.
18 февраля
Сейчас я бросилась пред моей постелью на колени и просила у Бога справедливости, милосердия или прощения! Если я не заслуживаю своих мучений, пусть Он окажет мне справедливость! Если я совершила дурное, пусть простит! Если Он существует, если Он таков, как нас учат, Он должен быть справедлив, Он должен быть милосерд, Он должен простить!
У меня Он один, естественно, что я ищу Его и заклинаю не оставлять меня в отчаянии, не вводить меня в грех, не позволять мне сомневаться, богохульствовать, умереть.
Мой грех таков же, каково мое мучение; я, наверно, ежеминутно совершаю небольшие грехи, которые составляют ужасающий итог.
Сейчас я грубо ответила тете, но я не могла: она вошла в ту минуту, когда я плакала, закрыв лицо руками, и умоляла Бога сжалиться надо мною. О, какая я жалкая!
Не надо, чтобы видели, как я плачу; подумают, что я плачу от любви, а я при этом заплакала бы от досады.
19 февраля
Надо что-нибудь сделать, чтобы рассеяться. Я говорю это из глупого подражания тому, что пишут в книгах. К чему рассеиваться? Мучение даже развлекает, и потом, я не похожа на других и ненавижу все заботы о себе – нравственные и физические, потому что я ничему этому не верю.
Ницца. 24 февраля
Ну да! Я в Ницце!
Мне захотелось принять ванну воздуха, погрузиться в свет, услышать шум волн. Любите вы море? Я с ума схожу по морю, только в Риме я его забываю… почти.
Я путешествовала с Полем… Нас принимали за мужа и жену, что меня сокрушало в высшей степени. Так как наша вилла нанята, мы отправились в hotel du Parc; прежняя вилла Acqua Viva, где мы жили восемь лет тому назад. Восемь лет! Я путешествую для удовольствия.
Ночь прекрасна, и я удаляюсь одна до десяти часов вечера; я отправляюсь бродить по берегу и петь под аккомпанемент волны. Ни одной живой души, и так чудесно, после Парижа особенно. Париж!
22 февраля
Какая разница с Парижем! Здесь я просыпаюсь сама, окна открыты всю ночь. Я занимаю ту комнату, где брала уроки рисования у Бенза. Мне видно солнце, которое мало-помалу освещает деревья около маленького бассейна среди сада, так же, как тогда; моя маленькая классная оклеена теми же обоями, теми самыми, которые я сама выбирала. Погода чудная!
23 февраля
Вчера мы ездили в Монако. Никогда не смогу высказать, до чего мне отвратительно это гнездо кокоток. Я вошла только на десять минут в залу, но мне и этого было довольно, так как я не играла.
Слушали opera comique в новой зале, которая очень красива и в теперешнем вкусе.
С наступлением ночи я гуляю и восхищаюсь морем и небом. Какие краски, какая прозрачность, какая чистота, какое благополучие!
24 февраля
Я бываю счастлива, когда мне удается погулять одной. Волны по красоте ни с чем не сравнимы; прежде чем идти слушать Патти, я слушала их пение. После дождя была чудная, мягкая прохлада. Так хорошо для глаз смотреть в темную синеву неба, моря и ночи.
Париж. 3 марта
Я уехала вчера в полдень; была чудесная погода, и я готова была проливать искренние слезы, покидая эту чудную, несравненную местность.
Мне бы теперь хотелось уехать из Парижа, мой ум блуждает, я чувствую себя словно потерянной. Я ничего более не ожидаю, ни на что не надеюсь. Я в отчаянии; я предалась на волю Божию. Я думаю, думаю, ищу и, ничего не находя, испускаю один из тех вздохов, после которых чувствуешь себя еще более угнетенной, чем прежде. Скажите, что бы вы сделали на моем месте?
Теперь, когда я опять в этом беспощадном, безжалостном Париже, мне кажется, что я не вполне нагляделась на море, мне бы хотелось увидать его еще раз. Знаете, с нами наша собачка Богатель, раздавленная в спа и каким-то чудом выздоровевшая. Жаль было оставить ее там одну. Нельзя себе представить всю доброту, верность и привязанность этого животного! Она не расстается со мной, помещается всегда под моим стулом и прячется со смиренной и умоляющей миной, когда тетя начинает защищать от нее ковры.
Пьер Огюст Ренуар. Тилла Дюрье (Отилия Годефруа – 1880–1971). 1914
5 марта
С завтрашнего дня вновь принимаюсь за работу. Даю себе еще один год. Один год, во время которого буду работать еще усиленнее, чем прежде. К чему служит отчаяние? Да; это фраза, которую говорят, когда отчаяние уже до некоторой степени миновало, но когда вы еще не вполне освободились от него.
В ту минуту, когда решишь не искать больше, находишь. Во всяком случае, живопись не может быть мне вредной. Это потому, что мне никто не помогает!.. Напротив… Так, мой ангел, приискивай себе извинения, чтобы скрыть недостаток своих познаний.
Романы! Песни! О! Видите ли!!! Я пишу, думаю, воображаю, изобретаю, волнуюсь! А потом я останавливаюсь – и все та же тишина, то же одиночество, та же комната. Неподвижность мебели кажется мне каким-то вызовом и насмешкою. Я тут бьюсь в кошмаре в то время, как другие живут!!! Слава? Да, слава!
Я выйду замуж. К чему откладывать эту развязку? Чего я жду? С той минуты, как я отказываюсь от живописи, все пусто. В таком случае… ехать в Италию и там выйти замуж… Не в России, ибо купленный русский был бы слишком ужасен. Впрочем, в России я легко вышла бы замуж, особенно в провинции, но я не так глупа. В Петербурге? Ну, что ж, если бы мой отец захотел, он мог бы устроить так, чтобы мы провели там зиму…
Итак, будущую зиму в Петербурге! Я не думаю, что люблю свое искусство: это было средство, я покидаю его… Правда? О! Я ничего не знаю… Не отложить ли на год? То время, что остается до срока нашей квартиры?
То be or not to be?
Году недостаточно… Но по прошествии года будет видно, стоит ли продолжать… Но в Италии, если я услышу о молодых художницах, я буду беситься и горевать, и каково мне будет слышать похвалы какому-нибудь таланту, когда я буду в Неаполе или в Петербурге? И притом все это было бы основано на моей красоте. А если я не буду иметь успеха? Потому что недостаточно нравиться, надо нравиться именно тому, кому хочешь.
С той минуты, как искусство отложено в сторону, я допускаю возможность выезжать или даже возможность понравиться на улице или в театре… Я теряюсь во всем этом и иду спать. Право, Петербург мне улыбается. Ну, что ж, в двадцать лет я буду еще не слишком стара. В Париже нечего надеяться на богатых мужей, что же касается бедных, то Италия удобнее.
8 марта
Пробовала лепить, но я никогда не видела, как это делается, и ничего не знаю. Жардиньерки и вазы наполнены фиалками; они в земле и долго простоят у меня.
Голубой атлас, фиалки, свет, падающий сверху, арфа… Тишина, ни души… Не знаю почему, я боюсь деревни; я не боюсь, но я не стараюсь попасть туда… Да, наконец, это восхитительно в виде отдыха, а ведь я-то не утомлена! Я скучаю.
9 марта
Знаете ли вы, какое громадное утешение писать! Есть вещи, которые изводили бы вас вконец, если бы вы их не предназначали для прочтения. Я довольна, найдя такого человека, как Дюма, который придает значение качеству бумаги, чернил, пера. Потому что каждый раз, как какая-нибудь принадлежность мешает мне работать, я говорю себе, что это леность и что знаменитые живописцы не имели маний… Постойте… я понимаю, что внезапно воодушевленный Рафаэль рисовал на дне бочки свою Богородицу della segiola, но все-таки я думаю, что тот же Рафаэль прибег ко всем своим любимым орудиям, когда писал и оканчивал картину, и что если бы его заставили рисовать не сходя с места и не по его вкусу, он был бы так же раздражен, как я, простая смертная, в мастерской Жулиана.
12 марта
Я хочу повеситься! Какой бы грандиозной, невозможной и глупой ни казалась вам мысль, что я убью себя, все-таки придется так кончить.
Живопись не идет на лад. Я могла бы, конечно, сказать, что с тех пор, как я пишу красками, я работаю кое-как, с перерывами, но это безразлично. Я, которая мечтала быть счастливой, богатой, знаменитой, окруженной… вести, влачить такое существование!
М-lle Эльниц сопровождает меня, как всегда, но она, бедная, так скучна! Представьте себе совсем маленькое тельце, громадную голову с голубыми глазами… Видали вы деревянные головы модисток с розовыми щеками и голубыми глазами?.. Ну вот, те же черты и то же выражение. Прибавьте к этой наружности томный вид, который, впрочем, бывает также у всех таких манекенов, походку медленную, но такую тяжелую, что ее можно было бы принять за шаги мужчины, слабый, дрожащий голос; она роняет слова с удивительной медленностью. Она всегда где-то витает, никогда ничего не понимает сразу и потом, остановившись перед вами, созерцает вас с серьезным видом, который вас или смешит, или бесит.
Часто она выходит на середину комнаты и стоит, не сознавая, где она. Но что всего более раздражает, это ее манера открывать двери; операция эта длится так долго, что каждый раз у меня является страстное желание броситься и помочь ей. Я знаю, что она молода, ей девятнадцать лет. Я знаю, что она всегда была несчастна, что она в чужом доме, что у нее нет ни одного друга, ни одного существа, с которым она могла бы обменяться словом… Часто мне становится жаль ее, я смягчаюсь ее мягким пассивным видом; тогда я принимаю решение поболтать с ней… Но вот подите же! Она для меня так же противна, как были противны поляк и Б. Я знаю, что это дурно, но ее идиотский вид парализует меня.
Я знаю, что ее положение печально, но и у Аничковых она была такая же. Прежде чем попросить у меня какой-нибудь пустяк, например сыграть что-нибудь на рояле, она испытывает такие же колебания и муки, какие испытала бы я, прося пригласить меня на вечер или на бал.
У меня есть извинения, я не говорю здесь ни с кем, и она не составляет исключения.
Я работаю в мастерской, а дома за едой читаю журналы или книгу; это привычка, от которой мне трудно отделаться; я читаю, даже упражняясь на мандолине. Поэтому малютка не может думать, что с ней обращаются хуже, чем с другими; я каюсь, но иначе не могу!
В ее обществе я чувствую себя глубоко несчастной; переезды, которые я совершаю с нею в карете, были б настоящей пыткой, если бы я не забывала ее и не смотрела в дверцу, усиленно думая о чем-нибудь другом… Забыть ее легко, нет ничего незаметнее этого бедного существа, но также и ничего более раздражающего! Мне так бы хотелось, чтобы она нашла себе место, где была бы счастливее, и уехала бы отсюда. Мне стыдно признаться, что она портит мне мое одиночество и мою жизнь, полную отчаяния.
О! Эта живопись, если бы я могла чего-нибудь добиться!..
14 марта
Поль уехал против моего желания; я рассердилась и объявила, что он не уедет, он дал мне честное слово в противном. Я держала дверь; воспользовавшись минутой рассеянности с моей стороны, он ускользнул.
Это, видите ли, для того, чтобы доказать, что он не изменяет решений. Он поклялся уехать сегодня. Коротко сказать, это настойчивость слабохарактерного, который, не будучи способен на что-нибудь серьезное, высказывает стойкость в пустяках.
Это убило во мне жалость к нему. Я тотчас же взяла у тети двадцать франков, чтобы послать телеграмму (с жалобой) отцу в Полтаву, но в эту минуту Розалия пришла ко мне и сказала, что нельзя рассчитывать на молоденькую портниху, которая иногда делает мне платья, так как у нее тифозная горячка; работницы ее ушли, и она совсем одна; тут мне пришла одна идея. Я разорвала телеграмму и отослала двадцать франков этой женщине.
Нет более приятного ощущения, как делать добро, которое не принесет вам никакой выгоды. Я бы поехала навестить ее, я не боюсь тифа, но это имело бы вид, как будто я ищу благодарности; но если бы я не отослала ей эту безделицу тотчас, я могла бы ее истратить, и потом… надо признаться, это не доставило бы уже мне такого живого удовольствия. Ну, вот, я чувствую в себе неистощимое милосердие.
Облегчать горести других, когда никто на свете не облегчает моих. Это было бы даже assez chic, как вы думаете?
Пьер Огюст Ренуар. Купальщица, подбирающая волосы. 1893
15 марта
Если Робер-Флери, называемый за глаза просто Тони, будет меня бранить сегодня, я бросаю живопись. Вы знаете, сколько зависти и неприятностей стоили мне мои успехи. Каждый раз, когда у меня дело прихрамывало, мне казалось, что думают: «Ведь мы же вам говорили, это не могло продолжаться!» Первые полотна доставили мни похвалы, а потом, когда наступил трудный момент, я чувствовала слишком большое удовольствие других и слишком от этого страдала. Сегодня утром я ждала этого урока как чего-то ужасного, и пока это животное Тони поправлял другим и мало-помалу приближался ко мне, я читала молитвы с таким жаром, что Небо вняло им, потому что мною остались довольны. Боже, какая тяжесть спала с моего сердца! Быть может, вы не имеете понятия о таких волнениях? Представьте себе это молчание, за которым я чувствовала скрытую радость, если бы я оказалась униженной; на этот раз это было бы к лучшему, потому что в таких случаях друзья и враги одинаковы. В конце концов это миновало, и на будущей неделе я буду в состоянии перенести какое угодно напряжение.
16 марта
Коко умер, раздавленный тележкой у ворот.
Мне сказали это, когда я позвала его обедать. После того горя, какое причинила мне смерть первого Пинчио, эта потеря кажется мне менее тяжкой!.. Но если у вас есть собака, родившаяся в доме, молодая, глупая, игрунья, уродливая, добрая, милая, прыгающая вам на шею, смотрящая на вас своими беспокойными вопрошающими, как у детей, глазками, вы поняли бы, что мне жаль потерять мою собаку.
Куда идут души собак? Это бедное, маленькое существо, белое, ощипанное – потому что у него не было уже шерсти ни на заду, ни на плечах, – с одним огромным ухом, торчащим всегда кверху, а другим повисшим – одним словом, я в десять раз больше люблю уродливых собак, чем тех ужасных животных, за которых платят дорого.
Он походил на апокалипсического зверя или на одно из чудовищ на крыше собора Божьей Матери.
Пинчиа, кажется, не замечает потери сына; правда, она в ожидании нового семейства.
Я их всех назову Коко. Кажется, говорят, что у собак нет души, а почему?
1 апреля
Почему веселье должно быть приятнее скуки? Ведь стоит только сказать себе, что скука мне нравится и забавляет меня.
Очень ловкое заимствование мысли Эпиктета; но я могла бы ответить, что впечатления непроизвольны, и как бы ни был силен человек, он всегда имеет первое побуждение, после которого уж можно располагать собою по желанию, но оно будет всегда и несмотря ни на что. И гораздо натуральнее действовать под первым впечатлением, естественным, умеряя или увеличивая это испытанное чувство, чем перевертывать его, искажать и уродовать свои чувства, пока они не ассимилируются или, вернее, пока все не смешается, не изгладится и не перестанешь думать о чем бы то ни было… перестанешь жить… и вот до чего мне хочется довести себя. Было бы короче… Но нет, тогда все было бы кончено.
Самое гнусное на этом свете – это не принадлежать к нему, жить словно спрятавшись, не видеть интересных людей, не быть в состоянии обменяться мыслью, не видеть людей знаменитых или блестящих. Вот это смерть, вот это ад!
Теряя мужей, детей, разочаровываясь в друзьях, люди жалуются и упрекают судьбу, я, вероятно, поступила бы так же; все эти проявления в порядке вещей, и Бог ими не оскорбляется, а человек не оскорбляется этим, чувствуя, что это естественные и неизбежные следствия испытываемой скорби. Вздыхают, охают, но не говорят в глубине души, что этого не должно быть; сами того не замечая, принимают все как должное.
Вы воображаете, что я жалуюсь на тихую жизнь и жажду шума? May be, но это не то.
Я люблю уединение и даже думаю, что если бы я жила, то время от времени уединялась бы, чтобы читать, размышлять и отдыхать; тогда это прелесть, это тихое и чудесное блаженство. Во время сильных жаров бываешь очень рад спрятаться в погреб; но большая разница остаться там надолго или навсегда!
А если бы какой-нибудь насмешник захотел взять на себя труд смутить меня и спросил бы меня, согласилась ли бы я купить себе жизнь ценою смерти матери? На это я ответила бы, что не захотела бы этого даже ценою менее дорогой жизни, ибо естественно, что мать любят больше всех.
Я бы стала страшно раскаиваться, я не согласилась бы из эгоизма.
Эдгар Дега. Мадам Камю с веером. 1870
3 апреля Все-таки жизнь хороша, я танцую и пою, когда я одна, потому что полное одиночество есть большое наслаждение. Но какая пытка, когда оно нарушается семьей или прислугой!.. Но семья?.. Послушайте, сегодня утром, возвращаясь из мастерской, я вообразила себе, что счастлива, и не поверите, какую нежность я почувствовала ко всем моим, к этой доброй тете, представляющей собою воплощение преданности и самоотречения; но вот, я уже не чувствую себя счастливой.
Маленькая Эльниц отравляет мне жизнь. Я не пью больше чаю, потому что она его разливает, а каково есть хлеб, до которого она дотрагивалась!!! Я получу аневризм, бегая по лестницам как сумасшедшая, чтобы обогнать ее и хоть секунду пройти без нее. Когда я беру графин или уксусницу, я стараюсь брать их так, чтобы не коснуться того места, которое она трогала. У нее, несчастной, есть насекомые, а ее плачевный вид и черные ногти противны мне до тошноты.
5 апреля Искусственная зелень на камине загорелась, и зеркало треснуло. Но несчастья не потому случаются, что трескаются зеркала; это зеркала трескаются потому, что должны случиться несчастья; надо удовольствоваться предупреждением.
15 апреля Жулиан объявил о смерти нашего императора; на меня это так подействовало, что я ничего не понимала; все поднялись, чтобы взглянуть на меня; я побледнела, на глазах были слезы, губы дрожали. Милейший Жулиан, думая, что я всегда смеюсь надо всем, вздумал пошутить. Дело в том, что какой-то человек четыре раза выстрелил в императора, но не ранил его.
Жулиан бил себя по ляжкам и кричал, что никак не ожидал, что это меня так взволнует. Но ведь и я тоже.
18 апреля Отыскивала прическу времен империи или Директории, что заставило меня прочесть заметку о m-me Рекамье, и понятно, я почувствовала себя униженной при мысли, что у меня мог быть салон и что его нет.
Глупцы скажут, что я воображаю себя такой же красивой, как Рекамье, и умной, как богиня.
Предоставим глупцам говорить что им угодно и согласимся только, что я заслуживаю лучшей участи; доказательством может служить то, что все видящие меня думают, что я царствую и что я замечательная женщина. При этом я испускаю глубочайший вздох и говорю себе: «Быть может, настанет мой день…» Я привыкла к Богу, я пробовала не верить в Него – и не могла… это было бы полное разрушение, хаос; у меня только и есть, что Бог, Бог, Который обращает внимание на все и Которому я говорю обо всем.
21 апреля
В субботу с Лизен (шведка) я ездила к артистам в Батиньоль, близ кладбища Montmartre. И я открыла, что в Париже я ненавижу только бульвары и новые кварталы.
Старый Париж и те места, где я была в субботу, исполнены поэзии и тишины и глубоко поразили меня.
6 мая
Я очень занята и очень довольна; я и мучилась потому только, что у меня было много свободного времени, я это теперь вижу.
В продолжение двенадцати дней, т. е. трех недель, работаю от восьми до полудня и от двух до пяти, а возвращаюсь в половине шестого; я работаю до семи, а потом делаю какие-нибудь эскизы или читаю вечером, или же немного играю и в десять часов гожусь только на то, чтобы лечь в постель.
Вот существование, которое не позволяет думать, что жизнь коротка.
Музыка, вечер, Неаполь!.. Вот что волнует… Почитаем Плутарха.
7 мая
Если бы эта лихорадочная работа могла продолжаться, я признала бы себя совершенно счастливой. Я обожаю и рисование, и живопись, и композицию, и эскизы, и карандаш, и сепию; у меня не являлось даже тени желания отдохнуть или полениться.
Я довольна! Один месяц таких дней представляет собою шесть месяцев при обыкновенных успехах. Это так занимательно и так чудесно, что я боюсь, как бы это не прекратилось. В такие минуты я верю в себя.
12 мая
Я красива, счастлива и весела. Были в Салоне, потом болтали обо всем на свете, по поводу встречи с художником Беро, которого мы интриговали на балу и который прошел мимо нас, ничего не подозревая.
Картина Бреслау – большой прекрасный холст, посредине большое прекрасное кресло из золоченой кожи, в котором сидит ее подруга Мария в темно-зеленом платье, с чем-то голубовато-серым на шее; в одной руке портрет и цветок, в другой – пакет писем, перевязанный узенькой красной шелковой ленточкой. Очень простая аранжировка, сюжет понятный. Рисунок прекрасный и большая гармония тонов, которые производят почти чарующее впечатление.
Быть может, я скажу что-нибудь невозможное, но, знаете, у нас нет великих художников. Существует Бастьен-Ленаж; другие?.. это знание, привычка, условность, школа; много условности, огромная условность.
Ничего правдивого, ничего такого, что бы дышало, пело, хватало за душу, бросало в дрожь или заставляло плакать.
Я не говорю о скульптуре, я недостаточно видела, чтобы говорить. От всех этих жанровых картин, от этой претенциозной посредственности, от этих обыкновенных или хороших портретов становится почти тошно.
Сегодня я только и нашла хорошего, что портрет Виктора Гюго Бонна и потом, пожалуй, картину Бреслау…
16 мая
Салон – вещь дурная, потому что, видя эту мазню, эту настоящую мазню, которая там находится, начинаешь считать себя чем-то, когда еще ничего не достигнуто.
9 июня
По всей вероятности, это жаркая тяжелая погода делает меня никуда не годной. Все-таки я работала целый день… Я твердо решила не манкировать более работой, но я утомлена.
Сегодня вечером мы едем на бал в Министерство иностранных дел. Я буду нехороша собой; я сонная, мне очень хочется спать. Я не жажду успеха и чувствую, что буду дурна и глупа.
Я даже не думаю более о «победах». Я одеваюсь хорошо, но не вкладываю в это души и забываю думать о производимом мною впечатлении. Я ни на что и ни на кого не смотрю, и мне скучно. Только у меня и есть, что живопись. Я уже больше не умна и не остроумна; когда я хочу говорить, я становлюсь мрачна или говорю вздор, и потом… Надо мне сделать завещание, потому что долго это не может тянуться.
14 июня
Эту неделю я рисовала, а нашли, что это достаточно хорошо для меня. Довольно выездов!
15 июня
Вы увидите, что я еще не умерла!.. У меня бьется сердце, и меня лихорадит при мысли, что мне остается только несколько месяцев.
Жулиан уже заметил, что я начала серьезно работать, и он увидит, что я никогда не буду манкировать моими еженедельными композициями. У меня есть альбом, в котором я их набрасываю, нумерую и озаглавливаю, причем отмечаю день.
21 июня
Вот уже около тридцати шести часов я почти не перестаю плакать; вчера я легла совсем измученная.
За обедом у нас было двое русских, а также Божидар; но я была никуда не годна. Мой скептический и насмешливый ум куда-то исчез. Случалось мне терять родных, бывали другие горести, но кажется, я никогда не оплакивала никого так, как я оплакиваю того, кто только что умер. И это тем поразительнее, что, в сущности, это не должно бы было совсем меня огорчать, скорее даже, должно было бы меня радовать.
Вчера, в полдень, когда я уезжала из мастерской, Жулиан позвал горничную; она приложила ухо к трубе и тотчас же сказала нам несколько взволнованным голосом:
– Барышни, господин Жулиан велит сказать вам, что умер наследный принц.
Уверяю вас, что я вскрикнула совершенно искренно. Я села на ящике для углей. Все говорили в один голос.
– Немного потише, mesdames, это официальное известие, получена телеграмма. Он убит зулусами. Это мне сказал господин Жулиан.
Это уже всюду известно; когда мне принесли «Estafetto» с крупно напечатанными следующими словами: «Смерть наследного принца», я не могу рассказать вам, как у меня сжалось сердце.
Притом, к какой бы партии ни принадлежать, быть ли французом или иностранцем, невозможно не поддаться общему чувству оцепенения.
Эта страшная безвременная смерть действительно ужасна. Но я вам скажу то, что не говорит ни один журнал, – что англичане подлецы и убийцы. Это неестественно!.. Есть или один или несколько виновных, бесчестных, подкупленных. Разве подвергают опасности принца, надежду партии? Сына!.. Нет, я не верю, что есть хотя бы одно такое дикое животное, которое не смягчилось при мысли о матери!.. Самые ужасные несчастья, самые страшные потери всегда оставляют хоть что-нибудь, хоть луч, хоть тень надежды или утешения… Здесь ничего. Можно сказать, без боязни ошибиться, что это небывалое горе. Он уехал из-за нее, она ему надоедала, она его мучила, не давала ему даже 500 франков в месяц, делала тяжелой его жизнь. Дитя уехало в дурных отношениях с матерью.
Понимаете ли вы весь ужас этого? Видите ли эту женщину?
Есть матери столь же несчастные, но ни одна не могла почувствовать удар так сильно, потому что общее чувство увеличивает горе во столько же миллионов раз, сколько шуму, сочувствия, даже оскорблений вокруг смерти.
Чудовище, принесшее ей это известие, сделало бы лучше, если бы убило ее.
Была в мастерской, и Робер-Флери очень хвалил меня; но, вернувшись, я все-таки плакала, потом поехала к m-me G., где все, начиная с прислуги, в трауре и с заплаканными глазами.
Эти англичане всегда поступали гнусно с Бонапартами, которые всегда имели глупость сноситься с этой подлой Англией, к которой я чувствую ненависть и ярость.
Пьер Огюст Ренуар. Ваза с розами. Год неизвестен
Можно увлекаться, даже плакать, читая роман. Как же не быть взволнованной до глубины души этой страшной катастрофой, этим ужасным, раздирающим сердце концом!
В результате – целая партия без пристанища. Им нужно какого-нибудь принца, хоть для виду, я думаю, что они не разъединятся; некоторые, наименее скомпрометированные, присоединятся к республике, но другие будут продолжать поддерживать какой-то призрак. Впрочем, кто знает? Раз римский король умер, не подумают ли, что все кончено?
Умереть? В такую минуту! Умереть в двадцать три года, быть убитым дикарями, сражаясь за англичан!
Я думаю, что в глубине своих сердец самые жестокие из врагов чувствуют нечто вроде угрызений.
Я читала все журналы, даже те, которые бранятся; я обливала их слезами.
Будь я француженка, мужчина, бонапартист, я не могла бы быть более возмущенной, оскорбленной и безутешной.
Ну, подумайте только об этом юноше, которого заставили уехать глупые шутки грязных радикальных журналов, о юноше, которого окружили и убили!
Представьте себе его крики, отчаянные призывы, страдание, ужас и бессилие. Умирать в незнакомом углу, быть покинутым, почти преданным! И как можно было отправиться одному с англичанами!
А мать!
Но прочтите подробности. Его там оставили на три дня, и Каре уже слишком поздно заметил, что принца не хватает. Увидав зулусов, он спасся с другими, не заботясь о принце.
Нет, видеть это напечатанным в их газетах и знать, что эта нация не истреблена, что нельзя уничтожить их проклятый остров и этот холодный, варварский, вероломный, подлый народ! О! Если бы это было в России, да наши солдаты все бы полегли до последнего.
А эти подлецы покинули его, предали!
Но прочтите же подробности, неужели вы не поражены такою бесчестностью и подлостью!
Разве убегают, не защищая товарищей? И лейтенант Каре не будет повешен!
А мать, бедная императрица, бедная императрица! Все кончено, потеряно, уничтожено! Ничего более! Осталась только бедная мать в трауре.
23 июня
Я все еще под грустным впечатлением этого ужасного события. Публика, приходя в себя после всеобщего оцепенения, спрашивает, по какой непростительной неосмотрительности несчастный юноша был отдан дикарям.
Английская пресса возмущается подлостью спутников принца. А у меня, которая тут ни при чем, при чтении этих вопиющих подробностей захватывает дыхание, и слезы выступают на глаза. Никогда не была я так взволнована, а усилия, которые я делаю в течение дня, чтобы не плакать, стесняют мне грудь. Говорят, что императрица умерла сегодня ночью, но ни один журнал не подтверждает этой ужасной, но вместе с тем и утешительной новости. Меня бесит то, что так легко можно было предупредить это преступление, это несчастье, этот позор!
На улицах еще видны люди, пораженные случившимся, и некоторые продавщицы газет еще плачут. А я, я поступаю, как они, вполне признавая, что это необъяснимо и неестественно. Мне так бы хотелось надеть настоящий траур с крепом. Это соответствовало бы вполне моему настроению.
Что вам-то до этого? – скажут мне. Я не знаю, что мне до этого, только это меня очень огорчает.
Никого нет, я заперлась у себя, мне нечего рисоваться, и я заливаюсь слезами, что очень глупо, потому что это ослабляет глаза; я это чувствовала уже сегодня утром, когда рисовала. Но я не могу успокоиться, думая об этих фатальных, ужасных, страшных случайностях, окружающих эту смерть, и о подлости его спутников.
Так легко было избежать этого!
2 июля
Прочитав новые показания английских солдат, я приехала в мастерскую такая взволнованная, что пришлось выскоблить все написанное сегодня и уехать.
До субботы я успею сделать профиль Дины, которая настолько же похорошела, насколько я подурнела.
16 июля
Я необыкновенно утомлена; говорят, что так начинается тифозная горячка.
Я видела дурные сны. А если я умру? И вот я совсем удивлена, что меня не пугает смерть. Если существует другая жизнь, то, конечно, она будет лучше, чем та, которую я веду здесь. А если нет ничего после смерти?.. Тем более нечего бояться, а надо желать, чтобы кончились скука без блеска известности и мучения без славы. Надо мне сделать свое завещание.
Я начинаю работать в восемь часов утра, а к пяти часам бываю такая усталая, что весь вечер потерян; однако же надо мне написать свое завещание.
Пьер Огюст Ренуар. Две девушки. 1892
9 августа
Оставаться или ехать? Чемоданы уже уложены. Мой доктор, кажется, не верит в действие вод Mont-Dore. Не беда, я еду туда отдохнуть. По возвращении же оттуда мне придется вести невероятную жизнь.
Буду писать, пока светло, по вечерам буду заниматься скульптурой.
13 августа
Со вчерашнего дня с часу ночи мы в Дьеппе.
Неужели все приморские города одинаковы? Я была в Остенде, в Кале, в Дувре и теперь я в Дьеппе. Пахнет смолой, лодками, снастями, вощеным холстом. Ветрено, со всех сторон открыто, чувствуешь себя одиноким. Все напоминает морскую болезнь. Какая разница в сравнении с югом! Там есть чем дышать, там есть чем любоваться, там чувствуешь себя хорошо. Я даже предпочту такое зеленое гнездышко, как Соден, Шлангенбад и как мне представляется Mont-Dore.
Я приехала сюда подышать. Да, конечно так. Конечно, вне города и гавани воздух лучше. Мне не нравятся все эти северные моря. К тому же из всех здешних гостиниц море видно только из третьего этажа. О, Ницца, о, Сан-Ремо, о, Неаполь!! О, Сорренто!!! Вы не пустые слова, проводники путешественников не преувеличивают и не профанируют ваших красот, вы в самом деле прекрасны и божественны!!
16 августа
Мы много смеемся, и я порядочно скучаю, но смех в моем характере и не зависит от моего расположения духа.
Прежде я интересовалась гуляющими на водах – это меня забавляло. Теперь я дошла до полнейшего равнодушия. Мне безразлично, люди или собаки вокруг меня. Мне даже веселее, когда я одна играю или рисую. Я думала, что буду делать в этом мире совсем не то, что делаю, и раз я делаю не то, что думала, не все ли равно, что я думала?
19 августа
Взяла первую морскую ванну, и это, вместе со всем остальным, заставляет меня искать какого-нибудь предела для слез. Лучше быть одетой нищей, чем мещанкой. В конце концов, у меня несчастная натура: мне хотелось бы гармонии во всех мелочах жизни; часто вещи, которые считаются элегантными и красивыми, шокируют меня каким-то отсутствием художественности, особой грации и не знаю чего еще. Мне хотелось бы, чтобы мама была элегантная, умная или, по крайней мере, с достоинством, гордая…
Право, нельзя так мучить людей…
Не мелочи ли это?.. Все относительно, и если булавка причиняет вам такую же боль, как ножик, что скажут тогда мудрецы?
20 августа
Не думаю, что когда-нибудь я могла бы испытать такое чувство, в которое не входило бы честолюбие. Я презираю людей, которые не представляют из себя ничего.
Депп. 22 августа
О, великий Бальзак! Ты величайший гений на свете; куда ни пойдешь, везде видишь твои удивительные комедии! Кажется, что он постоянно жил и писал с натуры. Я только что видела двух женщин, которые своей фигурой, своей жизнью заставляют меня думать о Бальзаке, об этом великом, неистощимом, невероятном гении.
22 августа
Фатализм – религия ленивых и отчаявшихся. Я отчаялась и клянусь вам, я не дорожу жизнью. Я не сказала бы этой пошлости, если бы я это подумала на минуту, но я это думаю всегда, даже в веселые минуты. Я презираю смерть; если там нет ничего… то все это очень просто; если есть что-нибудь, я полагаюсь на Бога.
1 сентября
Надеюсь, вы заметили большую перемену, мало-помалу происходящую во мне. Я сделалась серьезной и благоразумной, и затем я прониклась глубже некоторыми идеями, я понимаю многие вещи, которые я не понимала и о которых я говорила при случае, без убеждения. Я поняла сегодня, например, что можно питать сильное чувство к идее, что ее можно любить, как любишь самого себя.
Преданность принцам, династиям трогает меня, воспламеняет, заставляет меня плакать и, быть может, заставила бы действовать под прямым влиянием чего-нибудь возбуждающего; но у меня в глубине есть какое-то чувство, которое мешает мне признаваться во всех этих душевных движениях. Каждый раз, при мысли о великих людях, служивших другим людям, мое удивление к ним начинает прихрамывать и рассеиваться. Это, быть может, род глупого тщеславия, но я нахожу почти презренными всех этих… слуг, и я тогда только действительно делаюсь роялистом, когда поставлю себя на место короля. Гамбетта – не вульгарный честолюбец; и если я искренно говорю это, то, значит, совершенно и сознательно убеждена в этом. Я еще понимаю, что можно преклоняться перед королями, но я не могу обожать или уважать человека, который перед ними преклоняется. Это не значит, что я не хочу, чтобы на меня падали лучи… нет; и само собой разумеется, что я была бы в восторге, если бы была женой какого-нибудь состоящего при посольстве или при дворе. (Только все эти господа без состояния и ищут приданого.) Но здесь я говорю о своих самых интимных чувствах. Я это всегда думала, но не всегда удается высказать то, что думаешь. Мне бы очень хотелось конституционного государства, как в Италии или в Англии, да и то!
Аристократия не разрушается и не создается в один день; она должна поддерживать себя, но не должна запираться в какую-то глупую цитадель.
Старый порядок есть отрицание прогресса и разума!!
Обвиняют людей, но это что!
Люди проходят, и от них можно отделаться, когда они не нужны. Уверяют, что республиканская партия полна испорченных людей. Я говорила вам несколько месяцев тому назад, как я смотрю на это.
Мне хочется ехать в деревню, в настоящую деревню, с деревьями, полями, парком. Хочется зелени, как в Шлангенбаде или даже в Содене, вместо этого глупого пустынного Дьеппа! И еще говорят, что я не люблю деревню! Я не люблю русской деревни, соседей, усадьбы и т. д., но я обожаю деревья и чистый воздух, и мне хочется провести две недели в зеленом и душистом уголке, как мне хотелось ехать в Рим. Но о Риме я почти никогда не говорю – это меня слишком возбуждает, а я хочу оставаться спокойной.
Все эти мысли о зелени пришли мне в голову, когда я была в Тюильри. Что же делать? Я люблю это так же, как ненавижу пустынные, плоские берега… Но попробуйте-ка поехать недели на две в Швейцарию с моей семьей – вот была бы скука. Суматоха, жалобы и все аксессуары семейного счастья.
1 октября
Вот журналы, я только что прочла двести страниц, составляющих первую книжку обозрения m-me Adam. Все это меня взволновало, и в четыре часа я уехала из мастерской, чтобы покататься в Булонском лесу в моей новой шляпе, которая производит сенсацию; но теперь мне это безразлично. Я нахожу m-me Adam очень счастливой.
Я думаю, вы достаточно знаете меня, чтобы понять, какое впечатление производят на мою бедную голову все эти жгучие вопросы.
Перехожу к республике и к новым взглядам. Вот сегодня, например, меня взволновала статья в «Nouvelle Revue»; кто знает, быть может, когда-нибудь я увлекусь принцем Наполеоном, которого я предпочитаю Наполеону III и который действительно представляет собой нечто. Нет, вы понимаете, что я не шучу и что я близка к этому, как никогда. Нужно идти со своим временем, особенно если действительно чувствуешь к тому желание и неотразимую потребность.
30 октября
Франция – прелестная и занятная страна: восстания, революции, моды, ум, грация, элегантность; одним словом, все, что дает жизни прелесть и неожиданность. Но не ищите в ней ни серьезного правительства, ни добродетельного человека (в античном значении слова), ни брака по любви… ни даже настоящего искусства. Французские художники очень сильны; но, кроме Жерико и в настоящее время Бастьен-Лепажа, им недостает божественной искры. И никогда, никогда, никогда Франция не произведет того, что произвела Италия и Голландия в известном отношении.
Прекрасная страна для волокитства и для удовольствия, но для остального?.. Но это всегда так, и другие страны со своими солидными и достойными уважения качествами иногда бывают скучны. В конце концов, если я и жалуюсь на Францию, то только потому, что я еще не замужем… Франция для молодых девушек страна скверная, и это не слишком сильно сказано. Нельзя вложить более холодного цинизма в союз двух существ, чем вкладывают здесь при соединении браком мужчины и женщины.
Торговля, промышленность, спекуляции сами по себе слова в известном смысле почтенные, но в применении к браку они отвратительны, а между тем нет более подходящих понятий для определения французских браков.
8 ноября
Кончила портрет привратницы: она очень похожа. Это была безграничная радость для всей семьи; сын, зять, внучата, сестры – все в восторге.
К несчастью, Тони не разделил этого увлечения. Сначала он сказал, что это недурно, а потом… дело идет не так хорошо, как должно было бы идти. Очевидно, что у меня нет таких способностей к живописи, как к рисованию. Рисунок, конструкция, форма – все это идет само собой. Умение владеть красками развивается недостаточно скоро. Он не хочет, чтобы я теряла свое время таким образом. Надо сделать что-нибудь, чтобы дело пошло иначе.
– Вы нетверды, это очевидно, и так как вы необыкновенно хорошо одарены и у вас очень большие способности, то это мне надоедает.
– Меня это забавляет еще менее, но я не знаю, что мне делать?
– Я давно уже хочу поговорить с вами об этом. Надо испытать все средства; быть может, все дело в том, чтобы отворить какую-нибудь дверь.
– Скажите же, что мне надо сделать – копию, гипс, nature morte? Я сделаю все, что вы скажете.
– Вы сделаете все, что я вам скажу; ну, хорошо! В таком случае мы можем быть уверены, что добьемся. Приходите ко мне в будущую субботу, и мы поболтаем.
Уже давно я должна была побывать у него в одну из суббот. Все ученицы это делают. Да, наконец, он такой славный.
Пьер Огюст Ренуар. Две читающие девочки. 1890–1891
Эдгар Дега. После купания. 1896
10 ноября
Вчера я была в церкви; я хожу время от времени, чтобы не сказали, что я нигилистка.
Часто, смеясь, я говорю, что жизнь есть только переход. Я бы хотела серьезно верить этому, чтобы утешиться во всех печалях, во всех жестоких горестях и недостойных страданиях.
И весь мир такой мелочный! Чувствуя это отвращение и изумление перед ежедневными мелочами, я открываю, что я чиста от всех этих пошлостей, вызывающих тошноту.
14 ноября
Если я не записываю ничего в продолжение нескольких дней, то это потому, что не нахожу ничего интересного.
До сих пор я была снисходительна к моим ближним; я никогда не говорила и не повторяла про них ничего дурного; я всегда защищала всякого, если на него нападали в моем присутствии, с корыстной мыслью, что, быть может, со мною будут поступать так же; я всегда защищала даже тех, кого не знала, прося Бога наградить меня за то; я никогда не хотела серьезно повредить кому бы то ни было, и если я хочу быть богатой или могущественной, то всегда у меня были мысли о великодушии, доброте, милосердии, перед которыми преклоняюсь; но это мне не удается. Я буду подавать двадцать су нищим на улице, потому что они вызывают у меня слезы, но мне кажется, что я делаюсь дурной.
А право, было бы хорошо остаться доброй, чувствуя себя раздраженной и несчастной. Но было бы также забавно сделаться злой, дурной, насмешницей, вредной… раз это безразлично для Бога, раз он не принимает ничего во внимание. В конце концов, приходится думать, что Бог не то, что мы воображаем себе. Бог, быть может, есть сама природа, и все события в жизни управляются случаем, который производит иногда странные совпадения и явления, которые заставляют верить в Провидение. Что же касается наших молитв, религий, обращений к Богу… меня ничто не может склонить к тому, чтобы считать их нужными.
Чувствовать себя достаточно сильной, чтобы сдвинуть небо и землю, и не быть ничем! Я не кричу, но все эти мучения выражаются на моем лице. Думают, что если молчишь, то значит, ничего; но такие вещи всегда всплывают на поверхность.
15 ноября
Я удивляюсь Золя; но есть вещи, которые все говорят, но которые я не могу решиться ни сказать, ни написать. Однако, чтобы вы не подумали каких-нибудь ужасов, я вам скажу, что самое сильное – это purge; мне досадно, неприятно, что я написала такое слово; я не колеблясь говорю «каналья» или другие слова в этом роде; но что касается этих маленьких невинных неприличий, то они мне противны.
28 декабря
Поль женится, я на это согласна. Сейчас скажу вам почему. Она его обожает и очень хочет выйти за него. Она из довольно хорошей семьи, из той же местности, соседка, довольно богатая, молодая, красивая и, судя по письмам, очень добрая. И потом ей этого очень хочется. Думают, что ей немного вскружило голову то, что Поль сын предводителя дворянства и что у него семья играет некоторую роль в Париже. Лишний повод для моего согласия. Благодаря небрежности Розалии, мое письмо не дошло до Поля. Мама согласилась; молодая девушка прислала ей следующую телеграмму: «Довольна, счастлива, на коленях благодарю маму, возвращайтесь скорее. Александра».
Говорят, что бедняжка боится парижской семьи, меня – такой гордой, высокомерной, жесткой.
Нет, я не скажу «нет»; хотя я никогда не любила так, как она любит, я все-таки не хочу причинять горя кому бы то ни было.
Легко сказать, я буду тем-то или тем-то, буду дурной, но как только представляется возможность сделать что-нибудь приятное одному из своих ближних, даже не приходится раздумывать. Если у меня есть мучения, то ведь, мучая других, я от них не избавлюсь. Я добра не по доброте, но потому, что это лежало бы у меня на совести и мучило бы меня. Настоящие эгоисты должны делать только добро; делая зло, сам становишься слишком несчастлив. Но, кажется, есть люди, которым нравится делать зло… У каждого свой вкус. Тем более что Поль никогда не будет ничем иным, как помещиком.
31 декабря
Во мне, должно быть, кроется болезнь. Я так нервна, что готова плакать из-за ничего. Уйдя из мастерской, мы отправились в магазины Лувра. Нужен Золя, чтобы описать эту раздражающую, противную, бегущую, толкающуюся толпу, эти выставленные вперед носы, эти ищущие глаза; я готова была упасть в обморок от жара и нервного раздражения.
Какой печальный конец года!.. Думаю, что лягу в одиннадцать, чтобы проспать полночь, вместо того чтобы скучать… за гаданьем.
1880
1 января
Утром была в мастерской, чтобы, начав работать с первого дня нового года, продолжать работать весь год. Потом поехали делать визиты и были в Булонском лесу.
3 января
Я кашляю так сильно, как только возможно; но каким-то чудом я от этого не подурнела, а приобрела томный вид, который очень к лицу.
5 января
Ну! Дело плохо!
Я снова принимаюсь за работу; но так как я не открыто прервала ее, то чувствую вялость и небывалое бессилие. А выставка в Салоне приближается! Говорила обо всем этом с великим Жулианом, и мы оба, особенно он, согласны в том, что я не готова.
Итак, я работаю два года и четыре месяца, не вычитая ни потерянного времени, ни путешествия; это мало, но это и страшно много. Я недостаточно работала, я теряла время, я отдыхала, я… одним словом, я не готова. «Булавочные уколы сводят вас с ума, но сильный удар дубины вы можете перенести». Это правда.
17 января
Доктор предполагает, что мой кашель чисто нервный, может быть, потому, что я не охрипла; у меня ни горло не болит, ни грудь. Я просто задыхаюсь, и у меня колотье в правом боку. Я возвращаюсь в одиннадцать часов, и хотя и желаю сильно заболеть и не ехать на бал, но все-таки одеваюсь. Я красива.
20 января
Вернувшись из мастерской, узнаю, что была m-me Ж., которая думала, что я не выхожу и которая сердита на то, что я не берегусь подобно старикам. И потом обещанные на завтра билеты отданы m-me Ротшильд.
Я бы дала десять тысяч франков за постоянный билет. Не просить билетов, быть независимой!
О, бесплодные порывы, бесплодные и жалкие интриги, бесплодные споры с семьей, бесплодные вечера, проведенные в разговорах о том, чего-бы мне хотелось, причем не делается ни единого шага, чтобы достигнуть цели! Бесплодные и жалкие усилия!
Эдгар Дега. Молодая женщина с ибисом. 1860–1862
31 января
Сегодня вечером в пользу пострадавших от наводнения в Мурции концерт и бал в l’Hotel Continental под покровительством королевы Изабеллы, которая после концерта сошла в бальные залы и пробыла там около часу. Я не особенно люблю танцевать, и мне не нравится находиться таким образом в объятиях мужчин. Но в общем мне это безразлично, так как я никогда не понимала волнений, причиняемых вальсом в романах. Танцуя, я думаю только о тех, которые смотрят на меня…
5 февраля
Я бы хотела всегда делать так, как сегодня: работать от восьми до полудня и от двух часов до пяти. В пять часов приносят лампу, и я рисую до половины восьмого. До восьми одеваюсь; в восемь обед, потом читаю и засыпаю в одиннадцать часов.
Но от двух до половины восьмого без отдыха немного утомительно.
10 февраля
Имела длинное совещание с отцом Жулианом по поводу Салона; я представила два проекта, которые он находит хорошими. Я нарисую оба, это займет три дня, и тогда мы выберем. Я недостаточно сильна, чтобы блестяще выполнить портрет мужчины, сюжет неблагодарный; но я в состоянии выполнить лицо (разумеется, в натуральную величину) и нагое тело, что, как говорит Жулиан, кажется мне заманчивым, как всем, чувствующим свою силу. Этот человек забавляет меня; он построил на моей голове целую будущность; он заставит меня сделать и то и это, если я буду умницей, а после нашего последнего разговора я умница. На будущий год это будет портрет какого-нибудь знаменитого человека и картина. «Я хочу, чтобы вы сразу выдвинулись из ряда».
В этом году я, «изобретательница», придумала следующее: у стола сидит женщина, опершись подбородком на руку, а локтем на стол, и читает книгу; свет падает на ее прекрасные белокурые волосы. Название: «Вопрос о разводе» Дюма. Эта книга только что появилась, но вопрос этот занимает всех. Другое, просто Дина, в белой юбке из crepe de Chine, сидящая в большом старинном кресле; руки свободно лежат, сложенные на коленях. Поза очень простая, но такая грациозная, что я поспешила набросать ее раз вечером, когда Дина случайно села так, и я просила ее позировать. Это немного походит на Рекамье, а чтобы рубашка не была слишком неприлична, я надену цветной кушак. Что меня притягивает в этом втором проекте – это полная простота и прекрасные места для красок. О! это истинный восторг!
Сегодня я на высоте. Я чувствую себя выдающейся, великой, счастливой, способной. Я верю в свою будущность. Словом, нечего говорить.
16 февраля
Были у королевы (Изабеллы), которая очень мила.
25 февраля
Бегая за моделями к Леони, я познакомилась со всем достоуважаемым семейством Бодуэн. Это люди прямо из Золя, из «Нана»; в конце концов, я даю это имя Леони. Смесь наивности… и удивительной извращенности.
В настоящее время она не позирует.
– Я позировала, пока не знала, что делаю, это нечестно – позировать, я в модном магазине, это мне не нравится, но он этого хочет.
– Кто это?
– Мой друг, ведь я живу с одним господином.
А ее сестра рассказывает мне, что она влюблена в него, особенно с тех пор, как он ее бьет.
3 марта
Теперь мне не следует выезжать по вечерам, чтобы бодро вставать и работать с восьми часов утра. Мне остается только шестнадцать дней.
12 марта
Итак, все мечты на этот год улетучиваются. Ждать еще?.. Целый год. Уж не думаете ли вы, что это немного? Все эти дни я страдаю от стольких вещей; я думала найти утешение в моей живописи, и вот вы видите, как все складывается. И разве принесение в жертву моей живописи, моего честолюбия может утешить или спасти Поля и его невесту? Бесполезные жертвы и несчастья переносятся втрое труднее.
19 марта
Без четверти двенадцать. Тони! Почему я не начала раньше? Это очень красиво, это восхитительно, как жаль и т. д. и т. д.; в общем, он меня успокоил, но надо будет просить отсрочки.
– Ее можно отослать такой, какова она теперь, но не стоит, вот мое искреннее задушевное убеждение. Просите отсрочки, и вы сделаете хорошую вещь.
Затем он засучил рукава, взял кисть, потрогал мою картину, чтобы дать мне понять, что не хватает свету. Но я переделаю… если я получу отсрочку. Он оставался более двух часов. Он славный малый, мне весело, я в таком прекрасном настроении, что меня очень мало заботит, что станется с картиной.
Жулиан в восторге от картины. «Вы настоящий мальчик, и ничем меня не удивите». Он говорил все эти прекрасные вещи при m-me Симонидес, которая приехала посмотреть мою картину, и при Розалии в мое отсутствие.
Нет, но моя живопись! Жулиан без ума от нее, Тони также находит, что тоны хороши, что все гармонично, красиво и энергично, а Жулиан прибавляет, что это прелестно и что колористки в мастерской глупы, думая, что тоны картины зависят от состава красок, «Молодец, какую милую вещь она написала, милую не в обыкновенном смысле слова, но очаровательную».
Ну, так я ее кончу!
Вот день, имеющий огромное значение.
21 марта
Был Сен-Марсо, давал мне советы. Он мне довольно нравится, хотя с ним чувствуешь себя как-то не по себе. У него рассеянный вид, ходит и говорит быстро. Это комок нервов. Я сама такая же, но тем не менее он оставил во мне чувство какой-то неловкости, хотя даже хвалил мою живопись. Только вот что, когда ничего не говорят, я недовольна, когда хвалят, мне кажется, что на меня смотрят как на девочку и смеются надо мной. В конце концов, я не так довольна, как была вчера, потому что правая рука слишком длинна… на два сантиметра длиннее, чем следует, и, строгая к рисунку, я чувствую себя униженной перед таким скульптором, как Сен-Марсо.
22 марта
Тони удивлен тем, что я сделала в такое короткое время:
– Ведь, в сущности, это в первый раз вы применяете свои знания?
– Разумеется.
– Ну так, знаете ли, это совсем недурно.
Он снимает свое пальто, схватывает кисть и пишет руку, ту, которая снизу, со свойственным ему беловатым оттенком.
Он тронул также волосы, которые я совершенно переделала, так же, как и руку. Он писал руку, это меня забавляло, и мы болтали. Все равно, исключая фон, все – и волосы, и плюш – все это написано грязно. Все это мазня. Я могу сделать лучше. Это мнение Тони; но тем не менее он доволен и говорит, что, если бы можно было ожидать отказа в Салоне, он бы первый посоветовал не посылать эту вещь. Он говорит, что удивлен тем, что я сделала: это закончено, хорошо задумано, хорошо построено, гармонично, элегантно, грациозно.
О! Да, да, да, но я недовольна телом! И подумать только, что скажут, что это моя манера!! Это мазня!
Уверяю вас, мне дорого стоит выставить вещь, которая не нравится мне по исполнению, которая так не похожа на мои обыкновенные работы… Правда, я никогда еще не сделала ни одной вещи, которая бы мне нравилась… Но все-таки это грязно, это мазня. Проклятая скромность! Проклятый недостаток доверия! Если бы я только не колебалась и не спрашивала себя: То be or not to be?.. Но не будем совершать новую нелепость, оплакивая уже совершившееся дело.
Не знаю, почему я думаю сегодня вечером об Италии. Это жгучие мысли, которых я всегда стараюсь избегать. Я прекратила свои римские чтения, потому что они меня приводили в слишком восторженное состояние, и занялась французской революцией и Грецией. Но Рим, но Италия… я схожу с ума при одной мысли об этом солнце, об этом воздухе, обо всем.
Но Неаполь… О! Неаполь вечером! Любопытно, что не вспоминаются тамошние люди. Я схожу с ума, думая, что могла бы ехать туда. Это настолько искренно, что меня волнуют даже декорации из Muette.
24 марта
Этот милый Тони поощрял меня очень сдержанно, но с большим чувством.
Если я захочу, то могу иметь большой талант, и вы понимаете, что под этим он подразумевает не то, что мама думает обо мне теперь. «Большой талант» – это он, это он, это Бонно, это Каролус, это Бастьен и т. д. Надо серьезно заниматься, дома писать торсы, чтобы приготовиться писать картины. Не думать ни о чем, кроме живописи, отдаться ей. Организация у меня прекрасная. Из женщин только Бреслау и я хорошо передаем нагое тело. Немногие художники делают такие академии, как она или я.
В общем, то, что я сделала в восемнадцать дней после двухлетней работы, удивительно, но не надо останавливаться на таких успехах, «не надо довольства собою».
Буду работать, буду прилежна и достигну того, к чему стремлюсь!
25 марта
Делаю последние штрихи на своей картине, но работать больше не могу, так как в ней или больше нечего делать, или же надо все переделать. Кончена картина, сделанная черт знает как. Высотой моя картина 1 метр 70 сантиметров вместе с рамой.
Молодая женщина сидит около плюшевого стола; стол цвета vieux vert, прекрасного оттенка. Она оперлась локтем правой руки и читает книгу, около которой лежит букет фиалок. Белизна книги, оттенок плюша, цветы около голой руки производят хорошее впечатление. Женщина в утреннем светло-голубом шелковом костюме и в косынке из белой кисеи со старинными кружевами. Левая рука упала на колени и едва удерживает разрезной ножик.
Стул плюшевый, темно-синий, а вместо фона бархатная драпировка. Фон и стол очень хороши. Голова в trois quarts. Волосы восхитительные, белокурые, золотистые, как у Дины, распушены; они обрисовывают форму головы и, полузаплетенные, падают по спине. В половине четвертого приехали м-г и m-me Гавини: «Мы подумали, что надо посмотреть картину Мари, прежде чем ее увезут. Ведь это отъезд первенца». Славные они люди. М-г Гавини в карете проводил меня во Дворец промышленности, и два человека понесли холст. Меня бросало то в жар, то в холод, и мне было страшно, словно на похоронах.
Потом эти большие залы, огромные залы со скульптурой, эти лестницы – все это заставляет биться сердце. Пока искали мою квитанцию и мой номер, принесли портрет М. Греви, сделанный Бонна, но его поставили около стены, так что свет мешал видеть его. Во всей зале только и были что картина Бонна, моя и какой-то ужасный желтый фон. Бонна мне показался хорош, а видеть здесь себя мне было очень страшно.
Это мой первый дебют, независимый, публичный поступок! Чувствуешь себя одинокой, словно на возвышении, окруженном водою… Наконец все сделано; мой номер 9091 «Mademoiselle Marie – Constantin Russ». Надеюсь, что примут. Послала Тони свой номер.
26 марта
Сегодня исповедовались, завтра будем причащаться.
Наш священник исповедует, как ангел, т. е. как умный человек: несколько слов, и все кончено. Впрочем, вы знаете мои взгляды на это. Я давно бы умерла с отчаяния, если бы не верила в Бога.
31 марта Я совсем разбита! Следовало послушаться Тони и отдохнуть. Поеду надоедать Жулиану, которому я дала следующую подписку: «Я, нижеподписавшаяся, обязуюсь каждую неделю делать голову и академический рисунок или же этюд в натуральную величину. Кроме того, я буду делать по три композиции в неделю, если же одну, то вполне отделанную. Если я нарушу вышесказанные условия, то я уполномочиваю г-на Родольфа Жулиана, художника, разглашать повсюду, что я не представляю из себя ничего интересного.
Marie Russ».
Эдуард Мане. Портрет Ирмы Бруннер в черной шляпе. 1880
7 апреля
Не забудем, что сегодня утром Жулиан объявил мне, что картина моя принята; любопытно, что я не испытываю никакого удовлетворения. Радость мамы мне неприятна. Этот успех недостоин меня.
22 апреля
Моя картина будет плохо поставлена и пройдет незамеченной или же будет очень на виду и тогда доставит мне много неприятностей: скажут, что это претенциозно, слабо… и не знаю, что еще.
26 апреля
Мне мало места в мастерской. Одна прелестная американка будет позировать для меня с условием, что портрет будет принадлежать ей.
Но ее личико так увлекает меня, что выйдет почти картина; я мечтаю о чудесной обстановке, и малютка так мила, что обещает мне позировать и удовольствоваться маленьким портретом, а картину оставит мне. Если бы у меня не было картины в Салоне, ученицы никогда бы не имели ко мне доверия и не стали бы позировать.
Жулиан думает, что Тони работал над моей картиной, а вы же знаете, что он сделал: в очень темных местах он прибавил несколько просветов, но я все добросовестно переделала; что же касается кисти руки, так он только набросал ее, а третьего дня я укоротила пальцы, вследствие чего пришлось все переделать. Так что нет даже его рисунка, он мне только показывал, как следует делать. В общем, я делала честно, но, впрочем, это неважно.
Сегодня вечером была у m-me П. Люди очень приветливые, но общество странное, туалеты допотопные, никого знакомых. Мне хотелось спать, и я сердилась. И мама вдруг представляет мне какого-то мексиканца или чилийца, который смеется. У него страшная гримаса, заставляющая его постоянно как-то зловеще смеяться; это тик, и при этом громадное расплывшееся лицо. У него 27 миллионов, и мама думает, что… Выйти за этого человека – это почти как за человека без носа; какой ужас! Я взяла бы некрасивого, старого, они все для меня безразличны, но чудовище – никогда!! К чему бы послужили миллионы с этим смешным человеком! Познакомилась со многими, но все это было снотворно. Любители, заставляющие вас своею музыкою скрежетать зубами; скрипач, которого не слышно, и какой-то красивый господин, поющий серенаду Шуберта, опершись рукой о рояль и бросая на всех победоносные взоры… Да это смешно! Не понимаю, как можно играть роль комедианта на большом вечере.
Женщины со своими прическами и этой пудрой в волосах, которая придает голове такой грязный вид, казалось, были в прическах из мочалы и вывалялись в соломе. Как это уродливо! Как это глупо!!
30 апреля
Моя американочка, которую зовут Алиса В., пришла в десять часов, и мы вместе отправились на открытие выставки. Мне хотелось пойти посмотреть одной, где помещена моя картина. Итак, со страхом отправляюсь в Салон, представляя себе всякие ужасы для того, чтобы они не случились на самом деле. Действительно, ничего похожего на мои предположения; моя картина еще не повешена, я едва нашла ее уже около полудня с тысячью других, тоже еще не помещенных холстов, но я нашла ее в той же внешней галерее, где мне было так неприятно видеть картину Бреслау…
Что касается Бастьен-Лепажа, то его вещь поражает при первом взгляде, как что-то пустое, как чистый воздух… Жанна Д’Арк, настоящая крестьянка, облокотившаяся на яблоню, держит одну из веток левой рукой, которая написана чудесно. Правая рука свесилась вниз. Это замечательная вещь. Голова закинута, шея вытянута и глаза ни на что не смотрят, ясные, дивные; голова изумительно эффектна; это настоящая крестьянка, выросшая среди полей, она ошеломлена, она страдает от своего видения. Окружающий ее сад, дом вдали – все сама природа, но… В общем недостаточно перспективы; все несколько выступает вперед и вредит фигуре. Лицо божественно, оно так взволновало меня, что и теперь, пока я пишу о ней, я едва удерживаюсь от слез.
Плафон Тони очень грациозен, очень хорош и нравится мне.
Вот все наиболее важное для меня, а теперь вот что: после завтрака мы должны были, по крайней мере я так думала, отправиться всей семьей в Салон. Но нет, тетя поехала в церковь, и мама тоже хотела ехать с ней, и, только увидав, что я удивлена и обижена, они согласились, но очень неохотно. Не знаю, сердятся ли они, что мне дали такое скромное место, но это не причина, и, право, жестоко иметь такую семью! Наконец, устыдясь своего равнодушия, или не знаю, как назвать это, мама поехала со мной, и мы, мама, Дина и я, встретили сначала всю мастерскую, потом много знакомых и, наконец, Жулиана.
1 мая
Только что выдержала одну из глупых и ненужных пыток! Завтра Пасха; сегодня вечером или сегодня ночью мы идем к заутрене, где собирается вся русская колония, начиная с посольства в полном составе. Все самое элегантное, самое красивое, все самое тщеславное выдвинется вперед. Общий обзор русских женщин и костюмов – прекрасный предмет для пересудов.
Хорошо; в последнюю минуту мне приносят мое новое платье, которое похоже на плохо сшитый мешок из старого грязного газа. Несмотря на это, я еду в нем, и никто не узнает, чего мне это стоило, как я сердилась! Талия испорчена криво и дурно сшитым корсажем, руки изуродованы слишком длинными и глупыми рукавами. Одним словом, что-то с претензией; к тому же я видела этот газ только днем, а вечером он кажется совершенно грязным!
Чего мне стоило не разорвать платья в клочки и не убежать из церкви! Быть некрасивой, не имея возможности быть лучше, еще ничего, но иметь возможность быть красивой и показаться таким чудовищем, как я сегодня! Понятно, дурное расположение духа отразилось и на волосах: они растрепались, а лицо горело. Это отвратительно.
6 мая
Много похвал от Жулиана за мою живопись.
7 мая
M-me Гавини сегодня опять приезжала к маме, чтобы сказать ей, что я слишком утомляюсь; это правда, но причиною тому не живопись, так как тогда стоило бы только ложиться спать в десять-одиннадцать часов, между тем я не сплю до часу и просыпаюсь в семь.
Вчера причиною этого был этот идиот С. Я писала, а он пришел изъясняться; потом он пошел играть с тетей, и тогда уже я стала ждать его, чтобы услыхать несколько глупых слов о любви. Он двадцать раз прощался, и двадцать раз я говорила ему «убирайтесь», и двадцать раз он просил позволения поцеловать руку; я смеялась и наконец сказала: «Да хорошо, целуйте, это мне безразлично». Итак, он поцеловал мою руку, и с горестью я должна признаться, что мне это было приятно не из-за личности, но из-за… тысячи вещей, ведь все-таки же я женщина.
Сегодня утром я еще чувствовала этот поцелуй, так как это не был банальный поцелуй вежливости.
О, молодые девицы!
Думаете ли вы, что я влюблена в этого мальчика с широкими ноздрями? Нет, не правда ли? Отлично, с А. было то же самое. Я сама горячила себя, чтобы влюбиться, а кардиналы и папа помогали тому… Я была экзальтирована, но была ли то любовь? О! Фи! Итак, так как мне не пятнадцать лет, так как я уже не так глупа, то я ничего не придумываю, и дело остается нормальным.
Поцелуй руки мне не нравится, особенно тем, что он доставил мне удовольствие; не надо быть женщиной до такой степени. Поэтому обещаю быть холодной с С.; но он такой славный, такой простой, что глупо было бы разыгрывать какую-нибудь комедию, не стоит, лучше обращаться с ним, как с Алексеем Б.
Я это и делаю. Дина, он и я сидели до одиннадцати часов. Дина слушала, а С. и я читали стихи и переводили на латинский язык. Я очень удивлена, что этот юноша так силен в латыни, по крайней мере, значительно сильнее меня; я многое забыла, а он отлично помнит все пройденные науки. Никогда я не думала, что он так образован. Знаете что? Я хотела бы сделать себе из него друга… Нет, для этого он мне недостаточно нравится, лучше пусть он будет членом семьи, к которому я равнодушна.
8 мая
Когда говорят тихо, я не слышу! Сегодня утром Тони спросил меня, видела ли я Перуджини, и я ответила «нет», не разобрав, что он сказал. Когда мне потом сказали об этом, я вывернулась, вывернулась плохо, говоря, что я действительно никогда не видала его и что лучше было прямо признаться в своем невежестве.
10 мая
Мне нравится идти наперекор моим склонностям. Я еще никогда этого не достигала; я даже не пробовала бороться; все ограничивается заранее принятым решением, планом, которому никто никогда не следует. Все делается под впечатлением минуты, как понравится и как придется. О, дипломатия!.. Может быть, это просто оттого, что мне неприятно поступать против своего характера, и я ему подчиняюсь.
16 мая
Сегодня утром одна я ездила в Салон; там были только те, у кого есть билеты. Очень внимательно смотрела на «Жанну д’Арк» и особенно на «Милосердного самарянина» Моро. Я села с лорнетом против Моро и изучала его. Эта картина доставила мне наиболее полное удовольствие в жизни. Ничто в ней не коробит, все просто, правдиво, хорошо; все натурально и ничем не напоминает ужасной и условной академической красоты. Смотреть на картину – наслаждение; даже голова осла хороша, пейзаж, плащ, ногти на ногах. Так удачно, так верно, так хорошо. А «Арлекин» Сен-Марсо!
Когда в прошлом году закрылся Салон, я думала, что его почетная медаль вскружит мне голову, произведения же, чтобы успокоить меня, больше не было. Через полгода я была уверена, что преувеличила Сен-Марсо, но его «Арлекин» снова открыл мне глаза. В первый день я остановилась как вкопанная, не понимая, чье бы это могло быть. Такая неблагодарная вещь – и так талантливо! Это более чем талантливо. Это настоящий художник, оттого-то о нем и не говорят так много, как о других… скульптурных фабрикантах: они все фабриканты перед Сен-Марсо.
Пьер Огюст Ренуар. Натюрморт с персиками. 1881
25 мая
Г-жа Г. приезжала для своего портрета; потом я составила композицию. Сюжет увлекает меня – Мария Магдалина и другая Мария у могилы Христа. Только ничего условного; надо сделать так, как думаешь, что это было, надо чувствовать то, что делаешь.
27 мая
Как чудесно утром! Внимание, я начинаю…
Во-первых, я приветствовала начинающийся день гармоническими звуками арфы, как это делали жрецы Аполлона, а потом взялась за моих жен перед гробом Христовым.
Мне очень хочется ехать в Иерусалим и там нарисовать эту картину с тамошних лиц, на воздухе.
1 июня
Знаете ли, атеисты должны быть очень несчастны, когда чего-нибудь боятся; я же, когда чего-нибудь боюсь, тотчас призываю Бога, и все мои сомнения исчезают. Я не стремлюсь украшать себя добродетелями, которых у меня нет. Я нахожу, что уже слишком самонадеянно перечислять свои недостатки и низости.
В 1873 году на Всемирной выставке в Вене, во время самой сильной холеры, я была под защитой следующих стихов из псалма ХС, которые привожу здесь:
«Крылами своими осенит тебя, и под крылами Его укроешься; истина Его есть щит и ограждение.
Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем.
Язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Близ тебя падет тысяча и тьма по правую руку твою, но тебя не коснется».
Вчера я думала об этих божественных строках и перечла их с энтузиазмом; с таким же энтузиазмом, как в детстве; я не предвидела, что они пригодятся мне сегодня.
Сделала свое завещание и положила в конверт со следующим адресом: «Господину П. Башкирцеву. В Полтаву. В собственные руки. В Россию».
С. остался. Сначала это была простая болтовня. Тетя не покидала меня, она надоедала мне, я села за рояль, и он сказал мне вещь, от которой я похолодела: его сестры женят его, но он не любит той, на которой женится.
– Тогда не женитесь, поверьте мне, это безумие.
Потом мы играли в карты, в дурачки, любимую игру русских лакеев.
«Вы женитесь на m-me Б.?» – написала я ему на лежавшей тут же тетради.
«Нет, она еще старше», – отвечал он мне таким же способом.
Мы исписали шесть страниц подобными фразами; их было бы интересно сохранить.
Он меня любит, он меня обожает, и все фразы вертелись около этого жгучего предмета.
Я запрещаю ему шутить; он отвечает, что это я смеюсь над ним. Тетя время от времени говорит, что я сумасшедшая, что мне пора спать, а я ей отвечаю, что я больна и скоро умру.
После этой оригинальной корреспонденции я почти уверена, что он меня любит; сегодня вечером его взгляды были очень многозначительны, равно как и пожатия руки, под предлогом желания узнать, нет ли у меня лихорадки.
В конце концов, это ни к чему не ведет, но тем не менее я бы хотела удержать при себе этого мальчика, даже еще не зная, что я из него сделаю. Я скажу ему, чтобы он попросил у мамы, этим будет выиграно время; мама ему откажет, еще отсрочка… А дальше я ничего не знаю. Это уже нечто, когда не знаешь, что будет дальше.
14 июня
Я перечла прошлое, к которому отношусь с восторгом.
Я помню, что когда входил К.[17], то на меня находило какое-то помрачение; я не могла бы определить ни его манеры держаться, ни моих впечатлений… Все мое существо стремилось к нему, когда я протягивала ему руку. И потом я чувствовала себя ушедшей, улетевшей, освободившейся от моей телесной оболочки. Я чувствовала у себя крылья и потом бесконечный ужас, что часы идут слишком быстро. И я ничего не понимала! Жаль, что характер этих записок не позволяет мне выделить наиболее замечательные факты, все смешивается. И потом, правду говоря, я немного притворялась, занимаясь всем на свете, с целью показать, что существую и вне К. Но когда я хочу пережить вновь все те события, я всегда бываю неприятно поражена, находя их окруженными другим. Не так ли, не правда ли, бывает и в жизни?
Между тем есть вещи, события, люди, которые хотелось бы выделить и запереть в драгоценный ящичек золотым ключом.
– Когда вы почувствуете себя выше его, он не будет более иметь над вами власти, – говорит Жулиан.
Да разве не желание сделать его портрет заставило меня работать?
18 июня
Работала целый день. Моя модель так красива и так грациозна, что я со дня на день откладываю работу над ней; подготовка сделана хорошо, и я боюсь испортить. Настоящее волнение, когда приступаешь, но, кажется, дело идет очень хорошо.
Вечером был С.[18]. Я приписывала любви его расстроенный вид, но оказалась еще другая причина; он должен ехать или в Бухарест, или в Лиль по делу. Но кроме того и особенно – женитьба. А! Но он ее желает. Я смеюсь, говорю ему, что он тщеславен и дерзок, и объясняю, что у меня нет приданого, потому что мое приданое пойдет на булавки, а мой муж должен дать мне помещение, должен кормить, вывозить меня.
Бедняга, мне все-таки жаль его.
Не думаю, чтобы он был в восторге от своего отъезда…
Он сто раз целовал мои руки, умоляя меня думать о нем:
– Вы будете иногда думать обо мне, прошу вас, скажите мне, будете думать обо мне?
– Когда будет время!
Но он так просил, что я принуждена была сказать, хотя вскользь – да. О! Прощание было трагическое, с его стороны, по крайней мере. Мы были около дверей залы, и, чтобы у него осталось хорошее воспоминание, я дала ему серьезно поцеловать мою руку; потом мы так же серьезно пожали друг другу руки.
Я промечтала добрую минуту. Мне будет недоставать этого мальчика. Он будет мне писать.
Вы знаете, что уже несколько дней Париж сходит с ума от маленьких свинок. Они делаются из золота, из эмали, из камней, изо всего на свете. Я два дня носила медную. В мастерской думают, что благодаря ей я нарисовала так хорошо. И вот бедный Казимир увез в воспоминание обо мне маленькую свинку.
Мне очень хочется дать ему Евангелие от Матфея с такой надписью: «Это лучшая книга, которая соответствует всем расположениям души. Не надо быть сентиментальным или святошей, чтобы найти в ней успокоение и утешение. Берегите ее как талисман и читайте из нее каждый вечер по странице – в воспоминание обо мне, которая, быть может, причинила вам горе, и вы поймете, почему это лучшая книга в мире». Но заслуживает ли он этого? К тому же он не поймет Матфея.
27 июня
Утром занималась лепкой. Нахожусь в самом удрученном настроении, но надо казаться веселой, и от этой скрытой тоски я глупею. Я не знаю, что говорить, смеюсь через силу, выслушиваю пошлости, удерживаю слезы.
О, тоска, тоска!
Вне моего искусства, за которое я взялась из честолюбия и каприза, которое я продолжала из тщеславия и которое теперь обожаю, вне этой страсти – ибо это страсть – у меня или нет ничего, или самое ужасное существование! Ах, какое мучение! И ведь есть же счастливые люди! Счастливые – это слишком, я бы удовлетворилась сносным существованием: с тем, что я имею, это было бы счастьем.
30 июня
Вместо того чтобы рисовать, я беру мисс Г., и мы едем на Севрскую улицу и проводим около часу против дома иезуитов. Но уже было девять часов, и мы видели только следы беспорядка.
Я нахожу это рассеяние глупым. Влияние иезуитов значительно увеличится; если ненавидишь их учение, то надо иначе браться за дело… И так трудно взяться за него, что лучше уж не трогать.
Я не так ненавижу иезуитов, как боюсь их, ибо не знаю, что они представляют из себя в действительности. Да разве знает кто-нибудь, что такое они в действительности!
Нет! Но трудно сделать что-нибудь глупее и бесполезнее этого возмущения. Как допустил это Гамбетта? Одну минуту я думала, что он допустил это, чтобы потом победоносно вмешаться в дело.
16 июля
Жулиан находит, что мой рисунок очень, очень хорош, и А.[19] принуждена сказать, что это недурно, потому что Жулиан строже, чем Тони.
Я с ума схожу от похвал Тони.
Завтра мы уезжаем, и я испытываю все мелкие неприятности кануна отъезда, укладки и т. п.
Хорошо, что я уезжаю, а то дело в мастерской пошло бы хуже. Теперь я в ней бесспорный начальник. Я даю советы, я забавляю, моими произведениями восхищаются; я кокетничаю тем, что я добра, мила, предупредительна, заставляю любить себя, сама люблю своих подруг и утешаю их фруктами и мороженым.
Однажды, когда я вышла, все тотчас же начали хвалить меня. Мари Д., рассказывая это, не могла прийти в себя от удивления, а Маделена – вы ведь знаете, как она рисует, – хочет начать писать и стать под мое покровительство для получения советов. Правда, я преподаю прекрасно; я была бы очень довольна, если бы рисовала так же, как преподаю. Вообще всегда бывает так с превосходным профессором. Жулиан очень жалеет, что я не могу продолжать этой головы, которая «годилась бы для выставки»: «Это характерно, естественно, сильно, живо».
У малютки преоригинальная головка: очень большие глаза с огромными ресницами, огромные, немного удивленные брови, вздернутый носик, хорошенький рот, цвет лица очаровательный; она молода, но в ней есть что-то отцветшее, однако это не делает ее несимпатичной. Золотистые волосы, кажется, подкрашены, но прелестно падают в виде львиной гривы, выделяясь на темно-зеленом фоне.
Эдгар Дега. Разговор. 1895
17 июля
Мне хотелось бы ехать в деревню, в настоящую деревню, где нет никого, но и этого мало. Истинным счастьем была бы возможность удаляться время от времени в необитаемую страну, на острова, где растут большие неизвестные деревья, к Полю и Виржинии. Совсем одной встречать восход солнца, наслаждаться ночью в абсолютной тишине. Хочется в дикую страну, где деревья громадны, небо чисто, горы золотятся солнцем… воздух, о котором даже нельзя иметь понятия, воздух, который сам по себе уже есть наслаждение, не похожий на тот смрад, которым дышат здесь… Но для такого существования нужны деньги, а я, в этом полном уединении, не хотела бы видеть даже любимого человека.
Мон-Дор. 20 июля
В четыре часа В. приехал проститься со мною еще раз, и мы уехали.
В понедельник в шесть часов утра приехали в Клермон, в три часа – в Мон-Дор. От Клермона до Мон-Дора шесть часов езды на лошадях, что я, впрочем, предпочитаю железной дороге.
Только сегодня я несколько освоилась, особенно потому, что я нашла интересные вещи для живописи.
21 июля
Начала свое лечение. За мною являются закрытые носилки. Надевается костюм из белой фланели и плащ с капюшоном.
Затем следуют ванна, души, воды, вдыханье. Я подчиняюсь всему; я лечусь в последний раз, и то потому только, что боюсь оглохнуть. Моя глухота стала гораздо меньше, почти совсем прошла.
22 июля
У меня такая же шляпа, как у здешних крестьянок; она мне очень идет: я в ней похожа на головку Грёза. Я телеграфировала, и мне прислали батистовых платьев, а тут вдруг стало холодно. Я начинаю обращать внимание на пейзаж; до сегодняшнего вечера я была раздражена дурной пищей, раздражена, потому что еда – занятие недостойное, от которого нельзя зависеть.
23 июля
Кто возвратит мне мою молодость, растраченную, разбитую, потерянную? Мне еще нет двадцати лет, а между тем недавно я нашла у себя три седых волоса; я горжусь ими, это видимое доказательство, что я не преувеличиваю. Если бы не мое детское лицо, я казалась бы старухой. Разве в мои годы это естественно?
Нет! Знаете ли, такая буря поднимается в глубине души, что лучше покончить со всем этим сразу, сказав себе, что всегда есть возможность разбить голову прежде, чем меня начнут жалеть.
У меня был замечательный голос, это был Божий дар, я его потеряла. Пение для женщины то же, что красноречие для мужчины: это безграничная сила.
Теперь мне лучше на несколько дней, во время которых огорчения будут накопляться, накопляться, накопляться, затем снова взрыв, потом упадок, и так всегда!
31 июля
Вчера начала картину. Это очень простая вещь по обстановке. Двое детей сидят под прекрасными деревьями, стволы которых поросли мхом; вверху картины есть просвет, и через него видна светло-зеленая местность. Мальчик лет десяти сидит en-face с учебной книгой в левой руке, глаза устремлены в пространство. Девочка лет шести одной рукой тянет его за плечо, а в другой – держит грушу. Ее головка в профиль, и видно, что она зовет его. Дети видны только до колен, так как все сделано в натуральную величину.
Перед отъездом из Парижа я читала «Индиану» Жорж Санд. И уверяю вас, что это неинтересно. Прочтя только «Petite Fadette», два или три других романа и «Индиану», быть может, я не должна была бы выводить заключения… Но до сих пор мне не нравится ее талант.
Между тем что-нибудь заставило же ставить ее так высоко… Но мне это не нравится.
Это то же самое, что «Святые девы» Рафаэля; то, что я видела в Лувре, мне не нравится. Я видела Италию прежде, чем могла судить, и после того, как я видела, мне все-таки не нравится. Это ни небесное, ни земное, а как-то условно и картонно.
Думала кататься верхом… но у меня нет никаких желаний, и когда я провожу целый день без работы, то у меня являются страшные угрызения совести. Есть дни, когда я ничего не могу делать; тогда я говорю себе, что если бы я хотела, то могла бы, и тогда начинаются ссоры с самой собой, и все кончается проклятием всему, решением, что не стоит жить, и я начинаю курить и читать романы.
17 августа
Моя картина на открытом воздухе брошена, так как дурная погода. Я делаю другую. Сцена происходит у столяра: налево женщина примеряет мальчику лет десяти костюм enfant de choeur; маленькая девочка, сидя на старом сундуке, изумленно смотрит на брата; в глубине, около печки бабушка, сложив руки и улыбаясь, смотрит на мальчика. Отец, сидя у станка, читает и искоса посматривает на красную одежду и белый стихарь. Фон очень сложный: печка, старые бутылки, инструменты, масса деталей, которые, конечно, можно сделать наскоро.
У меня нет времени кончить, но я рисую эту картину, чтобы освоиться с подобными вещами. Люди во весь рост, полы, другие подробности ужасали меня, и я только с отчаяния взялась бы писать картину внутренности дома. Теперь мне это уже знакомо, не потому, что я могу сделать хорошо, но потому, что я больше не боюсь, – вот и все.
У меня никогда недоставало настойчивости довести произведение до конца. Происходят события, у меня являются идеи, я набрасываю свои мысли, а на следующий день нахожу в журнале статью, похожую на мою и делающую мою ненужной; таким образом, я никогда не кончаю, даже не привожу в должное состояние. Настойчивость в искусстве показывает мне, что нужно известное усилие, чтобы победить первые трудности, – только первый шаг труден. Никогда еще эта пословица не поражала меня своей правдивостью так, как сегодня.
И потом, так же – и особенно – важен вопрос, в какой находишься среде. Моя среда может быть определена, несмотря на всевозможные стремления к лучшему, как среда оскотинивающая.
Члены моей семьи по большей части люди необразованные и ординарные. Потом, m-me Г. по преимуществу светская женщина. И потом, свет, т. е. приходящие в гости; разговаривают мало, а тех, кто бывает чаще, вы знаете: М… и т. п. бесцветные молодые люди. Поэтому уверяю вас, что если бы я не оставалась так часто сама с собой и с книгами, то была бы еще менее интеллигентна, чем теперь. Кажется, что я бью стекла, а подчас никому не может быть труднее проявить себя. Часто я становлюсь глупа, слова толпятся на языке, а говорить не могу. Я слушаю, улыбаюсь как-то неопределенно, и это все.
19 августа
Сегодня утром я никуда не годна: глаза и голова утомлены. И сказать, что я уезжаю только в субботу! Сегодня я не успею, завтра пятница; если же я поеду в пятницу, то буду думать, что все неприятности, которые предстоят мне, происходят именно от этого.
Париж. 22 августа
8 часов. Каким красивым и удобным кажется мне мой рабочий кабинет!
Прочитала все еженедельные иллюстрированные журналы и другие брошюры… Теперь все по-прежнему, как будто бы я и не уезжала.
Два часа пополудни. Утешаюсь мыслью, что мои огорчения по своим размерам равняются огорчениям всех других художников, ведь мне же не приходится выносить бедность и тиранию родителей… А на это всегда ведь жалуются художники. Выйти из моего положения я могу не талантом, а созданием чего-нибудь… гениального; но такие создания и у гениев являются не через три года учения, особенно теперь, когда столько талантов. У меня хорошие намерения, и вдруг я делаю такие глупости, как во сне… Я презираю себя и ненавижу, как презираю и ненавижу и всех других, в том числе и моих… Вот так семейка!.. Подумайте, тетя употребляет сотни маленьких хитростей, чтобы усадить меня в вагоне с той стороны, где окно не открывается: я согласилась, не желая бороться, но с условием, что другое окно будет открыто; но только я задремала, как она уже закрыла его. Я проснулась и сказала, что выбью стекла каблуками, но в это время мы уже приехали. А здесь за завтраками страдальческие взгляды, драматически сдвинутые брови – все из-за того, что я не ем. Очевидно, эти люди меня любят… Но мне кажется, однако, что следовало бы лучше понимать, если любишь!..
Искреннее негодование делает человека красноречивым. Мужчина, негодующий или воображающий, что он негодует на толпу, выходит на трибуну и составляет себе известность. Женщина не имеет в своем распоряжении никакой трибуны; кроме того, ее осаждают отец, мать, свекор, свекровь, все тому подобные, которые изводят ее целый день; она негодует, она красноречива перед своим ночным столиком; в результате – нуль.
И потом… мама всегда говорит о Боге: если Бог захочет, с Божьей помощью. Бога призывают так часто только для того, чтобы избавиться от разных мелких обязанностей.
Это не вера, даже не набожность: это какая-то мания, слабость, подлость ленивых, неспособных, беспечных! Что может быть грубее, как прикрывать все свои слабости именем Бога? Это грубо, это даже более – это преступно, если действительно веришь в Бога. Если чему-либо суждено быть, то это будет, говорит она, чтобы избежать труда двинуться с места… и упреков совести.
2 сентября
«Он читал очень много, он давал себе то глубокое и серьезное образование, которое можно получить только самому и которому предаются все талантливые люди между двадцатью и тридцатью годами». Фраза эта, взятая из Бальзака, лестна для меня.
Но вот что: я наняла сад в Пасси, чтобы делать этюды на воздухе. Я начала с Ирмы, которую делаю нагою, стоящею под деревом, в натуральную величину.
Пока еще довольно тепло, но надо торопиться. Вот так проходит жизнь. Но я люблю и это; не знаю почему, у меня явилась какая-то боязнь чего-то; мне кажется, что со мною случится что-нибудь неприятное, что-нибудь… Наконец, запершись одна, предавшись работе, я буду считать себя застрахованной, но люди так скверны, так злы, что станут искать вас в вашем углу, чтобы делать вам неприятности.
Но что же может случиться? Я не знаю: что-нибудь да выдумают или ложно истолкуют; мне передадут, и это будет мне очень неприятно…
Или случится какая-нибудь гадость… не серьезная, но печальная, унизительная, словом, в моем жанре. Все это отдаляет от меня Биарриц.
– Поезжайте же туда, – говорила мне m-me Г., – вам следует туда ехать, я поговорю об этом с вашей мамой или с вашей тетей… Наконец, если вы поедете в Биарриц, там очень элегантно, вы увидите общество.
Чтобы ко мне не приставали, мне очень хочется остаться в моем саду в Пасси.
Пьер Огюст Ренуар. Молодая испанка с гитарой. 1898
7 сентября
Дождь… передо мною проходят все самые неприятные случаи моей жизни, и есть вещи, уже давно прошедшие, которые, тем не менее, заставляют меня подпрыгивать и сжимать руки, как от испытываемой в данный момент физической боли.
Для того чтобы мне стало лучше, надо было бы переменить все, что меня окружает… Мои домашние мне неприятны; я заранее знаю, что скажет мама или тетя, что они сделают при тех или других обстоятельствах, как они будут держать себя в гостиной, на прогулке, на водах, и все это меня ужасно раздражает… точно режут стекло.
Надо было бы изменить все окружающее и потом, успокоившись, я бы стала их любить как должно. Между тем они допускают, чтобы я погибала со скуки, а если я откажусь от какого-нибудь кушанья, сейчас испуганные лица… Или пускаются на тысячи уловок, чтобы не подавать к обеду мороженого, так как это может повредить мне. Или, подкрадываясь, как воры, запирают открытые мною окна. Тысячи пустяков, которые раздражают; но из-за всего этого мне страшно надоела жизнь дома. Меня беспокоит то, что я ржавею в этом одиночестве; все эти мрачные минуты затемняют способности и заставляют уходить в себя. Я боюсь, чтобы эти темные тучи не оставили навсегда след на моем характере, не сделали бы меня неприятной, кислой, сумрачной; я не имею никакого желания быть такой, но я постоянно сержусь и молчу.
Говорят, что я прекрасно держу себя; это говорили Аделине старые бонапартисты… Нет, знаете, надо мною всегда будет тяготеть какая-то неловкость.
Я всегда боюсь быть осмеянной, униженной, пятой спицей в колеснице… и это должно оставлять след, чтобы там ни говорили… Нет, право, моя семья сама не знает, что сделала со мной. Моя грусть пугает меня только потому, что я боюсь навсегда потерять блестящие качества, необходимые для женщины…
К чему жить? Что я здесь делаю? Что у меня есть? Ни славы, ни счастья, ни даже мира!..
10 сентября
Сильное потрясение для тети. Доктор Фовель, выслушивавший меня неделю тому назад и ничего не нашедший, выслушивал меня сегодня и нашел, что бронхи затронуты; он принял серьезный, деланый вид, немного сконфуженный тем, что не предугадал серьезности болезни; затем сделал предписания, как чахоточным: тресковый жир, смазывание йодом, теплое молоко, фланель и т. д., и т. д., – и наконец советовал повидать докторов Се или Потена, или еще лучше собрать их у него для консультации. Вы представляете себе лицо тети? Меня это забавляет. Я давно уже подозревала что-нибудь в этом роде, так как кашляла всю зиму, да и теперь кашляю и задыхаюсь. Да, наконец, удивительно бы было, если бы у меня ничего не было; я была бы довольна, если бы это было серьезно и повело бы к концу. Тетя в ужасе, я торжествую. Смерть меня не пугает; я не осмелилась бы убить себя, но я хотела бы покончить со всем этим… Знаете ли… я не надену фланель и не стану пачкать себя йодом. Я не стремлюсь выздороветь. И без того будет достаточно и жизни, и здоровья для того, что мне нужно сделать.
17 сентября
Вчера я вернулась от доктора, к которому ездила из-за ушей. И он признался мне, что не ожидал, что это так серьезно, что я никогда уже не буду слышать так хорошо, как прежде. Я была поражена как громом. Это ужасно. Я не вполне глуха, но я слышу, как иногда видят, точно через вуаль. Так, я не слышу тиканья моего будильника и, быть может, никогда более не услышу его иначе, как приложив к самому уху. Это действительно несчастье. Иногда в разговоре многое ускользает от меня… Впрочем, возблагодарим небо за то, что пока еще не ослепли и не онемели.
Я пишу совсем согнувшись, если же выпрямляюсь, то чувствую жестокую боль; это у меня всегда бывает от слез. Я много плакала с сегодняшнего утра.
28 сентября
Хороший денек, начатый еще ночью. Мне снился «он». Я мечтала «о нем». Он был некрасивый и больной, но это ничего. Я понимаю теперь, что любят не за красоту. Мы болтали как друзья, как когда-то прежде; как будем болтать еще, если снова найдем друг друга! Я просила только об одном, чтобы наша дружба осталась в таких границах, чтобы она могла продолжаться…
Это же было моей мечтою и наяву. Никогда еще не была я так счастлива, как сегодня ночью.
А. приехал к завтраку. Целый поток комплиментов; я и то, и это, и этой зимой около меня составится круг избранных; он приведет мне знаменитостей, всех, представляющих из себя «что-нибудь», и т. д., и т. д.
Мне этого не было нужно, я даже проснулась со смехом.
Дюма-сын говорит, что молодые девушки не любят, а только отдают предпочтение, потому что они не знают, что такое любовь. Так куда же, черт возьми, девает любовь господин Дюма?
И притом всегда знают почти достаточно, чтобы понимать… То, что Дюма называет любовью, есть только следствие и естественное дополнение любви, а совсем не нечто отдельное, обособленное и полное, по крайней мере, для людей хотя бы до некоторой степени чистых.
«Часто необходимое следствие, без которого невозможна любовь», – говорит тот же Дюма; он также называет это «последним выражением любви». С этим я согласна, но сказать, что девушка не может любить, – это безумие. Я ничего этого не знаю, а между тем я чувствую, что есть что-то отталкивающее в соединении с неприятным человеком и что в этом действительно «последнее выражение любви», когда любишь.
Иногда в голову приходят безумные мысли, но они понятны, когда человек не производит на вас отталкивающего впечатления, и не имеют ничего общего с любовью. Для меня было бы ужасно поцеловать в губы человека, к которому я отношусь безразлично; мне кажется, я бы никогда не могла сделать этого.
Но когда любишь. О! Это… совершенно не то. Итак, сегодня ночью во сне я любила, и то же случилось со мной, когда проснулась. И право, это так чисто, так нежно, так прекрасно. Любовь – чувство великое и чистое, и все в нем невинно.
Любовь у Дюма существует не сама по себе, но только как следствие испытываемого чувства, только как средство любить еще больше и лучше то, что любишь.
29 сентября
Со вчерашнего дня я такая беленькая, свежая и красивая, что сама удивляюсь. Глаза оживленные и блестящие; даже контур лица кажется красивее и тоньше. Жаль только, что все это в такое время, когда я никого не вижу. Глупо говорить об этом, но я с полчаса с удовольствием провела перед зеркалом, глядя на себя; этого со мной не случалось уже несколько времени…
3 октября
Я в отчаянии.
Нет, ничего не поделаешь. Вот уже четыре года я лечусь у самых знаменитых докторов от воспаления гортани, и мне все хуже и хуже.
Четыре дня уши были в порядке, я слышала хорошо; теперь все начинается сызнова.
И вот увидите, что я буду пророком: я умру, но не сейчас. Сейчас, это положило бы конец всему, и это было бы слишком хорошо.
Я буду влачить свое существование с постоянными насморками, кашлями, лихорадками и всем прочим…
4 октября
Я просила ноты для мандолины у моего неаполитанского профессора; и вот его ответ.
Мне жаль это письмо за его итальянский стиль, хотя оно и от простого смертного. Признаюсь, я очень люблю цветистый язык.
Но стиль этот надо предоставить итальянцам, у других он смешон. О Боже! Когда же мне можно будет ехать в Италию? Как все бесцветно после Италии! Никто и ничто так меня не волновало, как воспоминание об Италии.
Почему же я не еду туда теперь же? А живопись? Разве я достаточно сильна, чтобы не заблудиться без руководителей? Я не знаю.
Нет. Я останусь эту зиму в Париже; в Италии я проведу Масленицу; зиму 1881 и 1882 буду в Петербурге. Если я не найду в Петербурге богатого мужа, я вернусь или в Париж, или в Италию от 1882 до 1883-го. Тогда я выйду за человека с титулом, с 15 000 или 20 000 франков годового дохода, который с удовольствием возьмет меня с моими доходами.
Разве это не благоразумно – дать себе три года на поиски прежде, чем сдаться?
5 октября
Покориться, вернее собраться с духом, вникнуть в самую сущность самого себя и спросить, не безразлично ли все это. Не все ли равно – жить так или иначе? Победить все свои чувства, вместе с Эпиктетом сказать, что человек властен принять злое за доброе или, вернее, равнодушно относиться ко всему происходящему вокруг. Надо ужасно страдать, чтобы умереть такого рода смертью.
Но, в сущности, раз усвоил себе это, можно, по крайней мере, быть спокойной… Это не мечта, это дело возможное. Но зачем тогда жить? – скажете вы. Да потому, что вы родились. Только вполне поняв, что настоящая жизнь есть источник бесконечных несчастий, можно принять другую жизнь, т. е. спрятаться во второго рода жизни от первой.
Достигнув известной степени физических страданий, теряют сознание или впадают в экстаз; то же самое при страданиях душевных, когда они достигают известной степени; начинают парить мысленно над облаками и удивляются тому, что страдали, все презирают и идут, высоко подняв голову, как мученики.
Не все ли равно, проведу ли я остающиеся пятьдесят лет жизни в темнице или во дворце, среди людей или в одиночестве! Конец будет тот же самый. Чувства, заключенные между началом и концом и не оставляющие никакого следа, – ведь вот что занимает. Какое нам дело до вещей, которые непродолжительны и не оставляют и следов! Я могу употребить мою жизнь с пользою, у меня будет талант; быть может, это оставляет следы… после смерти.
9 октября
Я не работала эту неделю, а от бездействия я глупею. Берегла свое путешествие в Россию, и оно меня очень заинтересовало. В России я прочла по частям «Mademoiselle de Maupin», и так как это мне не понравилось, я перечла эту вещь. Ведь Теофиль Готье признан громадным талантом, а «Mademoiselle de Maupin» считается образцовым произведением, особенно же предисловие. Ну вот я и прочла его сегодня. Предисловие очень хорошо, очень правдиво; но сама книга?.. Несмотря на всю ее резкость, книга не занимательна, некоторые страницы просто скучны. Кричат: а язык, а стиль? И т. д. Э, полноте! Ну да, это написано хорошим французским языком, человеком, хорошо знающим свое дело, но это нельзя назвать симпатичным талантом. Потом, быть может, я и пойму, почему это образцовое произведение; мне бы очень хотелось понять теперь, что это хорошо, но, по-моему, это антипатично и скучно.
Это как Жорж Санд… Вот еще писатель, которому я не симпатизирую. У Жорж Санд нет даже этой силы и той грубости, как у Готье, которые внушают уважение, если не расположение к нему. Жорж Санд… словом, хорошо. Я предпочитаю из современных писателей Доде; он пишет романы, но пересыпанные верными замечаниями, вещи правдивые и прочувствованные. Это сама жизнь. Что касается Золя, то мы с ним в холодных отношениях; он в «Фигаро» начал нападать на Ранка и других республиканцев в очень дурном тоне и не соответствующем ни его большому таланту, ни его литературному положению.
Но что же видят в Жорж Санд? Красиво написанный роман? Ну, а потом? Для меня ее романы скучны. Между тем как Бальзак, оба Дюма, Золя, Доде, Мюссе не надоедают мне никогда. Виктор Гюго в своей самой безумно-романической прозе никогда не кажется утомительным. Чувствуется гений, но Жорж Санд! Как возможно читать триста страниц, наполненных жестами и поступками Валентины и Бенедикта, которых сопровождают дядя садовник и еще Бог весть кто?
Графиня, влюбленная в своего лакея, и рассуждения по этому поводу! Вот талант Жорж Санд. Конечно, это очень красивые романы, с красивыми описаниями деревни… Но мне бы хотелось чего-нибудь больше… Я не умею выражаться… Вот чего бы никогда не следовало думать; а я всегда думаю, что обращаюсь к существам выше меня, перед которыми я боюсь сказать что-нибудь претенциозное, между тем как вообще везде одни только посредственности, которые ниже тебя и которые никогда не сумеют оценить скромности или признания в какой-нибудь слабости.
Теперь читаю «Валентину», и это чтение меня раздражает, потому что эта книга заинтересовала меня настолько, что я хочу дочитать ее, и в то же время я чувствую, что у меня от нее ничего не останется, может быть, только неопределенное неприятное впечатление; мне кажется, что такое чтение ниже меня, я возмущаюсь и в то же время продолжаю, ибо, чтобы я бросила ее, надо быть такой же несносной, как «Последняя любовь» того же автора. Однако «Валентина» лучшее из того, что я читала из произведений Жорж Санд. «Маркиза де Вильмер» тоже хороша; помнится, там нет конюха, влюбленного в графиню.
10 октября
Утро провела в Лувре и совсем подавлена впечатлением; до сих пор я не понимала так, как сегодня утром. Я смотрела и не видела. Это точно откровение. Прежде я смотрела, вежливо восхищалась, как огромное большинство людей. А если видишь и чувствуешь искусство так, как я, то значит, обладаешь не совсем обыденной душой. Чувствовать, что это прекрасно, и понимать, почему это прекрасно, вот это большое счастье.
16 октября
Среди разных других хороших вещей Тони сказал: «В общем я очень доволен, дело идет хорошо». Следует урок. Я очень довольна; каждую субботу я боюсь! А потом радуюсь!.. Это единственная вещь, к которой я отношусь серьезно.
19 октября
Увы! Все это кончится через несколько лет медленной и томительной смертью.
Я отчасти предчувствовала, что это так кончится. Нельзя жить с такой головой, как у меня, – я похожа на слишком умных детей.
Эдгар Дега. Расчесывание волос. 1896
Для моего счастья надо было слишком много, а обстоятельства сложились так, что я лишена всего, кроме физического благосостояния.
Когда года два, три, даже шесть месяцев тому назад я пошла к новому доктору, чтобы вернуть свой голос, он спрашивал меня, не замечала ли я тех или иных симптомов, и так как я отвечала «нет», он сказал приблизительно следующее:
– Ничего нет ни в бронхах, ни в легких, это просто воспаление гортани.
Теперь я начинаю чувствовать все то, что доктор предвидел. Значит, бронхи и легкие поражены. О, это еще ничего или почти что ничего. Фовель прописал йод и мушку; конечно, я стала испускать крики ужаса, я предпочитаю сломать руку, чем допустить горчичник. Три года тому назад в Германии один доктор на водах нашел у меня что-то в правом легком. Я очень смеялась. Потом еще в Ницце, пять лет тому назад, я чувствовала как будто боль в этом месте, я была убеждена, что это растет горб, потому что у меня были две горбатые тетки, сестры отца; и вот еще несколько месяцев тому назад на вопрос, не чувствую ли я там какой-нибудь боли, я отвечала «нет». Теперь же, если я кашляю или только глубоко вздыхаю, я чувствую это место направо в спине. Все это заставляет меня думать, что, может быть, действительно там есть что-нибудь… Я чувствую какое-то самоудовлетворение в том, что не показываю и вида, что я больна, но все это мне совсем не нравится. Это гадкая смерть, очень медленная, четыре, пять, даже, быть может, десять лет. И при этом делаются такими худыми, уродливыми.
Я не особенно похудела, у меня все в порядке, только вид утомленный, я сильно кашляю, и дышать трудно.
Случалось ли вам начать говорить или писать, что вы больше не верите чему-нибудь, чему прежде верили… И пока вы говорите: «И сказать только, что я была в этом убеждена!», сразу вернуться к прежним мыслям, опять поверить или, по крайней мере, сильно усомниться? В одну из таких минут я сделала эскиз картины… В ожидании художника модель – маленькая белокурая женщина – сидит верхом на стуле и курит папироску, глядя на скелет, в зубы которого он воткнул трубку. Платье разбросано по полу налево; направо ботинки, открытый портсигар и маленький букетик фиалок. Одна нога пропущена через спинку стула, женщина оперлась на него локтями и подпирает рукою подбородок. Один чулок на земле, другой еще висит на ноге. Это очень хорошо выходит красками. Кстати, я делаюсь колористкой. Я говорю это смеясь; но шутки в сторону, я чувствую краски, и нельзя даже сравнивать мои этюды за два месяца до Мон-Дора и теперь.
Вы увидите, что найдется множество вещей, привязывающих меня к жизни, когда я уже буду ни к чему не пригодна, когда я буду больна, отвратительна!
24 октября
Показала Жулиану картину, написанную в Мон-Доре. Он, конечно, нагрубил мне, говоря в то же время, что некоторые современные художники нашли бы, что это очень хорошо, что это смесь Бастьен-Лепажа и Бувена, что это, соединенное с несколько более усиленной работой, и дало бы почти хорошую картину; в ней есть интересные вещи, но что я пишу, «как палач».
Что касается модели перед скелетом, то это задело его за живое. Он сказал, что это «положительно то, что следует», что это грубо, отталкивающе, а я прибавила: «Да, это отталкивает, и именно поэтому-то это хорошо, это сама природа». – «Только вы не можете подписаться под этим. Это произвело бы скандал. Но, черт возьми, как это хорошо! Я не говорю, что вы сейчас же сделаетесь известным живописцем, но, конечно, вы прославитесь этой… оригинальной изобретательностью… Эта картина заставит кричать, особенно если узнают, что ее сделала женщина, молодая девушка».
29 октября
Прочитав в Евангелии место, удивительно соответствующее руководившей мной мысли, я снова вернулась к горячей вере и к чудесам, к Иисусу Христу и к моим прежним восторженным молитвам.
10 ноября
Ужасно работать без устали в продолжение трех лет и прийти к заключению, что ничего не знаешь!
11 ноября
Приходил Тони и, когда я ему рассказала о своем упадке духа, то он ответил, что это доказывает, что я не слепа, и советовал мне снова приняться за этюд и вообще продолжать занятия.
Конечно, это показывает, что я знаю теперь больше, чем прежде, ибо вижу все яснее. Но как мне грустно! Как я нуждалась в ободрении! Я переделала себе плащ с монашеским капюшоном для мастерской, когда приходится занять место около окна, откуда адски дует. Итак, у меня монашеский капюшон, а это всегда приносит мне несчастье. Я плакала под этим несчастным капюшоном, и так, что эта добрая 3., которая подошла посмотреть, не шучу ли я, была совсем поражена. Я хочу сделать картину, представляющую изгнание монахов. Поэтому я пошла к капуцинам на улице Sante, и три оставшихся монаха все мне рассказали и показали место несчастия. Я предложила мое гостеприимство двум монахам в Ницце. Надеюсь, что они не воспользуются приглашением.
Клод Моне. Мельницы в Вестзейдервелде близ города Зандам. 1871
14 ноября
Должна была ехать в Версаль посмотреть, подходит ли для меня тамошний монастырь капуцинов, так как там было оказано всего более сопротивления. На монастырском дворе расположены низкие кресла для коленопреклонения, и, несмотря на дождь, приходящие становятся на колени перед запертыми дверями часовни. Боже! Как все это было нелепо сделано и как монахи сумели этим воспользоваться!
Разве Гамбетта не самый сильный человек? Ведь надо же, чтобы человек взял верх… А как же тогда система бонапартистов? А принципы, а республика! Есть вещи, которые противоречат моему здравому смыслу; это бывает редко, но если я убеждена сама, в душе, то ничто в мире не может заставить меня изменить моему взгляду, мне даже трудно не кричать о моем убеждении на крышах, – так я довольна и горда, что я сама дошла до этого и что искренно этому верю. Потому что столькими вещами, почти всеми, увы! – я дорожу только… поверхностно… ради того, что скажут, или чтобы не выделяться, или ради того, что это может мне быть выгодно.
16 ноября
У меня явились угрызения совести, и я поднялась со своей постели, чтобы предаться покаянию, ибо церковь заставляет познавать Бога, церковь сделала страшно много для нравов, церковь принесла к дикарям имя Бога и цивилизацию. Правда, мне кажется, что можно бы, не оскорбляя Бога, цивилизовать и без католицизма, но все-таки… Католицизм был получен, как феодализм, и, как и он, почти отжил свой век.
8 декабря
Сегодня вечером мы присутствовали на еженедельных работах общества «Права женщин». Это происходит в маленькой зале m-lle Оклерк.
Лампа на бюро налево; направо камин, на котором стоит бюст Республики, а посредине, спиной к окну, которое находится против двери, стол, покрытый связками бумаг и украшенный свечой, звонком и президентом, который имеет очень грязный и очень глупый вид. Налево от президента m-lle Оклерк, которая, принимаясь говорить, каждый раз опускает глаза и потирает руки. Штук двадцать старых женских типов и несколько мужчин – все такая дрянь, какую только возможно себе представить. Это юноши с длинными волосами и невозможными прическами, которых никто не хочет слушать в кофейнях.
Мужчины кричали о пролетариате, коллективизме и измене наиболее выдающихся депутатов. М-lle Оклерк очень умна и понимает, что дело идет не о пролетариате и не о миллионерах, но о женщине вообще, которая требует подобающих ей прав. На этом бы и следовало удержать всех. Вместо этого они рассуждали о политических тонкостях. Мы были записаны, вотировали, внесли деньги и т. д.
21 декабря
У меня нет больше шума в ушах, и я слышу очень хорошо.
23 декабря
Так как было поздно, я оставила портрет и стала делать эскиз, потому что я постоянно ищу для Салона. Приезжает Жулиан и находит, что это очень красиво, тогда я иду провожать его в переднюю и спрашиваю, может ли это быть полезным для моего дела. Конечно, очень хорошо, но только сюжет такой спокойный, подобающий молодой девушке, а он думал, что я выберу что-нибудь другое. И потом он упрекает меня чуть не в десятый раз, что я не делаю портрета m-me N. на большом полотне, в платье – одним словом, для выставки. Надо вам сказать, что эта скучная вещь повторяется каждый раз при разговоре о Салоне. Но чтобы вы поняли впечатление, производимое на меня этим, надо вам сказать, что этот портрет мне не нравится и не занимает меня; я сделала его только из одолжения, модель не имеет ничего захватывающего, я его сделала, потому что обещала в одну из минут излияния; эти идиотские излияния заставляют меня отдавать все, да еще ломать себе голову над вопросом, не могу ли чего-нибудь предложить и как доставить какое-нибудь удовольствие кому бы то ни было, всем на свете. И не думайте, что это случается со мною изредка! Почти всегда так, исключая только, если мне уж слишком надоедят… Да и тогда тоже.
Это даже не качество, это у меня в натуре – стремиться сделать всех счастливыми и связывать себя этою глупою мягкостью. Вы этого не знали, и я считалась эгоисткой; ну примирите-ка все это…
Нужно же было быть такой безумной и думать, что мне хоть что-нибудь удастся!
О ничтожество! Теперь все отравлено и при мысли о Салоне мне хочется кричать. Так вот чего я добилась после трех лет работы!
«Надо быть феноменом», – говорил Жулиан, но я не могла. Вот прошло три года, а что я сделала? Что я такое? Ничто. То есть хорошая ученица, и это все, но где же феномен, блеск и треск?
Это поражает меня, как великое неожиданное бедствие… А истина так ужасна, что мне бы хотелось думать, что я преувеличиваю. Живопись меня останавливала; пока дело шло о рисунке, я приводила профессоров в изумление; но вот два года, что я пишу, я выше среднего уровня, я это знаю, я даже выказываю удивительные способности, как говорит Тони, но мне нужно было другое. А этого нет. Я поражена этим, как сильным ударом по голове, и не могу коснуться этого места даже кончиком мысли, не причиняя страшной боли. А слезы-то!
Вот что полезно для глаз! Я разбита, убита, я в странном бешенстве! Я сама раздираю себе сердце. О! Боже мой!..
Я с ума схожу, думая, что могу умереть в безызвестности. Самая степень моего отчаяния показывает, что это должно случиться.
24 декабря
После грустных соображений отправилась в мастерскую, где Жулиан сделал мне следующее предложение: «Обещайте мне, что картина будет моя, и я укажу вам сюжет, который сделает вас знаменитой или, по крайней мере, известной в течение шести дней после открытия Салона». Конечно, я обещаю. То же самое он сказал и А. и, после того, как мы полусмеясь-полусерьезно написали и подписали условие при двух свидетельницах, он увел нас в свой кабинет и предложил мне сделать часть нашей мастерской с тремя личностями на первом плане, в натуральную величину, других же – как аксессуары.
Он доказывал нам преимущества этого сюжета добрые полчаса; после чего я вернулась к своему портрету взволнованная, с головною болью и не могла ничего делать целый день. Все это последствия вчерашнего дня.
Что касается сюжета, он мне не особенно интересен; но он может быть занимателен.
26 декабря
Потен требует, чтобы я уезжала; я отказываюсь наотрез, и затем полусмеясь-полусерьезно начинается жалоба на мою семью. Я спрашиваю его, вредно ли для горла беситься и плакать каждый день. Конечно… я не хочу уезжать. Путешествовать чудесно, но не с моими, с их мелкими утомительными хлопотами. Я знаю, что я буду распоряжаться, но они меня раздражают и потом… нет, нет, нет!
Да и, наконец, я почти не кашляю. Но только все это делает меня несчастной; я больше не представляю себе возможности избавиться от всего этого, избавиться от чего? Я совсем не знаю, и слезы душат меня. Не подумайте, что это слезы не вышедшей замуж девицы; нет, те слезы совсем не похожи на эти. Впрочем… быть может, и это. Но не думаю.
И потом, кругом меня такие печальные дела, и нет возможности кричать. Бедная тетя ведет уединенную жизнь, мы видимся так мало; вечера я или читаю, или играю.
Есть в нас что-то такое, что, несмотря на прекрасные рассуждения, несмотря на сознание, что все идет к уничтожению, все-таки заставляет нас жаловаться! Я знаю, что, как и все другие, я иду к смерти, к уничтожению, я взвешиваю обстоятельства жизни, которые, каковы бы они ни были, кажутся мне ничтожными и суетными, и тем не менее я не могу покориться. Значит, это сила, значит, это нечто, значит, это не «переход», не промежуток времени, который безразлично где бы ни провести – во дворце или в погребе; значит, есть что-нибудь сильнее и истиннее, чем наши безумные фразы обо всем этом! Значит, жизнь не простой переход, не ничтожество, но… самое дорогое для нас, все, что мы имеем?
Говорят, что это ничто, потому что нет вечности. О! Безумные!..
Жизнь – это мы; она принадлежит нам, она все, что мы имеем; как же можно говорит, что она ничто. Но если это ничто, покажите же мне что-нибудь, представляющее нечто!
Какой славный и милый этот Тони; он говорит, что наиболее одаренные достигали чего-нибудь только лет через двенадцать работы; что Бонна после семи лет работы был еще ничем; что сам он выставил первую картину только на восьмом году. Я все это знала, но так как я рассчитывала достигнуть большего к двадцати годам, то вы поймете мои размышления.
В полночь у меня явились подозрения. Тони, кажется, слишком доверяет моим силам; я подозреваю какую-нибудь ужасную западню.
1881–1882-1883-1884
1881
1 января
Я подарила букетик А.; она поцеловала меня два раза, и так как мы были одни, то я стала спрашивать ее о возникновении и развитии ее любви. Она рассказала мне, что это тянется уже шесть лет без всякого изменения. Она узнает его шаги по лестнице, его манеру открывать дверь, и всякий раз она при этом волнуется, как в первые дни. Я это понимаю; если бы было иначе, это было бы уже не то. Говорят, что привычка уничтожает чувство; вы видите, что это ошибка, что настоящая любовь не может ни измениться, ни подчиниться привычке.
Для меня измена была бы ужасна. Очень немногие люди имеют счастье испытать настоящую любовь, которая не может прекратиться, хотя бы она и не была взаимна. Вообще, люди не способны испытывать такое цельное чувство, что-нибудь отвлекает их или мешает им, и они довольствуются обрывками чувств, которые меняются; вот почему многие пожимают плечами, когда при них говорят о вечной или неизменной любви, которая встречается очень редко.
Настоящая любовь может и не быть вечной, но она может быть только один раз в жизни.
5 января
Сегодня утром Тони пришел в мастерскую вместе со мною. Я показала ему небольшой эскиз, и мы поговорили о картине. Комната, где мне придется работать, очень маленькая, но если снять перегородку, это еще будет возможно, ввиду размеров полотна. Но что же делать!..
И потом, если будут работать двое, будет известное соревнование, которое раздражает. Несмотря на мой смелый вид, я очень застенчива и при А. теряю способность поставить натуру, и… это меня стесняет, и я недовольна тем, что нас будет работать двое над тем же самым.
Как эта картина мне надоела! Как бы мне хотелось приняться за что-нибудь другое! Невыносимо то подниматься так высоко, то падать так низко! Достаточно одного слова, чтобы ободрить меня или пригнуть к земле, и для того, чтобы не впасть в отчаяние, необходимо, чтобы Жулиан и Тони всю жизнь меня ободряли. Когда они ограничиваются советами, не высказывая своего мнения, я падаю духом.
Эдгар Дега. Танцовщица. 1880
7 января
Я рассказываю всем об интригах, в которых сама являюсь жертвой, и так как все на моей стороне, то это еще подтверждает мою правоту. Многие сказали мне, что считали меня сильнее и что здесь я не удержалась. Согласна, но ведь так приятно предоставить другим специальность обманов и интриг. Я не совсем точно выразилась, сказав предоставить; я предоставляю им это потому, что сознаю себя окончательно не способной к интригам и уловкам. Это так скучно, утомительно, и я не знаю, как быть. Есть также удовлетворение в том, что сознаешь себя лучше других. Пасть жертвой чего-нибудь так, чтобы об этом знали другие, это прелестное чувство, это почти что патент на честность, на нравственную чистоту… А совесть? Иметь чистую совесть и видеть низость других, сознавать себя чистым, а других грязными, даже в ущерб самому себе, – при таких условиях почти исчезает наносимый тебе ущерб, и испытываешь тем большую радость, чем более являешься жертвой.
Очевидно, при первой неприятности мне следовало бы сказать: если так, я не стану писать этой картины!… Но это значило бы дать торжествовать А., которая увидела бы, что ее старания увенчиваются успехом. И я не отступаю только по этой причине.
8 января
У меня настоящая страсть к книгам – я прибираю их, считаю, рассматриваю; один вид этой массы томов меня радует. Я отхожу немного, чтобы смотреть на них, как на картину. У меня около семисот томов, но так как они большого формата, то это составило бы гораздо больше книг обыкновенной величины.
13 января (русский Новый год) Я все еще немного кашляю и дышу с трудом. Но видимых перемен нет – ни худобы, ни бледности. Потен больше не приходит, моя болезнь, по-видимому, требует только воздуха и солнца; Потен поступает честно и не хочет пичкать меня ненужными лекарствами. Я знаю, что поправилась бы, проведя зиму на юге, но… я знаю лучше других, что со мною. Горло мое всегда было подвержено болезням, и мне стало хуже от постоянных волнений. Словом, у меня только кашель и неладно с ушами; как видите, это пустяки.
15 января
Самое обыкновенное лицо в мире может сделаться интересным благодаря шляпе, берету или драпировке, я говорю все это для того, чтобы сказать вам, что каждый вечер, возвратясь из мастерской усталая и испачканная, я умываюсь, надеваю белое платье и убираю голову белой косынкой из индийской кисеи с кружевами, как старухи у Шардена и девочки у Греза; мое лицо делается от того прелестным – никогда нельзя было бы и подумать, что оно может быть таким… Сегодня вечером косынка легла, как носят египтянки, и я не знаю, каким образом лицо мое сделалось прекрасным. Это слово вообще не подходит к моему лицу, но это чудо произошло благодаря головному убору. Это меня развеселило.
Теперь это сделалось привычкой; мне неловко оставаться вечером с непокрытой головой, и моим «печальным мыслям» приятно быть покрытыми; я чувствую себя как-то уютнее и спокойнее.
26 января
Во вторник, когда я вернулась из мастерской, меня схватил озноб, и я до семи часов дремала в кресле, с моей картиной перед глазами, как это бывает со мною каждую ночь уже в течение недели.
Я выпила только немного молока, и ночь прошла еще более странно. Я не спала, но видела картину, и мне казалось, что я работаю над ней, но делаю как раз обратное тому, что нужно, стираю то, что хорошо, точно меня толкает сверхъестественная сила. Это меня раздражало, я была беспокойна, страшно волновалась, старалась уверить себя, что это сон, и не могла. Уж не бред ли это? – спрашивала я себя. Я думаю, что был это бред, я теперь знаю, что это такое, и все это было бы ничего, если бы не утомление, особенно в ногах.
3 февраля
Передо мною портреты матери и отца, когда они были женихом и невестой. Я повесила эти портреты на стену как документы. По мнению Золя и других более авторитетных философов, нужно знать причины, чтобы понять следствие. Я родилась от замечательно красивой матери, молодой, здоровой, с темными волосами и глазами и прелестным цветом лица; отец же мой был белокур, бледен, слабого сложения и происходил от очень здорового отца и болезненной матери, которая умерла молодой; все его четыре сестры более или менее горбаты от рождения… Дедушка и бабушка были крепкого сложения и имели девять человек детей, здоровых, крупных, из которых некоторые были красивы, например мама и дядя Степан. Болезненный отец знаменитого субъекта, о котором идет речь, сделался здоровым и сильным, а мать, которая цвела здоровьем и молодостью, сделалась слабой и нервной благодаря своей тяжелой жизни.
Третьего дня я кончила «l’Assomoir»; я была почти больна, так поразила меня правдивость книги. Мне казалось, что я живу и разговариваю с этими людьми.
12 февраля
Тони продолжает быть довольным мною и советует мне писать.
Я в восторге.
13 февраля
Вот очень нежное письмо от мамы:
«Харьков. 27 января.
Мой обожаемый ангел, дорогое дитя мое Муся, если бы ты знала, как я несчастна без тебя, как беспокоюсь за твое здоровье и как я хотела бы поскорее уехать!
Ты моя гордость, моя слава, мое счастье, моя радость!!! Если бы ты могла себе представить, как я страдаю без тебя! Твое письмо к m-me А. в моих руках; как влюбленный, я все перечитываю его и орошаю слезами. Целую твои ручки и ножки и молю Бога, чтобы я имела возможность сделать это поскорее на самом деле.
Целую нежно нашу дорогую тетю. М. Б.»
19 февраля
Уже дней десять я все вижу во сне дедушку, маму, моих.
Я вижу также во сне тех людей, с которыми встречаюсь на другой день, или же оконченный день продолжается во сне; я никогда не сплю без снов.
3 марта
Я очень больна, я сильно кашляю, дышу с трудом, и у меня в горле происходит зловещий шум… Кажется, это называется горловой чахоткой. Я открыла Новый Завет, забытый на время, и два раза в течение нескольких дней была поражена соответствием случайно попавшейся на глаза строчки с моею мыслью. Я молюсь Христу, Богоматери.
18 марта
Я окончила картину, остается только еще кое-где тронуть.
Жулиан находит, что картина много выиграла в последнюю неделю и что теперь она хороша.
На картине шестнадцать фигур и скелет, т. е. всего семнадцать.
19 марта
Я недовольна. Тони находит, что хороши отдельные части, но не одобряет картины в общем; он долго объяснял мне, что нужно сделать, и в некоторых местах тронул кистью; я потом уничтожила его мазки.
В половине пятого пришел Жулиан. Мы поговорили. Я работала с восьми часов утра и устала, и особенно устала от того, что не слышала от Тони его обычной похвалы.
Боже мой, я знаю, что картина интересна и полна движения, но в ней виден громадный недостаток знания!
Жулиан очень сердится на то, что дал мне такой сюжет для первой картины. Он посмотрел на меня, и в его взгляде выразилась надежда, что я буду способна отказаться от тщеславного желания выставить посредственную вещь. Он был бы в восторге, если бы я от этого отказалась; я также, но другие! Скажут, что моя работа была найдена профессорами слишком слабою, что я неспособна написать картину и что в Салоне моей картины не приняли.
Вопрос: все ли я сделала, что было в моих силах, кроме некоторых мелочей? Да, конечно, но мне пришлось натолкнуться на совершенно незнакомые мне вещи, о которых я и не подозревала; во всяком случае, я многому научилась.
Жулиан находит, что я употребила большие старания, что все это недурно, интересно, но хочется рвать на себе волосы с досады, когда подумаешь, какою могла бы быть эта картина. Я хотела бы, чтобы она провалилась, чтобы мне не нужно было ее выставлять! Я принуждена это сделать из глупого тщеславия, заранее наказанного, потому что я боюсь равнодушия публики и насмешки учеников, и даже не насмешки их, но боюсь, что они скажут: «Ну, однако самая сильная из ваших женщин не очень-то сильна».
Господи! Это нужно было предвидеть. Жулиан должен был бы это знать! Но он говорит, что было бы хорошо, если бы я продолжала, как начала. Если бы я сделала это, как недельный этюд, я бы все уничтожила; это дурно, рисунок самый обыденный, не характерный и недостойный меня: это самая плохая картина.
Страшно досадно, но что же делать!?
24 марта
Я открыла у себя под кроватью горшок с дегтем. Это внимание Розалии к моему здоровью, оказанное по совету гадалки. Моя семья находит это прекрасным выражением преданности служанки; мама пришла в умиление. Я выливаю ведро воды на ковер, под кровать, разбиваю раму и в гневе ложусь в моем кабинете.
Это напоминает мне несносное теплое платье! Моя семья воображает, что я усматриваю особую выгоду в том, чтобы мерзнуть; это меня раздражает до такой степени, что часто я не покрываюсь, чтобы доказать им бесполезность их приставаний! О! Эти люди доводят меня до неистовства…
30 марта
Я сделала вид, что проспала до десяти часов, чтобы не идти в мастерскую, и чувствую себя очень несчастной.
Вот ответ Жулиана. Он меня немного успокаивает… Подумайте только… Вы не можете себе представить, что бы это было, если бы мне отказали! Мне пришлось бы обвинять одну себя! И я не знаю, что ужаснее: быть самому виноватым в своем несчастии или страдать от других… Это был бы удар в самое сердце; я не знаю, что я стала бы делать… Нужно надеяться…
1 апреля
Я счастлива. Жулиан сам пришел сообщить о моем счастье вчера, после полуночи. Мы выпили пуншу в мастерской. Божидар по собственному побуждению осведомлялся у одного из учеников и уверял, что я получила № 2. Это кажется мне необычайным.
3 апреля
Никогда еще Патти не пела с таким воодушевлением, как вчера; голос ее был так свободен, так свеж и блестящ! Она спела на bis болеро из «Сицилийской вечерни». Боже мой, какой у меня был прекрасный голос! Он был силен, драматичен, вызывал мороз по коже. А теперь не осталось ничего, даже не о чем говорить!
Неужели я не выздоровлю? Я еще молода и, может быть, буду в состоянии…
Патти не трогает, но может вызвать слезы изумления, это настоящий фейерверк; вчера я была просто потрясена, когда она издала несколько звуков – таких чистых, высоких, мягких!
5 апреля
Неожиданность! Приехал мой отец. За мной прислали в мастерскую, и я застала его в столовой с мамой и Диной, и все в восторге от супружеского счастья.
Мы вошли вместе: папаша, мамаша и bebe. Он, без сомнения, приехал за мамой, но я еще ничего не знаю.
6 апреля
Отец задержал меня до девяти часов, настаивая на том, чтобы я не шла работать, но я спешу к моему торсу, который слишком занимает меня, и возвращаюсь только к обеду, потом все уехали в театр, и я осталась одна. Отец совсем не понимает, что можно быть художницей и что этим можно прославиться. Минутами мне кажется, что он нарочно высказывает такие мысли.
1 мая
Алексей приехал рано и привез билет для двоих; с моим билетом мы можем идти вчетвером: папа, мама, я и Алексей. Мы тотчас же нашли мое произведение, которое находится в первой зале, направо от почетной залы, во втором ряду. Я в восторге от места и очень удивлена, что картина кажется такой удачной. Она нехороша, но я ожидала чего-то отвратительного, а вышло недурно.
По ошибке мое имя пропустили в каталоге; я заявила об этом, и это будет исправлено. В первый день нельзя хорошо рассмотреть: торопишься посмотреть все зараз. Мы с Алексеем немного отстали от наших, расточая остроумные замечания направо и налево; наконец мы совсем потеряли их из виду и на некоторое время я взяла его под руку; я свободно хожу взад и вперед и не боюсь. Целая толпа знакомых, большие комплименты, которые не казались слишком принужденными. Это естественно; эти люди, не понимающие в этом ничего, видят довольно большую картину с многими лицами и считают ее приличной!
С неделю тому назад я отдала 1000 франков на бедных. Никто этого не знает, я была в главном бюро и ушла скорее, чтобы не слышать благодарностей; распорядитель, вероятно, думал, что я украла эти деньги. Небо вознаграждает меня за мои деньги.
6 мая
Я провела утро в Салоне, где встретила Жулиана; он познакомил меня с Лефебром, который сказал мне, что в моей картине есть большие достоинства. Я еще очень маленькая девочка!
Дома все идут разговоры о предстоящих переменах. Они все меня раздражают! У моего отца иногда являются нелепые мысли; он сам не верит тому, что говорит, но упорствует, говоря, что все зависит от моего согласия провести лето в России. «Увидят, – говорит он, – что ты не стоишь вне семьи».
Вечером, когда я полудремлю, утомившись за день, у меня в голове проходят божественные мелодии. Они то появляются, то исчезают, за ними следишь, как за оркестром, мелодия которого развивается в вас и помимо вашей воли.
7 мая
Мой отец хочет ехать завтра, мама также должна ехать. Это все портит. Уеду ли я? К чему оставаться? Там я буду делать этюды на воздухе, а потом мы поехали бы в Биарриц.
С другой стороны, говорят, что мне принесет пользу Эмс… Ах! Мне все равно! Для меня ничего не существует.
8 мая
Теперь я почти с радостью вижу, что мое здоровье расстраивается вследствие того, что небо не посылает мне счастья.
А когда со мной будет кончено, все, может быть, переменится, но будет уже поздно.
Разумеется, всякий для себя. Но моя семья говорит, что так любит меня, и ничего не делает… Я сама – ничто, между мною и остальными миром – завеса. Если бы можно было знать, что там, но это неизвестно; впрочем, это любопытство сделает для меня смерть менее ужасной.
Десять раз в день я восклицаю, что хочу умереть, но это только выражение моего отчаяния. Если думают, что я желаю смерти, то это неправда. Это манера говорить, что жизнь ужасна; но все-таки хочешь жить, особенно в мои годы. Но не растрогивайтесь: меня еще хватит на некоторое время. Обвинять никого нельзя. Это воля Божья.
15 мая
Я уеду в Россию, если согласятся подождать меня неделю. Мне было бы ужасно присутствовать при раздаче наград. Это большое горе, о котором не знает никто, кроме Жулиана. Итак, я еду. Я пошла посоветоваться со знаменитым доктором инкогнито. Слух мой поправится, но покров правого легкого уже давно тронут, у меня плеврит, и в горле все попорчено. Я все это спрашивала в таких выражениях, что он был принужден сказать мне правду.
Нужно ехать в Алевар и лечиться. Я поеду туда, когда вернусь из России, а оттуда поеду в Биарриц. В деревне я буду работать. Я буду делать этюды на открытом воздухе – это полезно. Все это я пишу в ярости.
Но дома теперь положение дел плачевно. С одной стороны, мама в отчаянии, что должна ехать, а я в горе потому, что остаюсь с тетей, – это глупый предрассудок.
С другой стороны, тетя, у которой только мы, только я на свете и которая ничего не говорит, но глубоко оскорблена тем, что я страдаю, оставаясь с нею.
20 мая
Мои колебания возобновляются! Я надеялась на Потена, думая, что он не пустит меня в Россию и этим даст возможность не слишком оскорблять отца. Итак, я не могу ехать.
В общем, Потен сообщил мало нового и дал мне возможность остаться здесь. Но картина Бреслау! Это ужасно. Вот денек!.. Я просила Потена преувеличить мою болезнь и сказать моей семье, что правое легкое плохо, чтобы отец не слишком оскорбился тем, что я остаюсь.
И вот они оба в отчаянии, ходят на цыпочках… Их внимание меня оскорбляет, их уступки выводят меня из себя… и нигде нет точки опоры.
Живопись – хорошая вещь! Знаете, в тяжелые минуты никогда не бываешь слишком несчастен, если есть светлая точка на горизонте. Я говорила себе: подождем немного, живопись спасет нас. Теперь я сомневаюсь во всем, я не верю ни Тони, ни Жулиану.
23 мая
Наконец собрались, и мы на станции. В минуту отъезда мое колебание заражает других; я начинаю плакать, за мной мама, Дина и тетя; отец спрашивает, что делать. Я отвечаю слезами; раздается звонок, мы бежим в вагон; для меня не взяли билета. Я хочу также войти, но вагон захлопывают; у меня нет билета, а они уезжают, даже не простившись. Можно проклинать, ненавидеть друг друга, но в минуту разлуки все забывается. С одной стороны – мама, с другой – тетя, и отец посередине… Отец должен быть в бешенстве, так как он был очень мил со мной; но это бесполезное путешествие, трата времени… Я плакала о том, что нужно было ехать, плачу о том, что осталась. О Бреслау я почти забыла, но… я ничего не знаю, я думаю, что здесь я буду лучше лечиться и не буду терять времени.
Берлин. 25 мая
Я уехала вчера; тетя, которая видела, что мне не хотелось оставаться в Париже, не плачет; она боится моих упреков в том, что она меня расстраивает, но на душе у нее смертельная тоска, и она думает, что никогда больше не увидит меня. Бедная тетя, которая боготворит маму и боготворит меня вдвойне! А я так немила с ней. Я спрашиваю себя, как можно так дурно платить за такую преданность. Она приучена бабушкой с моего рождения видеть во мне идеал; теперь, что бы я ни делала, она окружает меня всевозможными заботами и предупредительностью; мне даже нечего говорить, она угадывает мои капризы тем более, что знает, что я очень больна и несчастна, и не может помочь мне ничем, разве облегчить мне материальную жизнь.
Я всегда имела утешение видеть на столе самые лучшие фрукты, мои любимые блюда всякий раз, когда у меня бывала чувствительная неприятность. Эта предупредительность может показаться бессмысленной, но в ней есть что-то трогательное. Мне не удается быть с ней приветливой; бедная тетя без единого слова с моей стороны догадалась, что я по возможности избегаю человеческих лиц, и, позаботившись об ужине, оставила меня одну с книгой. Я могу выносить четырех-пятерых человек родных и тогда говорю с ними; но оставаться с кем-нибудь из них наедине меня стесняет, и я дуюсь, упрекая себя в холодности относительно такой преданной, такой доброй женщины! У нас все очень добры, а тетя в этом отношении просто ангел. Я заезжала к Тони, который очень болен и которому я оставила благодарственное письмо, и к Жулиану, которого не застала. Он, может быть, заставил бы меня переменить решение и остаться, а мне нужна была перемена… В течение недели никто в семье не смел смотреть друг на друга, боясь расплакаться, а оставшись одна, я плакала все время, чувствуя тем не менее, что это жестоко по отношению к тете… Но она должна была заметить, что я плакала, расставаясь с нею. Она думает, что я совсем не люблю ее; а когда я думаю о полной самопожертвования жизни этой женщины, я не могу удержать слез: у нее даже нет того утешения, что ее любят как добрую тетю!.. Но я никого не люблю больше ее…
Что составляет верх ужаса – это мои уши. Это самое жестокое, что могло со мною случиться при моей натуре… Я боюсь всего, чего желала, и это ужасное положение. Теперь, когда я стала более опытной, когда у меня начинает появляться талант, когда я умею лучше устраивать свои дела… мне кажется, что весь мир принадлежал бы мне, если бы я могла слышать, как прежде. А при моей болезни глухота случается один раз на тысячу, как говорят все доктора, к которым я обращалась. «Успокойтесь, вы не оглохнете из-за вашего горла, это бывает очень редко!» И это случилось именно со мною…
И ведь это сковывает ум! Как тут будешь живой или остроумной? Все пропало!
Фаскор за Киевом. 26 мая
Мне было нужно это большое путешествие: равнина, равнина, равнина со всех сторон. Это красиво, я в восторге от степей как от чего-то нового… Это что-то почти бесконечное… когда встречаешь леса и деревни, уж это не то… Меня восхищает приветливость всех чиновников, даже носильщиков, как только въедешь в Россию; на границе служащие разговаривают с вами как со знакомыми. Я провела уже двадцать шесть часов в вагоне, остается еще тридцать. Голова идет кругом от этих расстояний!
Гавронцы. 29 мая
В деревне поля еще залиты рекой, всюду лужи, грязь, совсем свежая зелень, сирень в цвету… Это место низменное, и я думаю, что будет сыро.
Нечего сказать, хорошо здесь лечиться! Все наводит отчаянную грусть.
Я открываю рояль и импровизирую что-то похоронное. Коко жалобно воет. Мне грустно до слез, и я делаю планы уехать завтра.
Подали суп, от которого пахло луком; я вышла из столовой…
Мама привезла все журналы, где говорится обо мне; из того, что там составляло мое отчаяние, здесь создается мне ореол…
2 июня
Погода прекрасная, сирень в цвету, весна очаровательна, но слишком свежа для моего здоровья.
4 июня
Жулиан пишет, что Тони простудился, выехав в открытом экипаже, и что жизнь его в опасности. Он плачет, думая, что умирает. Не ужасно ли это, не говоря уже о восьмидесятипятилетнем отце и о матери, которой бедный Тони так боялся лишиться?
6 июня (25 мая)
Тони спасен. Я в восторге. Розалия залилась слезами, говоря, что, если бы он умер, я захворала бы; это несколько преувеличено, но она славная девушка. В одно время с депешей пришло письмо от Жулиана с хорошим известием.
Вот что говорит Золя о Жюль Валлесе:
«Чувствительность, скрываемая, как какая-нибудь странность, часто преднамеренная грубость и страсть к жизни, к человеческому движению – вот вся его натура; вместе с тем он весел, постоянно шутит, может быть, из боязни, чтобы не стали подшучивать над ним, скрывая слезы под неумолимой иронией». Я думаю, что это на меня похоже. Но это имеет преглупый вид, когда сам оцениваешь себя таким образом.
13 июня
Я начала писать крестьянку в натуральную величину, в рост, опершуюся на плетень…
7 июля
Нини, ее сестра и Дина проводили меня в мою комнату, и мы говорили о страшных вещах по поводу разбитого зеркала. И я два или три раза зажигала здесь три свечки. Неужели же я умру? Бывают минуты, когда я холодею при этой мысли. Но я верю в Бога, мне не так страшно, хотя… я очень хочу жить. Или я ослепну; это было бы то же самое, так как я лишила бы себя жизни… Но что же ожидает нас там? Не все ли равно? Избегаешь, во всяком случае, знакомых страданий. Или, может быть, я совершенно оглохну? Я пишу это с озлоблением… Боже мой, но я не могу даже молиться, как в былое время. Если это означает смерть кого-нибудь близкого… отца! Но если мамы? Я никогда не могла бы утешиться, что была резка с нею.
Мне вредит то, что я отдаю себе отчет в малейших движениях моей души и невольно думаю, что та или другая мысль вменится мне в заслугу или в осуждение; а с той минуты, как я сознаю, что это хорошо, исчезает всякая заслуга. Если у меня является великодушный, добрый, христианский порыв, я это тотчас же замечаю; следовательно, помимо своей воли, я чувствую удовлетворение при мысли о том, что это должно, по моему мнению, вознаградиться… Эти размышления убивают всякую заслугу…
Вот сейчас мне захотелось сойти вниз, обнять маму, смириться перед ней; за этою мыслью, естественно, последовала другая, говорившая, что это делает мне честь, и все пропало. Потом я почувствовала, что мне было бы не особенно трудно поступить таким образом и что я сделала бы это или слишком покровительственно, или по-детски: между нами невозможно настоящее, серьезное, сильное излияние чувств. Меня никогда не видали такою и могли бы подумать, что я играю комедию.
Винсент Ван Гог. Доктор Поль Гаше. 1890
9 июля
Мы все уехали на богомолье, оттуда едем в Кременчуг и по Днепру. После тысячи колебаний наконец решаются ехать. Вы не можете себе представить, ведь это целое событие! Да и к чему? А может быть, было бы лучше не ехать! Ведь еще неизвестно, как все устроится. Где придется есть и спать? Наконец решаются взять с собою Василия, который будет стряпать. Около Гавронцев есть гора, которой нельзя объехать, и следовало бы уже к ней привыкнуть; так нет же, каждый раз она представляется каким-то новым и непреодолимым препятствием. Наконец, после того, как каждый заявил в свою очередь, что остается, или что ему сказал тот или другой, чтобы он оставался, мы отправляемся в трех экипажах. В гостинице мы застаем трех дядей.
Кажется, мы очень шумно провели день в Полтаве, и об этом будут говорить. Мы обедали в саду; стол был накрыт на пятнадцать человек в правом углу террасы, вдали от публики, которая подходит на самое непочтительное расстояние, чтобы видеть, как мы едим, и слышать оркестр, играющий для нас, и приглашенный нами женский хор: русские и шведки пели очень плохо цыганские песни. Все это кончилось к восьми часам.
11 июля
Сегодня день свв. Петра и Павла. В Гавронцы пригласили военный оркестр, который играл за обедом и вечером на балконе. При перевозе солдат и инструментов один из ямщиков сломал себе ногу, и ему тотчас же выдали плату за день. Это моя мысль. С семьей нас было четырнадцать человек. Я была одета прелестно; Дина также была очаровательна. Были танцы. Папа танцевал с мамой, против них Поль с женой. Зала большая, и благодаря музыке ноги расходились. Дина, как сумасшедшая, выделывает одна какие-то фантастические па – с большой грацией. И я также, несмотря на свое ужасное горе (мои уши), от которого у меня седеют волосы, – я также немного потанцевала, без веселости, но и без претензии.
13 июля
Как ни странно это может показаться, здесь нет ни деликатности, ни нравственности, ни скромности в их настоящем смысле.
Во Франции, в маленьких городах, боятся духовника, уважают бабушку или старую тетку… Здесь – ничего подобного. Женятся часто по любви и очень легко увозят невест, но все это скоро остывает.
Мы, кажется, едем завтра. Я остановлюсь в Киеве, чтобы заказать обедню. Меня тревожат самые мрачные предчувствия, и я так боюсь всех этих предзнаменований! В день именин Поля я нашла восковую свечку на моем приборе, забытую, по-видимому, человеком, зажигавшим люстры. А все эти разбитые зеркала? Боюсь, как бы не случилось что-нибудь гадкое.
21 июля
Мы в Киеве, в святом городе, «матери русских городов», по выражению св. Владимира, который, крестившись, крестил народ, заставив его войти в Днепр. Но безумцы оплакивали своих идолов, которых бросали в воду в то же время, как крестили народ.
Мы идем сперва в Лавру, куда богомольцы стекаются ежедневно тысячами, из всех концов России. Очень любопытны пещеры; они тесны, низки, сыры и, разумеется, темны. Каждый входит туда со свечкой; впереди идет монах, который быстро показывает вам гробы с телами святых.
Мама горячо молилась; я уверена, что Дина и папа также молились за меня.
Бог не исцелит меня вдруг, в церкви; нет, ничего подобного я не заслужила, но Он сжалится надо мною и вдохновит доктора, который поможет мне… Я не перестану молиться.
Париж. 26 июля
Наконец я здесь! Здесь жизнь. Между прочим, я заезжала в мастерскую. Меня приняли с восклицаниями и поцелуями. Так как я очень дорожу дружбой и содействием Жулиана, то я думала, что он встретит меня неласково и что таким образом оправдаются дурные предзнаменования – разбитое зеркало и т. д. Но нет, неприятность грозит не с этой стороны. Тони здоров.
Я была у Колиньон сегодня. Она при смерти, вот изменилась-то. Розалия предупредила меня, но я была поражена: это сама смерть.
А в комнате запах очень крепкого бульона, какой дают больным. Это ужасно!
Меня все преследует этот запах. Бедная Колиньон! Я отвезла ей белого мягкого шелку на платье и косынку, которая мне так нравилась, что я колебалась пять месяцев и решилась на эту громадную жертву в надежде, что небо воздаст мне за это. Эти расчеты отнимают у меня всякую заслугу. Представляете ли вы себе меня слабой, худой, бледной, умирающей, мертвой?
Не ужасно ли, что все это так? По крайней мере, умирая молодою, внушаешь сострадание всем другим. Я сама растрогиваюсь, думая о своей смерти. Нет, это кажется невозможным. Ницца, пятнадцать лет, три грации, Рим, безумства в Неаполе, живопись, честолюбие, неслыханные надежды – и все для того, чтобы окончить гробом, не получив ничего, не испытав даже любви!
Я так и говорила: такие люди, как я, не живут, особенно при таких обстоятельствах, как мои. Жить – значило бы иметь слишком много.
А между тем встречаются же участи еще более баснословные, чем те, о которой я мечтала.
4 августа
Я терплю постоянную пытку. Краснеть перед своими, чувствовать, что они одолжают меня, стараясь говорить громче! В магазинах я дрожу каждую минуту; это еще куда ни шло, но все те хитрости, которые я употребляю с друзьями, чтобы скрыть свой недостаток! Нет, нет, нет, это слишком жестоко, слишком ужасно, слишком нестерпимо! Я не всегда слышу, что говорят мне натурщики, и дрожу от страха при мысли, что они заговорят; и разве от этого не страдает работа? Когда Розалия тут, то она мне помогает; когда я одна, у меня голова идет кругом и язык отказывается сказать: «Говорите погромче, я плохо слышу!» Боже мой, сжалься надо мною! Если я перестану верить в Бога, лучше сейчас же умереть с отчаяния. На легкое перешло с горла, от горла происходит и то, что делается с ушами. Вылечите-ка это!
Боже мой, неужели нужно быть разлученной с остальным миром таким ужасным образом? И это я, я, я! Есть же люди, для которых это не было бы таким страданием, но…
О, какая это ужасная вещь!
13 августа
Вам известно, что у меня попорчено правое легкое; ну, так я уверена, что вам доставит удовольствие узнать, что и левое легкое тронуто. Впрочем, мне еще не говорил об этом никто из этих идиотов докторов; я в первый раз почувствовала это в киевских пещерах, но я думала, что это была минутная боль от сырости; с тех пор эта боль повторяется всякий день, и сегодня вечером она так сильна, что мне трудно дышать. А картина?
14 августа
Ночью мне не спалось, и сегодня утром мне все было больно, и спине тоже; всякий раз, как я вздохну, – это сам черт! Всякий раз, как кашляну, – два черта.
Теперь я отказываюсь от картины, это решено. Но сколько потеряно времени! Больше месяца.
18 августа
Сегодня – не читайте, если любите веселые вещи, – я провела день за работой и во время работы обращала к себе in petto самые жестокие истины.
Я пересмотрела свои картины, по ним можно проследить мои успехи шаг за шагом. Время от времени я говорила себе, что Бреслау начала писать прежде, чем я стала рисовать… Но вы скажете, что в этой девушке заключен для меня весь мир? Не знаю, но только не мелкое чувство заставляет меня опасаться ее соперничества.
С первых же дней, что бы ни говорили мужчины и товарищи, я угадала в ней талант; вы видите, что я права. Меня волнует одна мысль об этой девушке; один ее штрих на одном из моих рисунков кольнул меня в самое сердце; это потому, что я чувствую силу, перед которой исчезаю. Она всегда сравнивала себя со мною. Представьте себе, что все ничтожества в мастерской говорили, что она никогда не будет писать, что у нее нет красок, а есть только рисунок. Это же самое говорят обо мне… Это должно было быть утешением, и это действительно единственное утешение, которое у меня осталось!
Я еще ничего не сказала об отъезде О. Она уже давно хочет уехать, но ее все удерживали. Но у бедняжки истощаются силы, ей скучно до смерти… Подумайте только, здороваясь и прощаясь, я всякий вечер упрекаю себя в том, что не сказала больше, и всякий день повторяется то же.
У меня были сотни раз великодушные порывы сблизиться с нею, но на этом дело и стало, и я нахожу себе извинение в своих сожалениях.
Наконец бедняжка уехала. Это просто ангельский характер, и при ее отъезде у меня сильно сжалось сердце, но ей там будет лучше. Меня поражает то, что я больше не могу поправить своей холодности и равнодушия – я относилась к ней, как к маме, к тете, к Дине; но моим это не так тяжело, как этой чужой девушке, такой доброй, спокойной! Она уехала вчера в девять часов. Я не могла говорить, боясь расплакаться, и приняла небрежный вид, но надеюсь, она все заметила.
20 августа
Я отправилась одна к скульптору Фальгеру; я назвалась американкой, показала ему рисунки и сказала ему о своем желании работать. Он нашел, что один рисунок очень, очень хорош, все другие тоже хороши. Он направил меня в мастерскую, где сам дает советы; впрочем, предложил свои услуги, т. е. предложил привозить ему свои работы или приезжать ко мне. Это очень мило, но для этого у меня есть Сен-Марсо, которого я обожаю, и я удовольствуюсь мастерскою.
Биарриц. 16 сентября
Простившись со всеми, мы уехали в четверг утром. Мы должны были провести ночь в Байонне, но предпочли Бордо, где Сара давала представление. Мы взяли два места на балконе за пятьдесят франков, и я видела «Даму с камелиями». К несчастью, я была очень утомлена; об этой женщине так много говорили, что я не отдаю себе отчета в моих впечатлениях. Мне казалось, что она не сделает ничего так, как другие, и я была несколько изумлена, что она ходит, говорит, садится. С необыкновенным вниманием следишь за малейшим ее движением. Словом, я не знаю, но мне кажется, что она очаровательна.
Но я знаю наверно, что Биарриц прелестен…
Море весь день было восхитительного цвета. Такие тонкие серые тона!
Мадрид. 2 октября
Когда выйдешь из этого ужасного кровавого места, все кажется сном. Бой быков! Отвратительная бойня лошадей и быков, где люди, по-видимому, не подвергаются никакой опасности и где они играют низкую роль. Единственными интересными моментами для меня было падение людей; один из них был затоптан быком – это настоящее чудо, что он спасся. За это ему сделали овацию. Публика кидает сигары, шляпы, и их очень ловко бросают обратно; махание платками и дикие крики со всех сторон.
Это жестокая игра, но доставляет ли она удовольствие? Вот в чем вопрос. Нет, она не увлекательна, не интересна, это ужасно и низко. В обезумевшее животное, раздраженное многоцветными плащами, всаживают что-то вроде копий; кровь течет, и, чем больше животное движется, чем больше оно прыгает, тем сильнее его ранят. Ему подводят несчастных лошадей с завязанными глазами, которым оно распарывает живот. Кишки вываливаются, но лошадь все-таки поднимается и повинуется до последней крайности человеку, который часто падает вместе с нею, но почти всегда остается невредимым.
Король, королева, инфанты присутствуют на бое быков; всех зрителей более 14 тысяч. Это происходит каждое воскресенье. Нужно видеть главу всех этих мрачных глупцов, чтобы поверить, что можно пристраститься к таким ужасам. Если бы это были еще настоящие ужасы! Но эти безобидные клячи и эти быки, которые приходят в ярость только тогда, когда их раздразнят, раненные, истязаемые…
Королева, которая родом из Австрии, верно, не находит в этом удовольствия. Король имеет вид англичанина из Парижа. Мила только младшая инфанта. Королева Изабелла сказала мне, что я на нее похожа; я этим польщена, так как она в самом деле мила.
Мы выехали из Биаррица в четверг утром и вечером приехали в Бургос. Пиренеи поразили меня своею величественной красотой; слава Богу, мы выбрались из картонных утесов Биаррица.
Если вы думаете, что путешествие с моими матерями может быть приятным, то вы сильно ошибаетесь. Впрочем, это понятно: они не имеют ни моей молодости, ни моей любознательности. Так как это дело прошлое, я не стану говорить о том, как они меня раздражали, тем более что еще тысячу раз буду иметь случай сказать об этом.
Со вчерашнего утра мы в Мадриде. Сегодня утром мы были в музее. В сравнении с ним Лувр очень бледен: Рубенс, Филипп Шампанский, даже Ван-Дейк и итальянцы здесь лучше. Ничего нельзя сравнить с Веласкесом, но я еще слишком поражена, чтобы высказывать свое суждение. А Рибейра? Господи Боже! Да вот они – настоящие натуралисты! Можно ли видеть что-нибудь более правдивое, более божественное и истинное! Как волнуешься и чувствуешь себя несчастным при виде таких вещей! О, как хочется обладать гением! И еще осмеливаются говорить о бледных красках Рафаэля и о жидкой живописи французской школы!
Краска! Чувствовать краску и не передать ее – это невозможно.
Завтра я пойду в музей одна. Трудно поверить, как оскорбительно действует глупое рассуждение перед великими произведениями. Это режет, как ножом, и если сердиться – это принимает слишком глупый вид. У меня есть, кроме того, известного рода застенчивость, которую трудно объяснить: я не хотела бы, чтобы видели, как я чем-нибудь любуюсь, я боюсь быть пойманной на выражении искреннего впечатления; я не умею здесь объясниться.
Мне кажется, что можно серьезно говорить о чем-нибудь, глубоко трогающем вас, только с тем, с кем вы имеете полное духовное общение. Я могу по-человечески говорить с Жулианом, но с ним у меня является всегда черта преувеличения, чтобы энтузиазм имел комическую сторону и чтобы можно было найти убежище в иронии, как бы оно ни было легко. Но получить глубокое впечатление и высказать его просто и серьезно, как чувствуешь… Я не представляю себе, что могла бы это сделать с кем-нибудь, кроме человека, которого любила бы всею душой… Если бы я могла это сделать по отношению к человеку, к которому равнодушна, это тотчас создало бы невидимую связь, которая потом была бы стеснительной, точно вместе совершили дурное дело.
Или уж нужно делиться мыслями по-парижски, делая вид, что на все смотришь с точки зрения своей специальности, чтобы не казаться слишком поэтичной и говорить о художестве словами, сделавшимися уже банальными.
Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр. Ночь. 1897
4 октября
Докончу описание вчерашнего дня. Итак, из Buon Retiro мы идем в кафе слушать пение и смотреть на пляску испанских гитан.
Это место совершенно своеобразное. Мужчина бренчит на гитаре, и дюжина женщин хлопает в такт в ладоши; вдруг одна из них начинает издавать ноты в хроматическом беспорядке – это невозможно передать.
Это нечто совсем арабское и уже через час надоедает.
6 октября
Я скопировала руку Веласкеса. Я была одета скромно, в черном и в мантилье, как все здешние женщины, но на меня многие приходили смотреть, особенно один господин. Кажется, в Мадриде они еще хуже, чем в Италии: прогулки под окнами, гитары; за вами ходят всюду и разговаривают, и так без конца. В церквах обмениваются записками, и у молодых девушек по пяти или шести воздыхателей; с женщинами замечательно вежливы, но эта вежливость не заключает в себе ничего оскорбительного, так как здесь не существует полусвета, как во Франции: такие женщины презираются; но на улице вам скажут, что вы красивы, что вас обожают, просят позволения проводить как даму, и все это вполне прилично. Мужчины бросают вам под ноги плащи, чтобы вы прошли по ним. Что касается до меня, то я нахожу это прелестным; когда я выхожу одетая очень просто, но изящно, на меня смотрят, останавливаются, и я точно возрождаюсь; это какая-то новая жизнь, романическая, с оттенком средневекового рыцарства…
9 октября
Мама уехала в Россию, и присутствие посторонних при расставании избавило нас от пролития лишних слез. Мне было грустно с утра, но ей нужно было ехать: отец вызывает ее по делам.
Вечер проходит в разговоре об искусстве со знакомым, и теперь я одна и рисую мрачные картины: что если мама умрет и больше не увидит нас!..
И она умерла бы, думая, что я ее не люблю, что мне это все равно, что я утешусь и, может быть, буду даже довольна!
Я готова ко всяким несчастьям, но не могу себе представить, что сделалось бы со мною, если бы это случилось… Я предпочитаю все на свете – сделаться слепою, быть разбитой параличом… Меня можно было бы пожалеть, но потерять маму при таких условиях! Мне казалось бы, что я ее убила.
10 октября
Когда я работала в музее, пришли двое пожилых людей; они спросили, я ли m-lle Башкирцева. – Без сомнения.
Тогда они поспешили ко мне. Солдатенков – московский миллионер, который много путешествует и обожает искусство и художников. Потом мне сказали, что Мадрацо, сын директора музея и сам художник, очень любовался моей копией и хочет со мной познакомиться. Старик Солдатенков спросил меня, продаю ли я свои картины, и я имела глупость сказать, что нет.
Что же касается живописи, то я научаюсь многому, я вижу то, чего не видела прежде. Глаза мои открываются, я приподнимаюсь на цыпочки и едва дышу, боясь, что очарование разрушится. Это настоящее очарование; кажется, что наконец можешь уловить свои мечтания, думаешь, что знаешь, что нужно делать, все способности направлены к одной цели – к живописи, не к ремесленной живописи, а к такой, которая вполне передавала бы настоящее, живое тело; если добиться этого и быть истинным артистом, можно сделать чудесные вещи. Потому что все, все – в исполнении. Что такое «Кузница Вулкана» или «Пряхи» Веласкеса? Отнимите у этих картин чудное исполнение, и останется просто мужская фигура, ничего больше.
Я знаю, что возмущу многих, и прежде всего глупцов, которые так много кричат о чувстве… Ведь чувство в живописи сводится к краскам, к поэзии исполнения, к очарованию кисти. Трудно отдать себе отчет, до какой степени это верно! Любите ли вы живопись наивную, жидкую, прилизанную? Это любопытно и интересно, но любить этого нельзя. Любите ли вы чудных Дев на картонах Рафаэля? Я могу прослыть за невежду, но скажу вам, что это меня не трогает… В них есть чувство и благородство, перед которым я преклоняюсь, но которого я не могу любить. «Афинская школа» того же Рафаэля, конечно, великолепна и ни с чем не сравнима, как и другие его произведения, особенно в гравюрах и фотографиях. Тут есть чувство, мысль, дыхание истинного гения. Заметьте, что я также враг низменных телес Рубенса и прекрасных, но глупых тел Тициана. Нужно соединение духа и тела. Нужно, подобно Веласкесу, творить, как поэт, и думать, как умный человек.
11 октября
Мне снилось, что мне объясняли, что у меня в правом легком: в известные части его воздух не проникает… Но об этом противно рассказывать, довольно и того, что оно у меня тронуто. О, я это знаю! С некоторого времени я чувствую недомогание, легкую слабость, но я не та, что прежде, я чувствую себя не так, как другие: какой-то расслабляющий пар окутывает меня, говоря в переносном смысле, разумеется… Кажется, что у меня делается что-то странное в груди, а у меня… Но к чему эти нелепости? Потом это будет видно само собою.
14 октября
Вчера, в семь часов утра, мы уехали в Толедо. Мне так много говорили о нем, что я вообразила Бог знает какое чудо; вопреки здравому смыслу, я представляла себе что-нибудь из эпохи Возрождения или из Средних веков: великолепные остатки архитектуры, резные двери, почерневшие от времени балконы прелестной работы и т. д. Я знала, что это будет что-то другое, но это ожидание испортило мне Толедо; я увидела мавританский город с тонкими стенами и с зазубренными воротами. Толедо стоит на самом верху, точно цитадель, и если взглянуть сверху на Кампанию и на Таго, то получается нечто похожее на некоторые неправдоподобные фоны Леонардо да Винчи и Веласкеса: горы почти с высоты птичьего полета, голубовато-зеленого цвета, видные из окна, у которого стоит дама или рыцарь в фиолетовом бархате и с прекрасными тонкими руками. Что касается самого Толедо, то это лабиринт кривых, узких переулков, куда не проникает солнце, где жители точно остановились только на время – так плохи все эти дома. Это мумия, это Помпея, сохранившаяся в целом виде, но так и кажется, что она распадется в прах от древности. Собор великолепен, как и в Бургосе, – украшений масса. Двери изумительны, и монастырь также, со своим двором, полным олеандрами и розовыми кустами, которые проникают в галерею и ползут вдоль по столбам, на которых стоят мрачные и грустные статуи. Когда сюда проникает луч солнца, это ни с чем не сравнимая поэзия!
Нельзя вообразить себе, что такое испанские церкви! Проводники в лохмотьях, служащие при церкви в бархате, иностранцы, собаки – все это ходит, молится, лает и т. д., и все имеет своеобразную прелесть. Хотелось бы тут, при выходе из капеллы, встретить внезапно, за колонной, идола своей души.
Просто невероятно, чтобы страна, лежащая так близко к центру европейской испорченности, могла остаться такой нетронутой, девственной, дикой!
Я сказала вам, что собор великолепен по роскоши, богатству и особенно по легкости; кажется, что эти колонки, резьба и своды не могут противостоять времени; боишься, что такие сокровища развалятся; это так красиво, что чувствуешь какое-то личное опасение; но вот уже пять веков, что стоит это чудо терпения, непоколебимое и прекрасное. Вот мысль, которую выносишь оттуда, – лишь бы это сохранилось! Чувствуешь страх, что это будет испорчено, повреждено; я желала бы, чтобы никто не имел права тронуть пальцем этого создания; люди, которые ходят в нем, уже виновны, мне кажется, в том, что способствуют чрезвычайно медленному, но неизбежному разрушению этого дивного здания. Я знаю, что пройдет еще много веков, но… При выходе оттуда – высокие зубчатые стены с арабскими окнами, выцветшими на солнце, мечети с грандиозными столбами с арабскими украшениями. Но поезжайте в Рим и посмотрите, как садится солнце за купол, и все эти удивительные мелочи, все эти резные камни, готические и арабские двери, все эти мелкие и хрупкие чудеса с их надменным характером, – все это спадет, как чешуя, и покажется вам детскими украшениями.
15 октября
Я провела день в Эскуриале с тетей, которой было скучно и которая, приняв равнодушный вид, старалась обмануть меня. Если бы я не слышала, что говорил проводник, она не дала бы мне осмотреть склепов… чтобы не утомлять меня, и потом – «гробы, это так ужасно!». Как несносно путешествовать таким образом! Наконец я видела, как во сне, эту огромную глыбу гранита, мрачную, печальную, величественную. Я нахожу это великолепным; эта величественная грусть очаровательна. Дворец напоминает по форме жаровню св. Лаврентия, что придает ему отчасти вид казарм, извините за выражение; но он стоит среди выжженной местности, мрачной, волнообразной, и производит глубокое впечатление своими гранитными стенами, толщиной в парижский дом, своими монастырями, колоннами, галереями, террасами, дворами. Говорят, что это холодно, печально; я согласна с этим, но здесь успокаиваются раздражающие впечатления от Толедо. Мы были в королевских покоях, отделанных довольно некрасивыми и слишком яркими обоями; впрочем, кабинет короля – прелесть; там есть двери с деревянными инкрустациями и с украшениями из полированного железа и чистого золота; одна гостиная, обитая парчой, тоже прелестна. Какой контраст с комнатой Филиппа II! Этот тиран жил в голой и бедной келье, выходящей в низкую мраморную часовню, которая, в свою очередь, сообщается с церковью. Ему виден был из постели алтарь, и он мог в постели слушать мессу. Я не могу припомнить все залы, лестницы, монастыри, по которым нас водили, – так это огромно. А длинные галереи с огромными окнами, с закрытыми ставнями, с массивными и мало отделанными дверьми!
Неужели я могу предпочитать этому мрачному величию красивые безделушки! Какая своеобразность, простота – это далеко от нагроможденных друг на друга украшений в Толедо.
Потом нас повели через парк, где король охотится, кажется, на кроликов, и в павильон, построенный, кажется, в 1781 году. Это настоящая игрушка: лестницы и крыльцо из цветного мрамора, много маленьких комнат, обвешанных картинами, даже хорошими картинами, или обитых палевым атласом с прелестно вышитыми голубыми и розовыми цветами; красиво выцветший зеленый цвет тонко выступает из белого, который принял ни с чем не сравнимый оттенок слоновой кости.
Можно потерять голову от этих маленьких атласных гостиных, белых или бледно-голубых со светло-желтым, с прелестно разрисованными или инкрустированными потолками.
16 октября
Одна из самых любопытных вещей здесь – это Rastro, улица, занимаемая всевозможными шалашами, как ярмарки в русских деревнях, где можно найти все. И эта жизнь, одушевление, движение под этим жгучим солнцем! Это великолепно. Роскошные вещи помещаются в грязных домах. Задние лавки и лестницы совершенно легендарны; там масса материй, ковров и вышивок, от которых голова идет кругом.
А эти бедняки кажутся совершенно беззаботными; они прокалывают гвоздями чудные материи и вешают их на стены, чтобы повесить старые рамки; они наступают на парчу, брошенную на землю, на старую мебель, рамки, статуи, серебро, на старые заржавевшие гвозди.
За нами зашел Эскобар, чтобы вместе идти на бой быков. Я хотела посмотреть еще раз, чтобы судить по второму впечатлению. Было объявлено, что будет восемь быков, и это, кажется, последнее воскресенье. Король, королева, инфанты – все были. Музыка, солнце, дикие крики, топот, свистки, махание платками, бросание шляп! Это единственное в своем роде зрелище, увлекательное по своему величию, не сравнимое ни с чем. Я начинаю входить во вкус и заинтересовываться представлением. Я пошла на него неохотно, с легким отвращением, но я сохранила спокойствие перед этой бойней с утонченными жестокостями. Все это прекрасно, но с тем условием, чтобы ничего не видеть… А кончаешь тем, что заинтересовываешься и сохраняешь храбрый вид при всех этих низостях, уже из гордости. Я смотрела все время. Выходишь оттуда несколько опьяненная кровью; еще немного, и стал бы всех людей ударять железным острием в затылок.
За обедом я разрезала дыню с таким чувством, как будто вонзала копье; мне казалось, что мясо еще трепещет, только что вырезанное из быка. От этого мороз пробегает по коже и голова точно в тисках – вот настоящая школа убийц.
Эту дуэль человека с огромным животным находят великолепной; но действительно ли это дуэль, когда известно заранее, кто из них должен пасть? Когда входит матадор в своем блестящем костюме, обрисовывающем его формы, и три раза своеобразно приветствует публику (он три раза вытягивает вперед свою руку), спокойный, холодный, и становится перед животным с плащом и шпагой… Это чуть ли не лучшая часть представления, так как тут почти не проливается крови. Да, это поистине изумительно! Так я, значит, примирилась с этим диким удовольствием? Я этого не говорю, но нахожу в нем прекрасную, почти величественную сторону: этот цирк, эти четырнадцать или пятнадцать тысяч зрителей – это точно видение из древности, которую я так люблю. Но эта кровавая, ужасная, низкая сторона… Если бы люди были менее ловки, если бы они чаще получали чувствительные раны, я не восставала бы, но меня возмущает здесь человеческая подлость. Впрочем, говорят, что нужно обладать львиной храбростью… Но нет, они слишком ловки, слишком уверенны, чтобы избегнуть страшных, но наивных, ожидаемых и вызванных нападений животного… Настоящая опасность грозит человеку, когда он бежит навстречу быку, который готов поднять его на рога, и предупреждает его, всаживая ему копья между плечами, – тут нужна исключительная храбрость и ловкость.
20 октября
Сегодня утром я провела два часа в Кордове и имела только время взглянуть на город, который прелестен… в своем роде. Я обожаю такие города; меня приводят в восторг остатки римского времени и мечеть – настоящее чудо.
Я с удовольствием осталась бы в Кордове на месяц. Но для этого нужно было бы путешествовать не с тетей, которая в десять минут успевает вывести вас из себя десять раз. То «нечего смотреть, и проводник нарочно водит нас, чтобы заработать больше денег и заставить нас пропустить поезд», то нужно брать коляску, чтобы ехать в мечеть, – и это в Кордове, в восемь часов утра! Подумайте сами, можно простудиться, и потом, разве я, умирающая, могу ходить пешком? Вот приятное, прелестное общество для артистической поездки по Испании!
22 октября
Наконец мы в прославленной всеми Севилье. В общем, я теряю здесь много времени. Я была в музее: целая зала мурильевских картин. Я предпочла бы что-нибудь другое, особенно здесь, а тут только Девы и другие святые. Я – невежда, дерзка и груба, но я еще не видела Богоматери, какою Она должна была быть.
А фабрика сигар и папирос! И что там за запах! И если бы это был еще один табак! Это сборище женщин с голыми руками и шеями, девочек, детей. Большей частью эти копошащиеся существа красивы, и вообще видеть это любопытно. Испанки обладают грацией, какой нет у других женщин. Певицы кафе, свертывающие сигары, ходят, как королевы. Какие у них шеи! Руки круглы, очень чистой формы и прекрасного оттенка. Это победительницы сердец и существа поистине изумительные.
Особенно одна, которая вставала, чтобы идти за листьями табаку: осанка королевы, мягкость кошки, божественная грация… притом прекрасная голова, ослепительное тело, руки, глаза, улыбка! Я не считаю уж тех, которые только пикантны. Девочки забавны и прелестны; попадаются некрасивые, но мало. И даже в некрасивых есть что-то особенное.
Эдгар Дега. На фондовой бирже. 1878–1879
25 октября
Я видела собор; он очень велик и, по-моему, один из самых красивых в мире, видела Альказар, с его чудными садами, баню султанш, а потом мы сделали прогулку по улицам. Я не преувеличиваю, говоря, что мы были единственные женщины в шляпах. На иностранцев здесь смотрят, как на каких-то ученых обезьян; перед ними останавливаются, их осмеивают или говорят им любезности.
Дети меня освистывают, но взрослые говорят мне, что я красивая и соленая; вы знаете, что здесь считается шиком быть salada.
Севилья вся белая; улицы узки, часто коляска не может по ним проехать, но все не так живописно, как этого хотелось бы. О, Толедо! Я вижу теперь свое варварство!..
Толедо – чудо. Севилья, с ее низкими домами, выбеленными известью, имеет несколько мещанский характер. Есть и низкие кварталы… Но во всех странах мира худшие кварталы интересны. Но тут такая гармония и богатство тонов, что хотелось бы все это написать.
Я очень досадую, что не говорю по-испански, это очень стесняет, особенно когда работаешь, делаешь этюды.
Эти полудикие женщины и дети изумительного цвета, так же как и их лохмотья. Это прелестно, несмотря на грубость белых домов. Но дождь не прекращается, и потом я с семьей.
Я понимаю, что жить в семье – счастье, и я была бы несчастна одна. Можно делать покупки с семьею, ездить кататься с семьей, иногда в театр; можно в семье хворать, лечиться и делать все нужные и интимные вещи; но путешествовать с семьей!! Это так же приятно, как вальсировать со своей теткой. Это смертельно скучно и даже несколько смешно.
27 октября
О блаженство! Я ухала из ужасной Севильи.
Я говорю тем более «ужасной», что теперь я в Гренаде, со вчерашнего вечера, что мы бегаем с самого утра, что я видела неизбежный собор и часть цыганских пещер. Я в восторге. В Биарицце и в Севилье у меня словно руки опустились, все, казалось, кончено. За три часа, проведенных в Кордове, город произвел на меня впечатление артистического города, т. е. я там могла бы работать с полным воодушевлением. В Гренаде – одно несчастье: там нельзя оставаться шесть месяцев, год. Не знаешь, куда броситься, столько сюжетов на каждом шагу. Улицы, силуэты, виды!
Становишься пейзажистом, но вдруг появляются эти странные и интересные типы, с их яркими и гармонически-теплыми красками.
Что я видела здесь любопытного, это острог Гренады – тюрьму, где работают каторжники. Не знаю, каким образом явилась у меня эта фантазия – конечно, я не сожалею о ней, хотя оттуда выходишь с шумом в ушах, как после боя быков. Комендант тюрьмы тотчас же согласился исполнить желание благородных иностранок, и нам показали все. Перед нами шел сторож, сбоку шло по шести капралов, выбранных из числа самых храбрых преступников, вооруженных палками. Я не сумею описать впечатления, произведенного этим стадом людей, обнажающих головы с быстротой, обличающей страх перед галунами и палками сторожей. Их тут бьют, судя по словам проводника.
Безоружные, запертые, принуждаемые к работе, как дети, эти люди внушают мне одно сострадание, вместо того чтобы возбуждать во мне мысль о преступлениях и злодеяниях, которые их тут собрали. Скажу более, чувствуешь умиление, особенное умиление перед этой толпой несчастных, которые кланяются так униженно, работают, по-видимому, с таким усердием и показывают нам тетрадки, по которым учатся читать, – и все это с таким детским, боязливым видом.
Да, их бьют, это видно; они похожи на тех бедных уличных собак, которые ложатся, отдавшись судьбе, и получают удары.
Но какие головы! Мне бы очень хотелось написать там картину… Я получила на это разрешение, и если я найду уголок для трех или четырех фигур… К несчастью, это увлекает меня написать слишком большую картину…
Я советую посетить это мрачное место прежде, чем видеть Генералиф, сады которого предвкушение рая. Как описать вам это смешение олеандров, апельсинных деревьев, самых роскошных и красивых растений, кипарисовые аллеи, эти арабские стены, пестрые и увешанные розами?.. Между клумбами фиалок протекают ручьи.
На завтра – Альгамбра и голова каторжника, которую я буду писать.
28 октября
Итак, я провела день в гренадских тюрьмах.
Мой бедняга каторжник отлично позировал весь день; но так как я сделала голову в натуральную величину и набросала руки в один день (великий гений!), я не передала так хорошо, как обыкновенно, удивительно плутоватый характер этого человека. Я не могу сваливать это на недостаток времени; это произошло от освещения, которое менялось несколько раз, и от того, что у меня за спиной все время стояла дюжина этих каторжников; они сменялись, но стояли тут, а это раздражает, когда чувствуешь за собой взгляды. Помощник начальника, в кабинете которого я работала, поставил за моей спиной стулья, точно для представления, – для своих друзей, которые сменялись целый день.
29 октября
Наконец я видела Альгамбру; я нарочно не останавливалась перед самым красивым, чтобы не привязаться к Гренаде, и, кроме того, наш проводник мешал своим присутствием моему художническому увлечению. Я непременно увижу все это еще раз.
Гренада с башни – поразительна по красоте. Горы, покрытые снегом, исполинские деревья, чудесные цветы и растения, ясное небо и сама Гренада со своими белыми домами, лежащая на солнце, среди всех этих красот природы, арабские стены, башни Генералифа и Альгамбры!.. И вдали беспредельный горизонт, точно море; недостает, правда, только моря, чтобы это была самая красивая местность в мире. Сам же дворец фантастической красоты.
Арабский костюм, без сомнения, самый красивый на свете. Нельзя ни с чем сравнить надменное изящество этих чудных складок. Я увлечена покойным Боабдилом и его маврами и представляю его себе прогуливающимся в этом единственном в своем роде дворце.
30 октября
Я провела целый день у гитан, чтобы ничем не заниматься. Было очень холодно, у меня лицо потрескалось от холода, холст покрылся песком и пылью – словом, ничего не сделано. Но какие драгоценные прииски для художника! Пробыть там целый день, наблюдать эти позы, эти группы, эти эффекты света и тени! Они очень приветливы с иностранцами, потому что испанцы их презирают. Следовало бы приехать на два или на три месяца и делать этюды каждый день, и все еще осталось бы дела. Я в восторге от этих типов цыган. Их позы, движения исполнены странной и естественной грации. Тут можно бы написать удивительные картины. Глаза разбегаются во все стороны: везде картины. Это ужасно, что мы приехали так поздно; но, несмотря на самое доброе желание, работать невозможно: ветер с горы, покрытой снегом, пронизывает насквозь, это невыносимо. Но как это красиво, как это красиво, как это красиво!
2 ноября
Мы опять в Мадриде, и я задаю себе праздник, работая уже три дня над эскизом Лоренцо.
Слыша, что я говорю только об этом, и видя мое нетерпение возвратиться в Мадрид, совершенно естественно – не правда ли? – что тетя входит ко мне совсем одетая и говорит: «Мы ведь посвятим целый день покупкам?» И когда я ответила, что буду писать, она изумляется и говорит, что я сошла с ума.
Вам приходит в голову мысль, вам кажется, что вы нашли сюжет; вы укладываете ваши вещи, мечта начинает воплощаться, вы делаете эскиз, вы отдались всецело работе, вы мучительно ищете, как бы расположить все в гармонии, и в ту минуту, когда вы предчувствуете еще неясную идею, которая может улетучиться прежде, чем вы ее усвоили… является милейшая семья, которая меня так любит и так беспокоится, когда я кашляю. Я не слишком чувствительна, я считаю себя очень практичной в сравнении с другими художниками… Но этого недостаточно, как видимо… О, неразумная и беззаботная семья, она не понимает, что менее сильная, менее энергичная, менее плодовитая уже умерла бы на моем месте!
5 ноября
Я в Париже! Восторг мой не имеет пределов. Я считала часы, скучая в вагоне. Свежий воздух и жгучее солнце Испании заставляют меня находить прелестной сероватую тишину прекрасного города.
Жулиан думал, что я приеду гораздо позднее, больная, а может быть, и совсем не приеду.
6 ноября
Процесс кончен, выигран. Следствие показало, что не было и причины для процесса. Это кажется невозможным, так долго это длится, а между тем это так. Мы только что получили депешу от мамы. Это был счастливый день.
17 ноября
Вчера я еле могла двигаться: у меня болела грудь, горло, спина, я кашляла, не могла глотать и десять раз в день переходила от озноба к жару.
21 ноября
В среду послали за Потеком, он пришел сегодня; я могла бы двадцать раз умереть за это время.
Я знала, что он опять пошлет меня на юг; я заранее уже стиснула зубы при этой мысли, руки у меня дрожали, и я с большим трудом удерживала слезы.
Ехать на юг – это значит сдаться. Преследования моей семьи заставляют меня почитать за честь оставаться на ногах, несмотря ни на что. Уехать – это значит доставить торжество всей мелюзге мастерской.
«Она очень больна; ее увезли на юг!»
Мама и Дина приехали вчера, вызванные безумными депешами тети.
Я простудилась, но ведь это может случиться со всяким.
Но нет, все кончено, мои уши в печальном состоянии при этом насморке и лихорадке. На что могу я надеяться? Что я могу иметь? Ждать больше нечего. Точно какая-то завеса разорвалась пять или шесть дней тому назад: все кончено, все кончено, все кончено!
30 ноября
Вчера вечером был Жулиан. Он думает, что я очень больна, я это заметила по его напускной веселости. Сама же я в глубоком огорчении. Я ничего не делаю. А моя картина! Но особенно тяжело ничего не делать! Понимаете ли вы мое отчаяние? Быть праздной, пока другие работают, делают успехи, готовят свои картины!
Я думала, что Бог оставил мне живопись, и я заключилась в ней, как в священном убежище. И теперь она отнята у меня, и я только могу портить себе глаза слезами.
Я должна остаться дома еще несколько недель. Это может заставить утопиться!
О! Как это жестоко со стороны судьбы! У меня были неприятности, семейные горести, но это не проникало до глубины моего существа, и у меня были огромные надежды… Я теряю голос – это первое, что затронуло меня лично, – наконец я к этому привыкаю, я этому покоряюсь, я с этим примиряюсь.
А! Если ты миришься со всем этим, так у тебя отнимется возможность работать!
Ни учения, ни картины, ничего – и целая потерянная зима! А вся моя жизнь заключалась в труде! Только те, кто был на моем месте, могут понять меня.
7 декабря
Что приводит меня в неистовство – это моя болезнь. Вчера ужасный помощник Потена, который приходит каждый день – великого человека можно беспокоить только два раза в неделю, – этот помощник спросил меня небрежным тоном, не приготовляюсь ли я к путешествию.
Их юг! О, одна только мысль об этом заставляет меня содрогаться; я не могла есть благодаря ей, и, если бы не пришел Жулиан, я проплакала бы весь вечер с досады.
Так нет же, я не поеду на юг!
15 декабря
Вот уже четыре недели и два дня, что я больна. Я делаю сцену со слезами помощнику Потена, который не знает, как меня успокоить. Оставив в стороне обычные отговорки и вздор, который я говорю ему, я начала оплакивать настоящими слезами мои выпавшие волосы и говорила о детских горестях языком маленькой девочки. И все это было выдумано: когда мне приходится играть какую-нибудь роль, я бледнею и плачу. Мне кажется, я могла бы быть замечательной актрисой.
Мой папаша прибыл сегодня утром. Все обстоит благополучно.
Я не говорю, что папа скучен, напротив, он похож на меня и духом, и телом (это похвала); но этот человек никогда не поймет меня. Подумайте, он собирается увезти нас в деревню на Пасху!
Нет, это уж слишком! Неделикатность слишком велика! При моем здоровье везти меня в Россию в феврале или марте!!! Я предоставляю вам оценить это. Я еще не говорю обо всем остальном!!! Нет! Я, которая отказываюсь ехать на юг! Нет, нет, нет! Не будем больше говорить об этом.
18 декабря
Я наедине изливалась в жалобах Жулиану, и он старается утешить меня, советуя делать ежедневно эскизы всего того, что меня поражает. Что же меня поражает? Что могу я найти в той среде, в которой живу? Бреслау бедна, но живет в артистическом кругу. Лучшая подруга Марии – музыкантша, Шепи – оригинальна, хотя и ординарна, и остается одна Сара П., художница и философ, с которой говоришь о кантизме, о жизни, о человеческом я и о смерти, и эти разговоры заставляют размышлять и запечатлевают в уме все, что читал и слышал. Да и самый квартал, где она живет, способствует этому: les Ternes. Квартал, где живу я, так чист, однообразен, что не видишь ни бедности, ни неподстриженного деревца, ни кривой улицы. Итак, я жалуюсь на богатство? Нет, но я утверждаю, что благосостояние мешает артистическому развитию и что среда, в которой живешь, составляет половину человека.
21 декабря
Сегодня я выехала на воздух! В мехах, с поднятыми окнами, с медвежьим мехом на ногах. Потен сказал сегодня, что я могла бы выходить, если бы было меньше ветра и если я приму предосторожности. Погода была восхитительна, и все-таки – предосторожности!
Но вопрос не в этом, а в Бреслау. Моей картины в Салоне не будет. Что я могу противопоставить ее картине этого лета?
Эта девушка – сила; я согласна, что она не одна; но мы вышли из одной клетки, если не из одного гнезда, я ее угадала и предчувствовала и говорила о ней с первых же дней, хотя была тогда невежественна, даже очень невежественна. Я себя презираю, я себя отрицаю, я не понимаю, как Жулиан и Тони могут говорить то, что они говорят. Я ничто. Рядом с Бреслау я кажусь себе маленькой непрочной картонной коробочкой рядом с дубовой шкатулкой, массивной и покрытой резьбою. Я отчаиваюсь в самой себе и так убеждена, что права, что наверно убедила бы и учителей, если бы стала говорить с ними об этом.
Но я все-таки хочу идти, с закрытыми глазами и протянутыми вперед руками, как человек, которого готовится поглотить бездна.
29 декабря
Я снова оперяюсь: руки, худые еще десять дней назад, полнеют, и это доказывает, что мне лучше, чем перед болезнью.
Я пишу портрет жены Поля; вчера я чувствовала такое восстановление сил, что могла сразу написать Дину, Нини и Ирму. Ирма не совсем обыкновенная модель: это, как говорят, уже исчезнувшей тип гризетки, она забавна и сентиментальна, и все это при наивном цинизме. «Когда вы сделаетесь кокоткой…» – сказала я ей как-то. «О! – отвечала она. – Это мне не удается!» Она позирует умно; с ней можно сделать все что угодно при ее удивительной бледности, так как она настолько же кроткая девушка, насколько полна разврата.
Она просила позволения остаться, хотя и не была нужна, и весь день вязала у камина.
31 декабря
Весь день все то и дело ссорятся…
Я еду, чтобы опомниться, к Тони и показываю ему эскиз портрета жены Поля. Он находит его очень оригинальным, очень оригинальным и хорошо начатым. Милый Тони был очень рад видеть меня здоровой.
1882
2 января
Я начинаю чувствовать настоящую страсть к моей живописи, не считаю еще себя вправе сказать «мое искусство»; чтобы говорить об искусстве (о своих стремлениях в этой области), нужно уже что-нибудь из себя представлять.
4 января
Жулиан целый вечер забавлялся насмешками над нашим увлечением Тони и его маленьким пристрастием к нам. В полночь мы пьем шоколад.
Д. была очень грациозна… Впрочем, я понимаю, что можно приберегать свои прелести для знатоков.
Я всегда одеваюсь с особенным тщанием для художников, и притом совсем особенно: длинные платья, без корсета, драпировки; в свете мою талию нашли бы недостаточно тонкою, а мои платья недостаточно модными; но все мои наиболее красивые измышления, слишком экстравагантные для света, пригодятся мне для министерства изящных искусств… Я все мечтаю составить себе салон знаменитых людей…
6 января
Искусство возвышает душу даже самых скромных из своих служителей, так что всякий из них имеет в себе нечто особенное сравнительно с людьми, не принадлежащими к этому возвышенному братству.
15 января
Я всецело предалась искусству; мне кажется, что я вместе с плевритом приобрела где-нибудь в Испании и священный огонь. Я начинаю обращаться из ремесленника в художника; в голове моей создаются чудные образы, которые сводят меня с ума… Вечером я сочиняю; теперь передо мной носится образ Офелии… Потен обещал показать мне сумасшедших; кроме того, меня сильно занимает старый араб, который сидит и поет с чем-то вроде гитары, а для будущего салона я обдумываю большую картину – сцену из карнавала… Но для этого нужно ехать в Ниццу. Да, взять Неаполь для моего карнавала будет хорошо; чтобы написать эту картину на открытом воздухе в Ницце, у меня есть вилла и… Я говорю все это, а мне хочется остаться здесь.
Винсент Ван Гог. Портрет Арманда Рулена. 1888
21 января
M-me С. заехала за нами, чтобы вместе отправиться к Бастьен-Лепажу. Мы встретили там двух или трех американок и увидели маленького Бастьен-Лепажа, который очень мал ростом, белокур, причесан по-бретонски. У него вздернутый нос и юношеская бородка. Вид его обманул мои ожидания. Я страшно высоко ставлю его живопись, а между тем на него нельзя смотреть как на учителя. С ним хочется обращаться как с товарищем, но картины его стоят тут же и наполняют зрителя изумлением, страхом и завистью. Их четыре или пять; все они в натуральную величину и написаны на открытом воздухе. Это чудные вещи. На одной из них изображена восьми– или десятилетняя девочка, пасущая коров в поле; обнаженное дерево и корова вдали полны поэзии, глаза малютки выражают детскую, наивную задумчивость. По-видимому, он очень доволен собою, этот Бастьен!
27 января
Гамбетта уже не министр, но, по-моему, это ничего. Но обратите внимание во всем этом на низость и недобросовестность людей! Те, которые преследуют Гамбетту, сами не верят этим глупым обвинениям в стремлении к диктатуре. Я всегда буду возмущаться низостями, которые совершаются ежедневно.
30 января
В субботу я хорошо провела день. У нас был Бастьен, которого я встретила накануне на балу в пользу бретонских спасательных лодок; он остался более часу; я показала ему свои работы, и он давал мне советы с лестной для меня серьезностью. Впрочем, он сказал мне, что у меня замечательное дарование. Это не было сказано тоном, допускающим подозрение в снисходительности; и я почувствовала такую сильную радость, что готова была обнять маленького человечка и расцеловать его.
Все равно, я рада, что слышала это. Он советовал и говорил мне то же самое, что говорят Тони и Жулиан. Впрочем, разве он не ученик Кабанеля? У всякого свой темперамент, но что касается так называемой грамматики искусства, то ей следует учиться у классиков. Ни Бастьен и никто другой не могут научить своим отличительным свойствам – выучиваются только тому, чему можно научиться, все остальное зависит от самого себя.
13 февраля
Если бы я могла продолжать работать как эти дни, я была бы счастлива! Дело не в том, чтобы работать, как машина, но быть занятым все время и думать о том, что делаешь, это счастье. Против этого не устоит никакое другое занятие. И я, которая так часто жалуется, я благодарю Бога за эти три дня и в то же время дрожу, что это не будет так продолжаться.
Тогда все получает другой вид, мелочи жизни уже не тревожат; поднимаешься выше этого, и все существо проникается каким-то светом, божественным снисхождением к толпе, которая не понимает тайных, переменчивых, разнообразных причин вашего блаженства, которое более непрочно, чем самый недолговечный цветок.
14 февраля
Какие восхитительные наблюдения можем делать мы, читавшие Бальзака и читающие Золя!
15 февраля
Глаза открываются мало-помалу; прежде я видела только рисунок и сюжеты для картин; теперь… О! Теперь! Если бы я писала так, как я вижу, у меня был бы талант. Я вижу пейзаж, я вижу и люблю пейзаж, воду, воздух, краски – краски!
27 февраля
После тысячи мучений я прорвала полотно. Мальчики плохо позировали; объясняя мои неудачи моею неспособностью, я все начинала сызнова, и наконец… это отлично. Эти ужасные мальчишки двигались, смеялись, кричали, дрались… Я просто делаю этюд, чтобы не мучиться больше с картиной; все, что я предпринимала, выходило или банально, или неуклюже, или претенциозно, хотя сначала очень нравилось мне… Впрочем, лучше делать простые этюды; я переживаю такой критический момент, и так много времени потеряно.
20 мая
Процесс был большим несчастьем, но это кончено. Значит, нападают на другое, на меня… И когда я спокойно сижу одна в моей комнате, среди моих книг, после восьми– или десятичасовой работы, я думаю о том, что могут рассказывать обо мне; что меня нравственно вырывают из этой могильной среды, раздевают, обезображивают, сплетничают обо мне; что мне приписывают такие мысли, такие поступки… Говорят, что мне двадцать пять лет, и обвиняют меня в такой оскорбительной независимости, какой у меня никогда не было. От всего этого опускаются руки и хочется плакать.
Вчера мы были в Салоне с братом Бастьена и с Б. Бастьен-Лепаж напишет портрет крестьянского мальчика, смотрящего на радугу; это будет превосходно, я вам говорю. Что за талант, что за талант!
22 мая
Я думаю, что могу полюбить… только одного, и, вероятно, он никогда не будет любить меня. Жулиан прав: чтобы я могла отомстить, это должно быть уничтожающее превосходство… Выйти замуж за великого сего мира, богатого, известного. Это было бы отлично! Или же иметь такой талант, как у Бастьен-Лепажа, благодаря которому головы всего Парижа оборачивались бы, когда вы проходите мимо. Нечего сказать, я хороша; говорю об этом, как будто это может со мной случиться! У меня одни только несчастья. О, Боже мой. Боже мой, дай же мне наконец отомстить! Я буду так добра ко всем страдающим.
25 мая
Сегодня утром мы были у Каролуса Дюрана. Какое удивительное и прелестное существо! Позер, комедиант – все что хотите! Не стану скрывать от вас, что имею отвращение к бесцветным людям, и тем хуже для тех, кто видит только комическую сторону этих исключительных натур, которые рисуются, ломаются, но вместе с тем прелестны. Вы будете противопоставлять им высокие таланты, которые остаются скромными и спокойными, – тем хуже для них и для нас!
Когда небо осыпает вас всеми своими дарами, вы будете несовершенным существом, если будете сидеть в углу и не воспользуетесь вашим истинным достоинством, чтобы немножко поломаться, как говорят вульгарные дураки.
28 мая
Герцогиня Фиц-Джемс приезжала сегодня, чтобы сказать, что представит нас вечером своей невестке. Там был бал. Мама уверяла, что эта дама чрезвычайно любезна; они видятся довольно часто, но верного о ней я ничего не знаю. Итак, мы заехали за ней и отправились вместе. Все было самое изысканное: настоящее общество, настоящие молодые девушки, свежие и очаровательные, настоящие туалеты. Имена, которые здесь называли, самые известные и аристократические, и немногие известные мне лица как нельзя более элегантны. Что до меня, то я была в восторге от того, что нахожусь в этой гостиной; но это, однако, не мешало мне все время думать о пастели, деланной утром, которая казалась мне неудачной и мучила меня.
Конечно, нельзя выезжать таким образом. Мне нужно было бы по крайней мере два месяца ездить в свет, чтобы увлечься этим. Но неужели вы думаете, что это действительно доставляет мне удовольствие? Есть ли что-нибудь более глупое, пустое и пошлое? И подумать, что есть люди, которые только этим и живут! Я бы желала выезжать редко, только для того, чтобы не удаляться от общества, как знаменитые люди, которые бывают в обществе только для отдыха; но все-таки нужно бывать довольно часто, чтобы не производить впечатление готтентота или обитателя Луны.
29 мая
Сегодня утром я видела Жулиана; он находит, что портрет Дины пастелью очень хорош. Но теперь речь идет о большой картине для будущего года; сюжет не нравится Жулиану, который слишком легкомыслен и не углубился в него. Я очень увлечена и не смею признаться в этом, ибо только талантливые люди имеют право увлекаться сюжетом; с моей стороны это смешные притязания. Я подумывала было о сцене из карнавала и отказываюсь от своего намерения. Это было бы только хвастовство красками. Я чувствую глубоко то, что хочу сделать; ум и сердце охвачены, и иногда по целым месяцам в течение двух лет это занимало меня… Не знаю, буду ли я достаточно сильна нынешней зимою, чтобы сделать это хорошо. Что же, тем хуже! Пусть это будет посредственною картиной, но зато это будет исполнено всеми другими достоинствами – правдивостью, чувством и движением. Нельзя сделать дурно того, чем полна вся душа, особенно когда хорошо рисуешь.
Это тот момент, когда Иосиф Аримафейский похоронил Христа и гроб завалили камнями; все ушли, наступает ночь, и Мария Магдалина и другая Мария одни сидят у гроба.
Это один из лучших моментов Божественной драмы и один из наименее затронутых.
Тут есть величие и простота, что-то страшное, трогательное и человеческое… Какое-то ужасное спокойствие; эти две несчастные женщины, обессиленные горем… Остается еще изучить материальную сторону картины…
8 июня
Уже больше четырех часов, и еще совсем светло; я закрываю наглухо ставни, чтобы искусственно продлить ночь, между тем как на улице мелькают синие блузы мастеровых, идущих уже на работу. Бедные люди! Дождь идет еще раньше пяти часов утра; эти несчастные трудятся, а мы жалуемся на наши беды, покоясь на кружевах от Дусе! Однако какую я сказала пошлую и банальную фразу! Всякий страдает и жалуется в своей сфере и имеет на то свои причины. Я в настоящее время ни на что не жалуюсь, так как никто не виноват в том, что у меня нет таланта. Я жалуюсь только на то, что несправедливо, неестественно и противно, как многое в прошедшем… и даже в настоящем, хотя это уединение есть благо, которое, может быть, способно было бы вызвать во мне талант. Я поеду в Бретань и буду там работать.
20 июня
О, как женщины достойны сожаления! Мужчины, по крайней мере, свободны.
Совершенная независимость в повседневной жизни, свобода идти куда угодно, выходить, обедать у себя или в трактире, ходить пешком в Булонский лес или в кафе – такая свобода составляет половину таланта и три четверти обыкновенного счастья.
Но, скажете вы, создайте себе эту свободу, вы, выдающаяся женщина!
Но это невозможно, потому что женщина, которая освобождает себя таким образом (речь идет о молодой и хорошенькой, разумеется), почти исключается из общества; она становится странной, чудачкой, подвергается пересудам, на нее обращают внимание – и она делается, таким образом, еще менее свободной, чем если бы она не нарушала этих идиотских правил. Итак, остается оплакивать свой пол.
21 июня
Я все соскоблила и даже отдала холст, чтобы не видеть его больше; это убийственно. Живопись не дается мне! Но только я уничтожила то, что окончила, как уже чувствую себя легко, свободно и готова начинать все снова.
Сегодня, в 5 часов, мы ходили в мастерскую Бастьен-Лепажа смотреть его эскизы; сам он в Лондоне, и нас принял брат его Эмиль.
Я взяла с собою Брисбан и Л., и мы провели превесело целый час, смеялись, болтали, делали наброски – и все было так хорошо, так прилично. Если бы я услышала о чем-нибудь подобном относительно Бреслау, я, наверно, стала бы жаловаться и завидовать тому, что она живет среди художников. Я имею то, чего желала, – разве у меня от этого прибавилось таланта?
23 июня
В 5 часов Дина, Л. и я были у Эмиля Бастьена, который позирует для меня.
Я работаю с настоящей палитрой настоящего Бастьена, его красками, его кистью, в его мастерской, и моделью служит мне его брат.
Конечно, все это глупости, ребячество и предрассудки; маленькая шведка хотела дотронуться до его палитры. Я оставила у себя его краски, бывшие на палитре; рука у меня дрожала, и мы смеялись.
12 июля
Я готовлюсь к своей пресловутой картине, которая представит множество затруднений. Надо будет найти пейзаж вроде того, какой я себе представляю… И гробница должна быть высечена в скале… Я бы желала, чтобы можно было сделать это поближе к Парижу, на Капри, там настоящий Восток и не так далеко… Скала… какая-нибудь скала… Но мне нужна была бы настоящая гробница, какие наверно есть в Алжире и в особенности в Иерусалиме – какая-нибудь еврейская гробница, высеченная в скале. А модели? Там-то я, конечно, найду отличные модели, в настоящих костюмах. Жулиан считает это сумасшествием. Он говорит, что понимает, если мастера, которые уже все знают, отправляются писать свои картины на месте, так как они едут искать недостающего им местного колорита, сочности, настоящей правды; мне же недостает… всего! Пускай! Но мне кажется, что я именно это и должна искать, потому что я могу иметь успех только при полной искренности; как же он может требовать от меня, чтобы я отказалась от того, что составляет мое единственное или почти единственное достоинство? Какой смысл будет иметь эта картина, если я напишу ее в Сен-Жермене с евреями из Батиньоля, в аранжированных костюмах? Тогда как там я найду настоящие, поношенные, потертые одежды, и эти случайно подмеченные тона часто дают больше, чем то, что делаешь преднамеренно.
О, если бы я могла сделать это хорошо! Жулиан вполне понимает мою идею; я не думала (и очень ошибалась), чтобы он мог так глубоко проникнуться красотою этой сцены. Да, это правда. Нужно, чтобы в этом спокойствии было что-то ужасное, полное отчаяния, глубокого отчаяния… Это конец всего. В женщине, которая сидит там, должно выражаться больше, чем горе, – это драма колоссальная, полная, ужасающая. Оцепенение души, у которой ничего не осталось… И если принять во внимание прошлое этого существа, то во всем этом есть что-то до того человечное, интересное и величественное, до того захватывающее, что чувствуешь, точно какое-то дыхание проходит по волосам.
И я не сделаю это хорошо? Когда это зависит от меня? Я могу создать это своими руками, и моя страстная, непоколебимая, упорная решимость может оказаться достаточной? Неужели недостаточно того жгучего, безумного желания передать другим мое чувство? Полно! Как можно сомневаться в этом? Как могу я не преодолеть технических трудностей, когда эта вещь наполняет мое сердце, душу, ум и зрение?..
Я чувствую себя способной на все. Только одно… я могу захворать… Я каждый день буду просить Бога, чтобы этого не случилось!
Как может моя рука оказаться неспособной выполнить то, что хочет выразить душа?.. Полно!
О, Боже мой, на коленях умоляю Тебя… не противиться этому счастью. Смиренно, простершись во прахе, умоляю Тебя… даже не помочь, а только позволить мне работать без особенных препятствий.
Поль Сезанн. Женщина с кофейником. 1890–1895
7 августа
Улица! Возвращаясь от Робера-Флери, мы велели ехать улицами, окружающими Триумфальную арку; было около шести часов, и притом лето. Привратники, дети, мальчишки, рабочие, женщины – все это толчется у дверей, сидит на скамейках или болтает перед винными лавочками.
Но тут есть картины очаровательные! Положительно очаровательные! Я далека от того, чтобы сводить все на копию, это дело посредственностей; но в этой жизни, в этой правде есть восхитительные сцены! Величайшие мастера велики только правдой.
Я вернулась восхищенная улицей, и те, которые смеются над натурализмом, дураки и не понимают, в чем дело. Нужно суметь схватить природу и уметь выбирать. Все дело художника в выборе.
17 августа
Мне кажется, что Робер-Флери составил обо мне очень верное мнение; он принимает меня за то, чем я желала бы казаться, т. е. находит меня очень милой или, говоря серьезно, считает меня совсем еще молодой девушкой, даже ребенком, в том смысле, что, разговаривая как женщина, я в глубине души и перед самой собой чиста, как ангел.
Я, право, думаю, что он уважает меня в самом высоком смысле этого слова; я была бы очень удивлена, если бы он в моем присутствии сказал что бы то ни было… неприличное. Я всегда утверждаю, что говорю обо всем… Да, но на все есть своя манера; в разговоре может быть больше чем приличие, может быть щепетильность; я, может быть, разговариваю как женщина, но употребляю метафоры, маскирую выражения так, что кажется, будто я и не касаюсь того, чего не следует. Это то же самое, как если бы я сказала «вещь, которую я написала», вместо того чтобы сказать «моя картина».
Никогда, даже в разговоре с Жулианом, я не употребляю слов – любовник, любовница, связь, – этих обыкновенных и точных выражений, которые заставляют предполагать, что все говорит о вещах, хорошо знакомых вам.
Все знают, конечно, что все это известно, но по этим понятиям скользишь незаметно; даже если бы я не знала ничего, я не казалась бы смешною, так как есть разговоры, при которых немножко ядовитости, насмешки над неким Амуром неизбежны, хотя бы только вскользь.
С Робер-Флери мы по преимуществу говорим об искусстве, да и то… Но все-таки невольно приходится касаться музыки, литературы.
Итак, я вижу, что Робер-Флери верно понимает… это знание, что он находит это весьма естественным и что если я настолько откровенна, чтобы не разыгрывать из себя дурочку, то у него есть настолько такта, чтобы никогда не доходить до того, до чего дохожу я.
Не забудьте, что по этому дневнику вы не можете знать меня, здесь я серьезна и без прикрас; в обществе я лучше – в моем разговоре попадаются удачные обороты, образы, новые, свежие, забавные вещи.
Я глупа и тщеславна… Я уже готова думать, будто этот академик Робер-Флери меня понимает так, как я себя понимаю, и, следовательно, должен ценить мои побуждения.
Нет сомнения, что собственные достоинства всегда преувеличиваешь, приписываешь их себе даже тогда, когда совсем их не имеешь.
18 августа
Мы не застали Бастьена дома; я оставила ему записку и мельком взглянула на то, что он привез из Лондона. Там, между прочим, есть маленький мошенник-рассыльный, который стоит опершись на тумбу; кажется, что слышишь стук проезжающих мимо экипажей. Фон совсем не отделан, но фигура! Что это за человек? О, как глупы те, которые признают в нем одну только технику. Это могучий, оригинальный художник: он поэт, философ; остальные перед ним – ремесленники… После его картин никакие другие не нравятся, ибо его картины прекрасны, как сама жизнь, как сама природа. На днях Тони принужден был согласиться со мной в том, что нужно быть великим художником, чтобы копировать природу, и что только великий художник может понять и передать ее. Идеальная сторона должна заключаться в выборе сюжета, что до выполнения, то оно должно быть в полном смысле слова то, что невежды называют натурализмом.
Там есть также набросок маленького портрета Коклена-старшего… Я окаменела при виде его – это его гримаса, его руки шевелятся, он говорит, он подмигивает!
21 августа
Я готова… растерзать весь мир! Я ничего не делаю! А время уходит, вот уже четыре дня, как я не позировала. Я начала этюд под открытым небом, но дождь идет, и ветер все опрокидывает: я ничего не делаю.
Я вам говорю, что схожу с ума перед этой пустотой! Говорят, что эти мучения доказывают, что я не ничтожество. К сожалению, нет! Они доказывают только, что я умна и все понимаю…
Впрочем, я пишу три года.
Дураки думают, что для того, чтобы быть «современным» или реалистом, достаточно писать первую попавшуюся вещь, не аранжируя ее. Хорошо, не аранжируйте, но выбирайте и схватывайте, в этом все.
23 августа
Вместо того чтобы прилежно работать над каким-нибудь этюдом, я гуляю. Да, барышня совершает артистические прогулки и наблюдает!
Я перечла на английском языке одну вещь Уайды, женщины не особенно талантливой; называется «Ариадна».
Эта книга создана для того, чтобы волновать до последней степени; я двадцать раз готова была перечесть ее вот уже в продолжение трех лет, но всякий раз я отступала, зная, как волновала и будет всегда волновать меня эта вещь. Там говорится о любви и искусстве, и дело происходит в Риме – три вещи, из которых каждая в отдельности достаточна, чтобы увлечь меня, и наименьшая из них – любовь. Можно было бы исключить из книги все, что говорится о любви, и она, тем не менее, способна была бы свести меня с ума. К Риму я чувствую обожание, страсть, уважение, ни с чем не сравнимые. Ибо Рим художников и поэтов, настоящий Рим, вовсе не соединяется в моем представлении со светским Римом, который доставил мне страдания. Я помню только поэтический и артистический Рим, перед которым преклоняюсь.
В этой книге говорится о скульптуре; я постоянно готова заниматься ею.
О дивная сила искусства! О божественное, несравненное чувство, которое может заместить вам все! О высочайшее наслаждение, которое поднимает вас высоко над землею! С прерывающимся дыханием и с полными слез глазами я падаю ниц перед Богом, умоляя его о помощи.
Это сведет меня с ума; я хочу делать десять различных вещей зараз; я чувствую, верю, понимаете ли, верю в то, что сделаю что-нибудь выдающееся. И душа моя уносится на неведомые высоты.
Дюма совершенно прав: не вы владеете сюжетом, а сюжет – вами. Человек, который ставит на карту 100 су, может испытывать те же муки, какие испытывает тот, кто ставит сто тысяч франков. Итак, я могу следить за собою.
Нет, нет! Я чувствую такую потребность передать свои впечатления, такую силу художественного чувства, столько смутных идей толпятся в моей голове, что они не могут не проявиться когда-нибудь…
Где и как найти способ выразить все это?
29 августа
Эта книга не дает мне покоя. Уйда – не Бальзак, не Жорж Санд, не Дюма, но она написала вещь, которая волнует меня по профессиональным причинам. У нее очень верные взгляды на искусство – мнения, собранные в мастерских Италии, где она жила.
Там есть некоторые вещи… Она говорит, например, что у настоящих художников, не ремесленников, замысел всегда неизмеримо превосходит способность выполнения. Затем, великий скульптор Марике (все в том же романе), видя скульптурные опыты героини, будущей гениальной женщины, говорит: «Пусть она придет работать, она сделает то, что захочет». Да, говаривал Тони, подолгу рассматривая мои рисунки в мастерской, работайте, вы способны выполнить то, что задумаете.
Но я, несомненно, работала в ложном направлении. Сен-Марсо сказал, что мои рисунки – рисунки скульптора; я всегда любила форму больше всего.
Я, конечно, обожаю и краски, но теперь, после этой книги, и даже раньше… живопись кажется мне жалкой в сравнении со скульптурой.
Что же я делаю? Маленькую девочку, которая накинула на плечи свою черную юбку и держит открытый зонтик. Я работаю на воздухе, и дождь идет почти каждый день. И потом… что это может значить? Что это в сравнении с мыслью, выраженною в мраморе?
– Ариадна! Жулиан и Тони нашли, что в эскизе было чувство; меня этот сюжет волнует, как теперешняя картина. Вот уже три года, что я собираюсь заняться скульптурой, чтобы выполнить этот замысел.
Тезей убежал ночью, и с наступлением утра Ариадна, увидев себя одинокой, начинает обыскивать остров по всем направлениям; и вот, при первых лучах солнца, с высоты крутого утеса, замечает на горизонте все уменьшающуюся точку – корабль… Тогда… Вот мгновение, которое трудно описать и которое нужно схватить: она не может идти дальше, она не может звать; кругом вода; корабль едва чернеет на горизонте. Тогда она падает на утес, опустив голову на правую руку, и вся ее поза должна выражать весь ужас одиночества и отчаяния этой бессовестно покинутой женщины… Я не умею объяснить этого, но в ее фигуре должно выражаться бессильное бешенство, полный упадок сил, высшая степень подавленности, и все это страшно волнует меня. Вы понимаете, она там, на краю утеса, убитая горем и, мне кажется, полная бессильной ярости; это конец всего, ослабление всего существа!.. Эта крутая скала, грубая, стихийная сила… связывающая волю… словом…
30 августа
Я рисую свою Магдалину; у меня превосходная модель, впрочем, я три года тому назад видела голову, которую хочу сделать, и у этой женщины как раз те же черты и то же напряженное, ужасное, полное отчаяния выражение.
Что привлекает меня к живописи – это жизнь, современность, подвижность вещей, которые видишь. Но как выразить?.. Помимо того, что это страшно трудно, почти невозможно, это не волнует!
Ни одна картина не волновала меня так, как «Жанна д’Арк» Бастьен-Лепажа, потому что в ней есть что-то таинственное, необычайное. Он вполне понял ее чувство, это полное, сильное выражение великого вдохновения, – одним словом, он видел во всем этом что-то великое, гуманное, вдохновенное и божественное, так, как это и было, и как никто раньше не мог этого понять. И сколько раз уже писали Жанну д’Арк! Боже мой! Столько же, сколько Маргарит и Офелий! Он собирается писать Офелию; я уверена, что это будет дивная вещь. Что же касается Маргариты, то и я, ничтожная, думаю написать ее… так как есть одно мгновение… как в «Жанне д’Арк». Это то мгновение, когда молодая девушка, не оперная Маргарита в платье из тонкого кашемира, а та, которая жила в деревне или в маленьком городке, – простая, не смейтесь, человеческая, если вы поймете, вы не будете смеяться, – когда до тех пор спокойная девушка возвращается домой, в свой сад, после встречи с Фаустом и останавливается, полуопустив глаза, устремленные вдаль, полуудивленная, полуулыбающаяся, полузадумчивая, чувствуя, как в ней пробуждается что-то новое, неведомое, прекрасное и грустное… Руки едва держат молитвенник, готовый выскользнуть… Для этого я поеду в маленький немецкий городок и буду писать картину летом в будущем году.
О, сумасшедшая, прежде всего нужно знать свое дело. Мысль, красота и философия живописи заключаются в отчетливом понимании жизни.
Передать жизнь тонами, которые пели бы, а все правдивые тона поют.
Винсент Ван Гог. Портрет Ижена Боша. 1888
1 сентября
Сегодня я получила письмо от мамы, которая пишет, что молодые соседи приезжают гостить на два месяца со своими друзьями и что будут устроены большие охоты. Она собирается возвращаться назад, но я просила предупредить меня в случае, если… И вот она меня предупреждает. Это вызывает во мне целую бурю сомнений, неизвестности и замешательства. Если я поеду, моя выставка погибла… Если бы еще я проработала все лето, я имела бы предлог – желание отдохнуть; но этого не было. Согласитесь, что это было бы превосходно, но это слишком невероятно. Провести четверо суток в вагоне железной дороги и пожертвовать работой целого года, чтобы поехать туда, попытаться понравиться и выйти замуж за человека, которого никогда до тех пор не видела. Разум и его доводы не имеют в этом случае никакого значения… Раз я обсуждаю эту глупость, я способна сделать ее… Я не знаю, что делать… Я пойду к гадалке, к старухе Жакоб, которая предсказала мне, что я буду очень больна.
За двадцать франков я купила себе счастье по крайней мере на два дня. Старуха Жакоб наговорила мне массу прелестных, но немного запутанных вещей. Но что постоянно повторяется, это то, что я буду иметь огромный, блестящий успех; журналы заговорят обо мне; у меня будет большой талант… и потом перемена судьбы, счастье в замужестве, много денег и путешествия, да – много путешествий.
Я отправляюсь спать, полная глупой, ребяческой радости, если хотите, но ведь это стоило всего 20 франков. Я поеду не в Россию, а в Алжир; если это должно случиться, это случится там так же, как и в России.
Покойной ночи, мне так хорошо после всего этого; завтра мне будет легче работать.
Я только что читала Бальзака! Кстати, я схожусь с его де Марсэ, когда говорю об этом втором «я», которое остается равнодушным наблюдателем первого. И подумать, что Бальзак умер! Счастье любви можно познать, только любя человека с всеобъемлющим гением… В Бальзаке вы найдете все… Я положительно горжусь тем, что иногда думала так же, как и он.
В России. 14 октября
На границе мы расстались с тетей, и я продолжаю путешествие с Полем.
На станциях я делаю эскизы, а в вагоне читаю «Tra los montes», таким образом, я как будто снова в Испании: эта вещь Теофиля Готье – настоящая картина.
19 октября
Наконец-то они у нас! Они приехали с Мишкой к завтраку. Старший, Виктор, стройный, брюнет, с большим, немного толстым орлиным носом и довольно толстыми губами; у него аристократическая осанка, и он довольно симпатичен. Младший, Василий, такого же высокого роста, гораздо толще брата, очень белокурый, краснощекий и с плутоватыми глазами; он имеет вид человека живого, воинственного, сообщительного, грубого и… пошлого. На мне было вчерашнее платье: белое шерстяное, короткое и очень простенькое. Детские башмаки из темно-красной кожи, довольно высокая прическа. Я не в лучшем своем виде, но и не очень дурна.
Происшествие. Их кучер напился, и мне кажется, что это здесь весьма обыкновенное явление, тогда князь Василий вышел, как ни в чем не бывало, и побил несчастного кулаками и сапогами со шпорами. Не правда ли, дрожь по спине пробегает? Этот мальчик ужасен, и в сравнении с ним старший кажется мне симпатичным.
Не думаю, чтобы кто-нибудь из них в меня влюбился – во мне нет ничего, что могло бы им понравиться: я среднего роста, пропорционально сложена, не очень белокура; у меня серые глаза, грудь не очень развита, и талия не слишком тоненькая… что до душевных качеств, то, без излишней гордости, я полагаю, что я настолько выше их, что они не оценят меня.
Как светская женщина я едва ли привлекательнее многих женщин их круга.
20–23 октября
В субботу утром всеобщее смущение. Князья извиняются! Они не приедут на охоту, так как отозваны телеграммой в соседнее имение. А я так старалась одеваться! Папа позеленел, а мама покраснела. Я хохотала от души. Наконец мы тронулись, с досадой и давая себе слово не ехать дальше чем до Мишеля, который приготовил великолепный завтрак и где предполагали дать отдохнуть лошадям. Потом, немного успокоившись, мы продолжали путь, ссорясь каждые пять минут из-за возвращения домой. Мишке сказали, что маме нездоровится.
Впрочем, охота была великолепна: убили 15 волков и одну лисицу. Погода была превосходная; мы пили чай в лесу, причем на нас смотрело более четырехсот крестьян, которые перед тем загоняли зверя. Потом дали водки крестьянам.
Сегодня был один из тех хороших вечеров, какие бывали во времена маминого господства. Все свечи зажжены, все двери раскрыты, и семь больших зал кажутся совершенно полными, хотя нас было всего шестнадцать человек.
7 ноября
Тут ездят на бал, пьянствуют с товарищами, играют в карты, ужинают с танцовщицами; с дамами же разговаривают только тогда, когда влюблены в них.
Разговаривать просто со знакомыми и обо всем, как во Франции, – этого в здешних странах и не знают; единственный предмет для разговора – самые вульгарные, самые плоские сплетни. Лучшее развлечение – гостиница: туда собираются окрестные помещики (дворяне) и проводят там целые недели – ходят друг к другу в гости по комнатам, пьют и играют в карты. Театр пуст, и ко всему, что напоминает интеллигентное препровождение времени, относятся с отвращением.
Перед аристократией в этой благословенной стране все преклоняются. Что, если бы я сделалась такою? Нет, надо уехать!
Возвращаюсь к князьям. К великому удивлению всей Полтавы, я продолжаю обращаться с ними как с простыми светскими людьми, мне равными, и они мне не особенно нравятся. Однако младший, тот, который побил кучера, – веселый, любезный и неглупый человек.
Правда, он побил кучера… Но это отчасти объясняется его молодостью и страной, в которой это происходит. Вы думаете, это удивляет или шокирует кого-нибудь? В другом это было бы совершенно естественно, в князе Р.[20] – прелестно! Нет, я уеду!
Париж. 15 ноября
Я в Париже. Мы уехали в четверг вечером.
16 ноября
Я была у доктора – у клинического хирурга, неизвестного и скромного, чтобы он не обманул меня.
О, это не очень-то любезный господин. Он так преспокойно и сказал мне: я никогда не вылечусь. Но мое состояние может улучшиться настолько, что глухота будет выносимой; она и теперь выносима; можно надеяться, что со временем она еще уменьшится.
Сегодня я впервые отважилась сказать прямо: господин доктор, я глохну. До сих пор я употребляла выражения вроде: я плохо слышу, у меня шум в ушах и т. п. В этот раз я решилась произнести это ужасное слово, и доктор ответил мне резко и грубо, как истый хирург.
Итак, я никогда не вылечусь… Это будет выносимо, но между мною и остальным миром будет завеса.
Шум ветра, плеск воды, дождь, ударяющийся о стекла окон… слова, произносимые вполголоса… я не буду слышать ничего этого!
Я страдаю в том, что мне всего нужнее, всего дороже.
Только бы оно не пошло дальше!
17 ноября
Итак, я буду калекой, неполным существом, по сравнению с кем бы то ни было. Я буду нуждаться в помощи и содействии своих, в деликатности чужих. Свобода, независимость – все кончено.
Мне, такой гордой, придется краснеть и наблюдать за собой каждую минуту.
Да, все узнают или уже знают это, все, которым так хотелось оклеветать меня… Она глуха. Но Боже мой, зачем это ужасное, возмутительное, страшное несчастье?
21 ноября
Со вчерашнего дня я работаю в академии, возвратившись к самой полной простоте, не заботясь ни о выборе модели, ни о ее красоте, оставив всякие притязания. Шесть месяцев такой работы, говорит Жулиан, и вы сделаете все, что захотите.
Они все надоели мне, я сама себе надоела! Я никогда не вьлечусь. Чувствуете ли вы, сколько в этом отчаянного, несправедливого, ужасного?
Понимаете ли вы – на всю жизнь, до самой смерти?..
Это, конечно, повлияет на мой характер и рассудок, не говоря уже о том, что у меня из-за этого появились седые волосы.
Повторяю, я еще не верю этому. Не может быть, чтобы нельзя было ничего, ничего сделать, чтобы это осталось навсегда, что я умру с этой завесой между мной и остальным миром и что никогда, никогда, никогда!..
Не правда ли, ведь нельзя верить тому, что этот приговор так решителен, так безвозвратен? И ни тени надежды, ни тени, ни тени! Меня это так раздражает во время работы; я все опасаюсь, что не услышу того, что скажет модель или кто-нибудь в мастерской, или что будут смеяться… или, наконец, будут говорить ради меня слишком громко.
А с моделью на дому? Что ж, ей скажут просто, что… что? Что я плохо слышу! Попробуйте. Такое признание в своем уродстве! И в таком унизительном, глупом, грустном уродстве.
Мне все кажется, что я говорю о ком-то другом… Да и как убедиться в реальности этого ужасного кошмара, этой безобразной, жестокой, возмутительной вещи?.. И это в лучшее время жизни, в молодости? Как уверить себя, что это был не дурной сон, что это возможно и останется так навсегда?
23 ноября
Все, что я сделала за эту неделю, так гадко, что я сама ничего не понимаю.
3 декабря
О, Боже мой! Дай мне силы делать только этюды, так как все они того мнения, что нужно сначала победить технические трудности, а затем сделаешь все, что захочешь.
Я так хорошо рассуждаю, а у самой нет силы… Когда владеешь техникой, все, что ни делаешь, хорошо или почти хорошо, тогда как теперь у меня…
Два или три дня тому назад мы поехали в отель Друо, где была выставка драгоценных камней; мама, тетя и Дина восхищались некоторыми уборами; мне же ничего не нравилось, за исключением одного ряда огромных чудесных бриллиантов; была минута, когда мне очень хотелось иметь их. Иметь два из этих камней было бы уже очень приятно, но лучше было и не думать о подобном чуде; итак, я удовольствовалась мыслью, что, может быть, когда-нибудь, выйдя замуж за миллионера, я буду в состоянии иметь серьги такой величины или брошку, так как камни такой величины едва ли можно носить в ушах.
Это, кажется, был первый случай, когда я оценила драгоценные камни. И представьте, вчера вечером мне принесли эти два бриллианта; оказалось, что мои матери купили их для меня, хотя я только намекнула о своем желании, без малейшей надежды иметь их: «Вот единственные камни, которые мне хотелось бы иметь». Они стоят двадцать пять тысяч. Камни желтоватые, иначе они стоили бы втрое дороже.
Я забавлялась ими весь вечер, пока лепила, Д. играл на рояле, а Божидар и другие разговаривали. Эти два камня ночью лежали около моей постели, и я не расставалась с ними даже во время сеанса.
Ах, если бы другие вещи, которые кажутся столь же невыполнимыми, могли бы так же случиться.
14 декабря
Сегодня утром мы ездили смотреть картины, которые Бастьен привез из деревни. Он был в мастерской и подправлял края картин и кое-что в фонах. Мы встретились друзьями, он такой добродушный, такой милый.
А что, если он вовсе не таков? Но он так талантлив! Впрочем, нет, он все-таки замечательно мил. А бедный архитектор совсем стушевывается в присутствии знаменитого брата. Жюль привез несколько этюдов: «Вечер в деревне».
Сумерки переданы превосходно: наступающая тишина, крестьяне, возвращающиеся с работ; все смолкло, слышен только лай собак. Какие краски, какая поэзия и какая прелесть!
17 декабря
Настоящий, единственный, великий Бастьен-Лепаж был у нас сегодня. Раздраженная и униженная тем, что мне нечего было показать ему, я, принимая его, была неловка, смущена и встревожена.
Он оставался больше двух часов, осмотревши все решительно холсты, какие только были в комнате; я же была нервная, смеялась некстати и старалась мешать ему рассматривать мои работы. Этот великий художник очень добр, он старался успокоить меня, и мы говорили о Жулиане, который виноват в моем ужасном отчаянии. Бастьен не смотрит на меня как на светскую барышню; он говорит то же, что Робер-Флери и Жулиан, но без этих ужасных шуточек Жулиана, который уверяет, что я ничего не делаю, что все кончено и я погибла. Вот что сводит меня с ума. Бастьен божествен, т. е. я обожаю его талант. И мне кажется, что в моем смущении я деликатно и неожиданно говорила ему лестные вещи. Ему должно было сильно польстить уже и то, как я приняла его.
20 декабря
У меня еще ничего не начато для Салона и ничего не представляется. Это просто мучение…
23 декабря
Итак, сегодня у нас обедали – великий, настоящий, единственный, несравненный Бастьен-Лепаж и его брат.
Кроме них, не был приглашен никто, что было немножко стеснительно; они обедали в первый раз, и это могло казаться слишком уж интимным, потом я боялась, что будет скучно, – вы понимаете!
Что касается брата, то он принят почти так же просто, как Божидар, но великий, единственный etc… Словом, этот человечек, который, будь он даже весь из золота, все-таки не стоил бы своего таланта, был мил и, как мне кажется, польщен тем, что на него смотрят таким образом: никто еще не говорил ему, что он гений. Я также не говорю ему этого, но обращаюсь с ним, как с гением, и искусными ребячествами заставляю его выслушивать ужасные комплименты.
Но чтобы Бастьен не думал, что я не знаю пределов в своем увлечении, я присоединяю к нему Сен-Марсо и говорю: «Вас двое».
Он оставался до полуночи. Я нарисовала бутылку, которая ему понравилась, причем он прибавил: «Вот как надо работать; имейте терпение, сосредоточьтесь, делайте все, что можете, старайтесь в точности передать природу».
28 декабря
Да, у меня чахотка. Доктор сказал мне это сегодня – лечитесь, надо стараться выздороветь, вы будете сожалеть впоследствии.
Мой доктор – молодой человек и имеет интеллигентный вид; на мои возражения против мушек и прочих гадостей он ответил, что я раскаюсь и что он никогда в жизни не видел такой необыкновенной больной, а также что по виду никто и никогда не угадал бы моей болезни. Действительно, вид у меня цветущий, а между тем оба легкие затронуты, хотя левое – гораздо меньше. Он спросил меня, не чахоточные ли у меня родители.
– Да, мой прадедушка и его две сестры – графиня Т. и баронесса С.
– Как бы то ни было, ясно, что вы – чахоточная.
Признаюсь, я, немного пошатываясь, вышла от этого доктора, который интересуется такой оригинальной больной.
Будущей зимой предлогом к поездке на юг будут «Святые жены»; ехать в этом году значило бы возобновлять прошлогоднюю путаницу. Все, за исключением юга, – и да поможет мне Бог!
Пусть мне дадут хотя бы не более десяти лет, но в эти десять лет – славу и любовь, и я умру в тридцать лет довольная. Если бы было с кем, я заключила бы условие: умереть в тридцать лет, но только пожив.
Чахоточная – слово сказано, и это правда. Я поставлю какие угодно мушки, но я хочу писать.
Можно будет прикрывать пятно, убирая лиф цветами, кружевом, тюлем и другими прелестными вещами, к которым часто прибегают, вовсе не нуждаясь в них. Это будет даже очень мило. О, я утешена. Всю жизнь нельзя ставить себе мушки. Через год, много через два года лечения, я буду как все, буду молода, буду…
Я говорила вам, что должна умереть. Я ведь говорила, что скоро умру, это не может так продолжаться; не могут долго продолжаться эта жажда, эти грандиозные стремления. Я говорила вам это еще давно, в Ницце, много лет тому назад, когда я смутно предвидела то, чего мне нужно было для жизни.
Однако меня занимает положение приговоренной или почти приговоренной. В этом положении заключается волнение, я заключаю в себе тайну, смерть коснулась меня своей рукою; в этом есть своего рода прелесть, и прежде всего это ново.
Говорить серьезно о своей смерти – очень интересно, и, повторяю, это меня занимает. И очень жаль, что неудобно, чтобы об этом знал кто-нибудь, кроме Жулиана, моего духовного отца.
31 декабря
Слишком темно, чтобы писать, и мы идем в церковь, а потом еще раз на выставку в улицу Séze – Бастьен, Сен-Марсо и Казен.
Там я провела время превосходно. Что это за наслаждение! До сих пор не видано скульптора, подобного Сен-Марсо. Слова – это сама жизнь! – употребляемые так часто и ставшие от этого банальными, здесь – сущая правда. И помимо этого главного качества, которого достаточно, чтобы осчастливить художника, у него есть глубина мысли и сила чувства, что-то таинственное, которое делает из Сен-Марсо не только человека с громадным талантом, но почти гениального художника.
Но он еще жив и молод – вот почему кажется, что я преувеличиваю.
Подчас я готова предпочесть его Бастьену. Теперь у меня idée fixe – хочется иметь статую одного и картину другого.
1883
1 января
Гамберта, заболевший или раненный несколько дней тому назад, только что умер.
Я не могу выразить странного впечатления, произведенного на меня его смертью. Не верится как-то. Этот человек играл такую роль в жизни всей страны, что нельзя себе ничего представить без него. Победы, поражения, карикатуры, обвинения, похвалы, шутки – все это поддерживалось только им. Газеты говорят о его падении – он никогда не падал! Его министерство! Да разве можно судить о министерстве, длившемся шесть недель?..
Умер, несмотря на семь докторов, все заботы, все усилия спасти его! К чему же после этого заботиться о здоровье, мучиться, страдать? Смерть ужасает меня теперь так, как будто она стояла перед моими глазами.
Да, мне кажется, что это должно случиться… скоро. О, до какой степени чувствуешь свое ничтожество! И к чему все? Зачем?.. Должно быть что-нибудь, кроме этого; этой скоропроходящей жизни недостаточно, она слишком ничтожна сравнительно с нашими мыслями и стремлениями. Есть что-нибудь, кроме нее, – без этого сама жизнь непонятна.
Будущая жизнь… Бывают минуты, когда как-то смутно провидишь ее, не умея понять и ощущая только ужас.
2 января
До сих пор я все еще никак не могу поверить, что Гамбетта умер! Я все еще не могу свыкнуться с этой мыслью, несмотря на шум, вызванный этой смертью, несмотря на газетные статьи, посвященные этому великому событию. Оно произошло еще так недавно, что измерить и понять его значение можно будет только по прошествии некоторого времени.
Советую вам прочесть статью о Гамбетте в «Justice» – газете Клемансо, которая всегда враждебно относилась к Гамбетте. Она меня глубоко тронула.
Сегодня вечером у нас должно было обедать несколько человек знакомых, но никто не явился. Приезжала герцогиня Фитц-Джем поблагодарить за цветы, которые мы ей послали. По ее мнению, со смертью Гамбетты можно рассчитывать на реставрацию.
Мне же это кажется маловероятным… Правда, эта смерть была сильным ударом, таким сильным, что даже я, никому не ведомая чужестранка, была им потрясена до глубины души… Этот гений, так глупо и пошло оклеветанный, заслуживает высокого апофеоза, и я надеюсь, что его друзья воздадут ему должное. Кто заменит его? Клемансо со своим доктринерским красноречием – правда, богатым и убедительным? Я видела этого Клемансо, этого доктора… Я видела его недавно вечером в опере и третьего дня у цветочницы Вальян…
И подумайте только, что их было семеро!
Какой несчастной я себя чувствую, сознавая, что живу совершенно в стороне от того, что, собственно, составляет жизнь обожаемого мною Парижа!..
Быть всегда в стороне от этой жизни!.. И кому же? Мне, которая готова отдать все на свете, чтобы только иметь возможность кипеть вместе со всеми в этом божественном горниле, подле госпожи Адан!
Жери приходил сообщить, что его сын получил орден от султана.
Винсент Ван Гог. Крестьянка вяжет снопы (по мотивам картины Жана Франсуа Милле). 1889
3 января
Наконец-то! Судя по газетам, Бастьен-Лепаж ни на минуту не покидал Ville-d’Avray…
Сегодня вечером мы были в опере. По обыкновению, мы сидели в ложе Каза Риера. Там были Гавини, Жери, Нерво, Лагирл, маркиз и маркиза Вильнёв и маркиза – дочь принца Пьера Бонапарта. На мне было легкое белое газовое платье, покрытое розами. Свою косу я обвила вокруг головы и чувствовала, что эта корона волос была восхитительна. Маркиз де Каза Риера был там же. Это племянник покойного старика, от которого он унаследовал 60 миллионов.
Чтение журналов, наполненных Гамбеттою, сжимает мне голову, как железным кольцом, – эти патриотические тирады, эти звучные слова: патриот, великий гражданин, народный траур! Я не могу работать; я пробовала, хотела заставить себя, и благодаря этому напускному хладнокровию первых часов я сделала только непоправимую ошибку, о которой я буду вечно сожалеть, – оставшись в Париже, вместо того чтобы отправиться в Вилль-д’Авре немедленно по получении известия, осмотреть комнату и даже сделать наброски… Я никогда не буду оппортунисткой.
4 января
Гроб перевезен в Париж и встречен президентом палат. «Благодарю вас за то, что вы озаботились его перевозкой», – говорит он Спюллеру, заливаясь слезами… И я плачу! Суровый, простой, сдержанный Бриссон в слезах! И он не был его другом. «Благодарю вас, что вы озаботились его перевозкой…» В этом звучит истинное чувство, не оставляющее места никакому актерству.
Мы не могли войти туда, прождав очереди в течение двух часов. Толпа вела себя довольно почтительно, если принять в соображение французский характер, давку, толкотню, обязательные в таких случаях разговоры, потребность подвергнуть все случившееся обсуждению, разные смешные случаи, неизбежные в такой сутолоке.
Когда кто-нибудь начинал громко смеяться, находились люди, водворявшие тишину. «Это непристойно! Уважьте его память!» – раздавалось в толпе… Повсюду продавались портреты, медали, иллюстрированные журналы: «Жизнь, смерть Гамбетты!» Сердце сжимается от этого грубого заявления о случившемся, от этой громогласности его, совершенно естественной, конечно, но казавшейся мне каким-то святотатством.
Я видела Жулиана. Он носил с собой в кармане так глубоко растрогавшую меня статью Пельтана.
5 января
В Бурбонском дворце. Нас впустил в палату г. Гавини через особые, привилегированные двери. Уже во дворе я почувствовала, что бледнею от всего, что мне пришлось увидеть. Меня потрясли до глубины души и венки, и озабоченные люди, встречавшиеся нам, и их покрасневшие глаза, и, наконец, величественный, грандиозный катафалк. Огромный, весь задрапированный черной материей зал казался крохотным от множества венков и бесконечной массы цветов. Высоко над балдахином с четырьмя колоннами, обвитыми трехцветными знаменами, стоял гроб. Все это, освещенное массой свечей, ошеломляло своим контрастом с ярким солнечным днем. В ту минуту, когда мама подвела ко мне X., я не выдержала и расплакалась. Плакал и X., пожимая нам руки и беспрерывно повторяя: «Благодарю, благодарю».
Я улыбнулась, как бы извиняясь за свои слезы, но он несколько раз принимался плакать. Когда волнение мое уже улеглось, я хотела пройти мимо него, сделав вид, что не замечаю его, но он схватил мои руки и, снова сжав их, опять повторял свое жалобное: «Благодарю, благодарю».
Я очутилась наконец на воздухе и вернулась к сознанию действительности. Пришел в себя и этот бедный Г., который принял И. за Бастьен-Лепажа и осыпал его комплиментами.
6 января
Мы отправляемся смотреть погребальную процессию из окон Мариновича, в улицу Риволи. Трудно было бы устроиться лучше.
В два часа пушка возвещает о поднятии тела; мы становимся к окнам.
Колесница, предшествуемая военными горнистами на лошадях, музыкантами, играющими marche flinèbre, и тремя огромными повозками, переполненными венками, возбуждали чувство какого-то изумления. Сквозь слезы, вызванные этим грандиозным зрелищем, я различила братьев Бастьен-Лепажей, идущих почти около самой колесницы, сделанной по их проекту; архитектор, которому брат, не нуждающийся в отличиях для своей славы, великодушно уступил первенство, шел, неся шнур от покрова. Колесница низкая, как бы придавленная печалью; покров, из черного бархата, переброшен поперек нее, вместе с несколькими венками; креп, гроб, обернутый знаменами. Мне кажется, что можно было бы пожелать для колесницы больше величественности. Может быть, впрочем, это оттого, что я привыкла к пышности наших церковных обрядов. Но вообще они были совершенно правы, оставив в стороне обычный фасон погребальных дрог и воспроизведя нечто вроде античной колесницы, вызывающей в воображении мысль о перевозе тела Гектора в Трою.
После того как проехали три повозки с цветами и пронесены были многочисленные гигантские венки, можно было бы подумать, что это все, но эти три повозки совершенно теряются в бесконечном шествии, потому что никогда еще, по словам всех, не видано было такой процессии из цветов, траурных знамен и венков.
Признаюсь без всякого стыда, что я была просто поражена всем этим великолепием. Это зрелище трогает, волнует, возбуждает – не хватает слов, чтобы выразить это чувство, непрерывно возрастающее. Как, еще? Да, еще, еще и еще – эти венки всевозможных величин, всех цветов, невиданные, огромные, баснословные, хоругви и ленты с патриотическими надписями, золотая бахрома, блестящая сквозь креп. Эти груды цветов, перлов, бахромы, эти цветники роз, качающихся на солнце, горы фиалок и иммортелей, и потом снова отряд музыкантов, играющих в несколько ускоренном темпе погребальный марш, грустными нотами замирающий в отдалении; потом шум бесчисленных шагов по песку улицы, который можно сравнить с шумом дождя от бесчисленных слез… И еще, и еще проходят делегации, несущие венки, разные общества, корпорации. Париж, Франция, Европа, промышленность, искусство, школы – весь цвет культуры и интеллигенции.
И снова барабаны, обернутые крепом, и дивные звуки музыки после давящего молчания.
Потом снова бесчисленные венки. Наиболее красивые приветствуются одобрительным ропотом толпы. Вот появляются монументальные венки и трехцветные знамена в трауре от городов Эльзаса и Лотарингии, какой-то трепет пробегает по толпе, от которого невольно выступают на глаза слезы. А процессия все продолжается, венки следуют за венками, ленты и цветы сверкают на солнце сквозь черный креп.
Это не похороны, это какое-то триумфальное шествие. Весь народ идет за этим гробом, и, кажется, все цветы Франции срезаны и собраны, чтобы почтить прах этого гения, который воплощает в себе все великодушные стремления этого поколения, который сумел соединить в своей личности всю жизнь молодой страны, который был поэзией, надеждой, главой всех новых людей.
И этот человек умер в сорок четыре года, едва только успев приготовить почву для своего великого дела.
Эта невероятная, единственная в своем роде процессия тянется в течение двух с половиной часов; наконец толпа смыкается, толпа равнодушная и шумливая, уже готовая весело смеяться над испугом лошадей последних кирасиров. Никогда еще не видано было ничего подобного: эта музыка, эти цветы корпорации, дети мелькали сквозь легкий туман, позлащенный солнцем, и все это слагалось в живую картину какого-нибудь апофеоза. Этот золотистый туман, эти цветы напоминали фантастическое шествие какого-то молодого бога…
О, да, расточай перед ним теперь все эти цветы, венки и погребальные марши, и знамена, и делегации, и все эти почести – народ нетерпеливый, неблагодарный, несправедливый! Теперь ведь уже все кончено. Оберните своими трехцветными флагами гроб, хранящий только останки этой светлой души. Вам остается только почтить этот обезображенный труп после того, как вы отравили ему последний год его жизни. Все кончено! И разные маленькие человечки стоят в каком-то остолбенении пред зияющей могилой того, кто так стеснял их одним своим превосходством. Сколько таких людей, нашептывающих друг другу, что Гамбетта становился им поперек дороги своим подавляющим гением. Теперь дорога свободна перед вами. Но его смерть не изменит вашей посредственности, завистливости и вашего ничтожества.
Мы уходим оттуда около трех часов. Елисейские Поля серы, пустынны. А еще так недавно этот человек проезжал здесь – такой веселый, живой, молодой, в своем простом экипаже, за который его упрекали. Какая низость!.. Потому что люди интеллигентные, честные, развитые, истинные патриоты не могли в своей душе, в своем сознании верить всем клеветам, которыми осыпали Гамбетту.
Крыльцо палаты убрано венками и завешено, как вдова, гигантским черным крепом, спадающим с фронтона и окутывающим его своими прозрачными складками. Этот креповый вуаль – гениальное измышление, нельзя придумать более драматического символа. Эффект его потрясающий; сердце замирает, становится как-то жутко, как при виде черного флага, выкинутого в минуту опасности, угрожающей стране.
7 января
Теперь интересно читать газеты. «Voltaire» вызывает на глаза слезы, а «Figaro» осушает их своими отчетами. Эти отчеты, быть может, правдивы и беспристрастны, но они отнимают всякую иллюзию, лишают энтузиазма, а это все-таки досадно.
Мне очень нравятся речи Бриссона. Да, Г. прав – мы «обезглавлены». Это верно, Гамбетта был главой нашего поколения, его поэзией. Я говорю «нашего», хотя и не имею счастья быть француженкой. Но, оставаясь иностранкой, я все же стою за братство народов и за всемирную республику.
«Justice» уверяет, что люди не имеют значения и что главная роль принадлежит идее. Газета хочет таким манером ободрить республиканцев.
Прекрасно… Если люди ничего не значат, так дайте нам конституционную монархию! А, вы не хотите? Так как же вы говорите, что люди не имеют никакого значения?
Мне же кажется, наоборот, что именно люди – всё и что республиканские принципы прекрасно совмещаются с этой мыслью. Да, править должны люди, избранные за свои заслуги, каково бы ни было их происхождение. И то, что могло бы быть слишком… поэтичным при такой системе, то умеряется республиканскими учреждениями.
Такие люди, как Гамбетта, всегда заставят провозгласить себя избранниками, но все-таки нужна республика, чтобы сделать их полезными.
Почему на похоронах Гамбетгы, как некогда на похоронах Мирабо, никто не ощущал скорби? Я сама испытала это, казалось бы, непонятное чувство, но оно, несомненно, так.
«Justice» указывает на античный характер, какой имела вся похоронная церемония. Возможно, что самое величие покойного, все почести, которые воздавались его гению, не давали места тому отчаянию или скорбному умилению, какое обыкновенно внушает смерть более обыкновенных людей…
Уже нет Скобелева, нет Гамбетгы, нет Шанзи. Прощай франко-русский союз и мечта об уничтожении Пруссии!
Если бы Скобелев, Гамбетта и Шанзи остались в живых, Франция вернула бы Эльзас и Лотарингию, а нашим прибалтийским губерниям не угрожала бы опасность. А теперь?..
У нас обедал сегодня Жулиан. Вечером пришел Тони Робер-Флери. Говорили все время о покойном. О чем же говорить, если не о нем? Как пусто без него! Как странно!
Его недостаточно ценили при жизни. Никто не отдавал себе отчета в том значении, какое он имел для нашей эпохи.
Прочтите речь Бриссона. Меня так волнуют все эти события, что я начинаю чувствовать себя французской патриоткой, готовой умереть за Францию.
Переживая все эти сильные волнения, так сказать, отвлеченного, высшего характера, чувствуешь, что близка к самым источникам жизни, и поднимаешься на ту высоту чувства, на которой вырос сам Гамбетта…
Не правда ли, имена людей похожи на них самих?.. Взгляните на портрет и всмотритесь в имя «Гамбетта»! А Флоке с этими откинутыми назад волосами, с этими сжатыми губами?.. А вот Греви, имя которого так соответствует и его нравственному и физическому облику. Ну, а Клемансо? В этом имени есть что-то напоминающее скромность и откровенность и в то же время и мелочность, и сухость, режущую точность. А что вызывает в вас имя Рошфора?.. Человека с пеной у рта, оскорбляющего всех и размахивающего во все стороны своим пальчиком.
Ж. и Д. с восторгом слушают меня. Д. жалеет, что я женщина, Ж. говорит то же, слегка улыбаясь, чтобы не подумали, будто я покорила его так же, как музыканта.
Я удручена. Не могу передать, до какой степени меня возмущает и печалит мысль, что все кончено, что этот великий художник, этот великий трибун замолк навеки. Это «преступление со стороны смерти», как верно выразился один журналист об этой потере!
8 января
Положительно этот человек наполнял собой всю Францию и даже всю Европу. Всякий должен чувствовать, что чего-то не хватает; кажется, что теперь уже больше нечего читать в газетах, нечего делать в палате.
Бывают, разумеется, люди более полезные, незаметные труженики, изобретатели, терпеливые чиновники!!! Никогда не будет у них этого обаяния, этого очарования, этого могущества. Возбуждать энтузиазм, самоотвержение; группировать, объединять партии, служить рупором для своего отечества… это ли не полезно, не нужно, не прекрасно? Воплощать свою страну, быть знаменем, к которому обращаются все глаза в минуту опасности… неужели это не выше всяких кабинетных трудов, всех добродетелей и мудрых распоряжений опытных гражданских деятелей? Боже мой, умри теперь Виктор Гюго – и это ни для кого не составило бы ничего особенного; его труд не исчезнет вместе с ним, что бы ни случилось; и умри он сегодня или десять лет тому назад – это почти безразлично: он закончил свою деятельность. Но Гамбетта был жизнью, светом каждого вновь наступающего утра; он был душой республики, в нем отражались и слава, и падения, и торжества, и смешные стороны всей его страны. Его жизнь была живой эпопеей – в деяниях и речах, – из которой уж больше никто никогда не увидит ни одного жеста, не услышит ни одного звука его голоса.
9 января
Смерть Гамбетты не возбуждает печали и не кажется несправедливостью судьбы. Вот уже целую неделю я увлекаюсь чтением всего, что может меня познакомить с Гамбеттой, Мирабо и французской революцией. Я совершенно поглощена этими книгами. Ведь французская революция принадлежит всем, поэтому я не должна бы казаться смешной, страстно интересуясь этими необыкновенными событиями. Они сильно потрясли меня. Я горю, как в лихорадке, забываю обо всем, часто не могу даже от волнения есть и только вечером выпиваю немного бульону, который мне приносят.
10 января
Что будет с Рошфором? На кого станет он изливать свое остроумие? Кто помешает развитию таланта г-на Клемансо?
На другой день после похорон на кладбище Реге Lachaise была огромная толпа народа. Газеты говорят, что никогда еще не было такой громадной процессии.
Положительно не знаю, что было бы теперь со мной, если бы я имела счастье лично знать этого человека!..
16 января
Эмиль Бастьен сопровождает нас в Вилль-д’Авре, в дом Гамбетты, где работает его брат.
До тех пор, пока не увидишь своими глазами, никогда не поверишь, до какой степени жалка внутренность его жилища – я говорю «жалка», потому что сказать «скромна» было бы далеко не достаточно. Одна только кухня сколько-нибудь прилична в этом маленьком домике, напоминающем сторожку садовника.
Столовая до того мала и низка, что удивляешься только, как мог в ней поместиться гроб и все эти знаменитые люди.
Зала только чуть-чуть побольше, но бедна и почти пуста. Скверная лестница ведет в спальню, вид которой наполняет меня удивлением и негодованием. Как! В этой жалкой каморке, до потолка которой я достаю рукой в буквальном смысле слова, они могли держать в течение шести недель больного такой комплекции, как Гамбетта, и зимой, с наглухо затворенными окнами. Человека полного, страдающего одышкой и раненного!..
Он так и умер в этой комнате. Грошовые обои, темная кровать, два бюро, треснувшее зеркало между окном и шторой, дрянные занавески из красной шерстяной материи! Бедный студент жил бы не хуже этого.
Этот человек, столь много оплакиваемый, никогда не был любим! Окруженный разными деятелями, спекулянтами, эксплуататорами, он никогда не имел человека, который любил бы его ради него самого или по крайней мере ради его славы.
Но как можно было оставлять его хоть час в этой нездоровой и жаркой каморке! Можно ли сравнить неудобства часовой перевозки с опасностью пребывания без свежего воздуха в этой маленькой комнате. И про этого человека говорили, что он занят своими удобствами, склонен к роскоши! Это просто клевета!
Бастьен-Лепаж работает в ногах у самой постели. Все оставлено как тогда: смятая простыня на свернутом одеяле, заслоняющем труп, цветы на простынях. Судя по гравюрам, нельзя составить себе понятия о величине комнаты, в которой кровать занимает огромное место. Расстояние между кроватью и окном не позволяет отодвинуться для срисовки ее, так что на картине видна только та часть постели, которая ближе к изголовью. Картина Бастьена – сама правда. Голова, закинутая назад, в поворот en trois quarts, с выражением успокоения в небытии после страданий, ясности еще живой и в то же время уже неземной. Глядя на картину, видишь саму действительность. Тело, вытянутое, успокоенное, только что покинутое жизнью, производит потрясающее впечатление. При виде его мороз пробегает по коже и колена дрожат и подгибаются.
Счастливый человек этот Бастьен-Лепаж! Я чувствую какое-то стеснение в его присутствии. Несмотря на наружность двадцатипятилетнего юноши, в нем есть то спокойствие, полное благосклонности, и та простота, которая свойственна великим людям – Виктору Гюго, например. Я кончу тем, что буду находить его красивым; во всяком случае, он обладает в высшей степени тем безграничным обаянием, которое присуще людям, имеющим вес, силу, которые сознают это без глупого самодовольства.
Я смотрю, как он работает, а он болтает с Диной; остальные сидят в соседней комнате.
На стене виден след пули, убившей Гамбетту; он нам показывает его, и тишина этой комнаты, эти увядшие цветы, солнце, светящее в окно, – все это вызывает слезы на моих глазах. А он сидел спиной ко мне, погруженный в свою работу… Ну-с, и вот, чтобы не потерять выгодной стороны такой чувствительности, я порывисто подала ему руку и быстро выхожу, с лицом, омоченным слезами. Надеюсь, что он это заметил. Это глупо… Да, глупо признаваться, что постоянно думаешь о производимом эффекте!
17 января
Принц Жером арестован за манифест, который был вчера всюду развешен. В этом манифесте принц не проявил себя ни республиканцем, ни бонапартистом. Он хочет свободного плебисцита, которого хотели бы очень многие, ведь это – республика с наследственной властью. Что сказать об этом? А господа депутаты вотировали изгнание всех принцев поголовно… О, если бы Гамбетта был жив!..
18–19 января
Я выбиваюсь из сил в работе над этой рукой, стараюсь ее написать так, чтоб уже не нужно было никаких поправок, – и не могу. Я изнемогаю от этих усилий.
Что я приготовлю для Салона?
Портрет Дины и крошки Пейрони? Но до выставки осталось всего два месяца… Можно в отчаяние прийти!..
Я боюсь, что не выполню того, над чем начала работать… Если даже я буду работать с остервенением, все равно ничего не выйдет… Я измучилась, устала от этой работы, но я хочу ее окончить, я должна продолжать.
Неудачные дни причиняют мне муки совести и до того возбуждают меня, что я не могу спать. Я вынуждена принимать разные наркотические средства, чтобы уснуть.
С такими людьми, как доктор, Эмиль Бастьен, Жулиан, я чувствую себя хорошо, свободно. Беседуя с ними, я высказываю интересные мысли, верность которых поражает меня самое… С ними у меня всегда происходит живой обмен мыслей, с ними у меня всегда есть какая-нибудь интересная тема для разговора… Я уверена, что точно так же я чувствовала бы себя в том образованном обществе, которое собирается теперь хотя бы у госпожи Адан. Оно мне так нравится; оно такое блестящее, живет такой кипучей жизнью… А у нас? С кем бы я стала разговаривать у нас? С нашими жалкими светскими кавалерами? Но с ними можно разве только провальсировать несколько минут, обменяться парой банальных фраз, ответить на комплименты… Ну, а затем?.. Нет, судьба не балует меня…
23 января
Вчера я в кровати стояла на коленях, моля Бога совершить чудо. Клемансо произнес обширную речь об избираемости судей… Как Гольбейн в живописи, он обладает способностью необыкновенно сжато и ясно излагать свои мысли. Просто трудно уследить за этой удивительно стройной логикой… Что касается меня, то я – эклектик. Мне мало одной логики, я могу восхищаться только красноречием… Но хотя у Клемансо и нет гениальности и богатства речи Гамбетты, он, тем не менее, может заставить восхищаться собой; этот недостаток он искупает другими сторонами своего красноречия… менее, конечно, захватывающими… Да, о нем можно сказать, что он представляет собой величину крупную. Он силен своей неумолимой логикой, он беспощаден, яростен, несокрушим, отвлеченно-метафизичен… Но во все он вносит искреннюю страсть.
Его, конечно, нельзя сравнивать с Гамбеттой. В нем нет той полноты, того богатства и той возвышенной простоты, которой отличался Гамбетта.
Но как бы там ни было, это математический ум, холодно-нервный и в то же время яростный, все-таки он единственный наследник Гамбетты, в гибком и всеобъемлющем гении которого так счастливо сливался художник и государственный человек.
25 января
Портрет Дины мне решительно не удается. Она сделала все, что могла, когда позировала. Но в ее позе столько небрежности! А с этим бороться положительно невозможно. Я прихожу в отчаяние…
Достаточно уже одного того, что мне приходится столько бороться со своим невежеством и неспособностью к работе! Когда что-либо не удается, но знаешь, что сделала все, что в твоих силах, то не чувствуешь, по крайней мере, такой горечи. Но создать какую-нибудь посредственную вещь и сознавать при этом, что способна на лучшее, что это лучшее тебе все-таки не удается, что никто, кроме тебя самой, не виноват в этом… вот от чего можно прийти в бешенство!
Я возьму модель, снова примусь за работу и ручаюсь вам, что окончу ее в неделю.
Но не в этом, собственно, дело… Дело в том, что всякая борьба бесполезна, и ничто мне не поможет, – вот разгадка всей моей жизни…
Сегодня вечером мы у Каншиных, которые были у нас уже три раза. У них по воскресеньям приемные дни. Они русские, и я решаюсь принести эту жертву – выходить из дому. К счастью, там не танцевали; все время разговаривали, и какая-то дама пела, когда пили чай. Госпожа Каншина сейчас же познакомила меня с двумя знаменитыми старцами – Молинари и Тейксье, а сама ушла, оставив их на моем попечении. Она, очевидно, решила, что такая «выдающаяся» женщина, как я, приятно проведет время в обществе этих знаменитостей. А эта «выдающаяся» женщина только и знает, и то чрезвычайно смутно, что Молинари – писатель; что же касается Тейксье, то о нем я решительно ничего не знаю. В этом я могу сознаться здесь, на этих страницах.
Сознаюсь, мне нужно было усиленно следить за собой, чтобы не наговорить глупостей, ведь я ничего, ничего, решительно ничего не знала о моих старцах. Но мое тщеславие помогло мне, и я выпуталась из этого положения: слишком уж сильно было во мне желание, чтобы весь этот салон видел меня в серьезной беседе со знаменитыми людьми…
22 февраля
Голова маленького из моих двух мальчиков вполне закончена. Я играю Шопена на рояле и Россини – на арфе, совершенно одна в своей мастерской. Луна светит. Большое окно позволяет видеть ясное чудное синее небо. Я думаю о своих «Святых женах», и душа моя полна такого восторга от ясности, с которой эта картина мне представляется, что меня охватывает безумный страх, как бы кто-нибудь другой не сделал ее раньше меня… И это нарушает глубокое спокойствие вечера.
Но есть радости, кроме всего этого; я очень счастлива сегодня вечером; я только что читала «Гамлета» по-английски, и музыка Амбруаза Тома тихонько убаюкивает меня.
Есть драмы вечно волнующие, типы бессмертные… Офелия – бледная и белокурая – это хватает за сердце. Офелия!.. Желание самой пережить несчастную любовь пробуждается в глубине души. Нет – Офелия, цветы и смерть… Это прекрасно!
Должны же быть какие-нибудь формулы для таких грез, как сегодня, и все веяния поэзии, приходящие в голову, не должны пропадать бесследно, но излиться в какое-нибудь творение. Быть может, это будет дневник?.. Нет, он слишком длинен. О, если бы Бог помог мне выполнить мою картину – большую, настоящую. В этом году… это будет еще почти вроде этюда – вдохновленного Бастьеном?.. Боже мой, да; его живопись до такой степени передает природу, что, чем ближе копируешь ее, тем больше походишь на него. Его головы живут; это не «прекрасная женщина», как у Каролуса Дюрана, это само тело, человеческая кожа; все у него живет, дышит. Тут нельзя говорить о технике – это просто сама природа; и это дивно хорошо!
Эдуард Мане. В лодке. 1874
24 февраля
Вы знаете, что я постоянно занята Бастьен-Лепажем; я привыкла произносить это имя и избегаю произносить его при всех, – как будто я в чем-нибудь виновата. А когда я говорю о нем, то с нежной фамильярностью, которая кажется мне совершенно естественной ввиду его таланта и которая может быть дурно истолкована.
Господи, как жаль, что он не может бывать у нас, как его брат. Но чем бы он мог для меня быть? Да другом! О, я бы обожала своих знаменитых друзей – не из тщеславия только, но ради них самих, их достоинств, их ума, таланта, гения. Ведь это какая-то совсем особенная порода людей. Поднявшись над банальной сферой золотой посредственности, почувствовать себя в чистой атмосфере, в кругу избранных, где можно взяться за руки и свиться в стройный хоровод; что это, как я заговорилась!.. Нет, да право, у Бастьена такая прекрасная голова.
27 февраля
Наконец, вот ряд веселых дней; я пою, болтаю, смеюсь, а имя Бастьен-Лепажа все звучит и звучит, как припев. Ни личность его, ни наружность, едва ли даже представление о его таланте – нет, просто его имя!.. Однако я начинаю бояться: что, если моя картина будет похожа на его?.. За последнее время он написал массу разных мальчиков и девочек. Между прочим знаменитого Pas-meche. Можно ли представить себе что-нибудь прекраснее?
А у меня эти два мальчика, которые идут вдоль тротуара, взявшись за руки: старший, лет семи, устремил глаза вдаль; в зубах у него зеленый листок; мальчик лет четырех уставился на публику; рука его в кармане панталон. Не знаю, что и думать: еще сегодня вечером я сама была довольна. Это просто пугает меня.
Но сегодня вечером, сегодня вечером – безмерная радость. «Что? – скажете вы. – Сен-Марсо или Бастьен пришли?» Нет, но я сделала эскиз моей статуи.
Я хочу тотчас, после 15 марта, приняться за статую. Я сделала на своем веку две группы и два-три бюста; все это было брошено на полдороге, потому что, работая одна и без всякого руководства, я могу привязаться только к вещи, которая действительно интересует меня, куда я вкладываю свою жизнь, свою душу, словом, к какой-нибудь серьезной вещи, а не к простому этюду.
Задумать какой-нибудь образ и почувствовать это безмерное желание выполнить его… О, что это такое!
Может быть, на этот раз выйдет плохо. Ну, что за беда!.. Я рождена скульптором – я люблю форму до обожания. Никогда краски не могут обладать таким могуществом, как форма, хотя я и от красок без ума. Но форма! Прекрасное движение, прекрасная поза! Вы поворачиваете – силуэт меняется, сохраняя все свое значение!.. О счастье! Блаженство!
Моя статуя изображает стоящую женщину, которая плачет, уронив голову на руки. Вы знаете это движение плеч, когда плачут?
Я готова была стать на колени перед ней. Я говорила тысячу глупостей. Эскиз – вышиною в 30 сантиметров, но сама статуя будет в натуральную величину.
Когда все было готова, я разорвала свою батистовую рубашку, чтобы завернуть в нее эту хрупкую статуйку. Я больше люблю ее, чем свою кожу. И этот влажный белый батист, спадающий красивыми складками со стройной фигуры статуйки, которая уже представляется мне в своем будущем настоящем виде, – до чего это красиво!.. Я завертывала ее с каким-то благоговением, и до чего это тонко, нежно, благородно!
У меня слабые глаза, если они ослабнут настолько, что это помешает моей живописи, я возьмусь за скульптуру.
28 февраля
Картина будет завтра закончена; я работала над ней девятнадцать дней.
3 марта
Тони пришел сегодня посмотреть картину. Он остался очень доволен ею. Одна из головок особенно хороша. «Вы никогда еще не делали ничего подобного, это очень мило, и прекрасные тона. Отлично, отлично!» Словом, все обстоит, как нельзя лучше!.. Не могу верить!
Да почему же от всего этого я не прихожу в восторг? Ведь никогда еще он не говорил мне ничего подобного. И нельзя сказать, чтобы я подозревала его в лести. О, нет!.. Но я могла бы сделать еще лучше; так кажется, по крайней мере, и я постараюсь добиться этого во второй фигуре.
14 марта
Наконец пришел взглянуть на картину и Жулиан. Я не просила его об этом. Был только обмен писем, несколько колких – с обеих сторон. Но он чувствовал свою неправоту, а я скромно торжествую. Он нашел, что картина очень хороша.
15 марта
В три часа я еще работала, когда собралось столько народу, что пришлось все бросить. Madame и m-lle Канробер, Божидар, княгиня и другие. Вся эта компания отправляется к Бастьену смотреть его картину «Любовь в деревне». Среди виноградника спиной к публике стоит девушка, опустив голову, вертя цветочек в руках; она опирается о забор; по другую сторону забора молодой парень лицом к зрителям; он опустил глаза и смущенно теребит свои пальцы. Эта картина полна чарующей поэзии и самого тонкого чувства. Об исполнении уже и говорить нечего, это сама правда. Это не только живописец – это поэт, психолог, метафизик, творец!
22 марта
Вчера я позвала двух техников, которые сделали мне каркас для моей статуи. И сегодня я уже нарисовала ее, придав ей желаемое движение… Я сильно увлечена живописью «Святых жен», которых я постараюсь окончить этим же летом; в скульптуре моя Ариадна просто не дает мне покоя. А пока я делаю эту женскую фигуру, которая соответствует по позе моей другой Марии, – той, которая стоит, но только в статуе и без одеяния; и потом эта молодая девушка, из нее могла бы выйти прелестнейшая Навзикая. Она уронила голову на руки и плачет. И в ее позе столько непосредственности, такое отчаяние, такая тоска и что-то такое молодое, искреннее, что я сама охвачена волнением.
Навзикая, дочь царя феаков, – один из прелестнейших образов древности. Образ, обрисованный на втором плане, но глубоко трогательный и привлекательный.
Она влюбилась в Одиссея, слушая рассказ о его приключениях, в то время как стояла, опершись на колонну розового мрамора во дворце своего отца. Они не обменялись ни одним словом после этого; он уехал искать свою страну, возвратился к своим делам. А Навзикая осталась на берегу, следя за удаляющимся белым парусом, и, когда все опустело на голубом горизонте, она уронила голову на руки и, закрыв лицо пальцами, не думая о своей красоте, приподняв плечи и придавив руками грудь, отдалась слезам.
25 марта
Со вчерашнего дня я в ужаснейшей тревоге, вы сейчас поймете почему. Приходит В. и спрашивает, получила ли я какие-нибудь известия из Салона.
– Нет, ничего решительно.
– Как? Вы ничего не знаете?
– Ровно ничего.
– Вы приняты.
– Я право ничего не знаю.
– Да, кончено; и теперь уже дошли по фамилиям до буквы С. – вот и все!
Я едва пишу, руки так и дрожат, я чувствую себя совсем разбитой.
Я не сомневалась, что я «принята!».
Я рассылаю депеши во все концы, а через пять минут получаю записку от Жулиана, которую привожу дословно:
«О, святая наивность!.. Вы приняты по крайней мере с № 3, потому что я знаю одного из членов, который требовал для вас № 2. Теперь победа!.. Мои душевные поздравления!»
27 марта
Я только что пересматривала «Одиссею». Гомер не дает сцены, которую я себе представила. Правда, что она должна служить неизбежным, вполне логическим выводом из всего предшествующего. Речи Улисса, полные похвал и удивления при его встрече с Навзикаей на берегу, должны были неизбежно вскружить ей голову; впрочем, она ведь и сама говорит об этом своим подругам.
Она принимает его за какого-нибудь бога, он выражает по отношению к ней те же чувства… Словом, это уж непременно так.
Перечту еще раз слова Улисса. Когда он появляется нагой и испачканный перед молодыми девушками, все они разбегаются. Навзикая остается одна.
«Сама Афина возбуждает в нем эту решимость». Этот старый интриган, так много переживший на своем веку, но все еще прекрасный, нуждается в одежде и покровительстве; и, обращаясь к Навзикае, он сравнивает ее с Дианой. Следовательно, она должна быть высока, прекрасна и стройна. «Глаза его, говорит он, еще никогда не видели такой смертной». И затем он сравнивает ее со стволом пальмы, которая поразила его до остолбенения, когда он увидел ее в Делосе около алтаря Аполлона, в путешествии, которое он совершил в сопровождении многочисленного народа и которое было для него источником величайших несчастий.
Таким образом, он в этих немногих словах одновременно расточает ей такую тонкую лесть и обрисовывает себя в самом поэтическом свете, как человека выдающегося и возбуждающего живейший интерес своими несчастьями; он представляется как бы преследуемым богами. Невозможно, чтобы эта девушка, удостоившаяся по своему уму и красоте сравнения с бессмертными, не была при этом сразу охвачена необыкновенным чувством, особенно ввиду ее настроения, возбужденного сном предшествующей ночи.
30 марта
Я работала сегодня до шести часов, в шесть часов было еще светло; я отворила двери на балкон и села слушать звон, разносившийся из церквей, дыша весенним воздухом и играя на арфе.
Я так спокойна. Я славно поработала, потом вымылась, оделась в белое, поиграла на арфе и теперь взялась за перо; чувствуя себя спокойней, удовлетворенней, я вполне наслаждалась этой созданной мной обстановкой, где все у меня под руками… И так хорошо жить этой жизнью… В ожидании будущей славы. Но если бы она и пришла, слава, я отдавалась бы ей вполне каких-нибудь два месяца в году, а остальные десять месяцев проводила бы, запершись от всех и отдаваясь работе…
Что меня мучит, так это, что нужно будет выйти замуж. Тогда уж больше не будет ни одной из этих низменных тревог тщеславия, от которого я не могу отделаться.
Почему это она не выходит замуж?.. Мне дают двадцать пять лет, и это меня бесит; тогда выйду замуж… Да, но за кого? Если бы я была здорова, как прежде… А теперь нужно, чтобы это был человек добрый и деликатный. Нужно, чтобы он любил меня, потому что я не настолько богата, чтобы поставить себя независимо от него во всех отношениях.
Во всем этом я не уделяю никакой роли моему сердцу. Да ведь нельзя всего предвидеть, и потом это зависит…
И потом, может быть, никогда ничего подобного и не случится…
Только что получила следующую записку:
«Дворец Елисейских Полей. Общество французских художников, устроителей ежегодных выставок изящных искусств.
Пишу Вам, не выходя из зала jury, чтобы сообщить, что головка-пастель имела истинный успех. От души Вас с этим приветствую. Нечего и говорить, что Ваши работы были приняты прекрасно.
На этот раз – это уж настоящий успех для Вас, и я очень этим счастлив.
Тони Робер-Флери».
Вы, может быть, думаете, что я обезумела от радости? Я вполне спокойна. Я, должно быть, не заслуживаю того, чтобы испытывать большую радость, потому что даже такое радостное известие застает меня в таком настроении, что все это кажется мне в порядке вещей. Я сдержанна именно как человек, который боится, что «это невозможно», потому что это слишком хорошо. Я боюсь обрадоваться преждевременно… И вообще напрасно…
3 апреля
Погода чудо как хороша… Я чувствую в себе такую силу, я верю, что могу быть настоящей художницей. Я чувствую это, я убеждена в этом.
Солнце, весна, свежий воздух: это главный мотив моего настроения. Летом не знаешь куда деваться от жары, зимой – от холода; летом только утра и вечера хороши. А теперь это просто так, и не воспользоваться этим временем, чтобы рисовать и писать на воздухе, – чистое безумие.
Поэтому с завтрашнего дня я начну… Я чувствую в себе такую силу передать все, что поражает меня. Эта вера в себя утраивает способности. С завтрашнего же дня я примусь за картину, которая кажется мне прелестной; потом позднее, осенью, в худую погоду, – за другую, тоже очень интересную. Мне кажется, что теперь каждое мое начинание мне удастся, и я полна какого-то дивного упоенья…
4 апреля. Розовый день
Шестеро ребятишек, сгруппированных голова с головой, нарисованы только до колен. Старшему мальчику лет двенадцать, младшему – шесть. Старший, повернувшийся почти спиной, держит гнездо, а остальные смотрят в самых разнообразных и правдивых позах. Шестая фигура, девочка лет четырех, видна со спины; голова поднята, руки скрещены…
Все это так обыкновенно в простом описании, но на самом деле эти шесть головок, прильнувших друг к другу, представляют из себя нечто необычайно интересное.
18 апреля
Я только что встала из-за рояля. Это началось двумя божественными маршами Шопена и Бетховена, а потом я играла сама не знаю… что выходило, но это были такие очаровательные вещи, что я еще до сих пор сама себя слушаю. Не странно ли? Я не могла бы теперь повторить из всего этого ни одной нотки и даже не могла больше опять сесть импровизировать. Нужен час, минута, не знаю что… А теперь у меня все еще проходят в голове какие-то божественные мелодии. Если бы у меня был голос, как прежде, я могла бы петь вещи чудные драматические, никому неведомые… Зачем? Жизнь слишком коротка. Не успеваешь ничего сделать! Мне хотелось бы работать над скульптурой, не бросая живописи. Не то чтобы мне хотелось быть скульптором, но просто мне видятся такие чудные вещи и я чувствую такую настоятельную потребность передать то, что я вижу.
Я научилась живописи, но я работала не потому, что мне хотелось бы сделать ту или другую вещь. А ведь тут я буду работать над глиной, чтобы воплотить свои видения…
22 апреля
Из пастелей на выставке было всего две, принятых с № 1: один – Б., другой мой. Голова Ирмы в первом ряду, и притом в углу, – следовательно, на почетном месте…
За обедом у нас, как почти ежедневно, много народу. Я прислушиваюсь к разговорам и говорю себе, что вот ведь все эти люди только и делают всю свою жизнь, что говорят глупости. Счастливее ли они, чем я?.. Их горести совсем другого рода, а ведь страдают-то они столько же. А между тем они не умеют извлекать из всего такого наслаждения, как я. Какая бездна вещей ускользает от них: все эти мелкие подробности, эти пустяки, представляющие для меня бесконечное поле для наблюдений, составляющие источник радостей, недоступных массе; а наслаждение красотой природы или всеми этими деталями Парижа! Какой-нибудь прохожий, взгляд ребенка или женщины, какое-нибудь объявление, да и мало ли что еще… Когда я отправилась в Лувр – идешь по двору, поднимаешься по лестнице, на которой так, кажется, и видятся следы миллионов ног, топтавших ее, открываешь дверь, всматриваешься во всех встречных, и воображение уже создает какие-нибудь истории, где каждый играет свою роль, проникаешь мысленно в глубину души их, вся их жизнь мигом встает перед взором. И потом другой ряд мыслей, другие впечатления, и все это сплетается вместе и дает такую пеструю картину… Тут представляются сюжеты для… Чего только тут не придумаешь! И таким образом, если я в некоторых отношениях и стала беднее других с тех пор, как оглохла, многое все-таки вознаграждает меня… О, нет! Все, все знают это, и это, конечно, первое, о чем говорят, упоминая обо мне: «Знаете, она ведь несколько глуха». Не знаю, как поворачивается у меня рука написать это… Разве можно привыкнуть к этому?.. И еще случись это с человеком пожилым, с какой-нибудь старухой, с каким-нибудь обиженным судьбой! Но для человека молодого, живого, трепещущего, захлебывающегося жизнью!!!
27 апреля
Робер-Флери заходил ко мне вчера и просидел целый час. Он очень поощряет меня в моих планах относительно «Святых жен». Это очень трудно, но в сущности мне ведь придется только списывать с натуры… Да ведь в сущности всегда приходится «только списывать!» Списывать. Легко сказать – списывать. Списывать без художественного чутья, без всякой внутренней идеи – просто нелепо… Нет, работать приходится столько же душой, сколько глазами… Я не высказываю всего этого Роберу-Флери. Не то чтобы он не понял меня, но он облечет все это в форму классической интерпретации, которой я совершенно не выношу. Вообще он говорит, что для картины такого рода нужно быть знакомым с очень многими сторонами техники, о которых я даже и не подозреваю. Например, драпировки… Quesaco?
– Ну так что же такое! Я и сделаю эти «драпировки», ведь делаю же я современные костюмы.
– Это будет ни на что не похоже.
– Да почему же? Разве люди, которых я должна изобразить, не были живыми и современными?
– Все равно вы не найдете вашей картины в действительности совершенно готовой.
Я не возражаю, потому что это заставило бы меня договориться Бог знает до чего. Но здесь я должна сказать… Я не найду своей картины в действительности совершенно готовой! Скажите на милость!.. Что же из этого следует? Ведь моя картина живет в моем представлении, а действительность даст мне средства для ее выполнения.
Самой собой разумеется, что при всем этом необходимо руководящее чувство… И если я обладаю этим чувством, все пойдет как нельзя лучше, а нет – так никакое изучение драпировок не даст мне того, что нужно.
В настоящую минуту я полна такой глубокой, восторженной, огромной уверенности, что это должно быть хорошо. Ведь несомненно, что силы удвоятся, когда работаешь с любовью.
Мне кажется даже, что известный порыв может победить все. Приведу вам доказательства. Например, вот уже шесть или семь лет, что я не играю на рояле, ну то есть просто совсем не играю, разве какие-нибудь несколько тактов мимоходом. Бывали месяцы, когда я не прикасалась к роялю, чтобы вдруг просидеть за ним в течение пяти-шести часов какой-нибудь раз в год. Понятно, что при этих условиях беглости пальцев не существует, и я, конечно, не могла бы выступить перед публикой – первая встречная барышня одержала бы надо мной верх.
И вот стоит мне услышать какое-нибудь замечательное музыкальное произведение – например, марш Шопена или Бетховена, – как меня охватывает страстное желание сыграть его, и в какие-нибудь несколько дней – в два-три дня, играя по часу в день, – я достигаю того, что могу сыграть его совершенно хорошо, так же хорошо – ну, как не знаю кто.
30 апреля
Только что имела счастье разговаривать с Бастьен-Лепажем. Он объяснял мне свою Офелию… Это не просто талантливый художник. Он провидит в своем сюжете мысль, обобщение; все, о чем он говорил мне по поводу Офелии, почерпнуто из сокровеннейших тайников человеческой души. Он видит в ней не просто «безумную», нет, это несчастная в любви: это беспредельное разочарование, горечь, отчаяние… Несчастная в любви, с помутившимся разумом! Можно ли представить себе что-нибудь трогательнее этого скорбного образа.
Я просто без ума от него. Гений! Что может быть прекраснее! Этот невысокий, некрасивый человек кажется мне прекраснее и привлекательнее ангела. Кажется, всю жизнь готов был бы провести, слушая то, что он говорит, следя за его чудными работами. И с какой удивительной простотой он говорит! Отвечая кому-то из присутствующих – не помню уж на что, он сказал: «Я нахожу столько поэзии в природе», – с выражением такой глубокой искренности, что я до сих пор нахожусь под влиянием какого-то невыразимого очарования…
Я преувеличиваю, я чувствую, что преувеличиваю. Но право…
2 мая
Я хотела было поехать в оперу, но к чему!.. Т. е. был момент, когда мне захотелось поехать туда, чтобы добрые люди, обратив внимание на мою наружность, довели это до сведения Бастьен-Лепажа. Но к чему это? Право, не могу отдать себе отчета. Ну, не глупо ли это? Не безумно ли желать нравиться людям, до которых мне в сущности нет дела!..
Надо будет подумать об этом, потому что ведь правда же это значило бы стараться ради прусского короля, ведь не добиваюсь же я всерьез этого великого художника! Могла бы я за него выйти? Нет. Ну, следовательно? Но к чему вечно докапываться во всем причин? Я чувствую безумное желание нравиться этому великому человеку – вот и все. И Сен-Марсо – тоже. Кому же из них больше? Не знаю. Одного из них мне было бы достаточно… Все это составляет для меня самый насущный вопрос. Даже наружно я изменилась за то время: я очень похорошела, кожа стала какая-то особенно бархатистая, свежая, глаза оживлены и блестят. Просто удивительно! Что же должна творить настоящая любовь, если такие пустяки так действуют!
4 мая
Жюль Бастьен обедал у нас сегодня; я не ребячилась, не была ни глупа, ни безобразна. Он был прост, весел, мил, мы много дурачились. Не было ни одной минуты, когда бы чувствовалась какая-нибудь натянутость. Он проявил себя человеком вполне интеллигентным. Впрочем, я вообще не допускаю, чтобы гений мог быть узким специалистом: гениальный человек может и должен быть всем, чем захочет…
7 мая
Я принялась за своих мальчиков совершенно заново: я делаю их во весь рост, на большом холсте – это интереснее.
8 мая
Я живу вся в своем искусстве, спускаясь к другим только к обеду, и то ни с кем не говоря. Это новый период в моей работе. Все кажется мелким и неинтересным, все, исключая то, над чем работаешь. Жизнь могла бы быть прекрасна в таком виде.
9 мая
Сегодня вечером у нас совершенно особенные гости, которые могли бы очень шокировать наше обычное общество, но которые для меня представляют величайший интерес.
Жюль Бастьен, так усердно проповедующий экономию ума и сил для сосредоточения на чем-нибудь одном, действительно очень сдержан. Но у меня… право, я чувствую в себе такой избыток всего, что, если бы я не расходовалась во многих направлениях, просто не знаю, что бы это и было. Конечно, если чувствуешь, что разговоры или смех утомляют, истощают тебя, то нужно воздерживаться от этого, но… Однако он должен быть прав.
Все поднимаются наверх; моя большая картина, разумеется, повернута к стене, и я вступаю чуть ли не в бой с Бастьеном, чтобы не дать ему разглядеть ее, потому что он умудрился забраться между картиной и стеной.
Я начинаю говорить в преувеличенном тоне о Сен-Марсо, а Бастьен отвечает, что он ревнует и употребит все усилия, чтобы мало-помалу развенчать его в моих глазах. Он повторял это несколько раз, так же, как и в последний раз, и хотя я отлично знаю, что это просто шутка, все-таки это приводит меня в восторг.
Пусть себе думает, что Сен-Марсо любим более его – как художник, разумеется! Я то и дело спрашиваю у него:
– Нет, скажите, ведь вы его любите? Неправда ли вы его любите?
– Да, очень.
– Любите ли вы его так, как я?
– Ну, нет! Я ведь не женщина, я его люблю, но…
– Да разве я люблю его, как женщина!
– Разумеется, к вашему обожанию примешивается и этот оттенок.
– Да нет же, клянусь вам.
– Ну, как нет! Это бессознательно!
– Ах, как вы можете думать!..
– Да. И я ревную; я ведь не представляю из себя красивого брюнета…
– Он похож на Шекспира.
– Ну, видите.
Мне кажется, что Бастьен начинает меня ненавидеть! За что? Я право не знаю, и мне как-то страшно. Между нами как бы пробегает что-то враждебное, что-то такое, чего нельзя выразить словами, но что непосредственно чувствуется. Между нами нет того, что называется симпатией… Я нарочно остановилась, чтобы сказать ему некоторые вещи, которые могли бы вызвать… быть может, немножко любви ко мне. Мы совершенно сходимся в наших воззрениях на искусство, а я никак не решаюсь заговорить, с ним об этом. Может быть, именно потому, что я чувствую, что он меня не любит?
Словом, за всем этим что-то кроется…
Винсент Ван Гог. Звездная ночь над Роной. 1888
12 мая
Я была утром в мастерской; мне удалось поймать на минутку Жулиана, чтобы попросить его зайти ко мне – посмотреть моих мальчиков.
Мы говорили и о «Святых женах». Я объясняю ему, как смотрю на все это. Мы вдоволь посмеялись над «драпировками» Робера-Флери. Разве эти женщины могут иметь красиво задрапированные одеяния из синего или коричневого кашемира?! Они следовали за Христом в течение многих месяцев; это были протестантки своего времени, отверженные обществом, им было не до изящества, не до мод.
А в последние дни, когда свершилась великая драма суда и казни, они должны были быть одеты чуть ли не в лохмотья… Жулиан говорит, что это будет или дивно-хорошо, или прогорит окончательно.
Как бы то ни было, дело начато. Моя картина вполне выработана. Я ее вижу, чувствую. Ничто в мире не изменит ее, никакое путешествие, никакая природа, никакие советы. Мой набросок нравится Жулиану. Но это еще не то, чего бы мне хотелось… Я знаю, в какое время дня это должно происходить – в тот час, когда очертания предметов стушевываются, сплываются: спокойствие окружающего составляет контраст со всем совершившимся… Вдали – фигуры людей, уходящих после погребения Христа… Только эти две женщины остались – совершенно одни, точно скованные оцепенением. Магдалина видна в профиль; локтем она опирается на правое колено, положив подбородок на руку; глаза, ничего не видящие, прикованы к могиле, левое колено опустилось до земли, левая рука свесилась.
Другая Мария стоит несколько позади, голова опущена на руки, плечи приподняты; только эти руки и видны, но вся ее поза должна выражать рыдание исстрадавшейся души, отчаяние, какую-то надорванность; голова бессильно упала на руки, и во всей фигуре ее чувствуется изнеможение, полный упадок сил. Все кончено для нее… Жулиан находит, что приданное ей положение превосходно; видно, что она не заботится о публике, что она вся ушла в себя, все отдалась своему горю.
Сидящая фигура представляет наибольшую трудность. В ней должно выражаться и оцепенение, и отчаяние, и изнеможение, но в то же время какое-то недоумение – протест души против всего совершившегося. И это недоумение особенно трудно поддается передаче… Словом, целый мир, целый мир…
И я решаюсь предпринять это? Ну да – я; и это не зависит от меня; невозможно не сделать этой картины, если этого хочет Бог. О, Он должен знать, что я боюсь его, что я готова на коленях умолять Его дать мне возможность работать. Я не заслуживаю ни особенных Его милостей, ни помощи, но только бы Он дал мне возможность отдаться моей работе…
Моя картина, выставленная в Салоне, не представляет особого интереса. Я ее сделала – так, за неимением ничего лучшего и за недостатком времени…
16 мая
Днем такая жара, что настоящая жизнь начинается только вечером. Я поднимаюсь к себе и наслаждаюсь всем этим мирным пейзажем с открывающимся видом бесконечного неба…
Но вино возбуждает не чувствительность, а какое-то особенно ребяческое настроение…
С вокзала железной дороги раздается свисток, из ближней церкви доносится звон колокола… Такая поэзия…
В эти чудные вечера так хотелось бы отправиться куда-нибудь в деревню, кататься по воде с большим обществом; только с каким это обществом?
Я думаю обо всем этом парижском люде Елисейских Полей и Булонского леса – они живут… тогда как я только витаю Бог знает где. Хорошо или дурно я делаю, бросая мою молодость в жертву своему честолюбию, которое… Словом, соберу ли я хоть процент с затраченного капитала?
Свисток звучит так гармонически – ночью. Толпы людей возвращаются теперь из деревни, усталые, счастливые, возбужденные, полные смутных грез…
Опять свисток…
Когда я буду знаменитой… Это будет, может быть, уже через какой-нибудь год… Я чувствую в себе способность ждать этого так терпеливо, что будто бы я вполне уверена в этом…
Опять свисток… Говорят, что когда слышишь такой свисток, то это – к буре; и вот невольно вспоминаются слова Доминго во время бури в «Поле и Виржинии».
Ужасно трудно читать Бальзака в таком настроении, но я нарочно не возьмусь теперь ни за что другое, чтобы не возбуждать никаких особенных мыслей.
Опять звонок и свисток поезда…
18 мая
Я собираюсь писать декоративный экран. Весна. Женщина, облокотившаяся о дерево и улыбающаяся, закрыла глаза, как в сладком сне. А вокруг мягкий и светлый пейзаж – нежная зелень, бело-розовые цветы яблонь и персиковых деревьев, свежие ростки повсюду – словом, тут должны соединяться все самые обаятельные краски весны.
Никто еще не делал весны с достаточной искренностью и простотой. Весенних пейзажей очень много появлялось и за последнее время, но в них вечно совали каких-то старичков, прачек, чуть что не прокаженных. А у меня… Это должен быть гармонический аккорд чарующих тонов… Существуют тысячи весенних пейзажей, но все это как-то картонно или бьет на эффект. Один Бастьен мог бы еще понять весну, как я, но он еще не брался за это. Нужно, чтобы по лицу этой женщины было видно, что она вся охвачена гармонией этих красок, благоуханием, пением птиц… Нужно, чтобы слышалось журчанье ручья, бегущего у ее ног, как в Гренаде, среди фиалок. Местами должно врываться весеннее солнце. Весна должна давать именно эти поющие тоны, несущиеся прямо в душу. Это какая-то упоительная пляска нежных нот… Вся картина должна быть полна чарующих красок; золотистые пятна солнца вносят жизнь в тот или другой уголок и выделяют тенистые места, где уже готова зародиться какая-то тайна…
Понимаете ли вы меня?
Но Бастьен пишет или собирается писать «похороны молодой девушки», и если он понимает, что делает, – пейзаж этой картины должен быть именно такой, о каком я мечтаю… Я надеюсь, что у него не хватит сообразительности, и он разодолжит нас самым неправдоподобным зеленым цветом… Однако я была бы крайне огорчена, если бы он не сумел воспользоваться этим сюжетом и подарить нам еще одно дивное произведение искусства…
22 мая
Я работаю до половины восьмого. Но при каждом шуме, при каждом звонке, при каждом лае Коко, у меня душа уходит в пятки. Какое верное выражение! Оно существует одинаково по-русски и по-французски. Вот уже девять часов, а все еще никаких известий. Что за состояние!.. Если мне ничего не достанется, это будет более чем досадно. Мне столько наговорили об этом заранее в мастерской, и Жулиан, и Лефевр, и Тони – все они; невозможно, чтобы я ничего не получила.
А сердце бьется, бьется… Жалкая жизнь!.. И для чего, к чему все это, вообще все?.. Чтобы кончиться смертью?
И не избегнешь этого!.. Каждому предстоит этот конец. Конец! Конец, прекращение бытия… Вот ужас. Обладать таким гением, чтобы остаться жить навеки… Или… Писать всякий вздор дрожащей рукой, потому что известие о какой-то там награде заставляет ждать себя!..
24 мая
Я получила ее! Чувствую себя успокоенной, не скажу – счастливой. Можно еще сказать: довольной…
Я узнала об этом из газет. Эти господа не потрудились уведомить меня ни одним словом.
Старая история – я таки довольно верю тому, что «ничто не случается так, как этого ждут, но так, как этого опасаются».
В половине десятого мы отправляемся в Салон. Я прихожу в свою залу и вижу свою картину на новом месте, взгроможденной куда-то наверх, над большой картиной, изображающей тюльпаны самых ослепительных цветов и подписанной художником девятого класса. Так становится возможным предположение, что ярлык с надписью «почетный отзыв» прицеплен к «Ирме». Бегу туда. Ничуть не бывало. Иду, наконец, к своей дурацкой пастели и нахожу его там. Я подбегаю к Жулиану и в течение целого получаса торчу подле него, едва шевеля губами. Просто хоть плачь! Он тоже, кажется, порядком-таки удивлен. С самого открытия Салона, с той минуты, как были замечены мои работы, о пастели и речи не было, а относительно картины он был уверен, что ее поместят где-нибудь в первом ряду.
Отзыв за пастель – это идиотство! Но это еще куда ни шло! Но взгромоздить на такое место мою картину! Эта мысль заставляет меня плакать, совершенно одной, в своей комнате и с пером в руке.
Я, конечно, вполне допускаю, что истинный талант должен пробить себе дорогу совершенно самостоятельно. Разумеется. Но для начала нужно, чтобы человеку повезло, чтобы его не захлестнула встречная волна. Сам Бастьен-Лепаж вначале пользовался поддержкой Кабонеля. Когда ученик что-нибудь обещает, учитель должен некоторое время поддержать его голову над водой: если он удержится, он что-то из себя представляет, если нет – ему же хуже. О, я добьюсь своего. Только я запоздала, и притом по своей же собственной вине.
Божидар добыл сей разлюбезный ярлык и принес мне: кусок картона с надписью «почетный отзыв». Я тотчас же прицепила его к хвосту Коко, который не смел шевелиться, исполненный священного ужаса. В сущности, я очень огорчена, просто в отчаянии. Картина на этой вышке представляет раздирательное зрелище. Но мое отчаяние представляло любопытный спектакль для окружающих; я вечно изображаю из себя какую-нибудь героиню спектакля, и потому, когда мне хочется плакать, я несу смешной вздор. Никогда не следует утомлять людей, нужно всегда быть для них развлечением, приятной новинкой с той или другой стороны. Пожалуй, можно сказать, что такова я и есть на самом деле, потому что я об этом забочусь.
6 июня
Я просто совсем с ног сбилась с моими ушами. (Что за милая манера выражаться!) Вы поймете мои страдания, если я вам скажу, что дни, когда я слышу как следует, кажутся мне какими-то радостными событиями. Можете ли вы понять весь ужас такой жизни!
И нервы, возбужденные до невероятности! Работа моя страдает от этого; я занимаюсь живописью, пожираемая какими-то химерическими опасениями. Я измышляю тысячу ужасов, воображение бежит, бежит, бежит, я уже переживаю мысленно одну позорную неудачу за другой и боясь в то же время допустить их реальную возможность.
Я сижу, погруженная в живопись, но думаю о том, что можно сказать обо мне, и мне приходят в голову такие ужасы, что иногда я вскакиваю с места и бегу на другой конец сада как сумасшедшая, вслух возмущаясь сама собой.
Хороша выйдет картина при этих условиях!..
Чтобы развить способность принимать что-нибудь к сердцу, я должна засадить себя за дело, и тогда, через несколько часов усиленной работы, я прихожу в ужасное возбуждение… Может быть, искусственное.
Однако – Жанна д’Арк. Да, правда. Ну, а еще? Еще некоторые вещи.
А Лувр?.. Портреты, потому что все эти огромные старинные махины… Но зато портреты и эти очаровательные вещи французской школы!
А на последней выставке – современные портреты Лауранса, два-три портрета Бастьена: его брат, Андре Терье, Сара… И потом… И потом, кто вам сказал, что я рождена художницей?
Пойди я другой дорогой, я достигла бы тех же результатов в силу своей интеллигентности и воли, кроме разве математики.
Но музыка – вот моя страсть, и творчество легко далось бы мне и в этой области. В таком случае, почему же именно живопись? Но что же на ее место?.. Это несносно – все эти мысли…
Я хочу приняться за какую-нибудь крупную картину – крупную по размерам. Ищу сюжет… Мне приходит в голову сюжет из античной жизни; Улисс, рассказывающий свои приключения царю феаков, Алкиною. Алкиной и царица – на троне, окруженные князьями, свитой, домочадцами. Дело происходит в галерее с колоннами из розового мрамора. Навзикая, облокотившись на одну из колонн, несколько позади своих родителей, слушает героя… Все это происходит уже после пира и пения Демодока, который сидит в глубине сцены и смотрит куда-то вдаль, опустив на колени свою лютню, равнодушный, как певец, которого больше не слушают. Все это дает материал для интересных поз, группировки, вообще композиции.
Но не это вовсе меня смущает: это-то все выйдет хорошо; но выполнение – вот в чем ужас!
Я не знаю ничего, ничего, ничего! Мебель, костюмы, аксессуары… и потом, сфабриковать эдакую махину – сколько тут должно быть разных поисков.
11 июня
Мой отец умер. Сегодня в десять часов пришла депеша. Тетя и Дина говорили там внизу, что мама должна возвратиться немедленно, не дожидаясь похорон. Я пришла к себе наверх очень взволнованная, но не плакала. Только когда Розалия пришла показать мне драпировку платья, я сказала ей: «Не стоит теперь… Барин умер…» – и вдруг неудержимо расплакалась. Была ли я в чем-нибудь виновата перед ним? Не думаю. Я всегда старалась вести себя прилично… Но в такие минуты всегда чувствуешь себя в чем-нибудь виноватым… Я должна была поехать вместе с мамой.
Ему было всего пятьдесят лет! Перенести столько страданий!.. И притом, в сущности, никому не сделав зла. Очень любимый окружающими, уважаемый, честный, враг всяких дрязг, очень хороший человек.
13 июня
Я думаю, что, если бы я имела несчастье потерять маму, я бы, право, почувствовала тысячу всяких упреков, тысячу угрызений, потому что я бывала очень груба, очень жестока… за дело, я знаю это, но я не могла бы простить себе этой несдержанности в словах…
Вообще мама… Это было бы ужасное несчастье: при одной мысли я не могу удержаться от слез, какие бы там недостатки я в ней ни признавала.
Она очень хорошая женщина, но она ничего не понимает и не верит в меня… Она вечно думает, что все само собой устроится и что не стоит «поднимать историй».
Чья смерть доставила бы мне всего больше горя, так это – я думаю – смерть тети, которая всю свою жизнь жертвовала собой для других и которая никогда ни минуты не жила для себя, кроме часов, проведенных за рулеткой в Бадене и Монако.
И только мама еще мила с ней; а я – вот уже месяц, что я ни разу не обняла ее и не говорила ничего, кроме самых безразличных вещей, да еще упреков по разным пустячным поводам. Все это – не по злобе, а потому, что я и сама чувствую себя очень несчастной, а все эти препирательства с мамой и тетей приучили меня говорить в сухом, жестком, резком тоне. Если бы я заговорила с кем-нибудь нежно или даже просто мягко, я бы разревелась как дура. Однако, и не будучи нежной, я могла бы быть поприветливее, улыбнуться или поболтать время от времени; это было бы для нее таким счастьем, а мне ведь это ровно ничего не стоило бы. Но это значило бы так резко изменить своим манерам, что я почти не смею – из какого-то чувства ложного стыда.
И однако мысль об этой бедной женщине, вся история которой выражается в одном сломе самоотвержение, глубоко трогает меня, и я хотела бы быть с ней поласковей. А если бы она умерла… Вот человек, который оставил бы по себе бесконечные угрызения в моей душе.
Вот и дедушка, например: он часто выводил меня из себя разными старческими затеями, но нужно относиться с уважением к старости. Мне случалось отвечать ему грубо, а когда он был разбит параличом, я чувствовала такие угрызения совести, что очень часто приходила к нему, стараясь как-нибудь загладить, искупить свою вину. И потом, дедушка так любил меня, что от одного воспоминания о нем я принимаюсь плакать.
15 июня
Конроберы написали мне очень милое письмо, вообще все держат себя очень симпатично.
Сегодня утром, в надежде никого не встретить, я решаюсь отправиться в залу Petit, на выставку chef-d’oeuvre’oв: Декон, Делакруа, Фортюни, Рембрандт, Руссо, Миллье, Мейсонье (единственный, который еще жив) и другие. Прежде всего я должна извиниться перед Мейсонье, которого я плохо знала и который прислал на последнюю выставку портретов вещи сравнительно слабые. Но что побудило меня выйти, несмотря на мой креповый вуаль, это желание видеть Миллье, которого я совсем не знала и рассказами о котором мне прожужжали уши. Говорили, что Бастьен-Лепаж только слабый подражатель его. Словом, я жаждала его видеть. Я видела и пойду еще раз… Бастьен его подражатель, если угодно… Потому что оба они пишут картины из крестьянского быта, оба великие художники, потому, наконец, что все великие произведения имеют в себе нечто общее. Казен в своих пейзажах имеет гораздо больше сходства с Миллье, чем Бастьен. Что особенно замечательно у Миллье в его шести холстах, которые я там видела, это – общая гармония целого, воздух, переливы тонов. Это маленькие человеческие фигуры, написанные широкой и верной кистью, а что составляет особенную силу Бастьена, выдвигающую его из ряда других художников нашего времени, – это именно его вдумчивое, сильное, поразительно живое изображение человеческих фигур, его бесподобное подражание природе – словом, жизни. Его «Вечер в деревне» – небольшая, но выразительная картина – по типу, конечно, подходит к Миллье, там всего только две маленькие фигурки, затерявшиеся в полутьме сумерек. Я знаю, что большим картинам гораздо труднее сообщить эту глубину, нежность и в то же время силу – качество, особенно характеризующее Миллье (но нужно будет добиться этого). В маленькой картине очень многое стушевывается; я говорю о маленьких картинах, так сказать, передающих общее впечатление. Здесь часто удается выразить это «ничто» и в то же время «все», не находящееся ни в какой определенной точке, но проникающее во все и составляющее всю прелесть – несколькими счастливыми ударами кисти; между тем у него в большой картине все это изменяется и становится страшно трудным, потому что здесь чувство должно выражаться при помощи знания…
16 июня
Итак, я отнимаю у картин Бастьена наименование chef-d’oeuvre’oв? Почему? Потому ли, что недовольна его «Любовью в деревне», или просто потому, что у меня не хватает смелости убеждения? Ведь обоготворять людей решаются только после их смерти. Интересно, что сказали бы о Миллье, если бы он был жив? И к тому же там было всего шесть холстов Миллье. Разве не нашлось бы шести картин соответственного достоинства у Бастьена? «Pas-meche» – «Жанна д’Арк» – 2, «Портрет брата» – 3, «Вечер в деревне» – 4, «Сенокос» – 5; я не все знаю, а он ведь еще жив. Бастьена не столько можно назвать сыном Миллье, сколько Казена, который очень напоминает его, хотя – слабее. Бастьен – оригинален, он всегда является самим собой. Всегда ведь сначала заимствуют у кого-нибудь, но потом личность выдвигается. Впрочем, поэзия, сила, очарование – всегда одни и те же, и если бы искать их значило подражать, можно было бы прийти в отчаяние. Вы чувствуете живейшее впечатление, останавливаясь перед Миллье, то же самое ощущаете и перед Бастьеном. Что же из этого следует? Поверхностные люди говорят: подражание. Это неверное; два различных актера в двух различных пьесах могут одинаково взволновать вас, потому что чувства истинные, глубоко человеческие, сильные всегда одни и те же.
Etincelle посвящает мне дюжину строчек самого любезного свойства. Я – замечательный художник, прелестная молодая девушка и ученица Бастьен-Лепажа. Вот вам!
18 июня
Внимание! Речь идет об одном небольшом событии! Сегодня, в одиннадцать часов утра, у меня назначена аудиенция корреспонденту «Нового времени» (из Петербурга), который письмом просил меня об этом. Это очень большая газета, и этот М.Б. посылает туда, между прочим, этюды о наших парижских художниках, «а так как вы занимаете между ними видное место, надеюсь, вы мне позволите, и т. д.». Ого! Прежде, чем сойти к нему, я оставляю его на несколько минут с тетей, которая подготовляет мой выход, говоря о моей молодости и всевозможных вещах, могущих благоприятно выставить нас! Он осматривает все холсты и делает заметки. Когда я начала? Где? Скольких лет и когда? Различные подробности, примечания… Итак, я художница, которой будет посвящен этюд корреспондента большой газеты.
Это – начало, и в то же время – заслуженная награда, и… Только бы эта статья была хороша; я наверное не знаю, какие заметки он там делал, потому что я не расслышала всего, как следует, и это просто возмутительно. Тетя и Дина говорили там… Но что? Жду статьи с мучительным нетерпением… А придется прождать добрых две недели… Они особенно налегали на мою молодость!
21 июня
Завтра – раздача наград; мне прислали список… С моим именем в отделе живописи. Это выглядит довольно хорошо… Но я еще колеблюсь, идти ли мне. Не стоит, и потом… Бог знает что! Какой-то страх – чего и сама не знаю.
22 июня
Божидар уже там с девяти часов. Любопытное это существо: главная черта этой славянской натуры – причудливой, беззаботной – любовь ко всякого рода неожиданным измышлениям… Впрочем, раз он с кем-нибудь дружен, все его воображение служит прославлению его друзей; он страстно привязывается к людям на некоторое время…
Бедные эти художники!.. Некоторые были очень взволнованны. Люди сорока пяти лет, бледные, растрепанные, в нескладно сидящих сюртуках, шли, чтобы получить свою медаль и пожать руку Жюля-Ферри – министра.
Какой-то скульптор – видный детина, – взяв предназначенный ему маленький футляр, принялся тут же на месте открывать его, невольно улыбаясь счастливой детской улыбкой.
Я тоже была несколько взволнована, глядя на других, и одну минуту мне показалось даже, что это будет ужасно страшно подняться и подойти к этому столу. Тетя и Дина сидели сзади меня на скамейке, потому что награждаемые имеют право на места для близких…
И вот прошел этот день награды! Я представляла его себе совсем иначе.
О! В будущем году – схватить медаль!.. И тогда все пойдет, как в каком-то сне!.. Быть предметом восторгов, торжествовать!
Это было бы слишком прекрасно и просто невозможно, если бы я не была так несчастна. Ну, а когда вы получите вторую медаль – вы пожелаете получить большую? – Разумеется. А потом – орден? – А почему бы и нет? – Ну, а потом? – А потом наслаждаться результатами своего труда, своих усилий, работать постоянно, постоянно поддерживать себя на известной высоте и попытаться быть счастливой – полюбить кого-нибудь. Ну, да это еще будет видно, это все не сейчас. А если бы я вышла замуж теперь, я стала бы потом, пожалуй, сама жалеть. Но в конце концов надо-таки будет выйти замуж, только за человека, который серьезно любил бы меня, иначе я была бы несчастнейшей из женщин. Но нужно также, чтобы этот человек хоть сколько-нибудь подходил ко мне!
Быть знаменитой, быть знаменитой, известной! От этого все будет зависеть… Нет… Рассчитывать на встречу какого-нибудь идеального существа, которое уважало бы, любило меня и в то же время представляло хорошую партию, невозможно. Знаменитые женщины пугают людей обыкновенных, а гении редки…
24 июня
Думаю о глупостях, которые я писала относительно Пьетро. Я говорила, что думаю о нем каждый вечер, что я жду его и что, если бы он приехал в Ниццу, я бросилась бы в его объятия. И все думали, что я была влюблена, и все читающие подумают, что… И никогда-то, никогда, никогда этого не было; нет, никогда!.. В минуты скуки, вечером – особенно летним – часто представляется таким счастьем возможность броситься в объятия какого-нибудь влюбленного человека… Мне самой сотни раз представлялось это. Ну, а тогда нашлось имя, которым можно было обозначать его, действительное существо, которое можно было называть – Пьетро. Ну, Пьетро – так Пьетро! А тут еще фантазия назваться племянницей великого кардинала, который мог сделаться… папой, но… Нет, я никогда не была влюблена и никогда этого теперь уже не будет. Теперь, чтобы понравиться мне, человек должен быть таким возвышенным; я так требовательна, нужно, чтобы это был… А просто влюбиться в какого-нибудь хорошенького мальчика – нет, этого уже никогда не может быть.
28 июня
Минутами мне кажется, что этот бесконечный журнал содержит сокровища мысли, чувств, оригинальности. Я изливаюсь в него вся – вот уже сколько лет. Это просто потребность – без всякой задней мысли, как потребность дышать. Но прежде всего надо найти покой, выйдя замуж, чтобы не висела надо мной эта забота. И тогда всем существом отдаться работе…
3 июля
Картина не идет: такая тоска. И вообще ничего утешительного!!! Вот наконец и статья «Нового времени». Она очень хороша, но несколько конфузит меня, потому что в ней сказано, что мне всего девятнадцать лет, тогда как в действительности больше, а на вид и того больше. Но эффект в России будет очень велик.
12 июля
За завтраком у нас – Канроберы, а затем мы отправляемся на выставку rue de Seze. Боже мой – мне нужно только одно: обладать талантом. Боже мой, мне кажется, что лучше этого ничего в мире нет.
Туалеты, кокетство – все это больше для меня не существует. Я одеваюсь хорошо, потому что это ведь тоже своего рода искусство, и я не могла бы одеваться пугалом, но вообще…
От настоящей работы я становлюсь некрасива: я запираюсь, хоронюсь от всех; а что получу я взамен этого?.. Ведь это легко сказать, когда гений уже дал себя почувствовать, а так!.. Я нахожу, что Бенвенуто-Челлини, сжигающий свою мебель, делал не столько, сколько я: я бросаю в огонь нечто гораздо большее, гораздо более драгоценное; а что получу я взамен этого? Он знал, к чему это приведет, а я?!
Как только я отделаюсь от своих «мальчиков», я поеду в деревню, в настоящую деревню, с широким горизонтом, степями – без всяких гор. Чудесные солнечные закаты, распаханная земля, трава и полевые цветы, шиповник – и простор, простор. И там напишу картину – небо, бесконечно уходящее в даль… Трава и полевые цветы.
13 июля
Романтична я в смешном смысле слова или действительно стою выше всего обыкновенного, потому что чувства мои совпадают только с тем, что есть самого возвышенного и чистого в литературе? Но в любви?.. Впрочем, я ведь никогда и не испытала ее, потому что эти преходящие тщеславные увлечения нечего и считать. Я предпочитала того или другого человека потому, что мне нужны были объекты для моих измышлений; они предпочитались другим только потому, что это была потребность моей «великой души», а вовсе не потому, чтобы действительно производили на меня впечатление. Вот в чем различие. И оно огромно.
Перейдем, однако, без дальнейших рассуждений к искусству. Я не вижу, куда я иду в живописи. Я повторяю Бастьен-Лепажа, и это – пагуба. Потому что сравняться с тем, кому подражаешь, невозможно. Великим может быть только тот, кто откроет свой новый путь, возможность передавать свои особенные впечатления, выразить свою индивидуальность.
Мое искусство еще не существует. Я провижу его немножко в «Святых женах». А еще? В скульптуре, но это уже другое дело. Но в живописи!..
В «Святых женах» я никому не подражаю и верю в большой успех, потому что хочу вложить величайшую искренность в исполнение; и потом, волнение, охватывающее меня, когда я останавливаюсь на этом сюжете!..
Мальчики все-таки напоминают Бастьен-Лепажа, хотя сюжет взят мной прямо с улицы, и это самая заурядная, самая правдивая, самая обыденная сценка. Этот художник вечно составляет предмет моей тревоги.
14 июля
Читали вы «Любовь» Стендаля? Я теперь читаю именно эту вещь. Я никогда еще не любила в жизни или не переставала быть влюбленной в какое-то воображаемое лицо. Вот ведь какого рода дело!
Прочтите эту книгу. Это еще тоньше, чем Бальзак, еще более правдиво, цельно и поэтично. И это дивно выражает то, что всякий сам перечувствовал, даже я. Только я… я всегда все слишком анализировала. Если я когда-нибудь была действительно влюблена, так это только в Ницце, будучи еще ребенком, да и то по недоумию. А потом болезненное увлечение этим чучелом Пьетро…
16 июля
Вопрос о «кристаллизации» любви интересует меня живейшим образом; я уверена, что можно было бы написать целый том о «кристаллизациях» совершенно невинного характера, ни к чему особенному не приводящих.
Вот я, например, для которой любовь полная мыслима только в браке, или вообще всякая другая девушка или замужняя женщина с твердыми принципами – мы тем не менее вполне доступны внутренним движениям, характеризующим «кристаллизацию». Только эта кристаллизация не завершается; нужно, впрочем, заметить, что слово кристаллизация мне не нравится, но, как говорит Стендаль, оно позволяет избегнуть длинной объяснительной фразы; итак, я употребляю его. Кристаллизация начинается. Если «объект» имеет все совершенства, мы отдаемся этому внутреннему процессу и доходим до любви, т. е. любим; главное, разумеется, в том, чтобы действительно любить, а не практиковать то, что у Александра Дюма называется «любовью». Если же «объект» не имеет нужных совершенств или мы открываем в нем недостаток – будь то безобразие, что-нибудь смешное или какой-нибудь умственный недочет, – дело останавливается на полдороге. Я думаю также, что можно остановить его усилием собственной воли.
17 июля
По-прежнему преисполнена кристаллизациями – увы! – беспредметными.
22 июля
Вчера вечером поставила себе на груди мушку, в том месте, где болит легкое. Решилась-таки наконец; это будет желтое пятно на три или четыре месяца; но по крайней мере – я не умру в чахотке.
25 июля
М.Х. приносит нам два бюста, купленных по сто франков за каждый.
Мы оставляем его обедать. Он имеет вид очень растерянный, хотя и старается придать себе некоторый апломб. Говорят, что он беден. Все это очень тяжело; мне так стыдно, что за две художественные работы я дала цену какой-нибудь шляпки. А между тем вместо того, чтобы быть с ним любезнее обыкновенного, я под влиянием всех этих чувств сделалась по виду только еще менее радушной; и мне это ужасно досадно. Бедный человек скинул свое пальто и положил его на диван… Он совсем не разговаривает. Мы занимались музыкой; это сделало его несколько более развязным, а то он совсем не знал, как себя держать. Я не усматриваю в нем большого ума, а между тем, судя по его таланту, он должен быть интеллигентом. Но мы совсем не умели обращаться с ним так, чтобы он чувствовал себя свободно; вообще, это какая-то дикая натура; он должен быть горд и очень несчастен. Но во всяком случае, дело в том, что он беден, а я купила два бюста за двести франков! Мне так стыдно. Я хотела бы послать ему еще сто франков, потому что имею капитал в сто пятьдесят франков, да не знаю, как бы это сделать.
26 июля
По отношению к картинам – у меня теперь самое неопределенное время; глиняные группы все размочены, кроме одной, еще не установленной. Ну, в такое-то время и нужно, разумеется, появиться Сен-Марсо! На сцену выходят сердцебиения, кристаллизации и пр. Я надеваю, снимаю и опять надеваю два платья, заставляю его долго ждать и, наконец, принимаю его, нескладно одетая и красная.
Он очень интересен: по-прежнему негодует против современной школы натуралистов и «человеческих документов».
Нужно суметь найти то нечто, составляющее искусство и неподдающееся объяснению.
Я понимаю, но… Он видел только мою ничтожную группу и сказал, чтобы я так и продолжала ее, вот и все! Я не получила никакого комплимента, только за этот вечный портрет Дины, который находят почему-то очень удачным… Он очень мил, Сен-Марсо, оригинален, остроумен, нервен, порывист; он не стесняется резко судить обо всем; это лучше, чем лицемерная манера признавать талант во всяком встречном-поперечном. Он видел моих мальчиков и говорит, что это еще не Бог весть как трудно – делать эти штучки, всех этих мужиков, мальчишек – словом, все эти шаржи. А вот сделайте-ка вещь красивую, изящную, тонкую и в то же время характерную – вот где трудность! И главное, вдохните в нее то необъяснимое нечто, которое и составляет искусство и которое мы находим только в собственной душе…Ну что, разве я не говорила того же самого? Итак, долой ничтожных копировальщиков, фотографов-натуралистов!
3 августа
Бастьен-Лепаж может привести в отчаяние. Изучая природу вблизи и желая вполне передать ее на полотне, невозможно не думать все время об этом огромном художнике. Он владеет всеми тайнами эпидермы. Все, что делают другие, все-таки остается только живописью; у него – это сама природа. Говорят о реалистах; но эти реалисты сами не знают, что такое реальности: они просто грубы, а воображают, что это правдивость. Реализм состоит вовсе не в изображении грубо простых вещей, но в выполнении, которое должно быть совершенным.
Я не хочу, чтобы это была живопись, я хочу, чтобы это была настоящая кожа, чтобы все это жило перед моими глазами!
5 августа
Говорят, что у меня был роман с С. и что поэтому-то я и не выхожу замуж. Иначе не могут объяснить себе, как это я, имея хорошее приданое, не сделалась до сих пор ни графиней, ни маркизой.
Дурачье!.. К счастью, вы, горсть избранных существ, возвышенных людей, вы, дорогие любимые мои поверенные, читающие меня, – вы ведь знаете, в чем тут дело. Но когда вы будете читать меня, все те, о которых я говорила, по всей вероятности, уже не будут жить на белом свете; и С. унесет в могилу сладостное убеждение в том, что он был любим молодой и прекрасной иностранкой, которая, плененная этим рыцарем… и т. д. Дурак! И другие – того же мнения! Дураки! Но вы ведь отлично знаете, что это не так. Это было бы, может быть, весьма поэтично – отказывать разным маркизам из-за любви; но увы! – я отказываю им, руководствуясь рассудком.
7 августа
Я краснею до ушей, думая о том, что через неделю будет вот уже пять месяцев, что я кончила картину для Салона. Что я сделала за пять месяцев?
Ничего. Занималась, правда, скульптурой, да это не считается. Мальчики еще не кончены.
Я чувствую себя очень несчастной… серьезно. N.N. обедал у нас и презентовал мне свой луврский каталог, обозначая при этом место почти каждой картины. Он изучил все это, чтобы войти ко мне в милость. Он воображает, что это возможно и что я могу выйти за него замуж. Он, вероятно, предполагает, что я при последнем издыхании, если мог забрать себе это в голову! Уж не из-за того ли он вообразил меня на такой степени падения, что я плохо слышу?
После его ухода я чуть не лишилась чувств от боли, от тоски. Господи, что же я такое сделала, что Ты постоянно так меня наказываешь! Что он такое вообразил себе, этот современный Пентефрий? Что он такое думает, если он предполагает, что я могу любить кого-нибудь вне моего искусства. А между тем брак по любви – где его встретишь?
Что же тогда негодует, что бунтует во мне? Почему обыденная жизнь кажется мне невыносимой. Это какая-то реальная сила, живущая о мне, нечто такое, чего неспособно передать мое жалкое писанье. Идея картины или статуи не дает мне спать целые ночи. Никогда мысль о каком-нибудь красивом господине не производила ничего подобного.
Поль Сезанн. Картежники. 1890–1892
11 августа
Читаю историю живописи Стендаля; этот умный человек постоянно держится тех же мнений, что и я! Иногда он бывает, однако, слишком придирчив и изыскан в своих суждениях. Он очень неприятно поразил меня, сказав, что, изображая скорбь, художник должен навести справки в физиологии.
Как? Да если я не чувствую трагичности выражения, какая физиология заставит меня почувствовать это?.. Мускулы! О, Бог ты мой!
Художник, который будет изображать душевное страдание физиологически, а не по тому, что он перечувствовал, понял, видел его (хотя бы и в воображении), останется всегда холодным и сухим. Это то же самое, как если бы кому-нибудь предписали огорчиться по известным правилам!
Чувствовать прежде всего, а затем уже рассуждать о чувстве, если угодно. Невозможно, конечно, чтобы анализ не явился для проверки и утверждения чувства, но это будет уже изыскание чистой любознательности. В вашей воле, конечно, узнать состав слез и изучить их логически и научно, чтобы составить себе понятие о их цвете! Я же предпочитаю взглянуть, как они блестят на глазах, и изобразить их, как я вижу, не заботясь о том, почему они выглядят так, а не иначе.
12 августа
Мысль, что Бастьен-Лепаж должен прийти, волнует меня до такой степени, что я не могла ничего делать. Смешно, право, быть такой впечатлительной.
За обедом мы много болтали. Бастьен-Лепаж в высшей степени интеллигент, но менее блестящ, чем Сен-Марсо.
Я не показала ему ни одного холста, ничего, ничего, ничего. Я ничего не сказала, ничем не блистала, и, когда он начинал интересный разговор, я не умела отвечать, ни даже уследить за его сжатыми фразами, кратко передающими всю суть предмета, как и его живопись. Если бы это было с Жулианом, я сумела бы отвечать, потому что этот род разговора всего более подходит ко мне. Он умен, он все понимает, он даже образован – я боялась известного недостатка образования. Но когда он говорил вещи, на которые я должна была бы отвечать, обнаруживая при этом прекрасные качества моего ума и сердца, я оставляла его говорить одного, молча, как дура!
Не могу даже писать сегодня, такой уж это день – я вся точно развинтилась.
Хочется остаться одной, совсем одной, чтобы отдать себе отчет во впечатлении, интересном и сильном. Через десять минут после его ухода я мысленно сдалась и признала его влияние.
И ничего-то я не сказала из всего, что следовало! Он по-прежнему – бог и вполне сознает себя таковым. И я еще утвердила его в этом мнении. Он мал ростом и безобразен для обыкновенных людей. Но для меня и людей моего склада эта голова прекрасна. Что он может думать обо мне? Я была неловка, слишком часто смеялась. Он говорит, что ревнует к Сен-Марсо. Нечего сказать, большое утешение.
16 августа
Сказать «большое несчастье» значило бы, может быть, преувеличить, но даже рассудительные люди согласятся, что случившееся может быть названо «хорошо рассчитанным ударом по голове».
И ведь глупо же! Как все мои печали, впрочем. Я послала на выставку свою картину, рассчитывая, что последний срок приема – 20 августа, а оказывается, что срок истекает не 20-го, а 16-го, сегодня.
У меня щекотанье в носу, боль в спине и отяжелевшие руки. Что-нибудь в этом роде должны чувствовать люди, которых сильно отколотили.
Ввиду всего этого, чтобы выплакать все свои печали, я запрятываюсь в кабинет – единственное довольно плачевное место, где я могу оставаться одна, не будучи заподозренной. Если бы я заперлась в своей комнате, все сейчас догадались бы, в чем дело, – после такого удара. Кажется, это в первый раз, что мне приходится прятаться, чтобы выплакаться до дна с закрытыми глазами и гримасами, как у детей или дикарей.
Ну, а потом сижу себе в мастерской, пока глаза не придут в нормальное состояние.
Я плакала раз в объятиях мамы, и это разделенное страдание оставило во мне на несколько месяцев чувство такого жестокого унижения, что я никогда ни при ком не буду больше плакать от горя. Можно плакать перед кем угодно от досады или по поводу смерти Гамбетты, но излить перед другими всю свою слабость, свое Божество, свое ничтожество, свое унижение – никогда! Если это и облегчает на минуту, зато потом раскаиваешься в этом, как в ненужном признании.
И в то же время, как я плакала в вышеозначенном месте, я вдруг отыскала взгляд моей Магдалины: она не глядит на гробницу, она никуда не глядит, как я сию минуту. Глаза широко раскрыты – как всегда после слез… Наконец-то, наконец, наконец!
17 августа
Никто не хочет верить в мою застенчивость, а между тем она легко объясняется избытком гордости.
Я чувствую настоящий страх, ужас и отчаяние, когда приходится просить; нужно, чтобы люди сами предложили мне. В какую-нибудь необыкновенную минуту я решаюсь попросить, но из этого никогда ничего не выходит: вечно попрошу слишком поздно или совсем некстати.
Я бледнею и краснею несколько раз прежде, чем осмеливаюсь заявить о своем желании выставить или написать какую-нибудь картину; мне кажется, что все смеются надо мной, что я ничего не знаю, что я притязательна и смешна.
Когда глядят (глядят… – какой-нибудь художник, разумеется) на мою картину, я ухожу куда-нибудь за две комнаты, так я боюсь какого-нибудь слова или взгляда. А между тем Робер-Флери и не подозревает, до какой степени во мне мало самоуверенности. Я говорю с апломбом, и он воображает, что я очень ценю себя и приписываю себе талант. Поэтому он даже не считает нужным ободрять меня, и, если бы я рассказала ему все свои колебания и страхи, он бы засмеялся. Я ему раз стала высказывать это, а он принял все это за шутку, за комедию. Вот ведь в какую ошибку я могу ввести! Бастьен-Лепаж знает, я думаю, что я ужасно боюсь его, и считает себя богом…
20 августа
Я пою, луна светит через большое окно мастерской; все так хорошо.
Счастье, должно быть, возможно. Да, если только есть возможность полюбить. Полюбить кого?
21 августа
Нет, я умру только около 40 лет, как m-lle С.; к 35 годам я разболеюсь окончательно и в 36–37 лет окончу свои дни зимой, в своей постели. А мое завещание? Я ограничусь в нем просьбой статуи и картины – Сен-Марсо и Жюля Бастьен-Лепажа – поместить в какой-нибудь парижской часовне, окруженной цветами, стоящей на видном месте; и в каждую годовщину пусть исполняют надо мной мессы Верди и Перголезе и другие вещи – лучшими певцами Парижа.
Впрочем, я хочу еще основать стипендию для художников – женщин и мужчин.
Но вместо того, чтобы заниматься всем этим, я хочу жить… Но у меня нет гения, и в конце концов все-таки лучше умереть…
27 августа
Я дала на лотерею в пользу Искии моего «Рыбака на ловле»; все выигрыши выставлены в зале Petit. Он таки очень недурен – мой рыбак, и вода – совсем хороша. Вот не воображала-то! О, рамка! О, обстановка! Все мы какие-то безумцы! Зачем работать над произведениями искусства; толпа ведь ровно ничего в нем не смыслит. И однако ты ведь любишь толпу, друг любезный? Да, т. е. я желаю составить себе всеми признанную репутацию, чтобы возбуждать в людях еще больший восторг и удивление.
29 августа
Я кашляю все время, несмотря на жару; а сегодня, после полудня, в то время, как мой натурщик отдыхал, я впала в какое-то полузабытье, сидя на диване, и вдруг я представилась себе лежащей с большой восковой свечой в изголовье.
Так вот какова будет развязка всех моих треволнений. Умереть! Я так боюсь.
И я не хочу. Это ужасно. Я не знаю, как это делается у разных счастливцев, но я поистине достойна сожаления… Без Бога нет ни поэзии, ни глубоких чувств, ни гения, ни любви, ни честолюбия.
Страсти бросают нас из стороны в сторону в ненадежные области разных стремлений, желаний, нелепых крайностей мысли. Человек непременно нуждается в чем-нибудь высшем, стоящем над его жизнью, в Боге, которому он нес бы свои гимны и свои молитвы, в Боге, к которому мог бы прибегнуть со своими прошениями, который всемогущ и перед которым можно излить всю душу. Я хотела бы слышать признание всех когда-либо живших замечательных людей: неужели они не прибегали к Богу в своей любви, в своих страданиях, в своих мечтах о славе?
Обыденные натуры, хотя бы и самые умные и ученые, могут обойтись без этого. Но те, в ком тлеет искра святого огня – будь они ученые, хоть как сама наука, – верят страстно… по крайней мере, моментами.
Я не учена, но все мои размышления сводятся к следующему: если бы Его не было, откуда эта потребность поклоняться Ему у всех народов и во все времена? Возможно ли, чтобы ничто не отвечало этим душевным порывам, врожденным у всех людей, этому инстинкту, побуждающему нас искать высшего существа, великого властелина, Бога?..
13 сентября
Стендаль говорил, что несчастья и неприятности кажутся менее горькими, если мы их идеализируем. Это в высшей степени верно. Но как идеализировать мои? Невозможно! До того они горьки, до того плоски, до того ужасны, что я не могу говорить о них даже здесь, не нанося себе лишней ужасной раны. Как признаться, что иногда я плохо слышу!.. Но да исполнится воля Божья. Фраза эта приходит мне на ум как-то машинально, но это почти то, что я действительно думаю. Потому что я ведь умру – преспокойно умру, как бы я там ни лечилась… Да оно и лучше, потому что я еще вдобавок боюсь за мои глаза: вот уже пятнадцать дней, что я сидела без работы и без чтения, и мне вовсе не лучше. Какое-то странное мельканье в воздухе… Это, может быть, зависит от того, что вот уже пятнадцать дней, что у меня бронхит, который хоть кого свалил бы с ног и с которым я, однако, прогуливаюсь как ни в чем не бывало.
Я работала над портретом Дины в таком трагическом расположении духа, что у меня наверное еще прибавится седых волос.
15 сентября
Я вконец разболелась. Налепляю себе на грудь огромнейшую мушку. Сомневайтесь после этого в моем мужестве и моем желании жить! Впрочем, никто не знает об этом, кроме Розалии. Я преспокойно прогуливаюсь по мастерской, читаю, болтаю и пою – почти прекрасным голосом. Так как по воскресеньям я часто ничего не делаю, это никого особенно не удивляет.
18 сентября
Благодаря тому, что русская пресса обратила на меня внимание, кажется, и все понемножку заинтересовались мной, между прочим – великая княгиня Екатерина Михайловна. Мама близка с ее камергером и его семьей, и там совершенно серьезно говорили о назначении меня фрейлиной. Для этого нужно еще быть представленной великой княгине. Обо всем этом было уже переговорено, но мама сделала ошибку, уехав оттуда и оставив все это дело на произвол судьбы… Но не в том дело… Моя душа ищет родной души. Но у меня никогда не будет подруги. Клара говорит, что я не могу быть дружна с какой-нибудь девушкой, потому что у меня нет разных маленьких тайн и маленьких девичьих историй.
26 сентября
Теперь, когда все неприятности преданы забвению, я вспоминаю только о том, что было в моем отце хорошего, оригинального, умного. Он был безрассуден и казался для обыкновенных людей легкомысленным и даже чудаком. Было в нем, может быть, немного сухости и хитрости… Но кто не имеет недостатков! Хоть бы и я сама… И я невольно обвиняю себя и плачу. Если бы я тогда поехала… Это было бы только из приличия, потому что ведь побуждающего к этому чувства не было… Имело ли бы это все-таки какую-нибудь цену? Не думаю.
У меня не хватило на это чувства, и Бог накажет меня за это. Но моя ли вина?.. И потом, зачтутся ли мне чувства, сегодня мной испытываемые? Ответственны ли мы за наши непосредственные чувства?
Нужно исполнять свой долг, скажете вы. Но дело шло не о долге. Я говорю о чувстве, и если у меня тогда не было потребности поехать, каким образом будет судить меня за это Бог?
Да, мне жаль, что я не могла раньше почувствовать этого порыва. И он уже умер, и это непоправимо. И что стоило мне поехать исполнить мой долг, потому что ведь это был мой долг – поехать к умирающему отцу. А я не поняла этого, и теперь чувствую себя далеко не безупречной. Я не исполнила своего долга. Нужно было сделать это. И это будет вечное сожаление. Да, я нехорошо поступила, и я раскаиваюсь, и мне так стыдно перед самой собой; это очень тяжело… Я не хотела бы оправдываться, но не думаете ли вы, что мама должна была бы высказать мне это тогда. О, да. А она побоялась, что я утомлюсь; и потом рассуждения: что если, мол, Мари поедет с матерью, то они застрянут там на полгода, а если Мари останется, мать возвратится скорее… Все эти семейные доводы!.. Увы! Вечно-то человек поддается чьему-нибудь влиянию, сам не замечая этого…
1 октября
Сегодня отправляли в Россию тело нашего великого писателя Тургенева, умершего две недели тому назад. На вокзале – очень торжественные проводы. Говорили Ренан, Абу и Вырубов, который своей прекрасной речью на французском языке тронул присутствующих более чем другие. Абу говорил очень тихо, так что я плохо слышала, а Ренан был очень хорош и на последнем «прости» у него дрогнул голос. Я очень горжусь при виде почестей, оказываемых русскому этими ужасными гордецами-французами. Я их люблю, но презираю. Они покинули Наполеона на Святой Елене… Это преступление огромное, чудовищное, ужасное, это вечный позор…
У других народов, однако, был же убит Цезарь… И потом, они не оценили Ламартина, который в древности удостоился бы алтарей, как справедливо замечает Дюма-сын. И потом, еще у меня против них зуб личного характера: они не признают таланта Бастьен-Лепажа. Мы были после проводов Тургенева в Салоне, и я не могу видеть его живописи без излияния восторга – внутренних излияний, потому что подумают еще, пожалуй, что я влюблена.
6 октября
Добрейший, милейший Робер-Флери пришел взглянуть на мою картину. Добрейший, милейший!!! Это уже, конечно, заставляет вас предчувствовать, что он меня сегодня не разнес. Первые слова были:
– Это премило выглядит. Я тотчас же перебила его:
– Нет, нет, если вы говорите это, щадя меня, я не хочу этого. Этот ужасный Жулиан говорит, что меня постоянно щадят, что, в сущности, я ничего не знаю, что…
– А вы и поддаетесь ему, ведь он дразнит.
И добрейший человек хохочет от всего сердца над моей наивностью.
В общем вот что говорит он о моей картине: она очень хороша. Некоторые места безусловно хороши, настолько, что я, может быть, никогда не сделаю ничего лучшего. (Я привожу его собственные слова.) Мальчуган справа и потом другой на первом плане, повернувшийся спиной, безусловно хороши. Но фон нужно сделать несколько светлее, особенно справа; от этого очень сильно выиграют сами фигуры, к которым я не должна больше прикасаться… Это работа на два часа.
Я должна быть без ума от радости; но ничего подобного я не ощущаю, потому что я ведь не разделяю мнения моего превосходного учителя. Я могу сделать лучше. Итак, то, что я сделала нехорошо? Недостаточно… Я вижу лучше, я должна была бы сделать, как вижу.
Что-то скажет публика? Такая ли это вещь, чтобы быть замеченной? Как знать! Он находит, что хорошо. Но все эти хорошо – относительны, а такого относительного хорошо – я не желаю. Для другого это может быть и хорошо, но для меня, но для всех?.. Сильно ли это? Он находит, что маленький человечек, повернувшийся спиной, превосходно нарисован: так и чувствуешь его ножонки сквозь панталоны, говорит он. Уж не воображает ли он, что это благодаря анатомии?
Я просто списала то, что видела, ни о чем не думая. Впрочем, мне кажется, что талант вообще бессознателен.
Прочла роман Тургенева в один присест, чтобы составить понятие о впечатлении иностранцев.
Это был великий писатель, очень тонкий ум, глубокий аналитик, истинный поэт, своего рода Бастьен-Лепаж. Его пейзажи так же хороши, а потом эта манера описывать мельчайшие ощущения, как это делает кистью Бастьен-Лепаж.
Все, что я только встречаю великого, поэтического, прекрасного, тонкого, правдивого в музыке, в литературе, во всем, – все заставляет меня вновь и вновь возвращаться мысленно к этому дивному художнику, к этому поэту. Он берет сюжеты, в глазах светских людей самые пустые, грубые, и извлекает из них чарующую поэзию.
Что может быть обыкновеннее маленькой девочки, стерегущей корову, или бабы, работающей на поле… Но никто не умел сделать этого, как он. И он вполне прав: да, в одном холсте может заключаться триста страниц. Но нас, понимающих его, наберется, может быть, всего каких-нибудь полтора десятка.
Тургенев тоже изображал крестьян – простого бедного русского крестьянина, и с какой силой, с какой простотой и искренностью. К сожалению, за границей эти вещи его не могут быть поняты, и известность его основана скорее на произведениях, посвященных изображению русского общества.
9 октября
Портрет Божидара, кажется, хорош. Жулиан говорит, что он может иметь большой успех, что это очень оригинально, очень ново… В глазах всех – сходство очень велико, но я хотела бы видеть еще нечто – в маске. Голова и тело очень правдивы, даже на мой взгляд. Остается сделать только руку.
Но в половине шестого я вдруг улавливаю своеобразный эффект красноватого вечернего неба с серпом восходящего месяца: именно, именно, именно то, что мне нужно для моих «Святых жен»; в один момент я делаю набросок. В другой раз ведь не заставишь позировать такое небо… И теперь мне ужасно хочется приняться за картину сейчас же: теперь я сделала бы ее в три недели. Нужно всегда браться за вещи в благоприятный, психологически-благоприятный момент.
Итак, у меня есть теперь небо. А для пейзажа и растений я отправлюсь на юг. Но когда же именно?.. Или еще подождать? Может быть, это лучше, потому что я хорошо сделала, что ждала до сих пор: всего каких-нибудь несколько месяцев тому назад я совсем погубила бы дело… И потом, я хотела бы прежде сделаться известной и тогда уже с известным именем послать картину, и то еще и внимания не обратят. С кем посоветоваться? Кто будет искренен, кто сумеет разобрать дело?.. Это опять будешь ты, мой единственный друг, ты будешь по крайней мере искренна и ты любишь меня. Да, я люблю себя, одна я!!!
22 октября
Мне очень хотелось бы, чтобы моя чахотка оказалась плодом моего воображения.
Было, кажется, такое время, когда чахотка была в моде и всякий старался казаться чахоточным или действительно воображал себя больным. О, если бы это оказалось одним только воображением! Я ведь хочу жить во что бы то ни стало, и, несмотря ни на что, я не страдаю от любви, у меня нет никакой мании, ничего такого. Я хотела бы быть знаменитой и пользоваться всем, что есть хорошего на земле… Ведь это так просто.
28 октября
Я собираюсь писать туман на берегах Сены – из лодки. Эта мысль оживляет меня.
Я вскакиваю в час ночи, чтобы сказать, что я наконец собираюсь взяться за нечто определенное. Страдания мои происходили именно от отсутствия определенного желания взяться за что-нибудь.
Точно какое-то пламя охватывает вас, и все поднимается, поднимается; это то же, что вид человека, предпочитаемого вами всем другим, – впечатление чего-то горячего, светлого. Я краснею от этого, сидя совершенно одна… Да, я хочу писать лес с его огненной листвой, с этими дивными октябрьскими тонами – красными, золотыми, зелеными…
И однако все-таки это еще не та картина, где я покажу себя. Только в «Святых женах» я должна буду проявить себя… А я не смею принять за них, положительно не смею… Ну, пойдем спать.
1 ноября
Отправляюсь работать в Grande Lotte. Аллея деревьев с золотистыми тонами; холст средней величины. К счастью, Божидар отправился со мной, потому что я и не подумала, что сегодня праздник, и, придя туда, мы встречаем там ватагу лодочников, так что Розалии было бы недостаточно в качестве porte-respect. Вообще, чтобы иметь возможность сидеть за работой на этом милом островке, я одеваюсь как старая немка; два-три шерстяных трико, чтобы обезобразить талию, пальто за 27 франков, и на голове большой черный вязаный платок. И под ногами грелки.
5 ноября
Листья опали, и я не знаю, как кончить мою картину. Картина в лодке, все установлено, а я и не знаю, продолжать ли ее… О, да, но скорее, скорее, скорее! Окончить в пятнадцать дней и показать пораженному Роберу-Флери и Жулиану.
Если бы я это сделала, я бы ожила. Я страдаю от сознания, что ничего не сделала за это лето; это составляет для меня предмет ужаснейших угрызений.
Я хотела бы точнее определить свое странное состояние. Я чувствую себя ослабевшей; какое-то особенное спокойствие. Я подозреваю, что люди, только что подвергавшиеся кровопусканию, испытывают что-нибудь подобное.
Итак, я мирюсь на время со своей долей… До мая… А почему, спрашивается, в мае может что-нибудь измениться?.. Да как знать!.. И это наводит меня на мысль о том, что могло бы произойти хорошего, замечательного; и мало-помалу под влиянием этих мыслей я успокаиваюсь.
И благодаря этому за обедом я болтаю с моей семьей, болтаю самым милым образом, естественно, спокойно, ласково. Словом, я наконец успокоилась; и работа теперь пойдет спокойно, и мне кажется даже, что все мои движения будут спокойными, плавными, что я на весь мир буду смотреть с кротким снисхождением.
Я спокойна, как будто бы я была сильна, а может быть, и действительно поэтому… и терпелива, как будто бы была уверена в будущем. Кто знает? Право, чувствую, как в меня проникает какое-то достоинство; я верю в себя. Я представляю из себя силу. Значит… Что же? Ведь это однако же не любовь? Нет. А между тем ничто не интересует меня вне этого… Ну, и прекрасно, сударыня, чего же лучше, и занимайтесь себе своим искусством.
8 ноября
Прочла в газете, что вчера на открытии промышленной выставки было большое стечение публики и наши Великие Князья. Я должна была быть там и пропустила день!
Нет, оставим борьбу, судьба мне не благоприятствует… Но все это заставляет меня только петь под аккомпанемент арфы. Ведь если бы я была вполне счастлива, я бы не могла, может быть, работать. Говорят, что у всякого артиста всегда бывает какой-нибудь конек; мой конек – это все мои неудачи и горести, вновь и вновь приводящие меня к подножию искусства, составляющего единственный смысл и двигатель моей жизни.
О, стать знаменитостью!
Когда я представляю себе в воображении, что я знаменита, – это точно какая-то молния, точно электрический ток; я невольно вскакиваю и принимаюсь ходить по комнате.
Мне скажут, что, если бы меня выдали замуж в семнадцать лет, я была бы совершенно, как все другие. Величайшее заблуждение. Для того чтобы меня могли выдать замуж, как всякую другую, нужно было, чтобы я была совсем другая.
Думаете вы, что я когда-нибудь любила? Я не думаю. Все эти мимолетные увлечения, может быть, и смахивают на любовь, только это не должно быть названо любовью.
Продолжаю ощущать большую слабость. Точно ослабевшие струны на каком-нибудь инструменте. Почему? Жулиан говорит, что я имею вид осеннего пейзажа – покинутой аллеи, окутанной мглой грустно наступающей зимы…
– Как раз то, что я только что написала!
Он таки иногда верно попадает в цель, папенька Жулиан!
– Показывали вы свою картину великому человеку!
– Скорее выскочила бы из пятого этажа.
– Ну, так это доказывает, что вы чувствуете какие-то недостатки и что можете пойти дальше этого…
Весьма верно.
11 ноября
Обедали сегодня в Жуй. Мне право кажется, что я люблю этих людей.
Они интеллигентны и милы. Я нахожу почти удовольствие в свидании с ними.
Быстрая перемена декораций; все мне улыбается, все кажется спокойным и прекрасным. Я знаю, что хочу сделать, и все идет как по маслу.
12 ноября
Дрюмон, участник Liberte, был у нас сегодня. Он терпеть не может жанр того характера, над которым я работаю, но расточает мне комплименты, с изумлением спрашивая меня в то же время, каким образом я, окруженная роскошью и изяществом, могу любить безобразие. Он находит, что мои мальчики безобразны.
– Почему бы вам не выбрать красивых детей, это было бы премило?
– Я выбрала выразительных. Да и где вы встретите между уличных ребятишек каких-нибудь писаных красавцев! Для этого нужно было бы отправиться в Елисейские Поля, да и списывать там себе несчастных маленьких болванчиков, заверченных в ленты и окруженных гувернантками!.. Только где же тут движение? Где естественность, свобода, непосредственность? Где настоящая выразительность? В хорошо воспитанных детях проявляется уже рисовка.
И потом… Словом, я права.
Жуй. 17 ноября
Деревня заставляет с особенной силой чувствовать красоту картин Бастьен-Лепажа… Парижане не могут достаточно оценить его, но если бы только они взглянули на деревенскую природу, такую величественную, простую, поэтическую…
Каждая травка, деревья, земля, взгляд проходящих женщин, позы детей, походка стариков, цвет их одежды – все гармонирует с пейзажем.
Жуй всегда заставляет меня браться за перо. Всякий раз я привожу оттуда исписанные листки. Когда же соберу я из них целую книгу?!
22 ноября
«Всемирная иллюстрация» (русская) напечатала на первой странице снимок с моей картины «Жан и Жак». Это самый большой из иллюстрированных русских журналов, и я в нем разместилась, как дома!.. Но это вовсе не доставляет мне особенной радости. Почему? Мне это приятно, но радости это мне не доставляет. Да почему же?
Потому что этого не достаточно для моего честолюбия. Вот если бы два года тому назад я получила бы почетный отзыв, я бы того и гляди упала в обморок! Если бы в прошлом году мне дали медаль, я разревелась бы, уткнувшись носом в жилетку Жулиана!.. Но теперь…
События – увы! Логичны. Все связано, сцеплено между собой, одно вытекает из другого, все подготавливается мало-помалу… А для того, чтобы радость чувствовалась очень сильно, она должна быть неожиданной, представлять из себя нечто в роде сюрприза.
Впрочем, тут дело не в самой медали, а в сопровождающем ее успехе со стороны публики.
28 ноября
Вчерашняя барышня, перелистывая мои альбомы, заставила меня наткнуться на старый набросок: убийство Цезаря. И это вновь захватило меня за душу… Я бросаюсь к Плутарху и Светонию. Монтескье обожает описание этого убийства у Плутарха. Да, это настоящий академик. Все у него расставлено в порядке, все красноречиво, тогда как Светоний заставляет вас содрогаться: это какой-то судейский протокол, от которого мороз продирает по спине… Каким удивительным обаянием обладают великие люди, если по прошествии многих лет их жизнь и их смерть заставляют нас трепетать и плакать. Я плакала о Гамбетте. Каждый раз, перечитывая историю, я оплакиваю Наполеона, Цезаря.
Эту картину я напишу для себя – как выражение моих чувств – и для толпы, потому что это римляне, потому что здесь есть анатомия, кровь, потому что я женщина, а женщины еще не сделали ничего классического в больших размерах, и я хочу пустить в ход все свои способности композиции и рисунка… И это будет очень хорошо. Мне досадно только, что дело происходит в сенате, а не на улице. При таких условиях работа будет представлять одной трудностью меньше, а мне хотелось бы, чтобы они были все!..
Когда я сознаю, что приступаю к вещам особенно трудным, я становлюсь вдруг необыкновенно решительна, необыкновенно хладнокровна; я как-то подбираюсь, сосредотачиваюсь и достигаю большего, чем в вещах, которые по силам всякому. Не нужно ехать в Рим, чтобы писать картину; я начну ее. Однако в марте и апреле весна сообщает такие прелестные тона природе, и я хотела было отправиться писать деревья в цвету в Аржантель… Так много дела в жизни, а жизнь так коротка! Я не знаю, успею ли я выполнить даже и то, что задумано… Святые жены, Большой барельеф, Весна, Юлий Цезарь, Ариадна… Голова идет кругом, хотелось бы все сделать тотчас же… А между тем все будет создаваться постепенно, в свое время, с замедлениями и охлаждениями и разочарованиями… Жизнь логична: все связано в ней в одну непрерывную цепь…
Я чувствую в себе такой подъем духа, такие порывы к великому, что ноги мои уже на касаются земли. Что меня постоянно преследует, так это боязнь, что я не успею выполнить всего задуманного. Это состояние утомительно, хотя чувствуешь себя счастливой… Ведь я не проживу долго, знаете… Дети слишком умные… И потом мне кажется, что свеча разбита на четыре части и горит со всех концов…
1 декабря
Уж не далась ли я, право, в обман?! Кто вознаградит меня за мои лучшие годы, потраченные, может быть, напрасно? Но на все эти сомнения вульгарная половина моего «я» отвечает мне, что ничего лучшего мне и не представлялось, что живи я, как другие, мне пришлось бы слишком много страдать… Тогда я не достигла бы того развития, которое, ставя меня выше других, так… затрудняет меня. Стендаль имел по крайней мере двух-трех людей, способных понимать его, а у меня… это просто ужасно: все так плоски, и даже люди, которых я прежде находила умными, кажутся мне теперь просто глупыми. Уж не выйдет ли из меня в конце концов так называемая непонятая личность? Нет, но право… Мне кажется однако, что я имею полное основание быть удивленной и недовольной, когда во мне предполагают вещи, на которые я положительно неспособна и которые несовместимы ни с моим достоинством, ни с моей тонкостью, ни, наконец, с моей склонностью к изящному.
Вот если бы кого-нибудь… кто вполне понял бы меня, перед кем я могла бы вся высказаться… Кто понял бы все и в речах кого я узнала бы свои собственные мысли!.. Так ведь это же была бы любовь, дитя мое! Может быть. Но и не ходя так далеко – ну просто людей, с которыми можно было бы поболтать, и это уж было бы так приятно. Но я никого такого не знаю. Жулиан был единственный, да вот и он теперь все больше и больше уползает в свою раковинку… И он даже просто несносен, когда он начинает свои бесконечные шуточки, попадающие не в глаз, а в бровь; особенно когда дело зайдет об искусстве: он не понимает, что я вижу ясно и чего я хочу добиться, он воображает, что я полна только сама собой. Вообще… впрочем, моментами он все-таки является моим единственным конфидентом.
Но для любви нужно безусловное сходство… «Родственная душа»… Мне кажется, что этот образ, которым, может быть, слишком злоупотребляли, очень верен. Но где же она, эта душа? Где-нибудь так запрятана, что мне не увидеть и кончика ее уха!
Нужно, чтобы ни одно слово, ни один взгляд не шли вразрыв с тем образом, который я себе составила. Я не хочу этим сказать, что я ищу какое-то немыслимое на земле совершенство, какое-нибудь существо, не имеющее в себе ничего человеческого. Но мне нужно, чтобы самые его недостатки были интересны и не унижали его в моих глазах. Чтобы он был воплощением мечты моей – не банальной мечты невозможного совершенства, но… чтобы все мне в нем нравилось, чтобы я не могла немедленно усмотреть в каком-нибудь уголке души его нелепости, или пошлости, или ничтожества, или мелочности, или фальши, или корыстолюбия; одного из этих пятен – будь оно хоть самое маленькое – достаточно, чтобы все погубить в моих глазах.
2 декабря
Вообще сердце мое совершенно пусто, пусто, пусто… Чтобы сколько-нибудь занять себя, мне нужны мечты, грезы… И однако я испытала почти все, о чем Стендаль говорит по поводу истинной любви, которую он называет любовью-страстью. Все эти тысячи глупостей, мелькающих в воображении, это ребячество, о котором он говорит… Так, например, мне приходилось с радостью встречаться со скучнейшими людьми потому только, что они в этот день видели этого человека…
Впрочем, я думаю, что всякий человек одинаково – мужчина или женщина, – вечно работающий и занятый мечтами о славе, любит не так, как те, кто этим только и занимается. Да вот и Бальзак, и Жюль (не Цезарь, разумеется) говорят то же самое; сумма энергии – одна, если ее истратить направо, то налево от нее уже ничего не останется, или, разделив силу, получишь меньше и с той и с другой стороны.
«Если вы посылаете пять тысяч человек на Рейн, они не могут в то же время быть и под стенами Парижа».
Поэтому весьма вероятно, что мои… нежные чувства ускользают из моей жизни именно в силу этой теории.
3 декабря
Я интеллигентна, я считаю себя умной, проницательной… Словом, приписываю себе всевозможные умственные достоинства, и притом я человек справедливый. Ну, согласитесь: почему бы при таких условиях мне не быть себе судьей? Это, должно быть, вполне в пределах возможного, если я действительно проницательна.
Представляю ли я из себя в самом деле нечто серьезное, буду ли я чем-нибудь действительно значительным в искусстве?.. Что я сама о себе думаю? О, это ужасные вопросы!.. Потому что по сравнению с идеалом, которого я хотела бы достигнуть, я плохого о себе мнения; но, с другой стороны, по сравнению с другими…
Нет, нельзя самому судить о себе; и потом, я еще ничего такого не сделала, по чему можно было бы судить обо мне даже мне самой.
Я прихожу в совершенное отчаяние от всего, что делаю; каждый раз, как только вещь окончена, я готова все начать сначала, я нахожу, что все это никуда не годится, потому что сравниваю всегда с тем, чем это должно было быть по моему мнению. Вообще, в глубине души, я неважного мнения о себе как о художнице; я прямо признаюсь в этом (в надежде, что все-таки это ошибка)… Во-первых, если бы я считала себя гением, то никогда ни на что не жаловалась бы… Но это слово – гений – так ужасно огромно, что я смеюсь, применяя его к себе даже и в отрицательном смысле. Если бы я могла приписать его себе, я бы с ума сошла… Однако… Да вот как я выражусь: я не думаю, что я гениальна, но надеюсь, что люди вообразят меня гением.
10 декабря
Утром – скульптура. После полудня кончаю корсаж и букет смеющейся головки. Это – плутовка, полутанцовщица, полунатурщица, и смеется она презабавно. Эта вещь кончена. При газе – рисунок читающей женщины. Тоже кончено. Вот если бы так шли все дни, это было бы славно.
Но десятки никому не известных людей делают то же, что и я, и не жалуются на удушье от избытка гения! Если ты, матушка, жалуешься, что гений твой душит тебя, так это просто-напросто значит, что его вовсе и нет. Люди, действительно обладающие гением, имеют и достаточно сил, чтобы выносить его.
Слово гений обладает тем же свойством, что и слово любовь. В первый раз едва решаешься написать его, а как раз написал, и пойдешь употреблять его каждый день по поводу всякого пустяка. Впрочем, это же можно сказать и обо всем, что кажется с первого раза огромным, страшным, неприступным; как раз коснулся-таки его, и ну возиться с ним, точно для того, чтобы вознаградить себя за долгую нерешительность! Это глубокомысленное наблюдение, кажется, однако, не очень-то ясно! Ну, да ведь надо же так или иначе истратить ту порцию самой себя, которая предназначена на этот день. До семи часов я работала, но часть еще осталась, надо же излить ее хоть при помощи пера!
Я худею… О, Господи, будь милостив ко мне!
23 декабря
Истинные художники не могут быть счастливы; во-первых, они отлично знают, что толпа не понимает их, они знают, что работают для какой-нибудь сотни людей, а все остальные руководствуются в своих суждениях своим скверным вкусом или каким-нибудь «Фигаро». Невежество в вопросах искусства поистине ужасающе во всех классах общества. Люди, рассуждающие толково, придерживаются того, что они вычитали или слышали от так называемых знатоков.
Вообще… Однако мне кажется, что бывают дни, когда относишься ко всем этим мелочам как-то уж слишком непосредственно. Бывают дни, когда нелепый разговор как-то особенно невыносим, когда весь этот вздор причиняет вам страдание, когда, прослушав в течение двух часов обмен нелепостями, не имеющими даже достоинства веселости или светского блеска, впадаешь в настоящую тоску.
Заметьте при этом, что я вовсе не принадлежу к тем избранным душам, которые плачут, будучи обязанными выслушивать салонные банальности, обычные комплименты или разглагольствования о погоде или итальянской опере. Я не настолько глупа, чтобы требовать повсюду интересных разговоров, и вся эта светская банальность, иногда веселая, иногда бесцветная, оставляет меня спокойной; зато все эти плоскости, все эти глупости, этот недостаток… словом, в конце концов, эта самая светская банальность и недостаток ума… это просто смерть на медленном огне.
29 декабря
Бывают дни черные, печальные, ужасные! Все эти сплетни, все, что только люди способны говорить, воображать, выдумывать… Но ведь я же никогда не делала ничего безнравственного! И подумать только!.. О, друзья мои, теряйте все, но заботьтесь о том, чтобы не давать повода ко всему этому.
Все эти нелепые тревоги делают меня глубоко несчастной. Если люди смеют говорить глупости, то они уже в своем роде правы, хотя бы это была самая подлая выдумка. И все эти презренные мелкие нелепости, в которых меня совершенно невинно обвиняют и которых нельзя изгладить… О, Боже мой! Бывают дни печальные, черные, ужасные… Меня осыпают клеветой!
А я ведь никому ничего не сделала, ни себе, ни другим. Клер и В. работают себе, а я плачу с пером в руке на другом конце библиотеки.
Бывают дни, когда точно разливаешь свет вокруг себя; а в другие походишь на какой-то потухший фонарь; я потухла!
31 декабря
Канроберы обедали у принцессы Матильды, и Клер рассказала мне, что Лефевр говорил ей, что он знаком с моим талантом, очень серьезным, что я – личность довольно необыкновенная, но что я выезжаю в свет по вечерам и что мной руководят (с лукавым видом) знаменитые художники.
Клер, глядя ему прямо в глаза:
– Какой знаменитый художник: Жулиан?
Лефевр:
– Нет, Бастьен-Лепаж.
Клер:
– Нет, вы совершенно ошибаетесь: она выезжает очень редко и целыми днями работает. А что до Бастьен-Лепажа, то она видит его в салоне своей матери, и он даже никогда не бывает в мастерской.
Что за прелесть эта девушка! И она сказала чистую правду, потому что ведь вы уже знаете… О, Господи! Что этот злодей Жюль ни в чем не помогает мне. А Лефевр-то кажется серьезно думал это!
Уже два часа. Новый год уже наступил, и ровно в полночь, в театре, с часами в руках, я произношу свое пожелание в одном-единственном слове – слове прекрасном, звучном, великолепном, опьянительном:
– Славы!
1884
4 января
Да, я чахоточная, и болезнь подвигается. Я больна, никто ничего об этом не знает, но у меня каждый вечер лихорадка, вообще плохо, и мне скучно говорить об этом.
7 января
Я работаю над портретом Дины.
В три часа заехала за мной и за Клэр жена маршала Канробера, чтобы поехать с визитом к Буланже. Этот охранитель старины бранил «неприличную» выставку Манэ, кричал, что это «возмутительно», и все повторял: «Куда мы идем?!» Я поддакивала ему так удачно, что Клер пряталась в уголку мастерской, чтобы не хохотать громко.
Мне кажется, что все кончено, что уже никто больше не полюбит меня… Впрочем, я ведь скоро умру…
8 января
Только что принесли мою Навзикею; глупый рабочий сделал ее слишком большой. Я не жалуюсь, но это, наконец, утомляет. Если бы я хоть принадлежала к тем набожным людям, которые приносят свои страдания в жертву Богу в надежде на награду! Проще всего было бы не мучить никого…
9 января
Я снова кое-что переделала в фигуре, что на левой стороне картины, и, кажется, очень удачно. У меня даже является искушение снова вернуться к идее о карающем и награждающем Боге.
При своей разносторонней натуре я могла бы быть счастливейшим существом в мире… если бы только я хорошо слышала[21].
Винсент Ван Гог. Плач Богоматери (Пьета). 1889
12 января
Мадам Канробер заезжала за мной и за Клер. Мы отправились к Тони Робер-Флери и к Лефевру. Приходится сознаться, что я была несправедлива к последнему, недостаточно ценила его талант. Теперь я увидела идеально написанные вещи. Это совершенство в смысле ясности, точности и грациозности исполнения. Я предпочитаю его манеру манере Энгра. В картинах Лефевра нет ничего неясного, туманного, напротив, в них все дышит неумолимой, всепокоряющей точностью, а мягкость его линий буквально очаровывает. Я думаю, ему нет равного в изображении нагого человеческого тела. В его тонах нет сочности, но зато есть изящество и чарующая мягкость, в которой в то же время чувствуется огромная сила. Портреты его удивительно хороши, хотя им недостает блеска и, быть может, некоторой доли идеализма. Но необыкновенная верность рисунка заставляет забывать обо всем… почти обо всем.
Сначала Лефевр не узнал меня. Но как только ему сказали, кто я, он сделался чрезвычайно любезен, благодарил меня за честь, которую я оказала ему своим посещением, прибавив, что счастлив видеть меня. В ближайшее воскресенье он будет у меня в мастерской.
Сегодня вечером мы ужинали в тесном интимном кругу. По случаю нашего Нового года я была вся в белом, что было мне очень к лицу.
Наконец-то год начинается для меня довольно недурно, даже можно сказать – хорошо! Художники только то и делают, что поощряют и одобряют меня, и я чувствую, что окружена настоящими друзьями.
14 января
Мне кажется, что я сама побывала в Дарвиллере. Эмиль Бастьен рассказал нам все: проект картины, образ жизни… Он ничего не совершает втайне, он не запрещает говорить о себе; он не… Если он не пригласил нас посмотреть этюды из Канкарно, то только потому, что он никогда никого не приглашает; он даже подумал бы, что слишком самоуверенно приглашать смотреть этюды, сделанные кое-как в Канкарно, куда он ездил для отдыха; да, наконец, наш радушный прием уничтожал все эти церемонии; он был бы в восторге, если бы мы приехали, и т. д. И даже для больших картин он никогда никого не приглашает; он только просит своего покорного брата предупредить некоторых друзей…
Но вот что серьезнее: когда брат говорил ему о моей картине, он сказал: «Почему ты не предупредил меня об этом в Париже, я бы посмотрел ее».
– Я ничего не сказал ему в Париже, потому что, если бы он пришел, вы, по обыкновению, все бы спрятали; он не знает ничего из ваших вещей, кроме тех, что в зале. Вы перевертываете ваши холсты. Да, наконец, знаете, он никогда бы больше не захотел смотреть на ваши вещи, если бы вы это сделали?..
– Он захочет, если я хочу, если я попрошу его советов.
– Он будет в восторге.
– Но, к сожалению, я не его ученица!..
– Да почему же? Он не желает ничего лучшего, он будет очень польщен, если вы будете советоваться с ним, и даст вам советы – бескорыстные, хорошие советы. Он судит очень верно, без предвзятой мысли… Он был бы счастлив иметь интересную ученицу… Поверьте мне, он был бы очень польщен и очень доволен.
16 января
Архитектор сказал мне, что между другими многочисленными проектами брат его имел в виду «Вифлеемских пастухов».
В течение двух дней голова моя работала, и сегодня днем я имела перед глазами совершенно живое представление. Да, «Вифлеемские пастухи» – чудный сюжет, а он сумеет придать ему еще более прелести. Да, я имела живое, образное представление, и впечатление мое таково, что его можно сравнить только с впечатлением самих пастухов: несказанный восторг, безграничный энтузиазм!
Ах, вы не можете себе представить этого! Это будет вечер, я уверена. Знаменитая звезда… Чувствуете ли вы, сколько он вложит сюда таинственности, нежности, грандиозной простоты!
Можно себе вообразить это, зная его произведения, и установить мысленно таинственную, фантастическую связь между «Жанной д’Арк» и «Вечером в деревне». Нет, как вам это нравится: я прихожу в восторг от картин, которых еще не видала и которых и на свете-то еще не существует! Положим, в глазах большинства я кажусь смешной; два или три мечтателя будут заодно со мной, да в крайнем случае я обошлась бы и без них… И потом, эффект «Пастухов» тот же самый, что в «Святых женах». Нет, впрочем, только в том отношении, что это вечер, потому что основные чувства совершенно различны. Там это будет нечто великое, сильное, нежное, лучезарное, таинственное, полное святого и кроткого чувства, потрясающей, приводящей в экстаз таинственности.
У меня это тоже будет вечер, но ужасный, проникнутый чувством смятения исстрадавшейся любви. Что-то совершилось, и преобладающей нотой будет изумление, ужас.
Однако я, кажется, с ума сошла – осмеливаюсь сравнивать себя с гениальным человеком; впрочем, я и не сравниваю: я только говорю, каким образом я понимаю картину, которую хотела бы написать…
Но как передать, как сообщить мою веру массе? Да и зачем? Разве масса когда-нибудь понимала возвышенное искусство? Однако в таком случае каким же образом признают гением Миллье?
«Жанна д’Арк» не была понята во Франции, но перед ней преклоняются в Америке…
«Жанна д’Арк» это chef-d’oeuvre по выполнению и по чувству. Надо было слышать, что только говорили о ней в Париже. Это позор! Но неужели же надо окончательно признать, что только в чужих странах можно добиться заслуженного успеха? И действительно, разве можно сказать, что публика любила Миллье, Руссо, Коро? Их любили только тогда, когда они были в моде.
Что особенно постыдно для нашей эпохи, это дурное обыкновение просвещенных людей, которые делают вид, что они не считают это искусство ни серьезным, ни возвышенным, и в то же время кадят последователям классических мастеров!
Что же такое возвышенное искусство, если не то искусство, которое, изображая перед нами тело, волосы, одежду, деревья с полнейшей реальностью, доходящей почти до обмана чувств, передает в то же время душу, мысль, жизнь! Неужели «Жанна д’Арк» не есть произведение возвышенного искусства, потому что он представил ее нам крестьянкой, а не с белыми ручками и не в вооружении?
Его «Любовь в деревне» слабее «Жанны д’Арк», этой исторической крестьянки… Мы все изображаем тело, но нам не хватает чего-то сверх этого; нет в нас того божественного огня, которым он обладает! И кто, кроме него? Право, никто! В глазах его портретов для меня отражается вся жизнь этих личностей; мне кажется, будто я знакома с ними. Я пробовала вызвать в себе это чувство, останавливаясь перед другими холстами, и не могла.
То, чем он обладает, этот несравненный художник, можно найти только в религиозных картинах итальянских мастеров, которые писали и верили!
Воспоминание о «Поклонении волхвов» Джеральдо дель Потти сохранилось в моей душе, как какое-то чудное видение. Я не могу отдать себе отчета ни в выполнении, ни в академических достоинствах картины, но в памяти моей остались, будто живые, образы взволнованных, восхищенных пастухов перед божественным Младенцем и, чтобы выразить все одним словом, – о прозаическая Франция! – пастухи. Святая Дева, Младенец и я – все мы были убеждены, что это действительно случилось. Да! Заставьте публику поверить, что это действительно случилось: в этом все, и ничего другого не нужно. Людям, которые мне скажут: «Но каким образом можете вы, вы – натуралистка, браться за древние сюжеты, которых вы не видели?» Я им отвечу относительно, например, «Пастухов»: «Разве вам никогда не случалось остаться вечером одному, в деревне, под совершенно ясным небом, и почувствовать себя взволнованным, охваченным каким-то таинственным чувством, стремлением к бесконечному, почувствовать себя как бы в ожидании какого-то великого события, чего-то сверхъестественного? И разве вы никогда не испытывали грезы, уносящие в какие-то неведомые миры?.. Если нет, вы никогда не поймете меня…»
Все должно состоять в той прелести, которую я сумею придать атмосфере; да, надо, чтобы чувствовался воздух, чувствовалось, что это вечер, тот час, когда поднимающийся на небосклоне серп месяца кажется еще очень бледным.
Бастьен должен был сделать пятьдесят этюдов, чтобы уловить задуманный эффект; ну, что ж, я сделаю их сто для моих «Святых жен».
18 января
Сегодня мне хочется плакать. Я боюсь посмотреть на то, что нарисовала вчера, боюсь, что работа плоха, и плачу… плачу настоящими слезами. Это понятно! Я экзальтированна, как 19-летний немецкий студент. А вдобавок я не имею счастья знать тех, которые живут в сфере интересов отвлеченной науки, искусства, мысли, идеи… Мне знакома только жизнь светских людей, а из художников я знаю всего трех человек.
Я снова переделала набросок для своих «Святых жен». Да, необходимо, чтобы это был настоящий вечер, чтобы чувствовалось много воздуха, чтобы тотчас же при взгляде на картину видно было, что это тот момент, когда вот-вот появится бледный месяц. И все это нужно написать широко… Я никогда не сумею этого…
Бастьен-Лепаж должен был сделать 50 набросков, чтобы уловить этот эффект. Ну, так я сделаю 55 набросков! Это необходимо!
Ах! Так нельзя жить… это не жизнь!
20 января
Это грустно, но у меня нет подруги, я никого не люблю, и меня никто не любит.
У меня нет подруг потому (я отлично это понимаю), что невольно я слишком ясно даю понять, «с какой высоты я созерцаю толпу».
Никто не любит быть униженным. Я могла бы утешиться, думая, что личности истинно высокие никогда не были любимы. Их окружают, согреваются их лучами, но в душе их проклинают и при первой возможности злословят. В настоящее время решается вопрос о статуе Бальзака, и журналы печатают воспоминания и справки, собранные у друзей великого человека. От отвращения к таким друзьям становится просто тошно. Вот кто всегда постарается разгласить всякую дурную черту, все смешное, все низкое.
Я предпочитаю врагов – им меньше верят.
28 января
В 5 часов я начала работать над новой моделью Навзикеи. А вечером я сажусь писать, хотя еще не знаю, о чем именно и в какой форме. Одно неоспоримо: мне легче управлять пером, чем кистью.
Вы понимаете, – истинный художник рисует, делает наброски, композирует бессознательно. Я тоже рисовала и была убеждена, что у меня «способность к живописи и что наступит день, когда я сделаюсь художницей». А вместо того у меня оказывается множество литературных набросков. Я поступала в этом случае как человек, который ничего не знает о своем призвании, но безотчетно повинуется ему.
Нельзя так разбрасываться… Впрочем, нет… можно рисовать, пока солнце позволяет, до обеда лепить, а потом, когда явится желание, писать.
А когда же жить?
Жить?.. Когда я буду уверена в своем таланте. Ну, а если я умру до этого времени? Я ни о чем не буду жалеть! Я обворожена и восхищена собою! И это потому, что я хорошо работала сегодня, и еще потому, что я примеряла великолепные, прелестные платья…
Что нам, в конце концов, нужно? Раз нет возможности все переживать в действительности, остается живо и глубоко чувствовать, живя в мечтах.
Это тем более верно, что мне уже больше 20 лет, а в эти годы нас посещают уже не только мечты, но и видения… Но у меня для этого нет времени. После нескольких часов работы в стоячем положении, когда все время разминаешь глину поднятыми вверх руками, чувствуешь только одно желание – уснуть, чтобы опять приняться за то же на следующий день… Я очень счастлива.
Винсент Ван Гог. Плач Богоматери (Пьета). 1889
29 января
Я ездила смотреть картину Мункачи «Христос на кресте».
Отель счастливого Мункачи – настоящее чудо. Что же касается его картины… Она написана широко, колорит прекрасный, чувствуется движение, экспрессия лиц и одежд богатая, тона чудные… Христос среди двух разбойников, вокруг много людей, черное небо, светлые фигуры, которые выделяются ярко…
Но в мадридском музее я видела распятого Христа, написанного Веласкесом. Христос совершенно один… Картина производит такое сильное впечатление, что невозможно долго смотреть на нее.
Картиной Мункачи восхищаются все. Особенно хороши прекрасные тона одежд евреев. У подножия креста стоят плачущие женщины, но мне кажется… Впрочем, я подожду еще несколько дней, прежде чем окончательно высказаться. Мне показалось, что это написано недостаточно энергично, да, может быть, так оно и есть.
Этой картине чего-то недостает, иначе она вызывала бы прямо трепет. Глядя на нее, восхищаешься, но невольно спрашиваешь себя при этом: «Почему же она не трогает меня?»
30 января
Я почти ничего не сделала. Примеряла платья. У нас обедали Клэр, Вильвейль, русский священник, принцесса и Гайяр. Я разговаривала с Гайяром о серьезных предметах – о политике, о психологии. Остальные слушали нас, а священник изредка вмешивался в наш разговор… о политике. Мы говорили о Тонкине, о Ферри. Мне кажется, что я была очень остроумна и с должны спокойствием произносила длинные фразы, с неожиданным оборотом мысли. Этот радикальный супруг графини Z., видимо, очень серьезно относится ко мне. Но я, кажется, удивляюсь тому, что ко мне относятся серьезно… Дерзкая!..
1 февраля
Я рисовала на открытом воздухе. Потом мы поехали к Канроберам и к принцессе Жанне Бонапарт. Мы застали только мать ее. Несмотря на свои 52 года, это еще очень красивая женщина с длинными, мягкими и белыми руками. Что же значит после этого происхождение? Как можете вы еще говорить о расе?
Сегодня вечером открылась выставка акварелистов. Там была огромная толпа и мало знакомых. Я страшно устала.
2 февраля
Божидар Карагеоргиевич позирует для меня. Мою мастерскую посетила принцесса Жанна Бонапарт. Потом я сошла вниз, к маме, – у нее сегодня приемный день. Из всех посетителей один только интересен и мил – Поль Дешанель. Это сын Дешанеля, профессора в Collège de France. Он пишет в «Débats», готовится в депутаты и играет Делонея в любительских спектаклях. Он хороший малый, очень симпатичный… У него изысканные манеры и… блестящая будущность. Как бы там ни было, я была в хорошем расположении духа, а это ведь редко бывает со мной. Мне кажется, что картина мне удается и время летит быстро.
Я пишу в постели. Завтра воскресенье, я пойду в церковь – бесполезно, следовательно, рано засыпать.
Я художница в самом широком значении этого слова: каждый художник – поэт или мечтатель.
Маленькие ночные пейзажи отлично удавались Казену. Не знаю, безрассудно ли это с моей стороны или же, наоборот, я права, но маленькое казеновское полотно с черной лодкой на синем небе, покрытом звездами, я решительно предпочитаю всем темным и задымленным пейзажам музейных знаменитостей. В этих музейных пейзажах невозможные деревья, полное отсутствие воздуха! Почему они попали в знаменитости? У Казена ощущаешь свежесть ночи, видишь настоящую ниццскую ночь и чувствуешь какое-то умиление, глядя на эту луну, которая вот-вот отразится в совершенно спокойном море. Слышишь даже едва внятное легкое движение этого моря. Ах, как это великолепно!
Когда-то, много лет назад, мне приснился сон. Я видела блестящие звезды – их было пять. Я смотрела на них, и мне захотелось снять их с неба. Силою своего взгляда я заставила четыре из них упасть. Я протянула руку к пятой… Звезда оказалась посеребренной бумажкой, а небо – голубым картоном. Чтобы оторвать звезду, мне пришлось пустить в ход ногти… Этот сон, конечно, не имеет никакого значения. Я пишу все это просто потому, что надеюсь уснуть над своими записками, так как эти проклятые «Вифлеемские пастухи» Бастьен-Лепажа не дают мне покоя…
3 февраля
Уже около двух часов ночи. Я пишу в постели, только что вернувшись из Итальянской оперы, где давали «Иродиаду» Массне. Я была там с женой маршала Канробера и Клэр.
Первое действие поражает новизной и широтой звуков. Никогда я не слышала такой музыки. Это нечто совершенно новое, звучное и гармоничное. Да и вся опера слушается с наслаждением. Музыка сливается с поэмой, здесь нет арий и ничего не выражающих вставок между ними. Все написано широко, грандиозно и великолепно. Массне – великий художник, и отныне он гордость нации. Говорят, будто прекрасную музыку нельзя понять с первого раза. Полноте! В этой опере сразу понимаешь всю мелодичность и прелесть ее, несмотря на слишком ученую оркестровку.
В конце первого акта есть аккомпанемент изумительной красоты, я все еще нахожусь под его влиянием. Много раз мы озирались друг на друга глазами, в которых блестели слезы восторга. Если бы эти противные зрители были искренни, они бы плакали!
С этой блестящей музыкой моя итальянская музыка не может, конечно, конкурировать. Массне – мелодичный Вагнер, и притом Вагнер французский. А сам Вагнер – это незаконченный творец новой школы, которая во всяком таланте ценит жизненную правду и искусственность чувств. Такие новые школы существовали всегда. Но вот уже около 100 лет, как живопись сбилась с пути. Ее стремятся направить на верный путь, следуя заветам Манэ. Вагнер – это Манэ: вот самое подходящее сравнение. В «Иродиаде» нет мотивов любви, вопреки глупой выдумке, которая из св. Иоанна делает возлюбленного Саломеи. Я лично предпочла бы видеть его восторженным пророком, а ее – экзальтированной женщиной. Но любовь была бы все-таки неизбежна. Я могла бы любить Иоанна… Да, Массне можно бы назвать художником «воздушного простора» в музыке. Он хочет, чтобы и в опере было много воздуха, который бы двигался и оживлял и действующие лица, и мелодии.
6 февраля
Я ездила к Жулиану, чтобы показать ему портрет Рандуэн. Этот марселец был очень доволен моей работой и сказал, что я делаю все бо́льшие и бо́льшие успехи. Но не таково мое мнение об этом портрете: я презираю его. Но если и другие такого же мнения, как Жулиан… Нет, во всяком случае я его переделаю, я постараюсь, чтобы он мне понравился. Жулиан меня раздражает. Он упорно твердит: «Ваше здоровье в живописи все улучшается и улучшается». Он находит, что я писала хорошо, потом опустилась вниз и затем снова поднялась вверх. Это ложь, ложь и ложь! Вот мои этюды – проверьте!
12 февраля
Маршал Канробер приехал посмотреть работу своей дочери и был немного удивлен, – но все же он в восторге. Между четырьмя и пятью часами я принимала m-lle Вилевьейль, которой я делала указание относительно постановки и характера ее картины. А после моей смерти все эти дамы поступят, как сотрудники Дюма-отца. Каждая из них скажет: «Это я подала ей эту мысль, это я помогла ей сделать то-то». Что же делать!
15–16 февраля
Я провела чудный вечер в Итальянской опере. Я была там с Г., принцессой Жанной Бонапарт и ее мужем.
Госпожа Г. нашла меня красивой, восхитительно одетой (черный бархатный корсаж, классическое декольте) и хорошо причесанной. «Ваши плечи, – сказала она, – настоящий мрамор. При одном взгляде на них уже видна раса». Этого вполне достаточно! Ведь мнение госпожи Г. – эхо всеобщего мнения. Но не только поэтому вечер показался мне чудным, а потому, что пел несравненный испанский тенор Гайаре. Ему устроили такую шумную овацию, что он долго будет ее помнить. Все были в восторге, даже мужчины во фраках и женщины, туго затянутые в корсеты. У него дивный голос.
19 февраля
Я не могу писать от бешенства и нервного истощения. После бесчисленных трудов и хождения ощупью я нашла наконец ту позу, о которой мечтала для портрета Дины. Это была бы прекрасная картина, и мне оставалось только работать. А мне мешают! В моем распоряжении только 23 дня! Художники поймут мое отчаяние.
21 февраля
Начатая вчера голова Дины готова, остаются только детальные отделки глаз.
Сегодня за завтраком меня страшно сердили, высказывая глупости об инциденте с Мейссонье. Госпожа М. заказала Мейссонье свой портрет, который он после некоторого колебания согласился написать. Было условлено, что за портрет он получит 70 000 франков. Портрет был выставлен в Триенале, и его нашли посредственным. Тогда госпожа М. требует у Мейссонье поправок, но тот отказывается. Она грозит, что оставит портрет у художника и не уплатит ему. Мейссонье заявляет, что он будет требовать своих денег через суд. В конце концов друзья госпожи М. надоумили ее: она принимает портрет и запрятывает его подальше.
И весь Париж возмущен «иностранкой»!
Мне кажется, что госпожа М. была неделикатна, показав такому художнику, как Мейссонье, свое недовольство. Не надо забывать, что он создал образцовые произведения, что ему теперь уже 73 года и что он и тут в конце концов сделал все, что мог.
Но и Мейссонье следовало бы быть благороднее и не принуждать эту невежественную мещанку заплатить ему во что бы то ни стало.
23 февраля
Я в очень дурном расположении духа, взбешена. По всей вероятности, это потому, что я скоро умру; вся моя жизнь с самого начала и со всеми подробностями проходит предо мной: много глупых вещей, которые заставляют меня плакать; никогда не выезжала я так часто, как другие: три-четыре бала в год; часто выезжать я могу вот эти два года, но теперь это уже не может интересовать меня.
И великий артист сожалеет об этом? Честное слово, да… А теперь? Теперь другое, не балы, а собрания, где встречается все, что думает, пишет, рисует, работает, поет, все, что составляет жизнь разумных существ.
Наиболее философские и умные люди не пренебрегают возможностью встречаться раз в неделю или два раза в месяц с людьми, составляющими цвет парижской интеллигенции… Я все это объясняю потому, что, мне кажется, я умираю. Я всегда и во всем была несчастна! Ценой работы я достигла связей в настоящем свете, но и это еще унижение.
25 февраля
Я работаю над портретом Дины с упорством, которому нет равного. Я никому не буду его показывать, пока он не будет закончен.
За обедом у нас был Б. и архитектор. Последний давно не приходил, потому что был болен. Брат его все еще болен. Через несколько дней он уедет в Алжир. Берегись «Вифлеемских пастухов»! Если он напишет их раньше, чем я напишу своих «Святых жен», то самая дорогая мечта рушится! Ведь обе картины должны передавать вечернее освещение. Если его картина появится первой, мне невозможно уже будет писать свою: подумают, что я подражала ему! Бастьен-Лепаж создал образцовое произведение, изобразил необыкновенную героиню всех времен и народов. А я в своей дерзости считаю себя в родстве со всеми героями, со всеми шедеврами мира! Можно было бы написать интересную диссертацию на тему о той таинственной связи, которая соединяет героев и образцовые произведения со всеми мыслящими людьми! Ведь солнце и воздух, моря и все красоты природы и мира принадлежат всем!
Я неясно выражаюсь, но есть люди, которые думают так же, как и я, – они поймут меня. Остальные же меня не поймут никогда, даже если бы сам Клемансо взялся объяснять им это, пустив в ход всю силу своей ясной, точной и блестящей логики. Я в восторге от Клемансо! У него, правда, нет жара, нет страстного одушевления, но и без этого он достигает всего одной только силой ясности выражений.
29 февраля
Я продолжаю рисовать портрет Дины, но он неимоверно волнует меня. Когда удается уловить подлинную, неподдельную жизнь, подлинную «натуру», всегда чувствуешь себя взволнованной и какой-то жалкой. Вот наивность великой художницы! Ты хочешь, чтобы тебе сказали, что без этих мук ты оставалась бы только любительницей?.. Отлично!
Но возможно ведь, что я обманываюсь, а люди так глупы и смешны, когда обманываются!
6 марта
Случилось то, что должно было случиться: до открытия Салона осталась только одна неделя, а портрет не готов. О, я спокойна!
Публика и пресса заметили мои картины, которые я послала на женскую выставку. Обо мне с похвалой отзываются в серьезных газетах, где я никого не знаю, где у меня нет никаких связей.
Я подавлена, несчастна, я плачу горько, безнадежно. Я накануне собственного сознания и признания других, что я действительно обладаю талантом, – а я больна. Меня разуверяют, я стараюсь им верить, но это невозможно… Осталось всего восемь дней, а в портрете еще так много надо делать! Я ничего не вижу, ничего не понимаю – вот уже три месяца, как я не знаю, что делаю.
Ну, что же… восемь дней… Два дня для того, чтобы написать голову, два – для одной руки, один – для другой, один – для платья и день для кисти руки. Не следовало бы отчаиваться, а все-таки… Господи, сжалься надо мной!
7 марта
Так как я все равно не успею уже сделать портрет к сроку, то я должна знать, не нуждается ли моя картина в каких-нибудь серьезных поправках.
Я послала за архитектором, который явился в восемь часов и тотчас же сообщил нам, что его брат приехал с матерью в Париж два дня тому назад. Он очень болен и просит передать мне свое сожаление, что не может лично прийти посмотреть мою картину. Через три или четыре дня он уезжает в Алжир, ничего не приготовив для Салона. Кажется, он в постели. Будем надеяться, что Алжир укрепит его.
Я сделала набросок пером. Он изображает архитектора с веревкой вокруг туловища. Он рвется к столбу с надписью: «улица Ампер»; у края веревки ничком лежит его брат, ухватившись обеими руками за столб с надписью: «улица Лежандр». Я послала ему этот набросок…
Осталось только семь дней, а я снова начинаю надеяться, что портрет будет окончен, хотя ничего, кроме одной руки и фона, не сделано. Это безумие!
9 марта
Я начала писать портрет Клер – выходит довольно недурно. Клер в шляпе позирует на открытом воздухе. У нее есть выдержка, она отлично позирует.
Наконец-то…
Я в отчаянии, что у меня нет своего портрета в белом платье с обнаженными руками и шеей. И при этом поразительно хорошая постановка. Прекрасное снежно-белое домашнее платье… Я его еще сделаю.
Чрезмерное воображение перенесло меня сегодня перед обедом в Палестину, где я рассчитываю написать своих «Святых жен». Я приготовлю необходимые этюды, закончу картину для выставки и в октябре уеду туда.
10 марта
У нас было много гостей; Канробер и Марешаль, госпожа Гошон с матерью, Каррье-Беллер, Дюпюи, Поль Дешанель, доктор Геней и другие.
Но я была слишком возбуждена, чтобы разбираться, кто, собственно, приходил и о чем говорили: до 4 часов один визит беспрерывно сменялся другим. Мои картины снесли вниз. Жена маршала, Вилевьейль, Клер, доктор и я сели в изящные кареты, куда нас проводили все гости, и, между прочим, корректный Поль Дешанель.
Ворота отеля, где выставлены были картины, оказались широко раскрытыми. В это время из приюта высыпала огромная толпа мальчишек. Они столпились и стали глазеть на приглашенных гостей, стоявших в передней.
Была чудная, ясная погода. Какая масса кропателей! Какая масса картин! Господи, зачем их столько!
Каждый из нас держал под мышкой какой-нибудь маленький портрет в рамке, чтобы беспрепятственно войти в Салон.
Когда эти разбойники-мальчишки увидели седого господина с орденом в петлице и четырех дам с картинами под мышкой, поднялся отчаянный крик, напоминающий выкрикивания старьевщиков. Раздались шиканье, свистки. Мы остановились на верхних ступеньках лестницы, несколько ошеломленные этим приемом. Когда же мы проскользнули в залы, опять раздались свистки и еще более пронзительные крики; это встречали других гостей. Все это было бы очень забавно, если бы нам не пришлось ждать прибытия наших картин вплоть до 6 часов.
11 марта
Идет дождь. Но не только это… Мне нездоровится… Все это так несправедливо. Небо слишком жестоко ко мне.
Я еще в тех годах, когда можешь входить в известный экстаз даже при мысли о смерти.
Мне кажется, что никто не любит всего так, как я люблю: искусство, музыку, живопись, книги, свет, платья, роскошь, шум, тишину, смех, грусть, тоску, шутки, любовь, холод, солнце, все времена года, всякую погоду, спокойные равнины России и горы вокруг Неаполя, снег зимой, дождь осенью, весну с ее тревогой, спокойные летние дни и прекрасные ночи со сверкающими звездами… Я все люблю до обожания. Все представляется мне со своих интересных и прекрасных сторон: я хотела бы все видеть, все иметь, все обнять, слиться со всем и умереть, если надо, через два года или в 30 лет, умереть с экстазом, чтобы изведать эту последнюю тайну, этот конец всего или божественное начало.
Эта всемирная любовь не есть чувство чахоточной; я всегда была такая. И я помню как раз, десять лет тому назад, я писала, перечислив прелести различных времен года: «Напрасно захотела бы я выбрать: все времена года хороши, все возрасты – вся жизнь.
«Надо все!»
«Надо природу, перед ней все ничтожно».
«Одним словом, все в жизни мне нравится, мне все приятно, и, прося счастья, я нахожу свою прелесть и в несчастии. Мое тело плачет и кричит, но что-то, что выше меня, радуется жизни, несмотря ни на что!»
Я забыла сказать, что мои мальчишки называются: «Митинг».
15 марта
Погода чудная, и, начиная с понедельника или вторника, я буду работать в деревне. Я больше не хочу поклоняться Бастьен-Лепажу, я почти не знаю его, и потом, это натура… замкнутая, и потом, лучше работать над собственным талантом, чем расходоваться на это поклонение.
16 марта
Картины отосланы.
Я вернулась в половине седьмого в состоянии такого утомления, что это даже восхитительно… Вы не верите, что это восхитительно, но для меня всякое цельное впечатление, доведенное до крайнего предела, даже ощущение боли, есть наслаждение.
Когда я повредила себе палец, боль была такая острая в продолжение получаса, что я наслаждалась ею.
То же самое сегодняшняя усталость: тело, не оказывающее ни малейшего сопротивления воздуху, еще ослабленное ванной и протянутое на постели; руки и ноги тяжелы, голова полна какими-то туманными, несвязными образами… Я заснула, произнося время от времени слова, относящиеся к проходящим в голове мыслям.
19 марта
Вчера была баллотировка в члены кружка русских артистов. Я была выбрана единогласно.
Клара видела одного господина, который видел Бастьен-Лепажа и нашел, что он очень болен; на другой день этот господин встретил доктора, который сказал: этот человек очень болен, но не думаю, что ревматизмом, он болен вот чем (похлопывая по желудку). Значит, он действительно болен? Он уехал со своей матерью в Блида, дня на три, на четыре.
24 марта
Вот уже несколько дней вокруг меня точно туман какой-то… который отделяет меня от всего мира и заставляет чувствовать реальность моего внутреннего мира. Поэтому… Нет, все так печально, что нельзя даже жаловаться… Это тяжелое одурение… Я только что перечла книгу, которой несколько лет тому назад я мало восхищалась и которая очень хороша: это «Madam Bovary».
Литературная форма, стиль… да… в общем, это только отделка. Но дело не в том; среди тумана, меня окутывающего, я вижу действительность еще яснее… действительность такую жестокую, такую горькую, что если стану писать про нее, то заплачу. Но я даже не смогла бы написать. И потом, к чему? К чему все? Провести шесть лет, работая ежедневно по десяти часов, чтобы достигнуть чего? Начала таланта и смертельной болезни.
Сегодня я была у моего доктора и болтала так мило, что он мне сказал: «Я вижу, вы всегда веселы».
Чтобы упорно надеяться, что «слава» вознаградит меня за все, надо будет жить, а чтобы жить, надо будет заботиться о себе…
Вот видения, вот ужасная действительность.
Никогда не верят… пока… Я помню, я была еще совсем маленькая и путешествовала в первый раз по железной дороге в обществе чужих; я разместилась, заняв два места разными вещами, когда вошли два пассажира.
«Эти места заняты», – сказала я с апломбом. «Отлично, – отвечал господин, – я позову кондуктора».
Я думала, что это угроза, как дома, что это неправда, и ничем нельзя изобразить тот странный холод, который охватил меня, когда кондуктор освободил место и пассажир сел на него. Это было первое знакомство с действительностью.
Давно уже я грожу сама себе болезнью, в то же время не веря этому… Наконец!..
И мартовский ветер, и небо серое, тяжелое…
Вчера начала довольно большую картину в старом саду в Севре; молодая девушка сидит под цветущей яблоней, дорожка уходит вдаль, и всюду ветви фруктовых деревьев в цвету, и свежая трава, фиалки и маленькие желтые цветочки. Женщина сидит и мечтает с закрытыми глазами; она положила голову на левую руку, локоть которой опирается о колено.
Это должно быть очень просто и должно чувствоваться веяние весны, заставляющее эту женщину мечтать.
Надо, чтобы между ветвями было солнце. Эта вещь в два метра длины и немного более вышиной.
Итак, я принята только с № 3!
Отсюда глубокое и безнадежное уныние; никто не виноват в том, что у меня нет таланта… Да, это ясно показало мне, что, если бы я не надеялась на мое искусство, я тотчас же умерла бы. И если эта надежда изменит, как сегодня… да, тогда останется только смерть без всяких фраз.
25 марта
У меня уже готов набросок картины.
Я получила письмо от архитектора, он просит позволения прийти к нам сегодня вечером. «Я знаю, – говорит он, между прочим, – как хорошо вы относитесь ко мне и к моему брату. Поэтому-то мне и хочется поболтать с вами обо всем, что мучает меня в настоящую минуту».
Ввиду этих дружеских слов и ввиду серьезной болезни его брата мама и даже Розали строго наказали мне не позволять себе в разговоре с ним никакой шутки: это было бы жестоко и грубо.
Он принес с собой письмо, которое брат его написал своему другу Шарлю Боде (граверу). По моей просьбе он дал мне его прочитать. Восемь страниц, исписанных мелким размашистым почерком, с помарками, как и у моего знаменитого корреспондента[22]. Письмо написано в тоне очаровательной непринужденности. Тут есть и мнения его «maman» об арабах, и описания прогулок, и отчет о впечатлениях, полученных от этой оригинальной страны, и от всего этого веет искренностью и сердечной добротой. Так и чувствуется, что автор письма незаурядный человек. Оно дало мне возможность заглянуть в душу человека, которого я почти не знаю. По своему обыкновению, я начала подшучивать, цитировать оттуда целые фразы, представляя их в смешном виде, а в конце концов заявила, что «этот человек совсем не болен»!
Судите сами о произведенном впечатлении… Со всех сторон посыпались восклицания. Архитектор заявил, что это невыносимо, что это значит смеяться над Богом в присутствии священника. Когда я увидела, что он уходит под дурным впечатлением, я стала его же обвинять в том, что он меня не понял, и в конце концов даже заставила его просить у меня прошения.
Эмиль Бастьен-Лепаж передал мне, что более двадцати человек говорили ему о моем пейзаже на выставке «Союза художниц». Дюэз тоже говорил ему о нем, и он решил, что я, несомненно, имею успех – успех настоящий.
Я в восторге! Как я хорошо сделала, что послала этот пейзаж в Салон!
Мэри Кассат. Марго в голубом. 1902
29 марта
Сегодня мы идем в Итальянскую оперу. Дают «Лючию де Ламермур», поет Гайяре. Эта божественная музыка никогда не устареет, потому что в ней нет и тени моды. В ней нет ничего тенденциозного, ничего надуманного – в ней чувствуется только любовь, ненависть и страдание. А ведь только эти чувства и вечны! Вы скажете, что это мелодрама? Мне все равно, лишь бы меня заставляли переживать драму, лишь бы я была искренне тронута. А я была глубоко тронута, когда Эдмонд появился на верхних ступенях лестницы. А как захватывает вас момент, когда он разрывает контракт и разражается проклятиями.
Многие говорят, что Гайяре поет в нос и кричит. Кретины! У этого человека дивный голос. Слушая его, забываешь о недостатках школы, методы. Он поет так, как поет иной уличный певец, в котором живет душа истинного артиста. В его пении отражается тонкая, выразительная игра. Вспомните прелестный септет, когда он поет: «Si, ingrato, t’amo, t’amo ancor!» Его голос слышишь, несмотря на крики других. Самый лучший актер не в состоянии был бы словами выразить то, что способен выразить Гайяре в звуках своего голоса. И это потому, что у него все выходит просто, естественно, человечно и доступно всем народам, всем классам. Так глубоко искренне выражать свои чувства может только неподдельная человеческая природа, где нет места усвоенной привычке или искусственному воспитанию. Шекспир это понял. Он потому именно и велик, что он не англичанин, не аристократ, не плебей. Он стоит вне всякой эпохи, он так же неизменен и вечен, как неизменны и вечны страдание, ненависть и любовь.
31 марта
Почти ничего не сделано; моя картина будет плохо помещена, и я не получу медали.
Потом я села в очень теплую ванну и пробыла в ней более часу, после чего у меня пошла кровь горлом.
Это глупо, скажете вы; возможно, но у меня нет более мудрости, я в унынии и наполовину сошла с ума от всей этой борьбы со всем.
Наконец… что говорить, что делать… Если так будет продолжаться, меня хватит года на полтора, но если бы я была спокойна, я могла бы жить еще двадцать лет.
Да, трудно переварить этот № 3. Это страшный удар. Однако я вижу ясно, и я вижу себя; нет, нечего говорить… Мне начинает казаться, что будь моя картина очень хороша…
Ах! Никогда, никогда, никогда я не была в таком полном отчаянии, как сегодня. Пока летишь вниз, это еще не смерть, но дотронуться ногами до черного и вязкого дна… сказать себе: это не из-за обстоятельств, не из-за семьи, не из-за общества, но из-за недостатка таланта. Ах! Это слишком ужасно, потому что никто не может помочь: ни люди, ни Бог. Я не вижу более возможности работать, все кажется кончено.
Вот вам цельное чувство. Да. Ну, так по твоей теории это должно быть наслаждение. Поймана!
Мне все равно; приму брому, это заставит меня спать, и потом, Бог велик, и у меня всегда бывает какое-нибудь маленькое утешение после глубоких несчастий.
И сказать только, что мне даже нельзя рассказать все это, поменяться мыслями, утешиться, рассказать кому-нибудь… Ничего, никого, никого!..
Вы видите. Это конец. Это должно быть наслаждение. Это было бы так, если бы были зрители моих несчастий…
Горести людей, сделавшихся потом знаменитыми, рассказываются друзьями, потому что у них есть друзья, люди, с которыми они разговаривают. У меня их нет. И если бы я жаловалась! Если бы я говорила; «Нет, я не буду больше рисовать!» Это ни для кого не будет потерей: у меня нет таланта.
Тогда-то все то, что надо затаить в себе и до чего никому дела нет… Вот оно, самое тяжелое мучение, самое унизительное. Потому что знаешь, чувствуешь, веришь сам, что ты – ничто.
Если бы это состояние продлилось, его нельзя было бы вынести.
1 апреля
Это состояние продолжается, а так как надо найти какой-нибудь исход, то я прихожу к следующему: а вдруг я ошибаюсь? Но от слез у меня болят глаза.
Мне говорят: да ведь вы же знаете, что номер имеет очень мало значения.
Да, но место, где помещена картина!
2 апреля
Была у Робера-Флери и с очень веселым видом спросила:
– Ну, как же прошла моя картина?
– Да, очень хорошо, потому что, когда дошла очередь до вашей картины, они сказали… не один или двое, но вся группа: «Послушайте, ведь это хорошо, второй номер!»
– Не может быть!
– Ну да, не думайте, пожалуйста, что я говорю это для вашего удовольствия; так было на самом деле. Тогда вотировали, и, если бы в тот день президентом не был тупица, вы получили бы второй номер. Вашу картину признали хорошей и приняли ее симпатично.
– У меня третий номер.
– Да, но это благодаря особому роду несчастья, просто неудача какая-то: вы должны были получить второй номер.
– Но какие недостатки они находят в картине?
– Никаких.
– Как никаких, значит, она недурна?
– Она хороша.
– Но в таком случае?
– В таком случае это несчастье, и все тут, в таком случае, если вы найдете какого-нибудь члена комиссии и попросите его, то вашу картину поместят на лучшем месте, так как она хороша.
– А вы?
– Я член, специально назначенный наблюдатель, чтобы соблюдались номера, но поверьте, если кто-нибудь из наших попросит, я ничего не скажу против того.
Была потом у Жулиана, который слегка подсмеивается над советами Робера-Флери и говорит, что я могу быть почти спокойна, и что он будет очень удивлен, если моя картина не будет переставлена, и что… В конце концов Робер-Флери сказал мне, что, по его мнению, я заслуживаю второго номера и что нравственно я его имею. Нравственно!!! И что, наконец, это было бы только справедливо.
А! Нет! Просить из милости того, что мне следует по справедливости, это слишком!
4 апреля
Конечно, выставка Бастьен-Лепажа блестяща, но выставлены почти все старые вещи.
Ему тридцать пять лет. Рафаэль умер тридцати шести, сделав больше. Но Рафаэль с двенадцати лет был окружен герцогинями и кардиналами, которые ласкали его и заставляли работать у великого Перуджини. Рафаэль пятнадцати лет делал такие копии своего учителя, что их было трудно отличить от оригинала, и с пятнадцати же лет был причислен к великим артистам. Затем, в громадных картинах, которые поражают нас и временем, которое они представляют, и своими качествами, в этих картинах вся черновая работа исполнена учениками, и во многих из этих картин Рафаэлю принадлежит только картон.
А Бастьен-Лепаж, чтобы существовать в Париже, должен был первое время сортировать на почте письма от трех до семи часов утра. Первую вещь он выставил, кажется, в 1869 году.
Одним словом, у него не было ни герцогинь, ни кардиналов, ни Перуджини. Кажется, он пришел в Париж лет пятнадцати-шестнадцати.
Но все-таки это лучше, чем я; я всегда жила в среде малоартистической, в детстве я взяла всего несколько уроков, как все дети; потом уроков пятнадцать в продолжение трех или четырех лет, потом опять все та же среда… Таким образом, выходит шесть лет и несколько месяцев, но в это же время я путешествовала и была сильно больна. Наконец… где же я?
Достигла ли я того, чего Бастьен-Лепаж достиг в 1874 году? Этот вопрос неуместен.
Если бы я сказала при других, даже при художниках, все это про Бастьена, они решили бы, что я сошла с ума, одни – с убеждением, другие – из принципа и не желая признать превосходство младшего.
5 апреля
Вот мои проекты.
Сначала кончу картину в Севре. Затем снова примусь серьезно за статую, это по утрам, а после завтрака – этюд нагой натуры, эскиз уже сделан сегодня. Это продолжится до июля. В июле я начну «Вечер». Картина будет представлять большую дорогу без деревьев; равнина, дорога, сливающаяся с небом, закат солнца.
На дороге телега, запряженная двумя волами… и наполненная сеном, на котором лежит на животе старик, опершись подбородком на руки. Профиль черным силуэтом выделяется на закате. Быков ведет мальчишка.
Это должно быть просто, величественно, поэтично и т. д. и т. д.
Окончив это и две или три из начатых небольших картинок, я уеду в Иерусалим, где проведу зиму ради моей картины и моего здоровья.
И в будущем мае Бастьен признает меня великой художницей.
Я рассказываю все это, потому что интересно видеть, что делается с нашими проектами.
7 апреля
Сегодня вечером у нас обедает Жулиан. Этот Жулиан находит великое удовольствие в том, чтобы говорить ужасные вещи на мой счет. И злая я, и нет во мне ничего женственного, и голова у меня фантастическая, и тому подобное… Я уж и не берусь припомнить, сколько он мне наговорил всяких ужасов, в конце концов все же лестных для меня… А после мы болтали о живописи.
12 апреля
Жулиан пишет, что моя картина переставлена.
13 апреля
Я остаюсь дома, чтобы ответить неизвестному (Гюи де Мопассану), т. е. я-то именно и есть неизвестная для него. Он успел уже три раза ответить. Это не Бальзак, которого боготворишь целиком. Я сожалею теперь, что обратилась не к самому Золя, а к его лейтенанту, у которого, впрочем, есть талант, и большой. Из молодых мне больше всего нравится он. Я проснулась в одно прекрасное утро с желанием побудить настоящего знатока оценить по достоинству все то красивое и умное, что я могу сказать. Я искала и остановила свой выбор на нем.
18 апреля
Как я и предвидела, все кончено между нами – между писателем, которому я хотела довериться, и мной. Его четвертое и последнее письмо глупо и грубо.
И действительно, как я ему и сказала в своем последнем ответе: для таких отношений требуется безграничное поклонение со стороны лица, остающегося в неизвестности. Думаю, что он недоволен, но мне это глубоко безразлично.
Какое это несчастье – быть столь требовательным!
Где то живое существо, перед которым я могла бы вся преклониться?!
Бальзак – в могиле, Виктору Гюго – 82 года, Дюма-сыну – шестьдесят. Он все-таки один из тех, которым я поклонялась и удивлялась.
23–27 апреля
Розали принесла мне с почты письмо от Гюи де Мопассана. Пятое письмо лучше других. Мы уже не сердимся друг на друга. И к тому же он поместил в «Gaulois» прелестную хронику, она меня совсем смягчила.
Как это любопытно! Этот человек, которого я совершенно не знаю, занимает все мои мысли. Думает ли он обо мне? Зачем он пишет мне?
29 апреля
Я занята ответом Гюи де Мопассану.
Ничего другого я и не могла бы сейчас делать: я со страшным нетерпением жду лакировки моей работы. В самом деле, литература меня слишком захватила! Прочь Дюма, Золя, все вы! Я выступаю! С каким трепетом я раскрою «Figaro» и «Gaulois»! Если они станут молчать, какое это будет глубокое несчастье! А если они будут говорить, что скажут они? Когда я подумаю об этом, сердце замирает, а после начинает тихо, тихо биться.
30 апреля
Несчастье не так уже велико, так как «Gaulois» говорит обо мне очень хорошо. Обо мне отдельная заметка. Это большой шик, ибо Фуко, тот же Вольф в «Gaulois», и «Gaulois» появляется с отчетом о Салоне в один день с «Фигаро» и, кажется, имеет такое же значение.
«Вольтер» печатает заметку в том же роде и отзывается обо мне, как и «Gaulois». Это главные органы.
«Journal des Artst», который печатает отчет «с птичьего полета», также называет меня. «Intransigent» в своей заметке отзывается обо мне тоже хорошо. Другие журналы тоже мало-помалу дадут свои отзывы. Только «Фигаро», «Gaulois» и «Вольтер» делают это в первое же утро выставки.
Довольна ли я? Это вопрос простой. Ни слишком довольна, ни слишком недовольна…
Довольна как раз настолько, что не прихожу в отчаяние, вот и все.
Я вернулась из Салона. Мы поехали туда только в полдень, а вернулись только в 5 часов, за час до окончания. У меня мигрень.
Мы долго сидели на скамейке, перед картиной.
На нее смотрят много. Мне было смешно, когда я думала, что все эти люди никак бы не подумали, что создатель этой картины молодая, элегантная девушка, которая сидит тут же, показывая свои маленькие и хорошо обутые ножки.
А! Это гораздо лучше, чем в прошлом году.
Что же это, успех? В настоящем, серьезном смысле, разумеется? Честное слово, почти что так.
Бастьен-Лепаж выставил только свою маленькую прошлогоднюю картинку: «Кузницу».
Он все еще не настолько здоров, чтобы работать. Бедный архитектор очень печален и говорит, что готов утопиться.
Я тоже печальна, и мне кажется, что, несмотря на мою живопись, на мою скульптуру, на мою музыку, мою литературу, несмотря на все это, мне кажется, что я скучаю.
1 мая
Отправляемся с Г. в Салон.
Салон! Действительно ли он становится с каждым годом все хуже и хуже или же это я делаюсь все прихотливее и прихотливее?
Прямо не на что смотреть. Эта громада картин без убеждения, без мысли, без души поистине страшна. Все это жалкая стряпня, за исключением большого декоративного аппарата Puvis de Chavannes. Этот человек в маленьких вещицах безрассуден, но его большие декоративные полотна прекрасны. Они переносят вас в какую-то чуждую вам, но очень поэтическую архаическую атмосферу. Притом вы не можете сказать, что это: рисунок, живопись или что-то другое, не от мира сего? Скажу еще, что я только начинаю его любить: это совсем новые пути. Видела еще портрет красавицы m-me Саржана. Портрет возбуждает огромное любопытство: его находят жестоким. На мой взгляд, это – сама правда, само совершенство. Он писал то, что видел. Прекрасная m-me страшна среди бела дня, ибо, несмотря на свои двадцать шесть лет, она румянится и белится. Гипсового тона белила придают ее плечам оттенок трупного цвета. К этому она еще красит свои уши в розовый цвет, а волосы в цвет красного дерева. Брови, цвета темного красного дерева, – две сплошные темно-бурые линии.
Моя собственная картина – в духе старой живописи. По крайней мере, мне так кажется. И затем я не вижу никакой необходимости дать что-нибудь новое? Что я могла бы изобрести нового в искусстве? Если не для того только, чтобы блеснуть, как метеор, то для чего же? Показать, что есть талант? Только всего? А затем что? Умереть, ибо умереть придется же обязательно. Жизнь же печальна, страшна, черна. Что предстоит мне? Что делать? Куда идти? Зачем? Быть счастливой – каким образом? Я устала, прежде чем сделала что-нибудь. Я воображением пережила все мирские радости, я грезила о таком величии, что теперь все то, что может выпасть на мою долю, будет или только близко к пережитой мечте, или далеко ниже ее.
Но тогда что же, что же?
Завтра, или послезавтра, или через неделю явится какой-нибудь пустяк, который совершенно изменит течение моих мыслей, а затем все это повторится сначала, а там дальше – смерть.
2 мая
Вчера вечером, вся еще погруженная в похоронные мысли, я все-таки отправилась к m-me Hochon, чтобы выслушать несколько похвал своей картине. Черное платье, декольтированный бархатный корсаж, кусок черного тюля, наброшенный на плечи, и фиалки на груди… Занимались музыкой. Массне играл и пел. Пел еще любезный, всегда восхищенный и восхитительный Каролюс Дюран. Там были г-да Флери, Моделэн Лемэр, г-да Франчези и Канробер. К столу меня повел маршал. Затем были еще живописцы: Мункачи с женой, Геберт и др… Надо, в самом деле, начать выходить: этот вечер в интимном кругу на меня хорошо подействовал.
Так как лил дождь, то я отправилась к Жулиану. Он говорит, что, пожалуй, не дал бы обеих рук за то, что я получу медаль, но полторы руки он готов поставить на карту, и что он не стал бы этого говорить, если бы не был почти уверен в успехе. Провела хороший вечер с Жулианом и Тони Робер-Флери. Флери говорит мне, что он подвел своего отца к моей картине, не говоря ему, кто ее написал, и его отец нашел ее tres bien, tres bien – именно так и сказал!
3 мая
В половине двенадцатого является Эмиль Бастьен-Лепаж, я выхожу к нему очень удивленная! У него целый запас любезностей для меня. Я имею настоящий, большой успех.
«Не в отношении к вам и вашим товарищам по мастерской, но относительно всех. Я видел вчера Олендорфа, который сказал мне, что если бы эта картина была написана французом, то она была бы куплена государством. “О, да! Этот г. М. Башкирцев очень способный человек”. (Картина подписана М. Башкирцев.) Тогда я сказал ему, что вы молодая девушка, и прибавил “хорошенькая”. “Нет!!!” Он не мог прийти в себя от удивления».
И все говорят мне о большом успехе. Ах!!! Я начинаю этому понемногу верить. Потому что из боязни поверить слишком много я позволяю себе чувствовать небольшое удовлетворение с такими предосторожностями, о которых вы не имеете даже представления.
Я последняя поверю, что в меня верят. Но кажется, что картина хороша.
– Настоящий и большой артистический успех, – говорит Эмиль Бастьен.
Значит, как Жюль Бастьен в 1874 или 1875 годах? О! Создатель! Я еще не захлебнулась от радости, потому что я едва верю этому.
Я должна была бы захлебываться от радости. Этот превосходный друг просил меня подписать полномочие для Шарля Бода, гравера, интимного друга его брата.
Этот Бод имеет фотографию с моей картины для «Monde Illustre»; это хорошо.
Он мне сказал также, что Фриан (у которого есть талант) пришел в восторг от моей картины.
Люди, которых я не знаю, говорят обо мне, интересуются мной, судят меня. Какое счастье!!! Просто не верится этому, хотя перед этим я так желала и ждала этого!
Я хорошо сделала, подождав давать полномочие на снятие фотографии с моей картины. У меня просили этого письменно, не знаю кто, еще третьего дня. Мне приятнее позволить это Боду, тому, кого Бастьен зовет Шарло и кому он пишет письма по восьми страниц.
Сошла в гостиную мамы принять поздравления от всех этих дураков, которые думают, что я занимаюсь живописью, как принято в свете, и которые расточают те же комплименты Алисе и другим дурочкам.
Так-то!
Мне кажется, мой успех всех живее чувствует Розалия. Она с ума сходит от радости, говорит со мной, как старая кормилица, и рассказывает подробности направо и налево. Для нее нечто совершилось, произошло важное событие.
Эдуард Мане. Железная дорога. 1873
4 мая
С понедельника я ничего не делаю. В течение целых часов я сижу сложа руки. Грезишь невесть о чем или же о любви. Гонкур говорит, что у женщин всегда есть какая-нибудь любовная страстишка – вблизи или вдали. Это иногда весьма справедливо.
5 мая
Умереть, это слово легко сказать, написать, но думать, верить, что скоро умрешь! А разве я верю этому? Нет, но я боюсь этого.
Ни к чему скрывать, у меня чахотка. Правое легкое сильно поражено, и левое начинает портиться понемногу, уже в продолжение целого года. Обе стороны задеты. При другом телосложении я была бы почти худа. Конечно, я полнее, чем большинство молодых девушек, но и не то, что было прежде. Одним словом, я заражена безвозвратно. Но, несчастное создание, заботься же о себе! Да, я забочусь, и притом основательно. Я прижгла себе грудь с обеих сторон, и мне нельзя будет декольтироваться в продолжение четырех месяцев. И мне придется время от времени повторять эти прижигания, чтобы быть в состоянии спать. О выздоровлении не может быть и речи. Все написанное имеет вид преувеличения; но нет, это только правда. Да и кроме мушек, столько есть разных разностей! Я все исполняю. Тресковый жир, мышьяк, козье молоко. Мне купили козу.
Я могу протянуть, но все-таки я погибший человек.
Я слишком много волновалась и мучилась. Я умираю вследствие этого, это логично, но ужасно. В жизни так много интересного! Одно чтение чего стоит! Мне принесли всего Золя, всего Ренана, несколько томов Тэна; мне лучше нравится «Революция» Тэна, чем Мишлэ; Мишлэ туманен и буржуазен, несмотря на его поклонение высокому.
А живопись!
6 мая
Литература заставляет меня терять голову. Я читаю Золя целиком. Это гигант.
Милые французы, вот еще один, которого вы не хотите понять!
7 мая
Получила от Дюссельдорфа просьбу отгравировать и отпечатать мою картину, а также и другие мои картины, если я найду это удобным. Забавно.
Со времени открытия Салона не было ни одного журнала, который бы не говорил о моей картине; да, но все-таки это еще не то! Сегодня утром Etincelle пишет статейку «Светские женщины-живописцы».
Это чудесно! Я следую тотчас же за Кларой, и обо мне столько же строк, как и о ней! Я Грёз, я блондинка с решительным лбом, как у существа, которое будет чем-нибудь, у меня глубокие глаза! Я очень элегантна, у меня талант, и я хороший реалист, вроде Бастьен-Лепажа. Так! Это еще не все, у меня притягательная улыбка и грация ребенка!!! И я не в восторге? Ну, так знайте же: нисколько!
8 мая
Я с ума схожу от желания писать. Могу ли я писать? А между тем меня словно толкает какая-то непобедимая сила. О, это уже с давних пор. Начиная с романа, начатого в 1875 году и до сих пор не оконченного… Да еще стихи, до того и после, все время… Теперь я дошла до той точки, когда все эти грезы и все схваченные на лету наблюдения хотят словно облечься в плоть. Порой кажется, что у тебя в голове готов сюжет для десятка книг. Не знаешь, с чего начать, и, когда принимаешься за осуществление этих грез, останавливаешься на десятой странице.
Я вам потому это рассказываю, что отмечаю здесь все свои отдельные настроения. У меня даже есть масса написанного, но я смеюсь над своими претензиями. Порядочная это была бы глупость – писать! Я борюсь с собой, отказываюсь, говорю себе нет, смеюсь над собой, ибо я слишком боюсь быть смешной в глазах других, а страсть эта непреодолима!
Это сладкое безумие, которое делает меня счастливой, перед которым я останавливаюсь взволнованная, возбужденная, словно я об этом серьезно задумываюсь. И может быть, я слишком серьезно об этом думаю, чтобы признаться в этом даже здесь. Но для этого не хватило бы жизни, в особенности моей.
Всего коснуться своей рукой и ничего не оставить после себя!
Ах, Господи! Я все же надеюсь. Ах, я так труслива и живу в таком страхе, что готова поверить в спасительность церкви.
9 мая
Я читаю и обожаю Золя. Его критические статьи и этюды превосходны; я влюблена в них до безумия. Можно все сделать, чтобы понравиться такому человеку! И вы считаете меня способной к любви, как всех других. О, Господи!
Бастьен-Лепажа я любила, как люблю Золя, которого я никогда не видела, которому 44 года, у которого есть жена и брюшко. Спрашиваю вас, неужели не смешны до безобразия эти светские люди, за которых выходят замуж? Что бы я стала говорить с подобным господином в течение целого дня?
Эмиль Бастьен обедал у нас и сказал, что в четверг придет ко мне с довольно известным любителем, г-ном Г.
У него есть картины Делакруа, Коро, Бастьен-Лепажа; он умеет распознавать будущих великих художников.
– Как вы это находите?
– Это очень хорошо, вы знаете художника? Что, он молод?.. – И т. д. и т. д.
Этот Г. следил за мной с прошлого года, заметив мою пастель и мою теперешнюю картину…
Словом, они придут в четверг. Он хочет купить у меня что-нибудь.
10 мая
Утром в Салоне с Кларой Канробер. Завтракаем у Канроберов. А после – дома, где собралась целая толпа гостей. Я скучаю. Что значит скучать? Это, вероятно, месяц май меня так волнует. Да, это так!
Вечером в Итальянской опере. После панегирики d’Edincelle в «Figaro» меня сильно лорнируют, что меня очень стесняет, так как я не уверена, что хорошо выгляжу. Все эти господа смотрят и лорнируют меня из всех лож.
12 мая
После холодов наступили вдруг жаркие дни: уже три дня 28, 29 градусов.
Жара изводит меня. Я кончаю этюд девочки в саду, в надежде на визит любителя.
По всем признакам у Бастьен-Лепажа рак в желудке. Так он, значит, погиб? Может быть, это еще ошибка. Бедняга не может спать. Это нелепо! А его дворник, вероятно, пользуется отличным здоровьем. Это нелепо!
14 мая
Письмо от Гюи де Мопассана. О чем он думает, этот человек? Он бесконечно далек от того, чтобы знать, кто я такая, так как я ни с кем не говорила о нем, даже с Жулианом. А я – что я ему скажу?
Моя картина «Жан и Жак» удостоилась лестного упоминания в Ницце. Все наши с ума сходят от радости, исключая меня.
15 мая
В 10 часов утра явился Эмиль Бастьен вместе с Г.
Не странно ли это? Мне это кажется невероятным. Я – артист, и у меня есть талант. И это серьезно. И вот человек, как г. Г., приходит ко мне, интересуется моими работами; возможно ли это?
16 мая
Отправляемся в Салон. Встречаем немало знакомых, среди них m-lle Аббема, которая сообщает мне, что ее шурин, Поль Манц (из «Temps»), признает за мной большой талант. Спустя немного времени мы встречаем известную художницу, m-lle Ароза. Она с дамой, которая представилась как дочь Поля Манца. Мне представляется немного глупым повторять все те лестные вещи, которые они мне преподнесли. Если это обыкновенные светские люди, я никогда об этом не говорю, зная, что учтивость требует таких комплиментов. Но когда Аббема и дочь Поля Манца говорят мне о том, что думает обо мне великий критик, они сильно настаивают на своих словах и тем дают мне понять, какое неслыханное счастье для меня представляет лестное мнение такого человека, как он.
Кажется, в «Temps» была статья обо мне. Кроме того, я получила 22 или 23 вырезки из различных журналов.
Очень много рассматривают мою картину, много рассматривают и меня. Я впервые надела платье из тонкой темно-синей шерсти – очень простое и очень шикозное. На голове черная соломенная шляпа в стиле Watteau.
С тех пор как Бастьен-Лепаж болен, я забыла про все уколы самолюбия. Я не боюсь его больше; есть в этом чувстве что-то похожее на удовольствие. Вообразите себе какого-нибудь повелителя, которого привыкли приветствовать издали с униженной сдержанностью и который вдруг упал в овраг, сломал себе ногу и нуждается в вашей помощи.
17 мая
Я вернулась из Булонского леса и застала Багницкого, который сказал мне, что у художника Боголюбова говорили о Салоне и что кто-то сказал, что моя картина похожа на картины Бастьен-Лепажа.
В общем, мне лестны все эти толки о моей картине. Мне завидуют, обо мне сплетничают, я что-то из себя представляю. Позвольте же мне порисоваться немножко, если мне этого хочется.
Но нет, говорю вам; разве это не ужасно и разве можно не огорчаться? Шесть лет, шесть лучших лет моей жизни я работаю, как каторжник; не вижу никого, ничем не пользуюсь в жизни! Через шесть лет я создаю хорошую вещь, и еще смеют говорить, что мне помогали! Награда за такие труды обращается в ужасную клевету!!!
Я говорю это, сидя на медвежьей шкуре, опустив руки, говорю искренне и в то же время рисуюсь. Мама понимает меня буквально, и от этого я прихожу в отчаяние.
Вот вам мама. Предположите, что почетную медаль дали X. Конечно, я кричу, что это недостойно, позорно, я возмущена, я в ярости и т. д. Мама: «Да нет же, нет, не волнуйся так. Господи, да она не получила награды! Это неправда! А если ей ее и дали, то только нарочно: все знают, что ты придешь в бешенство. Это сделано нарочно, а ты даешь провести себя, как дурочка! Полно же!»
Это не преувеличено, это только преждевременно: дайте только X. получить почетную медаль, и вы увидите, что она скажет все это.
Другой пример. Жалкий роман Y., который теперь в моде, выдерживает несколько изданий. Разумеется, я негодую: так вот пища большинства, вот что любит толпа! О tempora! О mores! Я готова побиться об заклад, что мама начнет ту же тираду, как в предыдущем случае! Это случалось уже не раз. Она боится, что я сломаюсь, что я умру от малейшего толчка, и в своей наивности хочет предохранить меня такими средствами, от которых у меня может сделаться горячка.
Приходит X., Y. или Z. и говорит:
– Знаете, бал у Ларошфуко был великолепен.
Я делаюсь мрачной.
Мама это видит и через пять минут рассказывает при мне что-нибудь, что должно разочаровать меня относительно этого бала; еще хорошо, если она не начнет уверять меня, что бала совсем не было.
Постоянно ребяческие выдумки и уловки, а я бешусь, что могут считать меня такой легковерной.
20 мая
В десять часов была в Салоне с Г. Он говорит, что моя картина так хороша, что мне, наверное, помогали.
Это ужасно!
Он осмеливается также сказать, что Бастьен никогда не умел делать картины, что он пишет портреты, что его картины – те же портреты, что он не может писать нагого тела.
Оттуда мы отправились к Роберу-Флери. Я с волнением рассказываю ему, что меня обвиняют в том, что я не сама написала мою картину.
Он об этом не слышал; он говорит, что в jury об этом не было и речи и что, если бы подняли об этом вопрос, он бы заступился. Он думает, что мы гораздо более взволнованы, чем на самом деле, и мы уводим его завтракать к нам, чтобы он успокоил и утешил нас.
– Как можно так волноваться из-за всего? Такую грязь нужно отшвыривать ногами.
– Я бы желал, чтобы при мне сказали такую вещь в jury, – восклицал он, – я бы тогда показал им! Если бы кто-нибудь осмелился сказать это, я бы уничтожил его тут же, на месте!
– О, благодарю вас.
– Нет, здесь дело совсем не в дружбе, тут дело в истине, которая мне известна лучше, чем кому-либо.
Он еще повторяет нам эти вещи, говорит, что я имею шансы получить медаль, ибо никогда нельзя знать заранее; кажется, у меня даже много шансов на это.
21 мая
Робер-Флери говорит, что Дюезу очень нравится моя живопись. Дюез входит в состав жюри, но я буду иметь против себя стариков.
Впрочем, я очень спокойна, занята своей болезнью и планами новых работ. Этот Салон и эти картины – все это прошлое, а я заглядываю в будущее. Пусть у меня и не будет медали, но ведь мою картину уже заметили.
Сегодня вечером у нас обедает Жулиан. Ему не хотелось прийти, говорит он, так как у него нет добрых вестей для меня. Тем не менее все как будто недурно сходит, но, когда приходит момент, каждый старается быть настороже.
Я, такая спокойная, боюсь, что начну волноваться.
Мы прочли несколько писем Гюи де Мопассана, и в этом прошел вечер.
Его чрезвычайно занимают письма мои и Мопассана. Жулиан в самом деле может заменить собой публику. Он, кажется, сделал новое открытие: что я не более как фанфаронка в дерзости, а в корне вещей ребенок, которого способно сразить одно грубое слово. Он говорит, что, если бы я только подождала пару дней, я могла бы написать такой ответ Мопассану, что он навеки остался бы в положении глупенького ребенка. Но так как я поспешила, то и вышло наоборот; я сыграла роль маленькой глупенькой девочки – девочки, которая разочаровалась в своем идоле и этим уничтожена.
22 мая
Я давно уже обещала навестить Каролюса Дюрана и сегодня утром вспомнила про свое обещание. Он принимает по четвергам утром. Мы и пошли к нему. Этот очаровательный человек одет был в бархатную куртку гранатового цвета, и, поверите ли, когда мы входили, он изображал какой-то испанский танец под звуки гитары, на которой наигрывал его друг. Впрочем, и я после играла на органе, а он пел.
Я становлюсь немного нервозной. Ровно год тому назад я испытывала подобную же глубокую тоску. Все это пустяки!
23 мая
Открытие выставки Мейссонье в пользу ночлежных домов.
Maman – патронесса выставки.
Там имеется на 6 миллионов картин, и это не больше, чем треть того, что он сделал. Я в темно-сером платье. Встретила многих знакомых. Приятно провела с четверть часа. Оттуда мы отправляемся в Салон. Народу совсем мало. Каролюс Дюран очарователен, как всегда. Я сильно надеюсь, что он подаст голос за меня.
M.N. предупреждает о своем посещении сегодня вечером и говорит: «Не приходите все-таки в отчаяние!»
И легко заметить, что он беседовал обо мне со всеми художниками. Не есть ли это особая тактика со стороны X., чтобы довести меня до скромности и таким образом купить у меня что-нибудь очень дешево?
Получила несколько слов от архитектора.
«Chère demoiselle!
Все не более как ослы – положительно все! Медали существуют только для ничтожеств. Создавайте еще лучшие вещи – можно всегда творить все лучше и лучше, – это единственный способ отомстить им. Истинный художник стоит выше всех таких интриг. Примите уверение в моей искренней дружбе и поклонении вам.
Эмиль Бастьен-Лепаж».
24 мая
Жарко, и я устала. «France Illustrée» просит позволения воспроизвести мою картину. О том же просит какой-то Лекард. Я подписываю и подписываю: воспроизводите!
Думаю, что медали достанутся картинам, которые хуже моей! Это очевидно. О! Я совершенно спокойна: настоящий талант выбьется во что бы то ни стало; но это будет запаздыванием, и это скучно. Я предпочитаю не рассчитывать на это. Отзыв мне обещали наверно; медаль еще сомнительна, но это будет несправедливо!
27 мая
Кончено. Я ничего не получила. Но это ужасно досадно; я надеялась до сегодняшнего утра. И если бы вы знали, за какие вещи назначены медали!!!
Но почему это не приводит меня в отчаяние? Я очень удивляюсь. Если моя картина хороша, почему я не получаю награды? Скажут, что это каверзы…
Все равно, если это хорошо, как же случилось, что картина не получила награды? Я не хочу прикидываться благородной наивностью, которая не подозревает, что существуют интриги, но мне кажется, что за хорошую вещь…
Так значит, это вещь плохая? Нет.
У меня есть глаза даже для самой себя… И потом, отзывы других! А сорок журналов!
28 мая
Я ответила m-г Жулиану:
«Милостивый государь! Не выводите заключение из того, что я вам вновь пишу, что я очень взбудоражена… (Я не припомню уже письма, но, по существу, я ему сказала, что, не желая увлекаться, я не могу более предполагать, что Жулиан способен сыграть комедию.)
Я хотела бы, дорогой наставник, знать, в чем дело, что сказало почтенное жюри, каковы главные недостатки. Почему? Я гораздо хуже думаю о своей живописи, нежели кто бы то ни было; но я, против воли, оглядываюсь направо и налево, смотрю на работы, удостоившиеся медали, и остаюсь погруженной в целое море сомнений. Единственно, что меня интересует, это – хороша или плоха моя картина? Не говорите мне, что она хороша, чтобы меня утешить, лучше вам сказать мне правду и не оставлять меня на ложном пути. Может быть, как раз те вещи, которые я считаю слабыми или нелепыми, именно и хороши; может быть, я просто ошибаюсь, и только. Я знаю, что тот, кто действительно силен, всегда в конце концов успевает, но не с таким запозданием и не с таким трудом!
Мне, право, стыдно так много говорить о себе, но нужно же защищаться. Я считаю себя очень беспристрастной: я в одно и то же время и актер, и зритель. Я, зритель, сужу себя актера. Моя картина хороша не по сравнению с работами призванных мастеров, но по сравнению с теми, которые удостоились медали. Господи, Господи!..»
29 мая
Благодаря лихорадке, продолжавшейся всю ночь, я нахожусь сегодня в состоянии какого-то бешеного раздражения, в состоянии, от которого хоть с ума сойти. Все это, разумеется, не из-за медали, а из-за бессонной ночи.
К чему влачить это жалкое существование? Смерть даст, по крайней мере, возможность узнать, что такое представляет из себя будущая жизнь.
30 мая
Сегодня вечером у маркизы С. Там были m-me Краус, виконтесса Тредерн, принцесса Жанна Бонапарт и др.
Графиня Тредерн – grande dame, которой сделали чудовищную рекламу как аристократической певице. Она красива, необычайно богата и поет очень хорошо. В общем итоге – один из редких талантов большого света.
Я мрачна и думаю о философии любви и о любви философов. Все эти люди вокруг меня заняты были вполне реальными вещами, между тем как я погружена в грезы….
Эдгар Дега. Три танцовщицы в фиолетовых юбках. 1898
Я нахожу, что с моей стороны очень глупо не заняться единственной вещью, стоящей того, единственной вещью, дающей счастье, заставляющей забывать все горести, – любовью; да, любовью – само собой разумеется.
Два любящих существа представляются друг другу абсолютно совершенными в физическом и в нравственном отношении, особенно в нравственном. Человек, любящий вас, делается справедлив, добр, великодушен и готов с полнейшей простотой совершать самые геройские подвиги.
Двум любящим существам вся Вселенная представляется чем-то чудесным и совершенным – словом, тем, чем представляли ее себе такие философы, как Аристотель и я! Вот в чем, по-моему, заключается великая притягательная сила любви.
При родственных отношениях в дружбе, в свете – везде проглядывает так или иначе какой-нибудь уголок свойственной людям грязи: там промелькнет своекорыстие, там глупость, там зависть, низость, несправедливость, подлость. Да и потом, лучший друг имеет свои, никому не доступные мысли, и, как говорит Мопассан, человек всегда одинок, потому что он не может проникнуть в сокровенные мысли своего лучшего друга, стоящего прямо против него, глядящего ему в глаза и изливающего перед ним свою душу.
Ну, а любовь совершает чудо слияния двух душ… Правда, любовь открывает простор иллюзиям; но что за беда. То, что представляется существующим, существует! Это уж я вам говорю! Любовь дает возможность представить себе мир таким, каким бы он должен был быть…
31 мая
В. приходит сообщить мне, что мне не дали медали за то, что я наделала столько шуму из-за прошлогоднего «отзыва» и громогласно называла жюри идиотским. Это правда, что я так говорила.
Моя живопись, может быть, недостаточно широка и свободна, но ведь иначе «Митинг» был бы настоящим chef-d’oeuvre? Гравюра Бода появилась вместе с заметкой, в которой говорится, что публика возмущается тем, что меня обошли медалью. Моя живопись – суха?! Но ведь это же говорят и про Бастьена.
1 июня
Вот уже месяц, как я ничего не делаю. Со вчерашнего утра читаю Сюлли Прюдома. У меня под рукой два тома, и он мне очень нравится…
Мне очень мало дела до самих стихов; мне до них есть дело только тогда, когда они плохи и затрудняют самое чтение; значение для меня имеет только выражаемая ими идея. Угодно им рифмовать – пусть себе рифмуют. Только чтобы это не било в глаза… Итак, тонкие идеи Сюлли Прюдома бесконечно мне нравятся. Есть у него одна сторона – очень возвышенная, почти отвлеченная, очень тонкая, очень сильная, вполне совпадающая с моим образом чувств.
Я только что прочла, то лежа на диване, то прохаживаясь по балкону, предисловие и самую книгу Лукреция: «De natura rerum». Те, кто знают эту вещь, поймут меня.
Для того, чтобы понять все, требуется большое напряжение ума. Эта вещь должна читаться с трудом даже тем, кто привык возиться с такого рода предметами. Я все поняла, моментами оно ускользало, но я возвращалась и заставляла себя усвоить. Я должна очень уважать Сюлли Прюдома за то, что он написал вещь, дающуюся мне с таким трудом. Он владеет и распоряжается всеми этими идеями, как я распоряжаюсь моими красками. Он, значит, тоже должен был бы иметь благоговейное уважение ко мне, создающей посредством каких-то грязных красок – как говорит антипатичный Теофиль Готье – лица, отражающие человеческие чувствования, картины, передающие природу, деревья, воздух, даль. Сам-то он, конечно, считает себя в тысячу раз выше какого-нибудь художника, хотя его раскапывание механизма человеческой мысли, в сущности, совершенно бесполезно. Что, в самом деле, дает он себе и другим этим способом?
Каким образом работает ум, давая имена всем этим внутренним движениям, быстрым до неуловимости… Я, бедная невежда, думаю, что вся эта философия никого ничему не научит; это изыскание – занятие утонченное и трудное, но только к чему оно? Разве благодаря умению давать имена всем этим отвлеченным чудесным вещам создаются гении, оставляющие книги, или замечательные люди, мыслящие во главе вселенной?
Если бы я получила разумное воспитание, из меня вышло бы нечто очень замечательное. Я всему училась сама, я сама составила план моих занятий с учителями лицея в Ницце – отчасти благодаря какой-то интуиции, отчасти благодаря тому, что я вычитала из книг. Я хотела знать такую-то и такую-то вещь. Потом я научилась читать по-гречески и по-латыни, прочла французских и английских классиков да современных писателей – вот все. Но это какой-то хаос, как я ни стараюсь упорядочить все это из любви к гармонии во всем.
2 июня
У нас обедает Эмиль Бастьен-Лепаж. Его брат прибавляет только несколько слов к письму своей матери. Он уже не пишет даже близким своим друзьям, не работает больше и страшно страдает физически и морально. Он пишет: «Поблагодари за меня г-д Башкирцевых и уверь их в моих дружеских чувствах. Я читал в журналах статьи о m-lle Башкирцевой, и меня нисколько не удивляет ее успех».
Добрый архитектор говорит, что мне уже одним тем выдана медаль, что все художники отметили мою картину, что меня знают и что я имела истинный успех.
У меня явилась идея новой картины. Мне это пришло в голову в три часа, а сегодня вечером за обедом я с такой отчетливостью увидела перед собой то, что я думаю сделать, что это заставило меня подскочить, точно у меня в кресле оказалась пружина.
У меня сильное тяготение к сюжету в новом вкусе, с многочисленными обнаженными фигурами; полотно не должно быть слишком велико.
Да, непременно: я так и сделаю. Именно, ярмарочные борцы, а кругом народ. Будут голые торсы, чтобы показать, что я умею рисовать обнаженное тело. И люди кругом. Это будет очень трудно, но раз это меня захватывает, то больше ничего и не требуется: опьянение, вот и все!
5 июня
Пратер умер. Он вырос со мной вместе, мне купили его в 1870 году в Вене; ему было всего три недели, и он постоянно забивался за сундуки, в бумагу от покупок, которые мы делали.
Он был преданной, верной собакой; он плакал, когда я выходила, и целыми часами поджидал меня, сидя на окошке. А потом, в Риме, я самым глупейшим образом увлеклась другой собакой, и Пратер перешел к маме, не переставая ревновать меня, со своей желтой львиной шерстью и чудесными глазами. Когда я только подумаю теперь о моем бессердечии!..
О, я очень мила со всеми моими нежными чувствами! О, подлый характер, я плачу над этими строками и не могу удержаться от мысли, что следы моих слез на бумаге послужат доказательством доброты моего сердца в глазах моих читателей…
8 июня
На вечере в посольстве я была настолько хороша, насколько только способна. Платье производило очаровательнейший эффект. И лицо расцвело, как бывало в Ницце или в Риме. Люди, видящие меня ежедневно, рты разинули от удивления.
Мы приехали довольно поздно. Я чувствовала себя очень спокойно и очень хорошо… Довольно много знакомых. Madame А., которую я встречала у Г. и которая мне не кланялась, раскланивается со мной любезнейшим образом. Я была под руку с Г., который представляет мне Менабреа, итальянского министра. Мы разговариваем об искусстве. Потом Лесепс рассказывает мне длиннейшую историю о ребятах и кормилицах и о действиях на Суэцком канале. Мы проболтали с ним довольно долго.
А потом я говорила с бывшими там художниками; они все пожелали мне представиться, очень мною заинтересованные. Но я была так красива и так хорошо одета, что они вынесут убеждение в том, что я не очень-то самостоятельно пишу свои картины. Там были Шереметев, Леман, пожилой человек, очень симпатичный, значительный талант, и, наконец, Эдельфельдт, тоже не без таланта. Вообще все шло очень хорошо. Вы видите, что главное – быть красивой. Это дает все остальное.
10 июня
Боже мой, до чего это интересно – улица! Все эти человеческие физиономии, все эти индивидуальные особенности, эти незнакомые души, в которые мысленно погружаешься.
Вызвать к жизни всех их или, вернее, схватить жизнь каждого из них! Делают же художники какой-нибудь «Бой римских гладиаторов», которых и в глаза не видали, с парижскими натурщиками. Почему бы не написать «Борцов Парижа» с французской чернью. Через пять, шесть веков это сделается «античным», и глупцы того времени воздадут этому произведению должное почтение.
Была в Севре, но скоро возвратилась. Натурщица моя совсем не подходит для деревенской девушки, и я опять возьму нашу судомойку. С этой Армандиной дело не пойдет на лад: очень уж отдает от нее балетом. И это я-то, претендующая на изображение нравственного мира человека, чуть было не написала маленькую потаскушку в крестьянском платье!.. Нет, мне нужно настоящую здоровенную девчину, которая не то дремлет, не то мечтает на жарком воздухе и которой завладеет первый встречный парень.
Но эта Армандина – вот идеальная глупость! Я стараюсь заставить ее разговаривать. Когда глупость не сердит, она забавляет. Слушаешь себе с благосклонной любознательностью и наблюдаешь нравы! Все эти наблюдения я дополняю моей интуицией, которую, если позволите, я назову поистине замечательной.
20 июня
Архитектор пишет мне из Алжира. Мое письмо оканчивалось тремя нашими портретами, каждый с медалью на шее. Жюль с почетной медалью, я – с первой медалью, архитектор – со второй. Я послала ему, между прочим, фотографический снимок с «Митинга». Он говорит, что показывал его брату, который был очень рад составить себе понятие о картине, про которую ему столько наговорили; он находит, что она очень хороша, и воскликнул даже:
– Как это глупо, что они не дали ей медали. Я нахожу, что эта картина безусловно удачна!
Он хотел бы сам написать мне, но это невозможно, он слишком страдает. Но несмотря на это, он решил выехать сюда, считая с сегодняшнего дня через восемь дней. Он просит архитектора передать мне его дружеские пожелания и поблагодарить меня за вышивку.
Год тому назад я была бы на седьмом небе от радости. Он хотел бы написать мне!.. Но я радуюсь только… задним числом, потому что теперь это для меня почти все равно.
В конце его письма – тоже моя голова с почетной медалью за 1886 год.
Он будет тронут той деликатной манерой, которой я стараюсь в моем письме утешить его брата; письмо начиналось серьезно, потом шли «слова ободрения», и все это заканчивалось шутками – наиболее привычной для меня манерой разговаривать.
21 июня
Я похудела до невозможности. Уже два месяца, как можно день за днем наблюдать эту прогрессирующую худобу. Это уже не Венера, это уже Диана. Диана может быть похожей на Кащея.
С виду я здорова и живу, как всегда. Но у меня каждый день лихорадка: то днем, то ночью. И затем кошмары, галлюцинации.
Ученики Мопассана, не приписывайте этого состояния бессоннице стареющей девы. Нет, мои бедные друзья, это не то. Любовные грезы… я погружаюсь в них каждый вечер, чтобы скорей заснуть, если только я не думаю о какой-нибудь картине. Нет, это настоящая лихорадка – утомительная и притупляющая.
Я решилась поэтому посоветоваться с доктором Потэном. Вы понимаете, это не такой момент, когда бы хотелось умереть. В светских журналах Парижа и Англии имеются хвалебные статьи обо мне.
Мое платье и прическа на вечере в русском посольстве обошли всю прессу. Прическа Психеи, говорят они.
У меня есть пятьдесят журналов, в которых говорится о моем салоне, и серьезные критические статьи. За мной начинают признавать талант, а я между тем угасаю.
Я прочла новую книгу Доде, от которого Париж сходит с ума. Она называется «Сафо». Я ее прочла два раза, желая заключить мир со стилем Доде, который меня нервно утомляет.
Неужели я ошибаюсь в своем суждении? Читаешь, и перед тобой все так мелькает… летит вперед… быстро, быстро. Все неудержимо бежит и рассыпается по сторонам. Читатель силится следить затаив дыхание. Все какие-то обрывки фраз, случайные заметки, вскользь брошенные человеком, полным сожаления и сострадания к вам и слишком занятым, чтобы сказать вам все, что он знает… И всегда что-нибудь зловещее, мрачное в темных намеках по поводу какой-нибудь, к примеру сказать, жареной картошки. Это похоже на картину, нарисованную резкими мазками. Глаз судорожно сжимается и не находит, на чем остановиться и отдохнуть. Это какое-то пиччикато без конца и края.
В какое негодование это должно привести Золя! Но он не выскажет этого. Если он станет поносить Доде, кого же он станет хвалить? А ведь нужно делать вид, что любишь других, а не себя. Он курит фимиам Гонкуру и Доде, чтобы не выглядеть, будто он боготворит себя одного.
24 июня
Похоже на то, что у нас будет холера. Она уже в Тулоне. Эти проклятые англичане ради барышей заставляют умирать миллионы людей. Если есть какой-нибудь народ, лишенный всяких симпатичных черт, то это именно англичане. Они мудры и отвратительны, эгоистичны и трусливы – взгляните на их историю.
Более 8000 человек покинули Тулон. Добрая часть их приезжает сегодня в Париж с утренним поездом. Это очень приятно для Парижа.
В палате депутатов, казалось, все были так взволнованы, что никого больше не интересовал египетский вопрос.
Ах, интересно бывает изучать человека, когда он становится совершенно натуральным, поставленный лицом к лицу с вопросом о жизни и смерти. Все люди становятся примитивны, и даже Жюль Ферри смотрит на вас взглядом, напоминающим взгляд моего маленького шестилетнего натурщика.
Взгляните-ка на них, этих животных в рединготах и жилетах, как они спешат за объяснениями к морскому министру! Посмотрите-ка на эти стада, обреченные на то, чтобы сегодня или завтра издохнуть, и которые сознают это и все же волнуются! Для чего? Мы все умрем, что бы мы ни сделали, как говорит Мопассан.
Мы знаем, что все умрем, что никто не может этого избежать, и все же у нас хватает духу жить под этой вечной страшной угрозой!
Не боязнь ли полного конца, внезапного прекращения существования, толкает людей непременно оставить что-нибудь после себя? Да, те, которые сознают неизбежность конца, страшатся его и хотят пережить самих себя.
Не служит ли этот инстинкт доказательством, что мы его, по крайней мере, жаждем?
Перестать жить, исчезнуть! А там придут другие! Разве я год тому назад не хотела умереть, потому что не надеялась оставить после себя имени, подобного Микеланджело?
25 июня
Перечла свои тетради 1875, 1876 и 1877 годов. На что я там только не жалуюсь; это постоянное стремление к чему-то… неопределенному. Я сидела каждый вечер, разбитая и обессиленная этим постоянным исканием – что делать со своей яростью и отчаянием. Поехать в Италию? Остаться в Париже? Выйти замуж? Взяться за живопись? Что сделать с собой? Уезжая в Италию, я не была бы уже в Париже, а это была жажда – быть зараз повсюду!!! Сколько во всем этом было силы!!!
Будь я мужчиной, я покоряла бы Европу. В моей роли молодой девушки я расходовалась только на безумные словоизлияния и эксцентрические выходки.
Бывают дни, когда наивно считаешь себя способной ко всему: «Если бы хватало времени, я была бы скульптором, писательницей, музыкантшей…»
Какой-то внутренний огонь пожирает вас. А смерть ждет в конце концов, неизбежная смерть, все равно, буду ли я гореть своими неисполнимыми желаниями или нет.
Но если я ничто, если мне не суждено быть ничем, почему эти мечты о славе с тех пор, как я сознаю себя? И что означают эти вдохновенные порывы к великому, к величию, представлявшемуся мне когда-то в форме богатств и титулов? Почему – с тех пор, как я была способна связать две мысли, с четырех лет, – живет во мне эта потребность в чем-то великом, славном… смутном, но огромном?.. Чем я только не перебывала в моем детском воображении!.. Сначала я была танцовщицей Петипа, обожаемой Петербургом. Каждый вечер я надевала открытое платье, убирала цветами голову и с серьезнейшим видом танцевала в зале, при стечении всей нашей семьи. Потом я была первой певицей в мире. Я пела, аккомпанируя себе на арфе, и меня уносили с триумфом… не знаю кто и куда. Потом я электризовала массы силой моего слова… Словом, во всех направлениях, во всех чувствах и человеческих удовлетворениях я искала чего-то неправдоподобно великого… И если это не может осуществиться, лучше уж умереть…
27 июня
Мы собирались ехать кататься в Булонский лес, когда архитектор подошел к коляске: они приехали сегодня утром, и он пришел сказать, что Жюлю немного лучше, хотя он еще не может выходить. Ему так хотелось рассказать мне об успехе моей картины у всех, кому он показывал в Алжире фотографический снимок с нее.
– В таком случае мы навестим его завтра, – говорит мама.
– Вы не можете доставить ему большего удовольствия. Он говорит, что ваша картина… Впрочем, нет, он сам вам скажет, это будет лучше.
Эдгар Дега. Девушка в голубом. 1884
28 июня
Итак, мы отправляемся в улицу Лежандр.
Он встает, чтобы принять нас, и делает несколько шагов по комнате; он показался мне как бы сконфуженным своей переменой. Очень изменился, о, очень изменился! Но он болен не желудком, я не доктор, но это видно по лицу. Я нашла его настолько изменившимся, что только и проговорила:
– Ну, вот вы и приехали.
В нем нет ничего отталкивающего. Он был тотчас же так мил, так дружелюбно, так благосклонно говорил о моей живописи, постоянно повторяя, чтобы я не заботилась о медалях и довольствовалась успехом.
Я смешу его, говоря, что болезнь ему впрок, потому что он начинает теперь толстеть. Архитектор казался в восторге, видя своего больного таким веселым и милым… И, ободрившись, я становлюсь болтлива. Он посадил меня у своих ног, на длинном стуле… Бедные похудевшие ноги!.. Глаза, увеличившиеся и страшно ясные, спутанные волосы…
Но он очень интересен, и, так как он просил меня об этом, я приду еще раз.
Архитектор, провожавший нас вниз, также просил меня об этом. «Это доставляет такое большое удовольствие Жюлю, он так рад вас видеть; он говорит, что у вас большой талант, ей-богу…»
Я так подчеркиваю его хороший прием потому, что я очень довольна этим.
Но это как бы материнское чувство – очень спокойное, очень нежное, и я горжусь им, как силой.
30 июня
Мне стоило таких усилий удержаться, чтобы не прорвать моего холста ударом ножа. Ни один уголок не вышел так, как бы мне этого хотелось. Остается еще сделать руку! А когда рука будет сделана, придется еще столько переделывать!!! Этакое проклятие.
И три месяца, три месяца.
Нет!!! Я забавлялась, составляя корзинку земляники, каких обыкновенно нигде не увидишь. Я набрала сама, с длинными стеблями, настоящие веточки, и вместе с зелеными, из любви к краскам… и потом листьев… Словом, чудеснейшая земляника, собранная руками художницы со всевозможной изысканностью и кокетством, как когда делаешь вещь совершенно непривычную… И потом еще целая ветка красной смородины.
Я ехала так по улицам Севра и в конке, старательно поддерживая корзинку на воздухе, чтобы ветер обвевал ее и не поблекли бы от жары ягоды, из коих не было ни одной с пятном или царапиной. Розалия смеялась: «Если бы кто-нибудь из домашних увидел вас, барышня!»
Возможно ли!..
Но это он своей живописью заслуживает моего внимания, а не своей особой. Но его живопись заслуживает всевозможного внимания!.. Так, значит, это его картина будет есть землянику?..
1 июля
Опять этот ужасный Севр!
Но я возвращаюсь рано – к пяти часам. Картина почти кончена. Но смертельная тоска мучит меня; ничто не идет у меня на лад.
До сих пор после дней самой ужасной тоски всегда находилось что-нибудь, вновь призывавшее меня к жизни. О, Господи, зачем Ты допускаешь меня рассуждать!
В минуты горя или радости – первая мысль моя обращена к Богу.
3 июля
Сегодня в семь часов утра я была у Потека. Он осмотрел меня довольно небрежно и послал в Eaux-Bonnes. Посмотрим еще. Но я прочла письмо, которое он посылал своему товарищу на водах; я его преспокойно распечатала. Он пишет, что верхушка правого легкого попорчена и что я самая безалаберная и беспечная больная в мире.
Потом, так как еще не было восьми часов, я отправляюсь к маленькому доктору в улицу Лешинье. Он показался мне серьезным малым, потому что мое состояние вызывает в нем заметное неприятное удивление и он очень настаивает, чтобы я пошла к царю науки – какому-то там Бушару Транше. Он говорит, что теперь это осложнение моей хронической болезни… Вообще, он во что бы то ни стало хочет тащить меня к этому Транше.
Пойду.
Чахотка! Скажите на милость!
Это, да и все остальное, да и вообще все… Не Бог весть как забавно!
И ничего хорошего, ничего, что могло бы меня утешить хоть немножко.
4 июля
Она здесь, в мастерской, моя севрская картина. Можно назвать ее «Апрель». Это безразлично; только этот «Апрель» кажется мне из рук вон плохим!
Фон ярко-зеленый и в то же время какой-то грязноватый.
Женщина – совсем не то, что мне хотелось сделать, совсем не то.
Я ее намазала так себе, но это вовсе не то чувство, которое я хотела выразить, вовсе не то… Три месяца канули в воду!
5 июля
У меня хорошенькое платье из серой холстинки, с корсажем, вроде рабочей блузы, без всякого украшения, кроме кружева на воротнике и рукавах; идеальная шляпа с большим кокетливым бантом в старинном вкусе. Все это так идет ко мне, что я почувствовала большое желание отправиться в улицу Лежандр… Только очень уж часто… Ну, так что же? Нужно ходить попросту, по-товарищески, в качестве его почитательницы, он ведь так болен.
Итак, мы отправляемся туда. Мать его в восторге, похлопывает меня по плечу, хвалит мои волосы… Великому художнику немного лучше. Он ест перед нами свой бульон и яйцо; мать его суетится, сама приносит то или другое, чтобы не входил слуга; она сама прислуживает ему. Он находит все это в порядке вещей и принимает наши услуги вполне хладнокровно, ничему не удивляясь. Говоря о том, как он выглядит, кто-то сказал, что он должен был бы подстричь волосы, а мама рассказывает, что она стригла волосы своему сыну, когда он был еще мальчиком, и своему отцу во время его болезни.
– Хотите, я вас подстригу, у меня рука легкая!
Все смеются, но он тотчас же соглашается; мать его приносит накидку, мама приступает к делу и выходит из него с честью. Я тоже хотела стригнуть один разок, но это чудовище говорит, что я выкину какую-нибудь глупость, и я льщу ему, сравнивая его с Самсоном, остриженным Далилой! Это моя следующая картина.
Он усмехается.
Брат его предлагает также подрезать бороду и приступает к этому с благоговением, медленно, с несколько дрожащими руками.
Это меняет его лицо, и он не кажется больше таким больным и изменившимся; мать издает радостные крики:
– Я опять вижу его, моего мальчика, мое милое дитя!
Что за славная женщина! Такая простая, добрая, преисполненная обожания к своему великому сыну… Такие славные люди.
6 июля
Я боюсь наскучить Бастьен-Лепажу. Я не чувствую, чтобы ему приятно было меня видеть, хотя он и любезен со мной.
Что-то, чего и сама не знаешь, какие-то мимолетные мерцания делают то, что ты завоевываешь себе доверие человека. Мне же этого не хватает. Он очень избалован; этот человек чересчур привык к людям, которые лежат у его ног. Как же тогда? Я и сама привыкла к тому, чтобы мою дружбу высоко ценили. А он такой крупный художник! Существо, стоящее неизмеримо выше других! Он знает, что я понимаю и боготворю его живопись. Я отправилась искать борцов в сопровождении Розалии. Кажется, борцы работают не под открытым небом, а в бараках, и специально по вечерам. Это меняет все, ибо я не хочу рисовать при вечернем освещении, уличные типы меня не занимают.
14 июля
Я начала курс лечения, которое должно восстановить меня. И я вполне спокойна. И даже живопись пошла лучше…
Общественная скамья на Boulevard des Botignolles или даже на avenue Wagram – всматривались ли вы в нее, с окружающим ее пейзажем и проходящими мимо людьми? Чего только не заключает в себе эта скамья – какого романа, какой драмы!.. Неудачник, одной рукой облокотившийся о спинку скамьи, другую опустивший на колени, со взглядом, бесцельно скользящим по поверхности предметов. Женщина и ребенок у нее на коленях. На первом плане женщина из простонародья. Приказчик из бакалейной лавки, присевший, чтобы прочесть грошовую газетку. Задремавший рабочий. Философ или разочарованный, задумчиво курящий папиросу… Быть может, я вижу слишком уж много, однако всмотритесь хорошенько около пяти или шести часов вечера…
Вот оно! Вот оно! Мне кажется, что я нашла; да, да. Быть может, я и не успею выполнить этой картины, но ум мой успокоился. И я готова прыгать на одной ножке.
Бывают, право, такие различные минуты; иногда я решительно ничего не вижу в жизни, а потом с новой силой вспыхивает любовь ко всему окружающему.
Это как бы нахлынувшая волна…
А между тем не произошло ничего, чему можно было бы радоваться. А! Ну, так вот же; буду находить веселые прекрасные стороны в самой моей смерти; я была создана для счастья, но…
15 июля
Итак, я возвращаюсь к своему прежнему проекту, который захватывает меня целиком каждый раз, когда я вижу весь этот люд на общественных скамьях. Всегда надо лучше брать для картины такие сцены или фигуры, которые не двигаются. Я, само собой разумеется, не ратую против воспроизведения движения в искусстве, но только сцены бурные не дают иллюзии и истинного наслаждения для публики утонченной. Эти руки, поднятые для удара и не двигающиеся, эти ноги, бегущие и остающиеся на том же месте, всегда производят какое-то тягостное впечатление, хотя это, может быть, и безотчетно. Бывают, однако, положения, очень оживленные, в которых можно предположить неподвижность на несколько секунд – этого уже достаточно… И в таких случаях всегда лучше брать момент, следующий за сильным движением, чем предшествующий ему. Так, например, «Жанна д’Арк» Бастьен-Лепажа: она услышала голоса, она бросилась куда-то вперед, опрокинув свою прялку, и вдруг остановилась, прислонясь спиной к дереву… Но взгляните на сцены, где поднятые руки как бы должны действовать, – это может быть очень сильно, но только никогда не даст полного удовлетворения.
Или вот, например, «Раздача знамен императором в Версале». Все бросаются, руки у всех подняты – однако это очень хорошо, потому что эти руки ожидали; и это вас захватывает, трогает, волнение этих людей сообщается и вам, вы разделяете их нетерпение. Стремительность и движение тут поразительны, и именно потому, что можно представить себе момент остановки, когда все они замерли, момент, когда вы можете спокойно созерцать эту сцену, как нечто действительно существующее, а не простую картину.
Но ничто не может сравниться с величием сюжетов, изображающих покой, – одинаково как в живописи, так и в скульптуре.
Человек посредственного дарования может еще сделать что-нибудь с драматическим сюжетом, но он ничего не поделает с сюжетом, изображающим покой.
Посмотрите на «Моисея» Микеланджело. Он неподвижен, но он живет. Его «Мыслитель» не двигается, не говорит, но только потому, что еще не хочет говорить; это совершенно живой человек, погрузившийся в свои мысли.
«Pas-meche» Бастьен-Лепажа смотрит на вас и слушает, и того и гляди – заговорит, до того он живой. В его «Сенокосе» человек, лежащий на спине, с лицом, закрытым шляпой, спит, но он живет. Сидящая и мечтающая женщина не движется, и все-таки чувствуешь, что она живая. Только сюжет, изображающий покой, может дать полное удовлетворение; он дает время вникнуть, углубиться в него, прозреть в нем его жизнь.
Невежды воображают, что это легче сделать.
Скажите на милость!
«Я когда-нибудь умру от негодования перед бесконечностью человеческой глупости», – как говорит Флобер. Ведь вот уже тридцать лет, что в России пишут дивные вещи. Читая «Войну и мир» Толстого, я была до того поражена, что воскликнула: да ведь это второй Золя!
Теперь, правда, они посвящают наконец нашему Толстому этюд в «Revue des deux mondesd», и мое русское сердце прыгает от радости. Этот этюд принадлежит Вогюэ, который был секретарем при русском посольстве и, изучив литературу и нравы, посвятил уже несколько этюдов моей великой прекрасной родине. А ты, негодная! Ты живешь во Франции и предпочитаешь быть иностранкой! Если ты так любишь свою прекрасную, великую, чудесную Россию, поезжай туда и работай там. Но я работаю также во славу моей родины… если у меня со временем разовьется такой талант, как у Толстого.
Но если бы у меня не было моей живописи, я бы поехала! Честное слово, я бы поехала. Но моя работа поглощает все мои способности, и все остальное является только интермедией, только забавой.
21 июля
Я гуляла более четырех часов, отыскивая уголок, который мог бы послужить фоном для моей картины. Это улица или даже один из внешних бульваров; надо еще выбрать… Очевидно, что общественная скамья внешнего бульвара носит совершенно другой характер, чем скамья на Елисейских Полях, где садятся только консьержи, грумы, кормилицы с детьми да еще какие-нибудь хлыщи. Скамья внешнего бульвара представляет больше материала для изучения: там больше души, больше драматизма!.. И какая поэзия в одном этом неудачнике, присевшем на краю скамейки: в нем действительно видишь человека… Это достойно Шекспира…
И вот меня уже охватила безумная тревога перед этим открытым мною сокровищем: если оно ускользнет от меня, если я не смогу этого выполнить, если мне не хватит времени, если… Послушайте, если у меня нет таланта, небо просто издевается надо мной, потому что оно заставляет меня переживать все муки гения!..
1 августа
Когда я буду угощать вас чувствительными фразами, не поддавайтесь слишком большому впечатлению. Из двух моих я, стремящихся к жизни, одно говорит другому: «А ну-ка, испытай что-нибудь!..» И это другое я, готовое расчувствоваться, всегда подавлено первым я, я – зрителем, вечно стоящим на своем наблюдательном посту и стерегущим другого.
Неужели это всегда так будет?.. Как же любовь-то? Да знаете, мне кажется, что это невозможно, когда вечно видишь человеческую природу под микроскопом. Другие – настоящие счастливцы; они видят все как раз настолько, насколько нужно.
А я… если угодно, я даже не живописец, не скульптор, не музыкант, не женщина, не подруга: все обращается для меня в предмет наблюдения, размышления, анализа. Взгляд, образ, звук, радость, горе – все это немедленно исследуется, взвешивается, проверяется, классифицируется, отмечается, и когда я сказала или записала – я удовлетворена.
9 августа
Моя картина уже набросана красками. Но часто силы оставляют меня. Я должна бросать кисти и лежа отдыхать; а когда я поднимаюсь, голова у меня так кружится, что на несколько секунд я ровно ничего не вижу…
И до такой степени, что в пять часов я должна была бросить мой холст и отправиться в лес, погулять в его пустынных аллеях.
11 августа
Я вышла из дому в пять часов утра, чтобы набросать эскиз, но на улицах уже был народ, и я с бешенством должна была вернуться. Их собралось до двадцати человек вокруг кареты!
12 августа
Вообще, друзья мои, все это означает, что я больна. Я сдерживаюсь и борюсь; но сегодня утром, мне казалось, я была на один миг от того, чтобы сложить руки, лечь и ни за что больше не приниматься… Но тут же почувствовала, что силы понемногу возвращаются, и пошла отыскивать аксессуары для своей картины. Моя слабость и мои постоянные занятия как бы удаляют меня от реального мира; но никогда еще я не понимала его с такой ясностью, с какой-то особенной отчетливостью, невозможной при обыкновенных условиях.
Все представляется так подробно, все, кажется, так прозрачно, что сердце почему-то сжимается грустью…
И я, круглая невежда и, в сущности, слишком еще молодая, разбираю нескладные фразы величайших писателей и глупые измышления знаменитейших поэтов… А что касается газет и журналов – я просто не могу прочесть трех строк, не возмущаясь до глубины души. И не только из-за этого кухонного языка, но из-за идей их… ни слова правды! Все условлено или оплачено!
Нигде – ни доброжелательства, ни искренности!
А когда видишь всеми уважаемых, почтенных людей, которые, в интересах своей партии, лгут напропалую или говорят вздор, которому сами не могут верить! Глаза бы не глядели!..
Мы возвратились к обеду от Бастьена, который все еще лежит, но лицо его спокойно, и глаза прояснились. У него серые глаза, чарующая красота которых недоступна, разумеется, для обыкновенных людей. Понимаете ли вы меня? Глаза, видевшие Жанну д’Арк. Мы с ним говорили о ней. Он жалуется на то, что не был понят… А я говорю ему, что он был понят всеми, кто только что-нибудь из себя представляет, и что о его Жанне д’Арк думают такие вещи, которые невозможно высказать ему в глаза.
16 августа
Сегодня первый день, что я по-настоящему работала на извозчике, и я так разбита этой работой, что должна была взять душ и т. п. Но как славно себя чувствуешь! Архитектор устанавливал сегодня мой холст. Брату получше. Он был сегодня в Булонском лесу. Его спустили и подняли на лестницу в кресле…
Итак, он, значит, ускользает от нас, если ему лучше… Невозможно же, в самом деле, бывать у человека, который уже выходит. Не следует, однако, преувеличивать. Он был в лесу, снесенный в кресле, а потом должен был лечь… Это еще не значит, что он выходит.
19 августа
Я до того измучена, что едва в силах надеть холстинковое платье без корсета, чтобы выйти и пойти к Бастьену. Его мать встречает нас упреками. Три дня! Целые три дня не приходили! Это ужас что такое. А при входе в комнату Эмиль повторяет: «Как? Значит, конец нашей дружбе!»
– Что же это? Вы меня совсем покинули! – говорит он сам. – Это нехорошо с вашей стороны!
Мое тщеславие требовало бы, чтобы я повторила здесь все его любезные упреки и уверения, что ни в каком, ни в каком случае ему не может показаться, что мы приходим слишком часто.
22 августа
Все кончено. Он приговорен. Боде сказал это маме.
Боде его большой друг; он ему написал большое письмо из Алжира. То, которое я читала.
Так кончено! Возможно ли?
Но я еще не могу отдать себе отчета, какое впечатление производит на меня это ужасное известие. Это совсем новое чувство: видеть человека, приговоренного к смерти.
26 августа
Все смутные мысли, кружившиеся и наполнявшие мой мозг, остановились и сосредоточились на этой черной точке. Ведь это в первый раз представлялся случай… это нечто совсем новое: человек… человек, великий художник и… как вы уже знаете…
Приговоренный к смерти…
И это серьезно.
И я заранее буду думать каждый день, что он умирает? Это ужасно.
Я как-то вся подобралась, втянув голову между плечами, и жду удара.
Не было ли так и всю мою жизнь? Когда должен прийти удар, я жду его стойко и твердо. Потом уже я обсуждаю его, и возмущаюсь, и начинаю живо ощущать его, когда все уже кончено.
Не могу двух слов связать вместе… Но не думайте, что я в отчаянии; я только пришиблена и невольно спрашиваю себя: что же это такое будет?
30 августа Дело пошло не на шутку. Я ничего не делаю… С тех пор как я кончила мою севрскую картину, я ничего не сделала, кроме каких-то двух жалких экранов.
Я сплю целыми часами средь бела дня… Я, правда, хорошо сделала свой маленький этюд, да ведь это что ж, курам на смех!
А если бы я сказала все!… Такое ужасное опасение…
На дворе сентябрь, скверное время уже недалеко.
Малейшая простуда может свалить меня с ног на два месяца; потом еще выздоровление… А картина-то!.. Всем пожертвовать, и в результате…
Да, это боязнь заболеть; в том состоянии, в котором я теперь нахожусь, какой-нибудь плеврит в шесть недель покончит со мной.
Так вот как я кончу…
Я буду работать над картиной… несмотря ни на что… как бы холодно ни было… Все равно, не за работой, так на какой-нибудь прогулке: те, которые не занимаются живописью, тоже ведь умирают…
Так вот он, конец всех этих треволнений! Столько стремлений, столько желаний, столько проектов, столько… чтобы умереть в 24 года на пороге всего!..
И ведь я предвидела это.
2 сентября
Я делаю рисунок для «Фигаро», но с часовым перерывом. Ужасная лихорадка. Я больше не могу. Я еще никогда не была так больна; но так как я никому не говорю об этом, я выхожу и работаю. К чему говорить? Я больна. И того довольно! Разве это поможет, если я буду болтать об этом! Но выходить?.. Эта такая болезнь, которая позволяет выходить в минуты, когда чувствуешь себя несколько лучше.
11 сентября
Я начала во вторник этюд голенького ребенка; это пригодится для какого-нибудь сюжета, если только удастся.
Вчера приходил архитектор. Брат его спрашивает, почему мы так давно не были. Мы отправляемся в Булонский лес уже довольно поздно, к тому времени, когда он делает свою обычную прогулку. Я прихожу, усаживаюсь на его обычное место. Можно себе представить их удивление, когда они нас там находят. Он протягивает мне обе руки, а на обратном пути он едет в нашей карете, а тетя – с его матерью.
13 сентября
Мы друзья, он нас любит, он меня уважает, он меня любит, я интересую его. Он сказал вчера, что напрасно я мучусь, что я должна была бы… считать себя очень счастливой… Ни одна женщина, говорит он, не имела еще такого успеха, да еще в такое короткое время работы…
– Вас знают. Так и говорят: m-lle Башкирцева, – и все знают вас. Настоящий успех! Да ведь вот – этого мало: подавай вам два Салона в год.
Достигнуть, достигнуть как можно скорее… Впрочем, это естественно – при честолюбии. Я сам прошел через это… – И т. п. А сегодня он говорит:
– Меня видят с вами в одном экипаже! Хорошо еще, что я болен, а то сказали бы, что я делаю ваши картины.
– Да и так уже говорили! – прибавил архитектор.
– Да не в печати, по крайней мере…
– Этого еще недоставало!
17 сентября
Редкий день проходит без того, чтобы я не мучилась воспоминанием о моем отце. Я должна была поехать и ухаживать за ним до самого конца. Он ничего не сказал, но это потому, что он – вроде меня, но он должен был жестоко чувствовать мое отсутствие. Как могла я!.. Особенно с тех пор, как Бастьен-Лепаж тут и мы так часто бываем у него, балуя и ублажая его на все лады… Как это было дурно… Мама – это совсем другое дело, она не жила с ним очень долго и сошлась опять только каких-нибудь пять лет тому назад; но я – дочь!
И Бог накажет меня за это… А между тем, Господи! Если поглубже всмотреться в дело…
И тем не менее… Но мне некогда как следует обсудить этот вопрос. Но только Бастьен-Лепаж вызывает во мне угрызение… У меня есть совесть, и эта совесть упрекает меня за мой поступок.
18 сентября
Я видела Жулиана. Мне его не хватало. Но мы уже так давно не видались, что нам почти не о чем говорить. Он находит, что я имею вид человека, достигшего своего, успокоенного, живущего только для искусства, остальное не стоит внимания.
У Бастьен-Лепажа собралась вся его семья: мать и дочери. Они останутся до самого конца; но они, по-видимому, самые обыкновенные болтушки.
Это чудовище Бастьен-Лепаж заботится обо мне – он хочет, чтобы я в один месяц вылечилась от моего кашля; он застегивает мне мою кофточку и беспокоится, хорошо ли я укутана.
Один раз, когда он лег и все собравшиеся около него сели, по обыкновению, слева от него, а я села справа, он повернулся ко всем спиной, устроился поудобнее и принялся тихонько говорить со мной об искусстве.
Да, конечно, он ко мне расположен, и даже есть некоторый оттенок эгоизма в его расположении. Когда я ему сказала, что с завтрашнего дня примусь за работу, он ответил:
– О, нет еще! Не покидайте меня!
19 сентября
Ему хуже. Мы не знали, что делать – уйти или остаться – перед этим человеком, кричавшим от боли, потом улыбавшимся нам. Уйти – значит показать ему, что он очень плох, а остаться, как на каком-нибудь зрелище, в то время, как он корчился от боли…
Я ужасна, я говорю об этом так неделикатно, мне кажется, что можно было бы найти выражения более… т. е. менее… Бедный!
1 октября
Такая усталость и такая тоска!
К чему писать?
Бастьен-Лепажу со дня на день – хуже.
Я не могу работать.
Картина моя не будет кончена…
Вот, вот, вот…
Он уходит от нас и очень страдает. Когда находишься там, как будто отрываешься от земли: он парит уже где-то выше нас. Бывают дни, когда и я чувствую себя так. Видишь людей, они говорят с тобой, отвечаешь им, но уже не чувствуешь себя на земле – какое-то спокойное, уже не мучительное равнодушие, как будто грезы в опиуме… Так он умирает. Я иду туда только по привычке. Это только тень его. Я тоже наполовину только тень. К чему же? Он не чувствует особенно моего присутствия; я не нужна ему; я не обладаю даром оживлять глаза его. Ему приятно видеть меня – вот и все. Да, он умирает, и мне это все равно. Точно что-то ускользает мало-помалу.
Впрочем, все кончено. Все кончено. В 1885 году меня похоронят.
9 октября
Вы видите, я ничего не делаю. У меня все время лихорадка. Оба мои доктора ничего не стоят. Я позвала Потена и опять отдалась в его лапы. Он меня вылечил один раз. Он добр, внимателен, честен. Но кажется, что моя худоба и все остальное зависит не от груди; это совершенно случайная, схваченная мною штука, о которой я не говорила, надеясь, что и так пройдет, и заботясь только о легких, которые не в худшем состоянии, чем прежде. Но к чему докучать вам всеми моими недугами! Дело в том, что я не могу ничего делать!.. Ничего! Вчера я начала одеваться, чтобы поехать в лес, и два раза готова была отказаться от этого – такая слабость. Но все-таки я туда добралась. M-lle Бастьен-Лепаж уехала в Дамвиллерс, на виноградный сбор, но хотя около него и остались другие дамы, он все-таки рад нам.
12 октября
Я уже не могла выйти.
Я совсем больна, хотя и не лежу.
О, Боже мой, Боже мой! А моя картина, моя картина, моя картина! Жулиан пришел навестить меня. Так, значит, уже говорят, что я больна?
Увы! Как скрыть это? И как пойти к Бастьен-Лепажу?
Винсент Ван Гог. Натюрморт. Ваза с ирисами. 1890
16 октября
У меня ежедневно ужасные истощающие лихорадки. Я провожу целые дни в зале, переходя с кресла на диван.
Дина читает мне романы.
Я более совсем не могу выходить, но бедный Бастьен-Лепаж выходит. Его приносят сюда, он устраивается в кресле, вытянув ноги на подушках. Я – совсем подле, в другом кресле, и так время проходит до шести часов. Я укутана массой кружев, плюша. Все это бело, только разных оттенков. У Бастьен-Лепажа глаза расширяются от удовольствия.
– О, если бы я мог писать!
А я!
Кончена картина этого года.
18 октября
Бастьен-Лепаж приходит почти ежедневно. Мать его возвратилась, и они пришли все втроем.
Потен приходил вчера. Мне не лучше.
19 октября
За обедом у нас были Тони и Жулиан.
20 октября
Несмотря на прекрасную погоду, Бастьен-Лепаж вместо того, чтобы отправиться в лес, приходит ко мне. Он почти не может ходить: брат поддерживает его под обе руки, почти несет его.
Один раз в кресле ему сделалось дурно… А разные бездельники преспокойно здравствуют… Эмиль – превосходный брат. Он сносит и втаскивает Жюля на своих плечах в их третий этаж. Дина оказывает мне такую же преданность. Вот уже два дня, как постель моя в большой гостиной, но она разгорожена ширмами, табуретами, роялем, так что совсем незаметно… Мне слишком трудно подниматься по лестнице.
* * *
На этом кончается дневник.
Мария Башкирцева умерла одиннадцать дней спустя,
31 октября 1884 года.
* * *
21 октября
Она пыталась лепить, но не смогла – задыхалась. Лежать ей тоже было трудно из-за одышки, и она сидела в кресле. Почти не разговаривала, только слезы безостановочно катились по ее щекам.
25 октября
Сокрушалась из-за неоконченных произведений. Ночью бредила о них.
26 октября
Просила книги Мопассана и д’Орвиля.
За два-три дня до смерти к ней вдруг вернулся слабый голос, и она тихонько пропела свою лебединую песнь. Потом начала терять сознание и впала в агонию.
* * *
Жюль Бастьен-Лепаж, узнав о смерти Марии, долго плакал. Он не мог проводить ее в последний путь и почтил ее память картиной «Похороны молодой художницы» – из своего окна он видел похоронную процессию. Он умер через 5 недель после Марии Башкирцевой, 10 декабря 1884 года.
Мария Башкирцева. Портрет мадам X. 1884
Мария Башкирцева. Александрина Панченко. 1881
Мария Башкирцева. Встреча. 1884
Мария Башкирцева. Дождевой зонтик. 1883
Мария Башкирцева. Над книгой. 1882
Мария Башкирцева. В студии. Мастерская Жулиана. 1881
Примечания
1
Английский аристократ герцог Гамильтон энд Брэнд.
(обратно)2
Любовница герцога Гамильтона итальянка по имени Джойя.
(обратно)3
Намек на какую-то сплетню, пущенную в Ницце относительно семейства Башкирцевых. (Прим. «Сев. Вестника».)
(обратно)4
Граф Пьетро Антонелли.
(обратно)5
Граф Виченцо Брускетти.
(обратно)6
Я говорю amor вместо dolor, потому что это изречение можно применить и к тому, и к другому.
(обратно)7
Графиня Музэй.
(обратно)8
Под современными я подразумеваю здесь Рафаэля, Тициана и других великих мастеров.
(обратно)9
Мак-Магона.
(обратно)10
Знаменитый парижский дамский портной, магазин которого, особенно во времена Второй империи, пользовался всемирной известностью.
(обратно)11
Депутат Поль де Кассаньяк.
(обратно)12
Маркиз Мультедо.
(обратно)13
Поль де Кассаньяк.
(обратно)14
Князь Николай Алексеевич Орлов.
(обратно)15
Николай Андрианович Аничков, чрезвычайный посланник при Персидском дворе.
(обратно)16
Граф Александр Лардерель.
(обратно)17
Поль де Кассаньяк (раньше фигурировал под именем NN).
(обратно)18
Князь Казимир Сутцко.
(обратно)19
Ученица школы Жулиана Амелия Бори-Сорель.
(обратно)20
Князь Василий Кочубей.
(обратно)21
В это время Башкирцева страдала глухотой, что она всячески скрывала от посторонних. – Прим. 1893 года.
(обратно)22
Здесь разумеется Гюи де Мопассан.
(обратно)



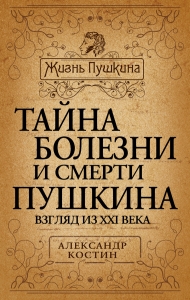

Комментарии к книге «Мария Башкирцева. Дневник», Мария Константиновна Башкирцева
Всего 0 комментариев