Николай Кузьмин «Пленник моря. Встречи с Айвазовским»
«Природа вечно стремится к обновлению, в то же время неизменна, как вечность. В этом отношении искусство подобно природе. Пусть каждый век приносит новые нравы, новые одежды, новые мысли, но гений неизменен, как сама красота».
«Пусть молодые руки, полные жизни и сил, примут с почтением священный святой светоч из дрожащих рук старцев; пусть они защищают его от порывов ветра, пусть чтут эту божественную искру, которая пролетит сквозь будущие века, как она пролетела век минувший. К работе! К работе! Жизнь коротка!»
Альфред де Мюссе. Драма «Андреа дель Сарто».«Я никогда не утомлюсь, пока не добьюсь своей цели написать картину, сюжет которой возник и носится передо мною в воображении. Бог благословит меня быть бодрым и преданным своему делу… Если позволят силы, здоровье, я буду бесконечно трудиться и искать новых и новых вдохновенных сюжетов, чтобы достичь того, чего желаю создать, 82 года заставляют меня спешить».
И. Айвазовский (из частного письма 1899 года)© ООО «ТД Алгоритм», 2017
Глава I
Рассказы и воспоминания Айвазовского. Восточное происхождение художника. Любовь к родине и страсть к путешествиям. А. С. Суворин[1]. Интересное семейное предание о спасении русскими на войне младенца – отца Айвазовского. Фамилия Айвазовских. Детство художника. Проблески гения. Приезд А. И. Казначеева[2]. Н. Ф. Нарышкина и кн. П. М. Волконский[3]. Белые ночи. В доме графа А. А. Суворова[4] -Рымникского князя Италийского. Посещения В. А. Жуковского и «дедушки» И. А. Крылова. Воспоминания о творце «Помпеи» К. П. Брюллове[5]. В кружке «братии». М. И. Глинка[6], Айвазовский и «Руслан и Людмила». Н. В. Кукольник.[7]
Широкая популярность Ивана Константиновича Айвазовского и недавняя кончина великого по своему славному историческому прошлому и знаменитого художника, приковывающая к себе в настоящее время внимание и сочувствие общества, – таковы обстоятельства, побудившие нас предложить читателям некоторые воспоминания из жизни покойного художника, наиболее любимые им и ценные по своему важному значению. Нашу задачу составляет лишь воспроизведение переданных им частью в переписке с нами, частью в рассказах и словесных воспоминаниях при встречах с нами в Крыму и Петербурге и записанных нами рассказов покойного художника о своих славных друзьях и современниках, с которыми ему приходилось сталкиваться, и некоторых важных по своему историческому интересу событиях жизни, о которых на склоне лет маститый старец с любовью и живостью часто имел обыкновение вспоминать в своих увлекательных беседах и письмах.
Имея в виду со временем воссоздать для русской публики образ незабвенного по значению его для России художника, мы не будем вдаваться теперь во всестороннюю подробную оценку почтенной его деятельности и заслуг: подведение конечных итогов – дело истории и будущих биографов проф. И. К. Айвазовского. (Большинство биографов Айвазовского ограничивались обыкновенно почти одними выдержками и извлечениями из академического формулярного списка его из издания Ф. Булгакова «Наши художники» и каталогов главнейших его картин.)
Личное знакомство с нашим знаменитым художником дало нам возможность составить предлагаемые воспоминания по собственным устным рассказам самого И. К. Айвазовского и по его письмам. При составлении их, для проверки некоторых важных исторических фактов и событий его жизни, не были обойдены нами, само собой разумеется, и печатные материалы, рассеянные в наших статьях за прежние годы.
«Портрет И. К. Айвазовского». Художник Алексей Васильевич Тыранов. 1841 г.
Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) – русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств, почетный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте
Жизнь Айвазовского представляется нам настоящей волшебной сказкой, богатой событиями, почти неизвестными многим, другими забытыми, и прекрасной, как чудный, пленительный сказочный сон. Его гений – это та могущественная, волшебная фея, которая чудесно сплетала узоры его жизни, располагая их как можно лучше, разумнее и счастливее и вдохновляя его, вливала в него вместе с любимой им южной природой морей и силу, и бодрость, и вечно молодую, кипящую энергию. Как известно, мать нашего поэта В. А. Жуковского была пленная турчанка, принявшая потом христианство, а другой наш знаменитый поэт – А. С. Пушкин, о предках которого по случаю 100-летнего юбилея его еще так недавно вспоминали в обширных статьях, вычисляя всю его родословную, был родным правнуком африканца – арапа Петра Великого Ибрагима, привезенного в Константинополь, а оттуда в Париж. Сам поэт даже гордился своим происхождением, нисколько не скрывая его.
И в жилах Айвазовского текла турецкая кровь, хотя его принято было у нас почему-то считать до сих пор кровным армянином, вероятно, вследствие постоянных симпатий его к несчастным армянам, усилившихся после анатолийской и константинопольской резни, насилий и грабежей, приводивших всех в ужас, достигших своего апогея, заставлявших его негласно широкою рукой благотворить угнетаемым и громко возмущаться бездействием Европы, не желавшей вмешиваться в эту резню. Со свойственным ему всегдашним увлечением и пылом Иван Константинович находил, что «Новое Время» тоже довольно холодно и индифферентно относится ко всем этим ужасам и, по его словам, в ту пору это служило предметом разногласий и оживленных споров между ним и Алексеем Сергеевичем Сувориным, с которым он часто встречался в Феодосии и Петербурге.
В Суворине он признавал необыкновенную даровитость и много раз говорил о том влиянии, какое приобрела его газета в административных сферах благодаря его таланту и вынужденному порой оппортунизму. Здесь мы встречаемся с редким примером гениального человека, отмеченным еще Ф. М. Достоевским, умением совмещать в своей душе любовь не только к родине, но и к чужим, близким его сердцу, предметам, которые становятся предметом его дум и забот.
Замечательно, что Иван Константинович не только обладал способностью горячо любить людей, заменивших ему родных и способствовавших выбиться на дорогу но вообще привязывался к людям и месту; хотя провел всю жизнь в странствиях, но и к своей второй родине, и к родному городу он чувствовал страсть не меньшую, чем к искусству. Среди русских по происхождению даже художников трудно было бы отыскать подходящий пример любви и самоотверженной готовности прийти на помощь нуждающимся и работать на благо России и своего родного города, какой проявлял в течение бесконечно долгого ряда лет профессор И. К. Айвазовский. Но кругозор его наблюдений не ограничивался одним городом или местностью.
В данном случае нашего художника, объездившего весь свет и постоянно путешествовавшего, вполне правильно можно сравнить с перелетной птицей, ищущей себе приволья то в одной, то в другой стороне. Всю жизнь провести в путешествиях, не покидая до смерти маленькой Феодосии, – не правда ли, редкое явление! Сень густо разросшихся лавров и кипарисов в родной стране на берегу Черного моря, приютившая на вечные времена художника, при жизни его, как мы знаем, часто служила лишь местом кратковременного отдыха. Но он не находил здесь для себя праздного покоя и, как птица могучим взмахом своих крыльев, как орел, гордый и недосягаемый в своем полете, подымался с насиженного места и парил в неведомом чуждом пространстве.
О своем происхождении сам И. К. Айвазовский вспоминал однажды, в кругу своей семьи, следующее интересное и вполне, стало быть, достоверное предание. Приведенный здесь рассказ первоначально записан с его слов и хранится в семейных архивах художника.
«Я родился в городе Феодосии в 1817 году, но настоящая родина моих близких предков, моего отца была далеко не здесь, не в России. Кто бы мог подумать, что война, этот бич всеистребляющий, послужила к тому, что жизнь моя сохранилась и что я увидел свет и родился именно на берегу любимого мною Черного моря. А между тем это было так. В 1770 году русская армия, предводительствуемая Румянцевым, осадила Бендеры. Крепость была взята, и русские солдаты, раздраженные упорным сопротивлением и гибелью товарищей, рассеялись по городу и, внимая только чувству мщения, не щадили ни пола, ни возраста.
В числе жертв их находился и секретарь бендерского паши. Пораженный смертельно одним русским гренадером, он истекал кровью, сжимая в руках младенца, которому готовилась такая же участь. Уже русский штык был занесен над малолетним турком, когда один армянин удержал карающую руку возгласом: «Остановись! Это сын мой! Он христианин!» Благородная ложь послужила во спасенье, и ребенок был пощажен. Ребенок этот был отец мой. Добрый армянин не покончил этим своего благодеяния, он сделался вторым отцом мусульманского сироты, окрестив его под именем Константина, и дал ему фамилию Гайвазовский, от слова „гайзов“, что на турецком языке означает „секретарь“.
Прожив долгое время со своим благодетелем в Галиции, Константин Айвазовский поселился, наконец, в Феодосии, в которой он женился на молодой красавице-южанке, тоже армянке, и занялся первое время удачно торговыми операциями».
Айвазовские еще в прошлом столетии переселились из Турции в Галицию, где поныне близ гор. Львова сохранились их родичи, землевладельцы Айвазовские, переменившие, так же как и они, свою фамилию.
Детство художника протекало в маленькой, убогой по своей обстановке и бедности квартирке. Отец Айвазовского был разорившимся армянским негоциантом, поддерживавшим семейство хождением по тяжебным делам и незначительной мелкой торговлей, так как с переселением из Галиции и Молдавии в Крым он лишился здесь своего состояния вследствие чумы, свирепствовавшей в городе Феодосии в 1812 году. Но в то время, как с раннего детства И. К. Айвазовский привыкал к широкому, безбрежному раздолью южного моря, а слух его – к немолчному шуму и плеску пенящихся волн, «за много лет назад, из тихой сени рая сошла в наш мир» эта волшебная фея, которая стала напевать ему свои чудные песни. То был гений Ивана Константиновича, проявившийся с малых лет, по словам самого художника, ярко еще в пору раннего детства, когда он впервые почувствовал в себе искру художнического творчества. И вот явился он, этот редкий у нас на земле гость.
Он нес с собой неведомые чувства, Гармонию небес и преданность мечте, И был закон его – искусство для искусства, И был завет его – служенье красоте.Ребенком 10–12 лет наш будущий Ломоносов XIX века, по блеску достигнутых им трудом и талантом успехов, Айвазовский самоучкой играл, и довольно недурно, по отзыву А. И. Казначеева, на скрипке и усердно занимался рисованием. Неуверенной детской рукой начал он карандашом первые работы и нарисовал в 1829 году, 12-летним ребенком, ряд морских картинок, портретов военных героев Греции и сцен из восстания Греции, а также срисовывал виды турецких крепостей, прославленных подвигами русского оружия. Не довольствуясь этими рисунками, развешанными в квартире отца (отец его имел в ту пору еще обветшалый, полуразвалившийся домик на краю города Феодосии; я осматривал вместе с Иваном Константиновичем этот скромный дом вблизи старой Генуэзской слободки), он рисует на наружных стенах отцовского дома, и эти рисунки, изображающие военные типы, заставляют останавливаться толпами прохожих, простодушно дивившихся таланту мальчика-художника.
И местный современник А. С. Пушкина, в ту пору градоправитель Феодосии А. И. Казначеев, привлеченный игрою мальчика-художника на скрипке и его рисунками, приезжает сам посмотреть на него, как на чудо, призывает его к себе и вместе с учителем рисования, архитектором Кохом, принимает живое участие в судьбе будущей знаменитости.
Иван Константинович любил до конца жизни в длинных рассказах вспоминать А. И. Казначеева, говоря, что он «многим ему обязан и сохраняет о нем самое сердечное воспоминание».
Через 12 лет, по отъезде своем из родины, находясь за границей, в Италии, и движимый благородным порывом признательного сердца, он, как сам нам рассказывал, пишет на память для Казначеева картину, изображающую его первую встречу с А. И. на берегу моря, когда он получил от него привезенный с собою «лучший в жизни и памятный подарок – ящик водяных красок и целую стопу рисовальной бумаги».
Находясь в Петербурге, уже в Академии художеств, в которую вследствие просьбы знакомых А. И. Казначеева – Н. Ф. Нарышкиной и кн. П. М. Волконского, показавших его рисунки императору Николаю Павловичу (на них нарисованы были пером группа евреев, молящихся в синагоге, и морские виды, как говорил художник), – он был вытребован и зачислен в 1833 году, он ведет переписку со своим покровителем и заводит здесь новые знакомства, имевшие впоследствии на него большое влияние.
И. К. Айвазовский, с удовольствием останавливавшийся всегда на рассказах об этой эпохе, говорил нам, что особенно поразительное впечатление производили на него, после роскошного юга, в убогой нашей северной природе с ее бледным небосклоном – белые ночи.
В эти задумчивые, светлые, прозрачные летние ночи, воспетые Пушкиным, по словам Ивана Константиновича, ему нередко приходилось возвращаться из дома светлейшего гр. Александра Аркадьевича Суворова-Рымникского князя Италийского, у которого он проводил все воскресные и праздничные дни и который всегда относился к нему с самым радушным, теплым участием. С семейством сестры Суворова, Варвары Аркадьевны Башмаковой (рожденной княжны Италийской, графини Суворовой-Рымникской), хорошей знакомой семьи Таврического губернатора А. И. Казначеева, Айвазовский на лошадях прибыл, как рассказывал нам, из Симферополя в Петербург.
О назначении его стипендиатом в академию он был уведомлен частным образом письмом гр. Суворова в конце августа 1833 г. Знаменитый поэт наш Василий Андреевич Жуковский в 1835 г. посетил скромную квартирку нашего художника в академии и одним из первых по приезде его в Петербург горячо приветствовал его талант и утешал его, в то время как он с трепетом и волнением ждал решения своей участи вследствие известной истории наветов по поводу непослушания его царской воле и приказаниям профессора академии Таннера, завидовавшего успехам Айвазовского.
С жаром написанная картина его «Этюд воздуха над морем» появилась вопреки заданным летом 1835 г. учителем его работам из северной природы, которые он не пожелал выполнить, сказавшись больным, чем Таннер был несказанно раздосадован. (По повелению императора Николая I картина тогда скоро была снята с выставки. Распоряжение об этом передал приехавший от имени государя флигель-адъютант.)
А. Н. Оленин, желая содействовать успехам юного мариниста, сам подал ему, по словам Ивана Константиновича, мысль написать эту картину к осенней выставке. Картина вызвала вскоре в академических залах сенсацию, привлекала в ту пору уже толпы публики, и Айвазовский получил за нее впоследствии первую серебряную медаль, присужденную приговором общей конференции Академии художеств.
Добрый от природы и сострадательный В. А. Жуковский, долго беседуя с Айвазовским, убеждал его не унывать, не волноваться, не падать духом и по-прежнему ревностно заниматься живописью. Вскоре после «певца Светланы» и наш «дедушка-баснописец» Иван Андреевич Крылов приехал в академию и также пожелал видеть, как впоследствии А. С. Пушкин, юного художника-поэта.
«Этюд воздуха над морем». 1835 г. Одна из первых картин И. К. Айвазовского
Это было в том же 1835 году. Наш незабвенный баснописец, пленившийся появившейся на выставке творческой картиной ученика академии И. К. Айвазовского, высказал ему по этому поводу свой восторг и удивление перед яркими проблесками сказавшегося в ней таланта и принес первые слова утешения и одобрения, скоро донесшиеся до него и с высоты престола. При появлении «дедушки Крылова» ученики академии, товарищи Ивана Константиновича, вбежали шумной гурьбой к нему в комнату и передали желание Крылова увидеть его. Айвазовский, опечаленный, грустный, вышел, и маститый «дедушка», приподнявшись со своего места навстречу, ласково подозвав его к себе, завел с ним беседу.
– Поди, поди ко мне, милый, не бойся! Я видел картину твою – прелесть как она хороша. Морские волны запали мне в душу и принесли к тебе, славный мой, – произнес Крылов добродушным всегдашним своим голосом. Поцеловав молодого человека, своим замечательным, счастливым сходством так близко напоминавшим ему, как и всем, начиная с высокого покровителя его императора Николая I, великого Пушкина, – продолжал, обняв, утешать опечаленного художника:
– Что, братец, француз обижает? Э-эх, какой же он… Ну, Бог с ним! Не горюй!..
По словам художника, И. А. Крылов более часа провел в беседе с ним и, уезжая, уговаривал его не переставать с такой же любовью предаваться художественным занятиям и творчеству и так же любить природу.
Участие Жуковского и Крылова, встречавших не раз после того Айвазовского у Оленина и Брюллова, несколько облегчило тяжкие волнения и гнет, лежавшие на сердце его, а новый 1836 год рассеял его опасения на дальнейший гнев царя, успокоившийся благодаря ходатайству о нем благородного проф. А. И. Зауервейда.[8]
Передавая нам об этом, маститый художник с большим чувством восторга говорил, что он «никогда не забудет этого 1836 года». Знаменитый творец «Последнего дня Помпеи» Карл Павлович Брюллов, тогда один из первых профессоров академии, питавших к нему живейшее сочувствие, как и Зауервейд, приблизил его к себе и, чуждый зависти и напыщенности, ввел его в этом году в кружок «братии», славными корифеями, завсегдатаями которой были, по словам Ивана Константиновича, наш композитор М. И. Глинка, знаменитый исторический романист Н. В. Кукольник и его брат Платон, поэт В. А. Жуковский, «неистовый балагур» Я. Ф. Яненко[9] и другие.
Кукольник издавал в то время свою «Художественную газету» и скоро напечатал в ней статью, полную восторженных похвал И. К. Айвазовскому, которую закончил знаменательными словами: «Ни слово, ни музыка – одна кисть Айвазовского способна изобразить верно страсти, так сказать, морские. Произведения его поражают, бросаются в глаза своими эффектами. Его земля, небо, фигуры доказывают, чем он быть может и должен. Скоро не одни глаза разбегутся, но призадумается и душа внутри зрителя. Дай нам, Господи, многие лета, да узрим исполнение наших надежд, которыми, не обинуясь, делимся с читателями!»
Предсказание и пророчество Кукольника не замедлило сбыться. За свои картины Айвазовский вскоре получил первую золотую медаль. Картины его были куплены для академии императором Николаем I за 3000 руб. асс., и отъезд в чужие края, по желанию царя, ускорен на 2 года.
Во время собраний у Брюллова, в веселом кружке талантливой «братии» незаметно летели часы для радушно здесь принятого художника. «Братия» посвящала новичка во все тайны любимого ими искусства. Сам хозяин Брюллов, в пестром художественном своем широком зеленом халате, вел остроумные и интересные беседы о живописи и ее истории. Глинка очаровывал присутствующих здесь игрой на фортепиано и пением (у него был, по словам И. К. Айвазовского, чудный голос). Платон Кукольник и Айвазовский играли на скрипке, «Летописец Нестор» проповедовал об искусстве, импровизировал свои экспромты-стихи, Чернышев (Федор Сергеевич) читал свою нашумевшую тогда в обществе «Солдатскую сказку», а Жуковский – свои «пленительные» стихи. И. К. играл на скрипке особенным манером, на татарский образец, поставив ее стоймя против себя и извлекая из нее заунывные и порою веселые плясовые восточные песни.
Айвазовский посещал также и М. И. Глинку, и Кукольника, у которых иногда собирались друзья.
Вот что пишет вдохновленный ими М. И. Глинка в своих «Записках»: «Гайвазовский, посещавший весьма часто Кукольника, сообщил мне три татарских мотива; впоследствии два из них я употребил для лезгинки, а третий для andante сцены „Ратмира“ в 3-м акте оперы „Руслан и Людмила“».
Таким образом, восточные песни, слышанные в детстве И. К. и сыгранные им по просьбе М. И. Глинки на скрипке в «кружке» приятелей, послужили поводом для создания одной из чудных сцен и танцев бессмертному творцу «Руслана», на которого имел вдохновляющее влияние И. К. Айвазовский, подтвердивший этим примером древнее мифологическое сказание, что музы – родные сестры, а представители их и жрецы искусств составляют как бы одно единодушно-идейное братство, обмениваясь своими родственными им планами и вдохновением… И. К. Айвазовский рассказывал также, что, посещая Брюллова на другой день после веселых приятельских бесед, он заставал часто его совсем больным, с обвязанной платком головой и всегда жаловавшимся на свое здоровье, так как не мог никогда оставаться таким воздержанным от дружеских угощений, как Иван Константинович, которому все высказывали не раз свое удивление и одобрение по этому поводу.
Глава II
В «золотой» пушкинский век. Сближение с писателями и художниками. Счастливое для И. К. событие в Зимнем дворце. Плавание по Финскому заливу. Встреча Айвазовского с Пушкиным. Пушкин на выставке. Письмо И. К. Айвазовского. Семья Раевских. Пушкин и Айвазовский. Картины «Пушкин в Гурзуфе» и «Прощание с морем в Одессе». Подарок Марии Раевской Пушкину и настоящее происхождение «Талисмана». Надпись Айвазовского под присланным автору снимком с гурзуфской картины.
Один из славных представителей XIX века, профессор морской живописи И. К. Айвазовский, с самого приезда своего во дни молодости в Петербург попал, как он нам описывал, в кружок выдающихся литераторов и людей своего времени. До конца жизни в душе Айвазовского сохранялись живые воспоминания об этих лицах, ожививших молодую жизнь поэтически настроенного в то время художника и способствовавших дальнейшему расцвету его дарования.
Несомненно, что в ту пору они внесли своим влиянием и разговорами и известный элемент стремления его к творчеству и развили в нем любовь к исторической живописи позднейшего периода. Вся недавняя история России, с ее славным прошлым, и наш «золотой» пушкинский век, можно сказать, прошли на глазах у него, и вот почему интересны его воспоминания и рассказы для нас. Одним из сердечных и неизменных друзей И. К. Айвазовского, имевшим на него такое же несомненное влияние и сблизившим его с кружком литераторов, композиторов и художников, был и благороднейший профессор К. П. Брюллов, о котором еще так недавно вспоминал с горячей любовью в дни Брюлловского юбилея сам Иван Константинович.
В том же счастливом для него 1836 году снятая с выставки по наветам профессора Таннера картина Айвазовского была доставлена, по желанию императора, в Зимний дворец. Государь остался в восторге от нее и благодарил за справедливость храброго заступника молодого художника профессора Зауервейда, довольного исходом этой истории, а великая княжна Мария Николаевна, повинуясь голосу и влечению своего юного доброго сердца, поцеловала в светлый лоб своего почтенного учителя.
Подробности эти рассказывал нам И. К. Айвазовский, которого призвал и пожелал видеть сам справедливый рыцарь – император, повелевший сейчас же выдать в награду художнику 1000 рублей ассигнациями, с назначением его сопровождать великого князя Константина Николаевича, который летом тогда должен был совершить первое практическое плавание по Финскому заливу.
Плавание по Финскому заливу принесло таланту Айвазовского несомненную пользу, ознакомив его со всеми эффектами света и колоритом наших северных морей. К осенней выставке того же года было написано им 7 морских видов из этого плавания, вскоре приобретенных императором.
Сентябрьские дни 1836 года ознаменовались для Айвазовского еще встречей с Пушкиным. В конце сентября последовало открытие академической выставки, привлекшей в залы Академии художеств толпы публики.
Подобных выставок теперь не бывает. Понятны поэтому восторги толпы.
Достаточно сказать, что, кроме семи морских видов Айвазовского, по желанию императора, как передавала тихо несущаяся из уст в уста стоустая молва, повешанных рядом с бесцветными маринами Таннера,[10] о которых отозвалось невыгодно большинство тогдашних критиков, появились обратившие на себя всеобщее внимание композиции Ставассера, Рамазанова, «Статуя играющего в бабки» Пименова, «Статуя играющего в свайку» Логановского, «Взятие Божией Матери на небо» Егорова; присланное из Италии полотно «Медный змий» Бруни; «Явление Христа Марии Магдалине» Иванова; портреты работы Кипренского, Плюшара, пейзажи Воробьева, Штернберга, Зауервейда и др.
А. С. Пушкин, по словам И. К. Айвазовского, восхищался при посещении этой выставки пейзажами Лебедева и его маринами, а также двумя названными нами статуями, которые произвели столь сильное впечатление на пылкое воображение нашего великого поэта, что он воспел их в наскоро набросанных на обрывке бумаги тут же, в академических залах, и скоро появившихся в «Художественной газете» Кукольника, рядом с восторженной статьей об Айвазовском, следующих антологических стихотворениях:
Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый, Строен, легок и могуч, – тешится быстрой игрой! Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся, Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать! Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.Как один из «последних могикан» – из славной и незабвенной плеяды созвездий, украшавших наш небосклон еще во времена великого Пушкина, – его современник и человек по своим интересам и по стечению обстоятельств близко стоявший к его друзьям и знакомым, Иван Константинович сохранял немало воспоминаний в своей памяти о нашем знаменитом поэте, как равно и его жизни на юге. Вот как описывал он в одном из своих писем ко мне из своего загородного имения Шах-Мамай в Крыму, где знаменитый художник проводил обыкновенно каждое лето, подробности встречи своей и знакомства с А. С. Пушкиным.
«В настоящее время, – писал И. К. Айвазовский, – так много говорят о Пушкине и так немного остается в живых тех, которые знали лично великого поэта, что мне все хотелось написать вам несколько слов из своих личных воспоминаний о встрече с А. С. Пушкиным. В 1836 году, за три месяца до своей смерти, именно в сентябре, Пушкин приехал в Академию художеств с женой Натальей Николаевной, на нашу сентябрьскую выставку картин.
Узнав, что Пушкин на выставке и прошел в Античную галерею, мы, ученики, побежали туда и толпой окружили любимого поэта. Он под руку с женой стоял перед картиной художника Лебедева, даровитого пейзажиста, и долго рассматривал и восхищался ею. Наш инспектор академии Крутов, который его сопровождал, искал всюду Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не оказалось нигде. Тогда, увидев меня, он взял меня за руку и представил Пушкину, как получающего тогда золотую медаль (я оканчивал в тот год академию). Пушкин очень меня ласково встретил и спросил меня, где мои картины. Я указал их. Как теперь помнится, то были „Облака с Ораниенбаумского берега моря“ и другая – „Группа чухонцев на берегу Финского залива“. Узнав, что я – крымский уроженец, Пушкин спросил: „А из какого же вы города“? Затем он заинтересовался, давно ли я здесь и не болею ли на севере…
«А. С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал». Художник И. К. Айвазовский. 1880 г.
«Человек, не одаренный памятью, сохраняющей впечатления живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником – никогда. Движения живых стихий – неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны – немыслимо с натуры. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта…»
(И. К. Айвазовский)Тогда, во время нашего разговора, я его хорошо рассмотрел, и даже помню, в чем была его красавица жена. На ней было изящное белое платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками, а на голове большая палевая шляпа. На руках у нее были длинные белые перчатки. Мы, все ученики, проводили дорогих гостей до подъезда. Теперь я могу пересчитать по пальцам тех лиц, которые помнят поэта: их осталось очень немного, а я вдобавок был им любезно принят и приглашен к нему ласковой и любезной красавицей Натальей Николаевной, которая нашла почему-то во мне тогда сходство с портретами ее славного мужа в молодости».
«Если вы найдете, что в настоящее время эта маленькая статья может быть интересной хоть сколько-нибудь, то благоволите отдать напечатать. Сам я, признаюсь, не решаюсь этого сделать», – писал И. К. и прибавлял:
«С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и расспросов о нем. И теперь, на склоне лет, я работаю над новым громадным полотном, сюжетом для которого служит все тот же великий вдохновитель художников. Знаю и ценю ваше всегдашнее лестное внимание к моим произведениям и ко мне вообще, весьма утешительно влияющее на душу старого художника, и я вам очень благодарен. Желаемые фотографии с пушкинских картин я вам вышлю на днях, когда будет готова с последней картины, которую теперь я уже оканчиваю.
Эта картина изображает восход солнца с вершины Ай-Петри, откуда Пушкин верхом на коне, с проводником татарином, любуется восходом только что показавшегося на горизонте солнца. Пушкин снял шляпу, приветствуя величественный солнечный восход. Картину эту рассказывал мне при встречах Н. Н. Раевский, и сюжет ее давно у меня записан где-то, но я его и так живо помню благодаря живому рассказу Раевского, очень любившего Пушкина. Картину эту думал послать в Петербург или в Москву, но теперь поздно: я не успел еще окончить ее. Какая жалость! Картина почти 3 аршина[11] длиною. Из Москвы меня просили прислать картину из пушкинских (в Исторический музей в Москве). Я послал им две картины: „Пушкин у Гурзуфских скал“ (иначе, чем прежде, написанную, которой вы не видели у меня в Феодосии), и другую: „Пушкин с семьей Раевских по дороге в Гурзуф из Партенита на берегу у Кучук-Ламбата“.
Помните из „Евгения Онегина“ „Море пред грозой“:
Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам! Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами! —и т. д. Этот рассказ я слышал тоже и от Раевского».
На этих словах заканчивает одно из своих писем ко мне в мае 1899 г. И. К. Айвазовский. Прибавим, что он встречал еще в том же году в Петербурге Пушкина вместе с В. А. Жуковским и разговаривал с ними на улице и что последняя картина его из жизни Пушкина выставлена была все-таки в прошлом году в Петербурге, в музее рисовальной школы барона Штиглица на картине «Семья Раевских и Пушкин». М. Н. Раевская («княгиня Волконская») изображена убегающей от настигающих ее волн, и Пушкин, в восторге, застывшей позе, любующийся ею. Картина же «Пушкин у Гурзуфских скал» представляла собою юбилейную новинку (1899 года).
Пушкин изображен в лунную ночь на морском берегу Гурзуфа, на одной из высоких береговых прибрежных скал, в обычной задумчивой, мечтательной позе. Вдали виднеется Аю-Даг и горы. И. К. написал в разное время 8 картин из жизни Пушкина. Происхождение одной из лучших, по моему мнению, из самостоятельных картин его «Прощание Пушкина с морем» относится к началу 80-х годов, когда И. К. услышал где-то в обществе прекрасную декламацию стихотворения «К морю». Поэт представлен на ней во весь рост, в длинном сюртуке, с плащом на одной руке и шляпой и палкою в другой, которой он держится за высокую каменную стену. У ног его бушует разъяренное море, а на скале как будто высечена рельефная надпись:
Прощай свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой!..Эти прекрасные стихи, последние написанные в изгнании Пушкиным в Одессе в 1824 году, «вечно звучали в памяти» И. К., и он любил их подписывать под своими снимками с любимой картины, даря их на память своим друзьям и знакомым. Иван Константинович Айвазовский, знакомый лично и с семьей Н. Н. Раевского, всегда утверждал, что стихотворение «Талисман» вызвано подарком Марии Раевской и написано первоначально поэтом в Крыму и никак не относится к Одессе и графине Воронцовой, за которой, по его словам, Пушкин слегка ухаживал в Одессе, как за великосветской львицей и женой начальника, но некрасивой женщиной, не в состоянии бывшей воспламенить воображение поэта. Как известно, с кольцом-«талисманом» Пушкин расстался только в день смерти, а стихотворение приписывают Воронцовой…
Прислав мне из Феодосии снимок со своей новой картины (1894 г.) «Пушкин у Гурзуфских скал», он собственноручно внизу подписал:
Там, где море вечно плещет На пустынные скалы, Где луна теплее блещет В сладкий час вечерней мглы…Целое море безумной страсти вылилось здесь у поэта.
Глава III
Подарок Айвазовского Морскому музею в 1886 г. и г. Одессе. Замечательная картина проф. И. Е. Репина и И. К. Айвазовского. И. К. в семье героев Черноморского флота. Генерал Н. Н. Раевский[12]. Лазарев[13], Корнилов[14], Нахимов[15] и Панфилов[16]. Субашская перестрелка. Подвиг И. К. Расположение к нему «императора-рыцаря». Исторические картины Черноморского флота.
В конце 1886 г. художник, спустя 35 лет со дня сопутствия в 1851 году на пароходе «Владимир» государю в плавании в Севастополь и присутствии на морских маневрах, воскресил на полотне память о погибшем Черноморском флоте, красе и гордости России, написав картину «Смотр Черноморского флота Николаем I», в которой вереница судов величественно и плавно двигается на полных парусах в виду севастопольской бухты у парохода «Владимир», на котором стоит полный мужественной красоты император Николай и рядом с ним наследник цесаревич и адмиралы: Лазарев, Нахимов и Корнилов.
Все портреты, по общему признанию, были чрезвычайно схожи: видно было, что любовь к этим людям, не раз проводившим время в длинных беседах и милостивых с ним разговорах, водила рукою и кистью художника. Виднеющийся вдали белый Севастополь, воздух, вода на холсте – и говорить нечего, написаны были с изумительным совершенством. Эта картина, выставленная в Петербурге, в залах Академии художеств, опять привлекала толпы публики и была приобретена обществом «Кавказ и Меркурий» и поднесена председателю этого общества, сенатору Жандру, принадлежащему к семье старых черноморских моряков, по случаю 25-летнего юбилея его служения в обществе.
В том же году художником принесены в дар Морскому музею портреты многих замечательных деятелей Черноморского флота, героев Севастопольской обороны, бывших близко знакомыми с ним, рисунки знаменитых кораблей, погибших в Севастопольскую войну. Рисунки собраны были им в один громадный альбом, представляющий теперь большой исторический интерес. Этот запас эскизов и рисунков и послужил ему материалом для «живой» картины «Черноморского флота…»
Оригинал картины «Прощание с морем» проф. И. К. Айвазовский подарил еще в 30-х годах городу Одессе, но копия с нее долго хранилась у него в галерее. И. К. Айвазовский очень любил ее и считал лучшей из пушкинского цикла своих картин «Пушкин в Гурзуфе при луне», где поэт представлен во время своих крымских ночных прогулок, но мне лично, как и другим, больше всего нравилась висевшая одно время в фойе для артистов Александринского театра картина его «Пушкин на берегу Черного моря», на которой фигура Пушкина изображена проф. И. Е. Репиным, и я даже как-то высказывал это И. К. в разговоре. Интересно было бы знать, неужели и теперь там находится эта картина проф. И. Е. Репина и И. К. Айвазовского? Ведь она представляет громадную ценность в национальном художестве, и настоящее для нее место – в нашем Музее Императора Александра III или Эрмитаже, а никак не в другом месте, где ее даже не может увидеть публика.
Не один великий поэт наш приветствовал вдохновенного поэта-импровизатора, почившего теперь непробудным крепким сном на берегу любимого и воспетого им «с такою чудной силой» и прославленного на вечные времена Черного моря, в близкой его сердцу, его трудами и заботами возрожденной из ничтожества к новой кипучей жизни и деятельности родной Феодосии. Лучшие выдающиеся деятели на поприще литературы, поэзии, искусства и на поле брани – герои Черноморского флота, покрывшие неувядаемой славой наши знамена, считали его в кругу своих близких знакомых или являлись его поклонниками и покровителями, влиявшими на развитие и направление его гениального и всегда самобытного творчества. Вот как возникло его стремление к воспроизведению морских батальных картин, по рассказу самого художника, служившее для него неисчерпаемым источником плодотворного вдохновения.
«Пушкин на берегу моря» («Прощай, свободная стихия…»). Художники И. К. Айвазовский и И. Е. Репин. 1887 г.
Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой. (А. Пушкин «К морю» 1824 г.)Глава IV
Знакомство и путешествие с Н. В. Гоголем. Описание Гоголя в разговорах и письмах. Поездка с Гоголем во Флоренцию. В доме Торквато Тассо[17]. «Русская колония» в Риме с Гоголем. Знаменитый художник А. А. Иванов[18]. Штернберг[19] и Айвазовский. Бюст И. К. работы Бернштама в музее имп. Александра III.
При рассказах о первом приезде своем в Италию и знакомстве с Гоголем И. К. Айвазовский оживлялся и довольно часто вспоминал о Гоголе и своей дружбе с ним. «Первым городом Италии, который я посетил, – говорил и писал мне он, – была, конечно, Венеция. После скучных Берлина, Дрездена, Триеста она несказанно нравилась мне. Развенчанная царица морей, спящая непробудным сном на берегу чудесного своего залива, очаровала меня. В Венеции я и познакомился с нашим незабвенным Гоголем, проживавшим тогда здесь с покойным Николаем Петровичем Боткиным.
Впервые в жизни увидев тогда автора „Ревизора“, уже обдумывающего свои бессмертные „Мертвые души“, я скоро сдружился с ним и весьма был поражен оригинальностью нашего писателя и его странной оригинальною наружностью, прямо просившейся на полотно. Если бы я был портретистом, я бы в ту пору написал портрет с него. Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, – припоминал художник. – Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимою веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу.
Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее добротою и озаренное улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя, как в раковину, и начинал оригинальничать. Эту странную черту характера замечали в нем все его близкие знакомые. Со мною, однако же, он довольно скоро сошелся, и я не раз наслаждался его дружескою милою беседою. Гоголь предложил мне ехать с ним, с Боткиным и Панаевым во Флоренцию, на что я, разумеется, с удовольствием согласился. Ехали мы в наемной четвероместной коляске и – каюсь в нашем общем грехе – дорогою мы играли в преферанс, подмостив экипажные подушки вместо стола. Впрочем, это прозаическое занятие не мешало нам любоваться природой и восхищаться красивыми местностями, попадавшимися по дороге».
По приезде во Флоренцию Гоголь и Айвазовский осмотрели художественные сокровища столицы Тосканы, посетили дворцы и палаццо Питти и т. д. Они проводили в этих осмотрах целые дни вместе. Здесь встретили они знаменитого русского художника Александра Андреевича Иванова, на время приехавшего из Рима во Флоренцию искать вдохновения для своей знаменитой картины «Явление Мессии народу». От природы не слишком общительный, он мало говорил с ними. По словам Айвазовского, Гоголь в то время не посвятил еще ему своей чудной восторженной статьи.
Иванов рассказывал только, что приехал скопировать несколько деревьев с пейзажей Сальватора Розы, чтобы для чего-то перенести их в местность на берега Иордана. Во Флоренции И. К. Айвазовский расстался на время с Николаем Васильевичем Гоголем и, оставив его здесь, отправился на берега Неаполитанского залива, где прожил еще месяц в Неаполе вместе с молодым художником Штернбергом, а отсюда уже проехал на родину Торквато Тассо, в Сорренто, где, по странному стечению обстоятельств, он жил в доме, принадлежавшем певцу «Освобожденного Иерусалима».
Из Сорренто они отправились в разрушенный ныне живописный городок Амальфи, где тоже прожили целый месяц, и в сентябре только он попал опять в Рим. Эти переезды ознакомили Айвазовского с колоритом и красками итальянского лазурного неба, воды и тайнами тамошней воздушной перспективы. Он работал в Италии целые дни без устали… Эти воспоминания записаны со слов самого И. К. Айвазовского и представляют серьезный и значительный интерес для нас, как характеристика его отношения к Гоголю и некоторым знаменитым его современникам. В прошлом году я получил об этой встрече также письмо от него, которое потом было напечатано в «Новом Времени».
Иван Константинович часто рассказывал также, что с Гоголем он встречался впоследствии в Петербурге и Москве. Я слышал от И. К. о существовании небольшого рисунка, сделанного еще в начале 40-х годов, кажется, известным художником Пименовым, где изображены во весь рост, конечно в небольшом виде, все наши художники «русской колонии», бывшие в Риме в одно время с ним и Гоголем, как то: Ставасер, Рамазанов, Иванов, Логановский, Штернберг и др., а посреди них Гоголь, – но видеть этого рисунка мне не пришлось.
Известный скульптор Бернштам высек из мрамора бюст И. К. Айвазовского, почти относящийся к этой эпохе. Он находится в его картинной галерее в Феодосии, а другой – позднейшей работы академика Чижова – по желанию государя украшает один из главных верхних залов Музея Императора Александра III.
Глава V
Европейский триумф И. К. – король Фердинанд II и римский папа Григорий XVI у Айвазовского. Посланники де Монтебелло и гр. Гурьев. Итальянские поэты. «Лунная ночь» И. К. в стихах англичанина Тернера. Путешествие за границей. Буря по дороге из Англии. Нападение бандитов на коляску И. К. в Испании. Прогулка под выстрелами в революцию в Барселоне. Зима в Риме с Н. В. Гоголем.
С первых же шагов за границей И. К. ждал триумф, начавший его победное шествие по Европе. События 1841–1842 годов навсегда запечатлелись в его памяти. «В Риме и Неаполе все только и говорят о картинах Айвазовского», – писал Кукольник. И действительно, в Неаполе полюбили художника. По рассказам его и воспоминаниям современников, дом его целые дни наполнен был посетителями. Вельможи, поэты, ученые, художники и туристы наперерыв ласкали его, угощали и воспевали в стихах, признавая в нем невиданного еще ими гения.
Король неаполитанский Фердинанд II Карл изъявил желание, через нашего посланника Гурьева, увидеть русского художника и его чудесные картины. Вскоре после того король посетил студию художника, долго с ним разговаривал и купил у него картину, изображающую неаполитанский флот. Римский папа Григорий XVI пожелал также видеть художника и в знак своего благоволения пожаловал ему золотую медаль. Посланники французский, Дюк де Монтебелло, и наш, граф Гурьев, купили у Айвазовского картины и щедро за них заплатили. Коллекция редких картин Ватикана, по желанию его святейшества папы, обогатилась новой картиной его «Хаос», признанной всеми чудом искусства. До представления этой картины папе Григорию XVI картина была с глубочайшим вниманием осмотрена многими прелатами и кардиналами, которые целой комиссией явились в его студию, но были очарованы, при всем своем предубеждении к русскому художнику, новым его творческим полотном. Мрачное смешение стихий над «безводной и пустой землей» и над бездной озаряла на картине комета, которая при пристальном на нее взгляде являла в себе очертание божественного облика Саваофа, передавая слова книги Бытия: «Дух Божий носился над водой» (кн. Бытия, гл. I ст. 2).
По словам Айвазовского, английский пейзажист и поэт Тернер, проникнутый искренним восторгом, воспел тогда же другую картину Айвазовского, «Лунную ночь», в стихах. Несколько итальянских поэтов посвятили русскому художнику свои стихотворения. В честь его явилось в Неаполе множество импровизаций, в которых говорилось о чарующей и могущественной силе искусства, когда оно вдохновляет гения. Вскоре художник предпринял путешествие в Англию, Португалию и Испанию. По желанию французского правительства, в 1843 году он доставил свои картины «Море в тихую погоду», «Ночь на берегу в Неаполе» и «Буря у берегов Абхазии» на выставку в Лувре.
Перед картинами Айвазовского толпились многие тысячи зрителей: он был единственным представителем русской живописи на выставке в Лувре. Французский институт художников присудил ему в награду золотую медаль. В Бискайской бухте, по дороге от берегов Англии до Испании, корабль, на котором ехал Айвазовский, выдержал жестокую бурю, капитан вынужден был пожертвовать мачтами, и корабль с великим трудом и повреждениями дымовой трубы и палубы достиг Лиссабона. В Париже тем временем распространились слухи о гибели корабля, и имя Айвазовского называли в числе жертв, будто бы погибших в волнах. Картины его, оставленные на комиссию у находчивого продавца картин Рюэлля, были проданы, благодаря этому обстоятельству, по баснословно дорогим ценам, и он сам со смехом рассказывал об этом по возвращении своем в Париж.
По дороге из Гренады в Малагу «на долгих» на коляску И. К. Айвазовского напали три вооруженных пистолетами и широкими ножами за поясом человека довольно мрачной наружности, которые, без церемонии взобравшись на козлы коляски его, отобрали у кучера его бывшие с ним деньги и расстались довольно мирно с художником, ласково раскланявшись с ним. Оказалось, что это были местные бандиты, за известную сумму поборов с извозчиков беспрепятственно пропускавшие иногда путешественников.
Конечно, в ночное время, при полном безлюдье или если бы извозчик заупрямился, дело могло бы принять дурной оборот, и подвергавшийся опасности художник только каким-то чудом счастливо отделался от этой случайности.
После бури на море в Испании Ивану Константиновичу пришлось быть свидетелем политической бури, как раз в разгар сильнейшего волнения народных страстей. Прогулка с капитаном корабля по прибытии и Барселону под выстрелами дала возможность художнику срисовать в течение двух часов, проведенных на берегу осажденного города, вид моря со стоящим на якоре кораблем.
Над Барселоной, занятой королевскими войсками, взвивались бомбы, бросаемые в город стоявшими под его стенами инсургентами. Гул канонады явственно доносился до слуха путешественников, еще когда они сходили на лодку с корабля, чтобы поплыть к берегу, где их встретили инсургенты. По выяснении обстоятельств, т. е. что плывут они на коммерческом корабле и что они люди, ничего общего не имеющие ни с карлистами, ни с христиносами, начальник вооруженного отряда целой толпы инсургентов предложил И. К. стакан вина и для личной охраны дал им вооруженного проводника.
«Неаполитанский маяк». Художник И. К. Айвазовский. 1842 г.
Положение Барселоны поразило И. К. Айвазовского, как и его спутника: город был вместе с окрестностями в руках инсургентов; королевские войска занимали цитадель.
Отсюда художник отправился на Мальту и по возвращении с нее остался на всю зиму опять в Риме, где встречал Гоголя, который писал в ту пору свои «Мертвые души». В это время им написано было больше 50 картин. Возвращаясь из Франции через Нидерланды, Айвазовский был извещен об избрании его в члены Амстердамской академии за картины, приобретенные на выставке королем Нидерландским Вильгельмом II, супругом великой княгини Анны Павловны, по желанию которого он тогда же ему представлялся.
Пестрой вереницей, как в калейдоскопе, подобно волшебной сказке, проносились и запечатлевались в богатой художественной памяти И. К. Айвазовского все эти и другие впечатления пребывания его за границей, принесшего ему громадную пользу и блеск неувядаемой славы.
Глава VI
Из воспоминаний Айвазовского о Гоголе. Боткин[20] и Панаев[21]. Гоголь в Венеции и Петербурге. Глинка, Брюллов и Кукольник. Влечение к югу. Разговоры с Николаем I. И. К. Айвазовский и семья В. В. Самойлова[22]. Знакомство с Ф. М. Достоевским и А. Н. Майковым. Стихи Майкова, посвященные Айвазовскому. Последние портреты И. К. и просьба передать их А. Г. Достоевской и А. В. Гейне-Самойловой. В. Г. Авсеенко[23]. В доме А. В. Гейне-Самойловой. Два путешествия И. К. с в. к. Константином Николаевичем и с императором Николаем. Предсмертные встречи с Н. В. Гоголем и В. А. Жуковским. Смерть Брюллова.
Сам И. К. в Петербурге еще недавно рассказал нам, как в Венеции он обрадован был встречей с В. П. Боткиным и И. И. Панаевым. С ними он познакомился и встречался и раньше, до отъезда в Италию, в Петербурге в кружках М. И. Глинки и Кукольника.
Посещая в Венеции своих старых знакомых земляков, Айвазовский и увидел у них Н. В. Гоголя, которого он потом всегда так типично описывал. «Кто это такой?» – тихо спросил Айвазовский у Панаева. «Это Гоголь!» – ответил вполголоса Панаев, но творец «Мертвых душ», услышав вопрос художника и подойдя к нему, крепко, с волнением стал пожимать ему руку. «Вы Айвазовский, и я не знал раньше вас, не встречал нигде, ах, как я жалею об этом!» – воскликнул Гоголь, крепко сжимая ему руку и ежась по обыкновению. «Знаете, Иван Константинович, – обратился Панаев к Айвазовскому, – ведь Гоголь ваш горячий поклонник. Он любит до смерти ваши картины, и когда ими любуемся, то буквально захлебывается от восторга». – «Не мудрено захлебнуться, когда в своих картинах он дает такую чудесную воду», – ответил наш Гоголь, дружески похлопывая по плечу ладонью сконфузившегося от таких красноречивых похвал Айвазовского.
В Петербурге, по приезде из-за границы после блестящего триумфа И. К. и помещения знаменитой картины его «Хаос» в римскую галерею Ватикана, за что папа Григорий XVI тогда же наградил художника золотой медалью, решено было отпраздновать получение этой медали пиршеством у Панаева и Боткина. Пир удался на славу. Присутствовавший тут же Гоголь, во время разгара пира, сказал, обращаясь с прочувствованным, полным блестящего юмора спичем к Айвазовскому: – «Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с берегов далекой Невы в Рим и сразу поднял „Хаос“ в Ватикане!»
– И ведь что обидно, – закончил свою речь Гоголь, после того как Айвазовский бросился ему на шею от восторга: – подыми я в Ватикане хаос, мне бы в шею за это дали, писаке, а Ване Айвазовскому дали золотую медаль…
Дружба Айвазовского с Гоголем окрепла в этот приезд его в Петербург, и вскоре между ними завязалась переписка, которая, впрочем, недолго продолжалась вследствие болезни Гоголя. Вспоминая о возвращении из-за границы в нашу северную Пальмиру И. К. Айвазовского и о встречах его здесь с Гоголем у М. И. Глинки и Кукольника, мы не можем умолчать о кружке «братии», который в 1845 году почти распался. М. И. Глинка сам уехал вскорости концертировать за границу. Кукольник занят был своим изданием «Художественной газеты» и новыми повестями, а К. П. Брюллов предался и всецело отдал себя своим бессмертным работам по украшению Исаакиевского собора. Перестали собираться их веселые приятельские кружки, смолкли остроумные беседы, полные оживления и воодушевления наших друзей. И вот, с наступлением ранней весны того же года, Иван Константинович Айвазовский, по собственным его словам, почувствовал непреодолимое влечение ехать на юг, на родину, на берег любимого и прославленного им на вечное время Черного моря.
Южная природа родного края вызывала в нем это чувство и была неистощимым источником вдохновения для трудолюбивого художника. «Это чувство, или привычка, – говорил он, – было всегда моею второю натурою. Зиму я охотно проводил в Петербурге, работал, развлекался, деля досужее время с моими добрыми знакомыми, но чуть повеет весной – и на меня нападает тоска по родине: меня тянет в Крым, к моему любимому Черному морю. Это свойство моей души или, если хотите, требование организма, не раз вызывали милостивые замечания со стороны покойного государя Николая Павловича. „Ты изленишься, – сказал он мне однажды, – будешь сидеть там сложа руки“. На ответ мой, что пребывание на юге не ослабляет моего трудолюбия, император с улыбкой заметил: „Впрочем, живи, где хочешь, только пиши, пиши и не ленись. Ты по пословице: «Сколько волка ни корми, а он все в лес глядит»“». «Милость и благосклонное внимание ко мне императора были для меня велики и останутся навсегда незабвенны», – говорил Айвазовский, вспоминая царствование Николая I и свою молодость. Для ближайшего ознакомления с движениями военных кораблей государь предложил И. К. присутствовать вместе с ним на морских маневрах на Финском заливе.
Однажды император Николай Павлович заметил, что находит, что всплески от ядер на воде не совсем согласны с действительностью и надо исправить картину. И. К. позволил себе отозваться, что предпочитает вместо исправлений написать новую картину, и государь согласился с предложением художника, но министр двора кн. П. М. Волконский предупредил его, что вторую картину он обязан написать без всякого уже за нее вознаграждения.
«Даже без этого предварения я не упомянул бы и сам о вторичной плате, – говорил И. К., – но покойный император Николай Павлович, со свойственной ему истинно царской щедростью, приказал выдать мне и за вторую картину точно такое же вознаграждение, как и за первую». И прибавлял об обаятельной благосклонности и обхождении государя, с которыми он относился вообще ко всем художникам и артистам, в числе которых был как известно, и его друг, пользовавшийся благосклонностью царя, Василий Васильевич Самойлов, с семьей которого был всегда очень дружен И. К. Айвазовский. И даже за 2 недели до смерти, в день своего отъезда, он с умилением вспоминал об этих далеких днях дружбы и просил меня передать от него портрет с надписью (последний снимок его в фотографии Пазетти, снятый на Вербной неделе) дочери знаменитого артиста Александре Васильевне Гейне (рожденной Самойловой), которую, по собственным словам, он знал совсем маленькой, так как она почти росла на его глазах, и потом «некогда отплясывал на балах» с ней и всякий приезд в Петербург ее навещал в ее роскошных домах на Воскресенском проспекте и на Фонтанке.
Другой портрет с надписью он поручил передать мне Анне Григорьевне Достоевской, с покойным мужем которой он встречался на выставках картин в Петербурге и у Дм. В. Григоровича. Ф. М. Достоевский, по словам его, всегда восхищался «волнами Айвазовского», и портрет знаменитого художника висел на стене рабочего кабинета великого писателя земли русской. Певец чердака и подвала любил певца моря и считал себя поклонником его дарования, как и его общий с ним друг А. И. Майков.
Последний не раз воспевал его в своих чудных, прелестных стихах. Еще незадолго до смерти, т. е. в последние дни пребывания своего в нашей столице, Иван Константинович с большим увлечением декламировал нам прелестное стихотворение Майкова, одно из последних посвященных ему:
Стиха не ценят моего Ни даже четвертью червонца, А ты даришь мне за него Кусочек истинного солнца, Кусочек солнца твоего! Когда б стихи мои вливали Такой же свет в сердца людей, Как ты – в безбрежность этой дали И здесь, вкруг этих кораблей С их парусом, как жар горящим Над зеркалом живых зыбей, И в этом воздухе, дышащем Так горячо и так легко На всем пространстве необъятном, — Как я ценил бы высоко, Каким бы даром благодатным Считал свой стих, гордился б им, И мне бы пелось, вечно пелось, Своим бы солнцем сердце грелось, Как нынче греется твоим!Через 10 лет после этого стихотворения, в 1887 году, А. Н. Майков, вдохновленный новой картиной Айвазовского, написал посвященное ему стихотворение «Мертвая зыбь», которое начинается словами:
Буря промчалась, но грозно свинцовое море шумит. Волны, как рать, уходящая с боя, не могут утихнуть И в беспорядке бегут, обгоняя друг друга…Известный романист В. Г. Авсеенко на страницах «Нового Времени» в прошлом году, в «Литературных воспоминаниях», всеми читаемых с интересом, описал между прочим дом дочери знаменитого артиста В. В. Самойлова, А. В. Гейне, и ее литературно-артистический салон, и это подробное описание незабвенного прошлого возбудило при чтении в душе моей целый рой воспоминаний. Так как знакомство мое и всей нашей семьи с домами Вас. Вас. Самойлова и А. Вас. Гейне тянется еще с начала 60-х годов и может вполне назваться одним из самых старинных в Петербурге, то я считаю не лишним пока, пользуясь любезным согласием А. В. Гейне-Самойловой, в гостиной которой был мною прочитан этот обширный фельетон, дополнить его интересные воспоминания названием нескольких пропущенных имен из числа более частых ее посетителей. Во первых, в гостиных и салонах ее в 70-х годах и позже часто можно было встретить нашего известного композитора Антона Григор. Рубинштейна, который пленял собиравшихся здесь гостей в минуты вдохновения своей бесподобной игрой и чуть ли не впервые в Петербурге исполнял здесь в один из своих утренних визитов к А. В. Гейне на ее рауте отрывки из «Демона».
Во вторых, из художников-литераторов и др. лиц, часто посещавших гостеприимный дом А. В. Гейне, не названы такие выдающиеся лица, не раз вносившие с собою волну оживления и тут же на глазах всего общества заставлявшие удивляться быстроте их творчества и богатству фантазии, как проф. К. Е. Маковский, И. К. Айвазовский, которого петербуржцы здесь нередко встречали во время его частых приездов в столицу, И. Е. Репин, А. О. Шарлеман, известный маринист профессор А. П. Боголюбов, Л. Ф. Лагорио, М. О. Микешин, Н. Н. Каразин, Ю. Ю. Клевер, В. И. Якобий, В. В. Самойлов, П. П. Гнедич, В. В. Комаров, Е. И. Ламанский с супругой, Л. К. Ламанской, художницей-писательницей, художник Александровский и некоторые др., имен которых я теперь не припомню.
«Портрет А. Н. Майкова». Художник В. Г. Перов. 1872 г.
Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) – русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1853). Тайный советник (с 1888 года)
Но положительно нельзя назвать ни одного из больших или малых талантов среди художников, который не появлялся бы в салонах А. В. Гейне в 70–80-х годах. Этот, благодаря радушию самой хозяйки и ее дочерей, ее взглядам и особому воспитанию и просвещенности, вынесенной из дома талантливого отца, притягательный и объединяющий центр действительно много способствовал сближению между собою – художников, артистов, писателей, встречавших здесь редкий прием и уважение к таланту, далеко еще не везде укоренившееся в обществе. А тогда – это был единственный дом, где, например, артистов, приглашенных как знакомых, не оскорбляли, как часто это делалось в других местах, вручением или присылкой им денежной платы или ценных подарков за их исполнение по просьбе общества какого-нибудь любимого номера, монолога или арии.
Среди посещавших этот «европейский» у нас салон литераторов назову особенно любимых тогда в нем Всеволода Крестовского, с большим успехом прочитавшего однажды в присутствии всего общества писателей и артистов отрывки тогда еще только набросанного им романа «Петербургские трущобы», что было сделано им только по дружбе с настаивавшей на этом А. В. Гейне. А. Н. Плещеев бывал с дочерью и читал здесь не раз свои сочувственные к бедному люду стихи, бывали здесь также и А. Н. Майков, В. Г. Авсеенко с семьей и другие беллетристы, писатели, преимущественно из «Русского Вестника».
Никогда не изгладятся из памяти посещавших гостеприимный салон г-жи Гейне ее литературно-музыкальные вечера и костюмированные балы с участием знаменитейших художников, писателей и артистов в разных шествиях и маскарадах, где, например, проф. Маковский фигурировал в костюме боярина, г-жа Маковская – в образе Мефистофеля, И. В. Тартаков – в костюме неаполитанского рыбака, и за ним ползли раки и рыбы; пугал всех В. В. Самойлов-сын в костюме смерти и т. д.
Очень памятен еще также описанный во всех газетах морской бал, устроенный в ее доме по инициативе контр-адмирала Скрыдлова, под его ближайшим руководством. Но главным устроителем и вдохновенным изобретателем всех красивых праздников был, несомненно, всегда вдохновенный и поэтически настроенный поклонник талантов и литераторов, почтенный друг В. В. Самойлова и постоянный посетитель его семьи – В. И. Аристов, который, как и И. К. Айвазовский, отличался необыкновенным оживлением и остроумием. Вместе со знаменитым художником и приветливой и просвещенной хозяйкой он положительно являлся в ту пору душой общества и невидимым звеном, связывающим в один беспрерывный ряд изобретательных выдумок все, что роилось в его замыслах.
Почтенный В. Г. Авсеенко в обширном описании салона г-жи Гейне в своих «Литературных воспоминаниях» совсем позабыл описать это, и я кстати считаю нужным дополнить его рассказ в одном из августовских номеров «Нового Времени» (1900 года).
По рассказу Ивана Константиновича, вторичная морская поездка, особенно продолжительная, с апреля 1845 по июль 1846 года, по воле государя императора совершена была, как и десять лет назад, Айвазовским в сопутствии августейшего генерал-адмирала, в свите, сопровождавшей любимого царского сына великого князя Константина Николаевича при посещении им далекого юго-востока.
Иван Константинович имел честь, по желанию своего высокого покровителя, сопровождать великого князя в продолжение всего его плавания по берегам Европейской Турции, Малой Азии и по архипелагу. Кроме Константинополя, высокий путешественник посетил Хиос, Патмос, Самос, Мителене, Родос, Смирну, развалины древней Трои, Синоп и многие другие острова архипелага и местности Леванта и берегов Анатолии. Опять масса разнообразных впечатлений волною нахлынула на осчастливленного новою царскою милостью художника.
Местности, связывающие античный древний мир с колыбелью первых веков христианства, понравились И. К. не меньше прибрежья Адриатики и лазурных вод Неаполя. Скалы Афин он мысленно сравнивал со скалами Неаполя, Рим с другой колыбелью древних искусств, Византией, и расширял кругозор обширного запаса световых эффектов природы и водной стихии морей, набрасывая этюды и занимаясь без устали живописью. Вскоре по возвращении, летом 1846 года, он написал пятнадцать новых картин с быстротою волшебства, свойственной его кисти. «Вид Константинополя при луне» и «Принцевы острова на Мраморном море» произвели сенсацию в публике. По мнению Н. В. Кукольника, писавшего в «Иллюстрации» об этих картинах, Айвазовский явился в них для нас «в полной зрелости обширного своего таланта. Освещение дерзко, но исполнено удачно: зной разлит в картине так осязательно, что, кажется, ощущаешь его влияние. Очаровательное слияние красок и лунного света наполняет картины высшим эффектом». По воле государя картины эти вместе с «Афонской горой» и «Аю-Дагом ночью» посланы были на художественную выставку в Берлин, где имели шумный успех и заняли всю печать. Император германский Вильгельм и все его семейство отнеслись с большим сочувствием и участием к произведениям знаменитого русского художника, часть которых была приобретена императорским домом и осталась в Берлине.
В начале 1852 года И. К. Айвазовский был в Москве после сопутствия императору Николаю Павловичу в плавании в Севастополь и присутствия при морских маневрах конца 1851 года. Здесь художник встретил в последний раз Н. В. Гоголя. По рассказу Ивана Константиновича, встреча носила самый сердечный оттенок, и его поразила при этом страшная худоба, бледность и страдальческое выражение лица великого русского писателя.
Тогдашний Гоголь казался тенью того веселого, оживленного и милого собеседника, которого Айвазовский видел в Риме и во Флоренции двенадцать лет тому назад и вскоре после того встречал и оставил в Петербурге.
Мрачный, суровый мистицизм и религиозная пылкая восторженность, порой граничившая с помешательством, по его словам, резко изменили Гоголя и нравственно, и телесно. Во время этой встречи с ним Иван Константинович успел только немногими фразами обменяться с Гоголем, но от слов нашего бессмертного певца Малороссии и дореформенной России веяло мертвящей апатией, холодом кельи или могилы… В том же 1852 году И. К. довелось встретиться в последний раз и с В. А. Жуковским, так горячо и сочувственно относившимся к первым юношеским успехам Ивана Константиновича. В последний раз Жуковский крепко сжал его руку и долго провожал его своим пристальным, задумчивым, грустным взглядом, напутствуя его пожеланием дальнейших успехов на художественном поприще. Вскоре после своей встречи с художником, в этом же 1852 году, под гнетом того же мистицизма скончался В. А. Жуковский. Нечего и говорить, с какой скорбью отнесся И. К. Айвазовский к полученной вести о смерти поэта.
1852 год готовил для него еще один мрачный сюрприз.
Под конец года в Петербург пришла весть о кончине незабвенного друга и учителя И. К. – К. П. Брюллова, советам которого и помощи Айвазовский, по собственному его сознанию, весьма многим не раз был обязан, о чем он вспоминал даже во дни недавнего, свежего в нашей памяти еще юбилея Брюллова.
Глава VII
Император Николай I и прекрасная «гречанка» у Айвазовского. Айвазовский и Л. Н. Толстой. Подробности жизни Гоголя и Айвазовского в Риме. Чтение «Мертвых душ» и подарок Гоголя Айвазовскому.
Во время работы художника, по приезде из-за границы, над картиною для графини Бобринской (рожд. Самойловой) с ним был следующий случай. По желанию графини Иван Константинович задумал на берегу изображаемой им местности («Афонская гора и остров Архипелага») написать группу грека и гречанки, беспечно любующихся закатом солнца. Гречанку в небрежной позе, с роскошными, распущенными волосами, художник намеревался скопировать с находившейся тогда в Петербурге жены брюссельского адвоката Дютье, с которым он познакомился за границею. Красавица охотно согласилась посетить мастерскую Ивана Константиновича (он жил тогда возле Ордонанс-Гауза, в доме Яковлева) и позировала в восточном костюме, состоявшем из шелковой сорочки, опоясанной шарфом. Предложив посетительнице отличный завтрак с бутылкою шампанского, художник занялся списыванием фигуры с добровольной натурщицы, приказав слуге отказывать посетителям.
Углубленный в живопись, Айвазовский вдруг услышал в коридоре голос посетителя, перед которым отверзаются не только все двери дворцов и чертогов вельмож, но и самые царские врата храмов Божьих, – короче сказать, посетителем художника был государь Николай Павлович, третий раз удостоивший Айвазовского своим посещением. С палитрою в руках, в рабочей своей куртке, художник поспешил встретить своего августейшего гостя. Государь, обращаясь к Айвазовскому, упомянул о заказе морского вида для дворца; затем, быстро проходя в мастерскую, спросил: «Что пишешь нового?» Иван Константинович не успел ответить, как государь уже переступил порог мастерской. Г-жа Дютье, вскочив с места, краснея за свой костюм, сделала глубочайший реверанс путаясь в шарфе, упавшем с ее талии. Государь с любезной улыбкой поклонился растерявшейся француженке, шепнув Айвазовскому: «Очень недурна: кто такая?»
Назвав императору свою «гречанку», Айвазовский поспешил объяснить сюжет картины и для кого она пишется. «Этот костюм нужен был для картины», – пояснил он.
– Да, да… нужен, очень нужен! – сказал государь, улыбаясь, и, отходя к картине, опять произнес вполголоса: – Барыня очень недурна… для картины. А кому ты ее пишешь?
– Графине Бобринской, ваше величество.
– Так, так, хорошо. – Откланявшись француженке, государь вышел, смеясь, в другую комнату, опять напомнил художнику о заказе и, прощаясь с ним, сказал: – Смотри, моря-то мне не забывай!
Айвазовский считал себя всегда горячим поклонником Пушкина и Гоголя и восхищался, как художник, женскими типами и образами в произведениях Тургенева и Толстого. Из художников-беллетристов он предпочитал Л. Н. Толстого «за его стремление к правде и душевную чистоту», как он выражался. И. К. рассказывал нам еще так недавно, что с увлечением зачитывался «Войной и миром» и находил в романе много простой художественной правды и задушевности. И вот теперь ему стали приписывать полнейшее незнакомство с Толстым, его взглядами и названным романом, который ему, будто бы, «не было времени читать».
«Парусник в море». 1887 г. Пейзаж вмонтирован в фотопортрет И. К. Айвазовского.
«Для меня жить – значит работать».
(И. К. Айвазовский)Айвазовский находил в разговорах всегда особенно привлекательной из женских образов в русской литературе именно героиню Наташу Ростову, и в этом отношении он вполне сходился с И. Е. Репиным, который также, по его словам, восхищался героиней романа Л. Н. Толстого. И. К. прочитал первые рассказы Л. Н. (из «Севастопольской обороны», по совету императора Николая Павловича, обратившего внимание его на них и восхищенного ими в 1855 г. По рассказу его, за них, по приказанию императора, Толстой был переведен с 4-го бастиона в другое, менее опасное место). К этой эпохе относится и первая встреча И. К. Айвазовского с графом Л. Н. Толстым, юношеские речи которого произвели на него такое же впечатление горячей и дышащей вдохновением убедительности, как и позднейшие сочинения. Роман «Война и мир» появился в 60-х годах, и И. К., заинтересованный Толстым, прочел его раньше «Анны Карениной», напечатанной в 1877 году.
Нужно ли говорить, что Айвазовский читал все произведения Л. Н. Толстого при самом выходе их в свет?.. В Москве при встрече с Л. Н. Толстым, во время устройства своей выставки, он вел с ним горячие споры, не соглашаясь в некоторых взглядах его на жизнь, которые И. К. называл «парадоксами», отдавая в то же время должную дань Льву Николаевичу, как художнику и мировому гению, давшему яркие образы в литературе и создавшему свою эпоху и школу. У Гоголя он находил «полнейшую аналогию с Толстым в отрицании и разрушении современного строя». Он читал гоголевскую «Переписку с друзьями» и называл ее «бесповоротными похоронами всех политических идеалов, гениальным бредом горячего мыслителя-мистика, написанным чуть не под пушечные выстрелы Севастополя, в эпоху тяжелого и для него Севастопольского погрома».
«Меня рассмешило близорукое негодование „возмущенных“ бессердечием публики рецензентов, когда при первом представлении в театре новой драмы Льва Толстого „Власть тьмы“, с специально выписанными не только костюмами, но и калужскими бабами, не фальсифицированными, а настоящими, у вас, в Киеве, раздался загадочный, по мнению рецензента, взрыв смеха, – говорил И. К. Айвазовский. – Для них это загадочный смех, а для меня это – смех, делающий честь публике, если только она хотела выразить протест против мелодрамы, в которую впал Толстой. Что он хотел выразить в этой пьесе, наполненной всевозможными ужасами, но такими, которые вовсе не составляют характерных примет темного народа, а столь же свойственны и культурному обществу?
Эта пьеса не согласуется с народническим направлением Льва Николаевича, известным мне раньше. Если обобщить выводы „Власти тьмы“, то окажется, что мало-мальски развитой мужик уже негодяй, а добродетель свойственна только таким слабоумным, каким является пресловутый мужичок – Аким. Матрена и Никита еще чаще являются в скрытом виде среди нас самих. Пьянство, кулачество, суеверность – вот характерные и известные черты народного быта; их рельефно обрисовать и указать выход, основанный на чуткой совести и др. чертах, – вот задача драматурга. „Власть тьмы“ только осуждения заслуживает, как сценическая пьеса, но за что мы должны быть благодарны Толстому – это за доступ на сцену драмам из народного быта».
«Мы уже слишком привыкли отыскивать страдания лишь под покровом шелка, бархата и тому подобного», – говорил И. К. Вообще И. К. Айвазовский принадлежал к тому разряду художников, которые могут являться только в самом образованном обществе, где литературные вопросы занимают всех, образуя партии, возбуждая жаркую борьбу за принципы, где теория искусства до того переходит в жизнь, что заставляет столяра во время работы беспокоиться о нерешенном споре. Таким, по крайней мере, представлялся И. К. Айвазовский всем знавшим его и признававшим за ним начитанность.
Любимой прогулкой Айвазовского в Риме была прогулка на морском берегу или на Via Appia; он прерывал ее на время, чтобы пообедать во французском ресторане или трактире Falcone и затем до заката солнца снова гулять, любуясь морем и набрасывая эскизы в свой альбом или осматривая древности, иногда вместе с Гоголем. По приезде в Рим почти каждое утро Иван Константинович заставал Гоголя в кофейной del buon gusto, отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из большой чашки крепкого кофе и жирных сливок. Затем Гоголь спешил домой писать свой роман, а Иван Константинович отправлялся к себе и весь уходил в свою работу, которая быстро спорилась в его умелых руках.
Но Гоголь писал медленно и, по словам И. К., только при отъезде его, когда они разъезжались в разные стороны, он прочел ему поэтические главы первого тома «Мертвых душ». «Но что это было за чтение, с каким чувством и полнотой выражения, с каким огнем вдохновения бессмертный творец читал мне свой роман, в то время как глаза его блистали неземным огнем, необычайно светились и проникали насквозь в душу, а на щеках пылал яркий румянец», – говорил Иван Константинович, вспоминая, что эти полные образных типов главы запечатлелись с тех пор и приобрели в его памяти особенный колорит. По словам И. К., Гоголь не выносил римского зноя и при наступлении жары бросал свои прежние привычки, запираясь надолго дома и жалуясь на свой организм и натуру. При этом в доме закрывались ставни от палящих лучей южного солнца и на письменном столе Гоголя появлялся полный графин чистой, прозрачной, холодной воды из каскада, который, в промежутках между работой, осушал он до дна, жалуясь на свой странный организм и говоря, что любимым напитком его была холодная вода.
В свободные вечера вместе с Айвазовским Гоголь перечитывал любимые места из Данте и стихов Пушкина. Гоголь, как истинный поэт и художник в душе, всем восхищался, и особенно картинами Айвазовского. Встретив вторично в Италии, в 1842 году, Гоголя в Риме, Айвазовский неизменно проводил свои вечера в «келии» у Гоголя, куда иногда приходили и другие художники: Штернберг, Моллер, друг Н. В. Гоголя известный художник Иванов и пр. Гоголя все любили и уважали. Он был душою всего этого небольшого кружка художников. Здесь много говорили об искусстве, толковали о художественных новостях Рима, и здесь развивался и креп талант И. К. Айвазовского. Тогда же были написаны А. А. Ивановым (в начале 1840-х годов) и два очень удачные и схожие портрета Гоголя масляными красками. Один из этих портретов Н. В. подарил Жуковскому, другой – Погодину. Кроме того, Иванов сделал для себя с него рисунок карандашом, который Гоголь, при вторичной встрече с ним во Флоренции, выпросил у него с тем, чтобы подарить Ивану Константиновичу.
Глава VIII
Из личных моих воспоминаний об Айвазовском. Последние годы. Память художника. Галереи исторических лиц. Болезнь художника в 1899 г. Любовь его к близким и к Феодосии. Заслуги перед «страною Айвазовского» и хлопоты у правительства. В студии художника. Известные ученики его: проф-ра А. П. Боголюбов, Л. Ф. Лагорио и академик Куинджи. Куинджи в имении Айвазовского. Самородки-художники. Татарчонок в Алуште.
В последние годы, несмотря на восемьдесят с лишком лет, Иван Константинович не чувствовал утомления, свойственного его возрасту, и любил говорить об этом. Он вставал зимой в 7.00–7.30 утра, а летом, бывало, и еще раньше, и очень скоро принимался за работу, за которой с жаром и увлечением проводил почти половину дня; только после обеда он отдыхал немного, чтобы вскоре снова взяться за кисть, без которой почти не мог жить. В частной жизни он отличался превосходной памятью, помнил ход всех событий и все лица, с которыми встречался когда-нибудь в жизни. У него была масса знакомых, которых он редко встречал, но, забывая их фамилии иногда, он спрашивал, где встречал их, и сейчас же вспоминал до мельчайших подробностей саму встречу, хотя бы она была даже в прошлые его приезды в Петербург. В разговорах своих он вспоминал также прошлое, и люди, жившие за полвека, за шестьдесят лет до нас, и ставшие для нас уже лишь именами, как мы видим, оживали в его рассказах, они двигались, вели жизненную борьбу, творили, выказывали сильные и слабые стороны своего характера, и эти великие люди – Пушкин, Гоголь, Кукольник, Глинка, Брюллов, Котляревский, Раевский, Ермолов, Лазарев, Нахимов, Корнилов, с целым рядом старых, отживших свой век героев и академических профессоров – в его рассказах казались нам такими близкими и понятными, точно они были тут, среди нас, в саду или в комнате. Рассказывал часто он и о современных государственных деятелях, стоящих так высоко и далеко от нас в своей сфере деятельности, и они тоже казались нам знакомыми, живыми фигурами, полными долга и благородства, при этом часто непонятыми светом. Дар слова, дар рассказа, способность оживлять и оживляться были замечательны у Айвазовского и доказывались вполне на его обедах: общее оживление и хохот царили на них. Таким живым и симпатичным Иван Константинович оставался до конца жизни в своих отношениях с людьми. Больной, почти умирающий в 1899 году – он старался развеселить своих близких какою-нибудь шуткою или юмористической фразой и в то же время не мог прожить дня без кисти. Но не в том только выказывалось его добродушие.
Все обыватели Феодосии, этой «страны Айвазовского», очень любили Айвазовского, который, по меткому выражению одного фельетониста, прямо царил здесь, как ветхозаветный правитель. Он любил водить приезжих гостей по набережной, базарной площади, по рынку и по улицам. Строил планы будущих улучшений, построек, увлекая в обсуждение этого предмета людей чуждых и обладая удивительной способностью заинтересовывать городом приезжих и случайных его посетителей. Феодосия – это создание Айвазовского, и нельзя не заметить, что не будь Айвазовского, не было бы теперь в Феодосии ни гимназий, ни портовых сооружений, ни железной дороги, ни водопровода, ни музея, ни памятника, а вместо современного оживленного города ютилась бы у старой генуэзской башни сонная слободка, заброшенные руины прежнего маленького и убогого городишки. В постоянных хлопотах у правительства он принимал близко к сердцу все мельчайшие нужды его и интересы.
Интересно отношение его и к «своим».
В своих авторитетных советах, в указаниях Айвазовский никогда никому из молодых художников не отказывал. Казалось, он весь горел желанием помочь им и своим примером показать, «как надо работать». В его мастерской находили радушный прием и молодые художники, и многочисленные любители, приходившие к нему «учиться рисовать», и он, ко всем одинаково простой, добродушный и ласковый, готов был им служить. Двери его студии открыты были во всякое время.
Многочисленные художники осаждали его галерею и украшали своими произведениями витрины магазинов Феодосии, Ялты, Симферополя и других мест Крыма. Его ученики уносили от него необычайный прилив бодрости и стремления к тому, чтобы любить природу и относиться с уважением к искусству, старательно изучая законы природы. Талантливейшие из них развились под его непосредственным наблюдением, и благодаря его прекрасным советам, до него неизвестным художникам, скоро они стали так рисовать и писать холсты, как могла их научить только одна природа. У него наши пейзажисты учились воспринимать впечатления, видеть и слышать; в ней же они находили много чудесных сочетаний света, невидимых форм и ярких колоритных цветов. Проникновение природой и настроением, при их таланте и упорных трудах, дало им скоро уверенность и смелость рисунка при удачном выборе тем, скоро доставивших громкие имена большинству этих лиц, таких как профессор А. П. Боголюбов, профессор Л. Ф. Лагорио и академик Куинджи, явившихся у нас такими же, как и их учитель, истинными пейзажистами, поэтами природы.
Дом И. К. Айвазовского в Феодосии
«Талантом, точно так же, как и умом, поделиться нельзя, но можно делиться знанием и умением», – говорил Айвазовский, а мастерская Ивана Константиновича никогда не была недоступной как для молодых художников, так и для любителей живописи. Путем копирования его картин развили свои таланты и выработали живописную технику знаменитые теперь Л. Ф. Лагорио, Куинджи, М. Алисов и отчасти покойный А. П. Боголюбов и другие ученики. Лагорио ознакомился с картинами Ивана Константиновича в бытность его в Крыму, в 1839 году. Отец Лагорио, заметив в своем пятнадцатилетнем сыне страсть к живописи, просил Айвазовского содействовать развитию оного дарования. Иван Константинович с полной готовностью ввел молодого Лагорио в свою мастерскую, где тот занялся копированием картин Айвазовского. Уезжая в Петербург в 1840 году для отбытия в чужие края, Иван Константинович взял с собой несколько рисунков Лагорио, представил их своему учителю, профессору Зауервейду, прося оказать юному художнику свое покровительство, и затем уехал в Италию. Через несколько месяцев г. Крамер, хороший знакомый Айвазовского, при содействии покойного герцога Максимиллиана Лейхтенбергского, вызвав Лагорио в Петербург, определит его в Академию художеств пенсионером Кабинета Его Императорского Величества. В академии Л. Ф. Лагорио обнаружил талант самостоятельный и через пять-шесть лет пользовался уже значительною известностью.
Замечательно, что о даровании Куинджи сообщил Айвазовскому, как он нам рассказывал, мариупольский негоциант Аморетти, когда этому даровитому художнику было лет четырнадцать. Иван Константинович, уступая просьбам Аморетти, согласился взять Куинджи к себе в мастерскую, для наглядного ознакомления с основными правилами живописи. Живя в имении Айвазовского Шах-Мамай, Куинджи копировал его картины под руководством Фестлера, работавшего в студии Айвазовского. По просьбе Ивана Константиновича, Куинджи пробыл четыре месяца в его мастерской, уехал в Мариуполь, оттуда в Петербург, где и поступил в академию. Кроме упомянутых трех художников, картины Ивана Константиновича копировали еще много более или менее даровитых любителей живописи, но учеников, в полном смысле этого слова, у него не бывало. По отзывам художника ко мне в письмах, юг России и Крым изобилуют самородными талантами по всем отраслями искусства, школа живописи в Одессе могла бы служить богатым рассадником отечественных дарований; и если бы эта мысль Айвазовского осуществилась тридцать лет тому назад, то ныне радовались бы благотворным наследством подобного рода учреждений.
В последний приезд мой в Ялту мне самому довелось во время одной из моих верховых поездок в Алупку случайно зайти в одну татарскую саклю, где жил старик-сапожник с 12-летним внуком. Стены сакли были сплошь покрыты рисунками карандашом и простыми красками – преимущественно морскими видами и снимками с кораблей, а также довольно недурно срисованными видами деревни Алупки, парка и Львиной террасы дворца. Из разговора со стариком я узнал, что эти рисунки – работы его мальчика-внука. Мальчик оказался очень смышленым и талантливым татарчонком, и я обещал рассказать о нем Айвазовскому. Иван Константинович был так добр, что, увидя его рисунки карандашом (несколько из них сохранились у меня и теперь), обещал с полной готовностью помочь ему, если он окажется способным. Через некоторое время, приехав в Алупку, я зашел в саклю утолить жажду и застал в ней и мальчика, и деда его в восторге от присланного Айвазовским подарка: ящика с красками и целой стопки роскошной бумаги…
Глава IX
Встречи с И. К. Айвазовским. Посещение его в Вербное воскресенье 1800 г. Сеанс портретиста И. К. по приезде из Зимнего дворца. Рассказ Айвазовского о своих портретах. Кипренский и его портрет Пушкина. Портрет И. К., написанный им самим (1898 г.). Анекдот о турецких орденах и армянской резне. Ландыши. Женщины из Нью-Йорка с камелиями и успехи в Италии. 8000 р. на памятник герою Котляревскому. Запрестольный образ и постройка храма. Письмо к Булгакову. Встреча с Францем Листом. Несчастье с композитором.
Я часто видел Ивана Константиновича Айвазовского во время последнего приезда его в Петербург, встречая его на выставках и много раз навещая его, подолгу беседуя с ним о вопросах искусства и расспрашивая его о пришлой жизни, в блестящие воспоминания о которой, как все старики, он часто любил погружаться. Теперь эти встречи и посещения слились бы в моем воспоминании в одно, если бы не запись, которую я имею обыкновение вести обо всех встречах и более или менее знаменательных разговорах.
В одно из моих посещений знаменитого мариниста, как припоминаю, именно в последнее перед отъездом его на юг, в Вербное воскресенье прошлого года, я застал у него одного досужего портретиста, который чертил и набрасывал угольком в свой альбом незабвенные черты русского художника. «Сеанс» затянулся слишком надолго, и Иван Константинович выглядел очень утомленным; по крайней мере, я никогда раньше не видел его таким и поразился внутренней этой перемене. Накануне того дня я видел его еще бодрым, веселым и полным жизни и оживления и застал его только что возвратившимся из Зимнего дворца, за палитрой, с кистью в руках, заканчивающим чуть ли не десятую картину, как он говорил. Но в этот раз я не заметил обычного, присущего художнику и хорошо всем знакомого оживления; зато разговор принял интересный характер. Заглянув в альбом, я был поражен, увидя там какую-то нелепую безобразную кляксу, на которой И. К., покрытый морщинами, с преждевременно сомкнутыми веками, выглядел очень непоэтично. Портрет этот появился скоро на страницах одного из петербургских журналов и вызвал общее недоумение у лиц, знавших и встречавших в последний приезд в Петербург покойного художника. Как-то невольно разговор зашел по этому поводу о портретах, и И. К. Айвазовский стал нам рассказывать о своих портретах. Как всегда, во время последнего своего приезда в Петербург И. К. Айвазовский с веселым оживлением стал вспоминать о той редкой чести, которая выпала на его долю во Флоренции, где портрет его помещен в знаменитой галерее художеств, Палаццо Питти, рядом с Леонардо да Винчи и Микеланджело, величайшими мастерами западноевропейской живописи. Из русских художников в галерею попал только Кипренский, знаменитый портретист 20-х годов. «…Да, помнится, только один он, – сказал И. К. – Я даже был очень удивлен, не найдя там больше ни одного портрета наших художников, даже таких крупных, как покойный друг мой профессор Брюллов и Иванов. Оба хорошо известны в Италии и долго в ней жили. Что же касается Репина, то теперь, я думаю, его портрет поместили туда по заслугам, которые я бесспорно всегда признавал и признаю за этим сильным вождем и создателем целой школы художников, маленьких „Репиных“, изо всех сил старающихся теперь подражать ему». По этому поводу И. К. вспоминал недавно еще и о замечательном портрете А. С. Пушкина кисти Кипренского, который имеет целую историю и по сходству является одним из лучших портретов поэта, а по мнению художника, как современника Пушкина, «наиболее схожим с ним по своей духовной мощи и красоте». Вспомнив во время одной из наших встреч о громадном портрете И. К. Айвазовского, который пришлось видеть мне еще в 1898 году в доме художника, в Феодосии, на устроенной им в одном из залов своей квартиры выставке картин, написанных им в течение лета, – я спросил, где она находится теперь, и узнал, что исполинский портрет перенесен им в одну из комнат, примыкающих к его замечательной галерее картин. Портрет этот, высотой без рамы в 7–8 аршин, поставлен был, как теперь помню, прямо против входа в зал и поражал тогда всех своей исполинской величиной и изумительным сходством. На нем маститый художник изображен был во весь рост в задумчивой позе, с лентой через плечо. Большинство из посетителей выставки, среди которых был один наш известный художник и симферопольский уездный предводитель дворянства г-н Княжевич, были прямо поражены сходством. И. К. Айвазовский написал этот портрет в 10 дней, и по сходству он не уступает портрету кисти Крамского. Сравнение это легко было сделать, перейдя в картинную галерею И. К., где находится над дверью портрет работы Крамского. Когда заговорили об этом портрете, И. К. мгновенно оживился, нервно засуетился, отыскивая в одной из папок привезенные из Петербурга большие фотографические снимки с этого редкого у нашего художника по красоте и удачному исполнению портрета, вызвавшего в свое время столько толков и разговоров в Крыму. Показывая его нам, он долго смеялся, что ему пришла фантазия, вследствие общих настояний знакомых, написать портрет на старости лет самому, смотря на себя в зеркало и изобразив себя во всех регалиях, званиях и лентах единственный раз в жизни.
Со свойственным ему юмором он рассказал по этому поводу забавный анекдот из своей жизни о том, как во время недавней резни турками беззащитных армян, он, пламенея ненавистью к ним, в порыве увлечения и сострадания к угнетаемым, отправился на берег Черного моря и бросил торжественно в воду ленту турецкого ордена и звезду Османскую, которые поплыли, возвращаясь обратно к греческому султану и пашам, или исчезли, быть может, на дне создавшего его славу моря.
Рассказывая о своих планах и замыслах, И. К. Айвазовский с увлечением заговаривал о предстоящей заграничной поездке, которая, по его мнению, должна была вдохнуть в него новые силы для служения искусству. Какой-то восторженный поклонник нашего знаменитого мариниста, пожелавший остаться неизвестным, прислал в Вербное воскресенье ему два ящика ландышей, распространивших нужный аромат по комнатам. Супруга И. К., «Анна Николаевна» (как называл ее иногда в последнее время знаменитый художник), пришла сообщить нам об этом и вскоре уехала на закрывавшуюся в этот день выставку картин петербургских художников в Академию наук, а мы остались вдвоем и перешли из кабинета в гостиную, где художник снова предался приятным воспоминаниям, отдавая себя вполне во власть пришедшего там, где чудная игра света переплетается с волшебными упорами славы.
И. К. пришло на память в этот разговор, при виде цветов, как во Флоренцию на выставку его картин прибыла депутация с адресом от женщины-художницы из Нью-Йорка. Несколько юных любительниц художеств, представительниц Нового Света, приехав во главе этой депутации, состоявшей из 15 девиц, обратили особенное внимание на картины его из итальянской природы, пленявшей всех приезжих в то время, и, узнав его адрес, просили написать для них какую-нибудь небольшую картинку ценою лир в 300–500. Художник с обычной добротою и скоростью исполнил их желание, но не взял с них денег, а попросил купить ему, после настойчивого отказа их принять произведение его бесплатно, на эти деньги какую-нибудь мозаиковую вещицу. Заказчицы с удовольствием согласились и, приехав за картиной, привезли ему разные красивые вещицы и мраморное пресыпанье с мозаичными украшениями. Это было в пятницу. В воскресенье, возвращаясь из церкви, Айвазовский услышал от привратника отеля, в котором жил, что его «дожидаются американки». В недоумении художник всходит на лестницу и видит, что по обеим сторонам стоят два строя американок с великолепными букетами камелий в руках. Старшая из них, встретив Ивана Константиновича на верхней площадке лестницы, поднесла ему лавровый венок и увенчала им художника, сказав очень милый, любезный «спич». Затем экзальтированные девицы, вручив Айвазовскому свои карточки, радушно приглашали его в Нью-Йорк, обещая ему торжественную встречу и целые тучи венков и букетов, которыми они и их сограждане готовы засыпать весь путь художника.
«Портрет Анны Саркисовой». Художник И. К. Айвазовский. 1882 г.
Анна Мкртичевна Саркисова-Бурназян (1856–1944) – вторая жена Айвазовского, армянка. Айвазовский увидел Анну Никитичну на похоронах ее мужа, известного феодосийского купца, в 1882 году. Красота молодой вдовы поразила Ивана Константиновича. Спустя год они поженились
О картинах И. К. Айвазовского, выставленных опять в 1874 году во Флоренции, было напечатано множество статей в итальянских, французских и английских газетах. Тысячи посетителей теснились на выставке. Флорентийские дамы поднесли художнику также великолепный альбом со множеством подписей лиц, принадлежавших к высшему и ученому обществу Тосканы. То же самое повторилось и в Ницце, где он устроил выставку в пользу тамошнего детского интерната. Из собранных им в Италии денег Айвазовский пожертвовал 8000 руб. на памятник герою Кавказа Котляревскому, которому Пушкин дал в свое время удачное прозвище «бич Кавказа», и внес щедрое приношение в построение на месте упраздненной турецкой крепости соборного храма во имя св. Александра Невского в своем родном городе. В построении этого православного храма он принимал большое участие, и украшением этим изящной архитектуры храмом Феодосия также обязана ему, так как он горячо хлопотал об этом, напоминая согражданам о необходимости осуществить мысль императора Александра I, выраженную им еще в 1818 г. Запрестольный образ «Хождение Спасителя по водам» – замечательное произведение кисти Айвазовского, его приношение нашему храму, о постройке которого он так заботился.
По просьбе редактора «Нового времени» Ф. И. Булгакова, пригласившего меня для составления нового роскошного издания об Айвазовском, на другое же утро я был опять у И. К. Айвазовского и просил художника через меня ответить Булгакову письмом о разрешении поместить в его издании снимки с картин И. К., на что он согласился, написал и вручил мне это письмо.
Разговор происходил в присутствии одного художника К., и И. К. сообщил мне о своей встрече с Листом, происшедшей во время последнего пребывания его в Италии в семидесятых годах. Лист приехал во Флоренцию из Рима на несколько дней, чтобы отдохнуть от всех художников и скульпторов, бывших тогда в Риме, для которых он служил в ту пору общей моделью. Знаменитый композитор находил, что всевозможные дилетанты только уродовали его красивую характерную голову и очень доволен был встречей своей с маринистом, в котором он ценил друга Глинки и Россини и знатока музыки.
Однажды с ним чуть не случилось несчастье. Один польский скульптор, Сакс, убедил его, чтобы композитор позволил снять с себя гипсовую маску. Скульптор неумело залил ему лицо тяжелым гипсом, вдавившим ему щеки, оставив для дыхания только одну ноздрю. Лист едва не задохнулся. Результатом этого мучительного опыта была маска, напоминавшая какое-то исчадие дантовского «Ада».
После этого Лист уже никогда более не позволял снимать слепков со своего лица. Тем более что существовали слепки его рук с длинными, красивыми пальцами. Почти у каждой занимающейся музыкой дамы слепки этих рук лежали на столе, окруженные лавровым венком.
Глава X
Праздник в честь И. К. Знаменитые герои П. С. Котляревский[24] и А. П. Ермолов[25] и воспоминания о них. Приезд императора к Айвазовскому. «Девятый вал». Ермолов у Айвазовских. Подарки и переписка с художником. Встреча Ермолова с Чернышевым. Письмо Ермолова к Айвазовскому. Романтическое приключение с графиней Потоцкой.
Знаменитый кавказский герой Петр Степанович Котляревский, не раз принимавший у себя И. К. Айвазовского, устроил в честь возвращения его на родину в 1810 г. на своей живописной даче 21 мая, как рассказывал нам маститый художник, роскошный праздник, на который съехались в Феодосию гости из Севастополя, Симферополя к других городов России. В числе гостей были и герои черноморского флота П. С. Нахимов и В. А. Корнилов, а также А. И. Казначеев и другие, было немало и дам. Все гости посетили открытую в этот день выставку картин И. К. Айвазовского. На праздник стали собираться в шестом часу вечера, на пригородную дачу храброго героя Кавказа Котляревского. В 6 часов начались конные скачки. Потом «джигитовка» – особого рода ристание, на котором соперники на лошадях, на всем скаку, должны отнимать друг у друга платки; дамы раздавали призы. В 9 часов начался бал; танцы были прерваны на время фейерверком, потом ужином на 300 персон. Из Севастополя, по воспоминаниям И. К., вместе с линейным кораблем «Двенадцать Апостолов», командиром которого был В. А. Корнилов, прибыло тогда еще до пяти воевавших судов. Музыка гремела на них неумолкаемо, реи и снасти были унизаны разноцветными огнями и фонарями, переливаясь яркими красками на гладкой поверхности моря. «И через девять лет корабли, сослужив свою вековую, славную службу, погрузились во влажную могилу корабельной бухты, – говорит И. К. – Из моряков – Корнилов, Нахимов, сотни офицеров и тысячи матросов легли костьми на окровавленных развалинах и бастионах Севастополя».
В 1847 году Айвазовский был удостоен звания профессора, с чем приехал его поздравить сам император Николай I, в третий раз посещавший художника во время пребывания его в Петербурге. Айвазовский жил тогда подле Ордонанс-Гауза, в доме Яковлевой. С палитрой в руках, в рабочей своей куртке, счастливый художник поспешил встретить августейшего своего гостя, который стал расспрашивать его о новых картинах и заказал морской вид для дворца в Царском Селе. В этот приезд императора художник был занят «Девятым валом», который в начале 1848 года появился на выставке в Москве и в числе других шести больших картин был куплен императором для Эрмитажа. На время выставки художник приехал в Москву, куда привез десяток своих картин.
Герой, также воспетый Пушкиным, Ермолов, грозный вождь и покоритель Кавказа, мечу которого подвластны были «Кавказа гордые сыны», перед которым Пушкин приглашал «поникнуть снежною главою, смириться» вершины гор Кавказа, – удостоил в Москве своим приглашением И. К. Айвазовского и сам посетил вскоре его. Незабвенный маститый старец-герой вышел навстречу Ивану Константиновичу, своей осанкой, голосом и манерой обхождения очаровав знаменитого художника. Во время первого посещения его Айвазовским, беседуя с ним о крымских делах, о его успехах и славе нашего оружия, по словам И. К., он выразил желание видеть, как нашел свои холсты маститый наш художник. И. К. Айвазовский просил его пожаловать к нему для этого в ближайший день, к десяти часам утра. Ермолов приехал к дому, в котором жил Айвазовский, минутами двадцатью ранее, и до назначенного часа пробыл в соседнем книжном магазине. С последним ударом десяти часов, аккуратный и вежливый Алексей Петрович входил в мастерскую Айвазовского. Тогда Иван Константинович взял небольшую раму с полотном и в течение двух часов, на глазах своего знаменитого гостя, изобразил вид знакомых ему кавказских вершин и скал у берегов Черного моря, с группами черкесов, смотрящих на разбитое о прибрежные камни судно. Сюжет картины, быстро возникавшей под кистью Айвазовского, пробудил в сердце не сводившего с нее глаз престарелого «льва» воспоминания о былом, о славном прошлом, и предметом его разговора с художником был, разумеется, Кавказ. Не успел художник еще окончить свою картину, как в передней раздался звонок, а через несколько минут в залу вошел старик с длинной бородою.
– Не позволите ли лучше зайти к вам в другое время, – сказал он вышедшему к нему Ивану Константиновичу. – Я могу зайти еще к вам; теперь у вас А. П. Ермолов, а я не знаю, право, приятна ли ему будет встреча со мною… теперь… у вас.
– Но с кем я имею удовольствие говорить?
– Я Чернышев, бывший член общества «Союз благоденствия».
Иван Константинович попросил его обождать минутку, пока он передаст сомнения престарелого декабриста Ермолову. Через минуту к графу Чернышеву вышел сам Ермолов, быстро вставший из кресла при первых словах о неожиданном визите Чернышева; Алексей Петрович назвал графа по имени и отчеству, горячо обнял и вообще обошелся с ним, как с давним и дорогим своим другом. По словам Ивана Константиновича, в этой встрече было много трогательного, как и в дальнейшей беседе о прошлом этих двух старцев, так различно окончившим их независимое храброе служебное поприще.
Через день после визита к нему Ермолова И. К. послал ему в подарок картину, написанную при нем.
А. П. Ермолов поблагодарил вскоре художника весьма сердечным письмом, проникнутым восторгом и поэтическим вдохновением, которое сохраняется в бумагах художника, и подарил ему, точно так же, как и А. С. Пушкину, прекрасную старинную саблю из настоящий дамасской стали.
Приводим здесь замечательное письмо А. П. Ермолова к И. К. Айвазовскому. Оно хранится в семейных архивах художника. «Всегда исполненный восхищения перед произведениями Вашего изумляющего искусства, – писал Ермолов И. К., – нетерпеливо ждал я и желал увидеть самого знаменитого художника, творца грозных бурь и очаровательной красоты искрящегося моря, и Вы сделали мне честь посещением своим. На днях в доме г. Мамонтова я видел две картины, и скажу просто, что чувства мои зависели от Вашего произвола. Я приходил в ужас от бури, я погибал в волнах, выбиваясь из них без надежды спасения. Я уверен, что на лице моем видно было, что я струсил ужасно, но в десяти шагах дальше, перед другой картиной, я не только отдохнул, но провел роскошную ночь на берегу искрящегося моря, под кротким небом, при свете луны – красавицы выше всякого описания. Вчера, любезный Иван Константинович, Вы снова бросили меня в ужас бури, но Ваше великодушие же больше 3 часов продлило мои страдания. На Ваших часах я замечал время, и из белого полотна явилась картина, которая между произведениями Вашими займет почетное место. Я с намерением упомянул о трех часах времени, ибо каждому покажется удивительным и многим даже невероятным, чтобы так скоро могла быть совершена картина масляными красками. По скромности Вашей Вы не хотели вместо начальной буквы фамилии поставить слова „в три часа“, которым не помешал ни разговор присутствующих, ни частые обращения к Вам во время обсуждения. Не говорю о похвалах и восторгах – к ним давно Вы сделали привычку. С совершенным почтением к высоким талантам знаменитого соотечественника пребываю покорнейший Ваш слуга А. Ермолов».
«Портрет А. П. Ермолова». Художник П. Захаров-Чеченец. Ок. 1843 г.
Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – русский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии (1818) и генерал от артиллерии (1837). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской войны (до 1827 года)
Романтическое приключение с гр. Потоцкой
Не лишено интереса романтическое приключение И. К. Айвазовского с графиней Потоцкой, о котором сам художник однажды рассказывал следующее. «Осенью 1842 года я должен был ехать на выставку в Париж. Зайдя в Генуе в контору дилижансов, я встретил там очень красивую молодую даму, лицо которой показалось мне как будто знакомым. Всматриваясь, я вспомнил, что видел эту даму в Риме во время карнавала. Тут же в конторе дилижансов узнал я, что дама эта – австрийская полька, графиня Потоцкая. Она точно так же, как и я, ехала в Милан, и совершенно случайно нам пришлось ехать в одном отделении дилижанса. Третьим попутчиком был какой-то французский педагог. Дорогая графиня (очень любезная и умная собеседница) завела речь о политике и, как истая полька, не слишком-то сочувственно отзывалась о нас, русских, и тем резче была в своих суждениях, что не знала, к какой нации принадлежу я. Француз, как и следовало ожидать, держал ее сторону, и мне пришлось отстаивать родину от яростных нападок двух ее врагов, более говорливых, нежели последовательных и рассудительных в своих нападках на Россию. Приехали мы в Милан; француз исчез, а спутница моя весьма любезно спросила меня, в какой гостинице я намерен остановиться. Я сказал, и она заняла помещение в ней же этажом выше или ниже. На следующий день графиня через прислужника пригласила меня к себе на утренний кофе. После завтрака мы вместе отправились осматривать Миланский собор, в котором она своей красотой обратила внимание весьма многих бывших тут итальянцев и иностранных туристов. После осмотра собора графиня очень любезно пригласила меня отобедать с нею. От хлеба-соли грех отказываться, я принял приглашение. Имея, по-видимому, намерение записать меня в свои чичисбеи cavaliere-servente, ее сиятельство пригласила меня и на время после обеда сопутствовать ей на гулянье, в наемной коляске… И это можно, подумал я. Часа два-три промелькнули на гулянье незаметно; затем графиня распростилась со мной и в тот же вечер отправилась в Вену, а я дня через два в Париж, где нашел моего римского приятеля Векки, который имел удовольствие согласиться быть моим путеводителем в столице Европы. Гуляя с ним по какому-то бульвару, я встретил общего нашего знакомого, поляка Т-цкого, с которым довольно часто обедали вместе в Неаполе. Там Т-цкий был со мною очень ласков и разговорчив, здесь же, в Париже, не ответил на мой поклон.
– Что с ним сделалось? – спросил я Векки.
– Он сердит на вас, – смеясь, отвечал итальянец, – и намерен сделать вам вызов на дуэль.
– За что, про что?
– Бог весть, от кого он узнал, что вы увезли из Генуи в Париж ту самую женщину, за которой он уже несколько лет ухаживает, за которой нарочно ездил в Италию. Да, он серьезно думает о дуэли».
С трудом Айвазовскому удалось уладить эту историю и избежать дуэли с горячим Т-цким, который уже решил послать художнику вызов. Он помирился с Т-цким только тогда, когда переехал в ту же гостиницу, где остановился его пылкий соперник, и разговорился с ним об этом, после чего они стали еще большими приятелями.
Глава XI
Кровавая страница истории. Великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич и встречи с ними И. К. Покупка картин Александром II и императрицей Евгенией. Встречи с Доницетти[26], Россини[27], маршалом Пелиссье[28] и Наполеоном III. Воспоминания о приеме у Наполеона III и при дворе. Представление в Египте императору австрийскому Францу Иосифу и императрице Евгении. Картина, воспетая А. Н. Майковым.
Кровавая страница русской истории в эпоху Крымской войны 1853–1854 гг. вдохновила Айвазовского для исторгнутых из глубины сердца мрачных и кровавых сюжетов, перенесенных на полотно близким свидетелем этой эпопеи. Для этих картин он ездил почти к самым местам битвы из Харькова, где жил его брат, и таким образом написал одни из своих реальных и правдивых морских картин «Бомбардирование Севастополя» и «Синопский бой». В это памятное для России время художник имел честь встречать у себя проезжавших через Харьков из Севастополя в Петербург великих князей Николая и Михаила Николаевичей; они милостиво приняли от Айвазовского для представления государю императору несколько акварельных рисунков Айвазовского с изображением различных эпизодов войны. Вскоре на обратном пути из Петербурга к месту военных действий их высочества передали художнику благодарность их августейшего родителя и слова его: «Что бы ни написал Айвазовский – будет куплено мною».
Поглощенный печальными событиями войны, коснувшейся знакомых и близких ему лиц, Айвазовский с жаром и рвением принялся за написание новых картин, но когда он приехал с ними в Петербург, то уже не застал в живых державного своего покровителя. Две превосходно исполненные картины его и виды Малороссии были приобретены тогда же государем императором Александром Николаевичем и подарены им наследнику.
В следующем 1857 году, после академической выставки И. К. отправился в Париж, где за картины «Четыре богатства России», изображавших нашу страну в разные времена года, пронизанные общим голосом верха совершенства и приобретенные гр. Морни для императрицы Евгении, он получил редкое для художника отличие – орден Почетного легиона. Здесь он встречал разных замечательных лиц того времени, о которых сохранил навсегда в своей памяти глубоко врезавшиеся воспоминания.
Доницетти, Россини, маршал Пелиссье и Наполеон III оказывали ему особенное внимание. Россини посетил мастерскую художника. Маршал Пелиссье прислал ему любезное письмо с предложением навестить его «не в качестве недавнего врага, а в качестве гостя и друга». Письмо это в подлиннике сохранилось у И. К. Наполеону III и императрице Евгении И. К. Айвазовский, по совету нашего посланника в Париже, тогда же представился, чтобы благодарить их за награждение орденом Почетного легиона. Он встретил в Лувре самый любезный и радушный прием и приглашен был императором ко двору. Когда посланник представил И. К. императрице Евгении, он потрясен был ее царственной осанкой, красотою, с величием соединенными с особенной женственной, непередаваемой грацией, разлитою по всей ее фигуре. Наполеон III выглядел, по словам художника, вялым и утомленным, хотя он сказал немало любезностей нашему художнику по поводу его картин, похвалил живописные местности Крыма и просил его «остаться подольше в Париже», где он «будет чувствовать себя так же, как дома». При этом он прищуривал свои серые глаза, как-то тускло смотрящие на каждого, с кем он говорил, и, по словам И. К., непрерывно семенил короткими ногами, нескладно приставленными к некрасивой фигуре с длинной талией. Разговор шел на французском языке, но тут же с кем-то из представлявшихся император заговорил на чистом немецком языке, которым он владел в совершенстве.
В 1869 г. в ноябре И. К. Айвазовский посетил Египет для присутствия при открытии Суэцкого канала 5 (17) ноября; на этом торжестве он имел честь встретить и, вследствие выраженного ими желания, представляться некоторым высокопоставленным лицам разных европейских дворов, знакомых с ним по приобретенным на выставках картинам его кисти. Здесь находились, как было известно, Евгения, императрица французская, и Франц Иосиф, император австрийский, которым художник представлялся в частной аудиенции.
Картинами Айвазовского были украшены стены того самого дворцового зала, в котором шли переговоры о мире между великим князем Николаем Николаевичем и турецкими властями в 1878 году. Картины его этой эпохи являлись уже не простыми морскими видами, прельщавшими глаза зрителя, они говорили и сердцу, и возбужденной душе русских людей, как живописная хроника недавней войны. Символическая картина его «Знамение времени», выставленная в конце 1878 г. в Петербурге, вызвала новую сенсацию и толки. Кто не знает, что вдохновляемый не раз картинами Айвазовского, известный поэт наш А. Н. Майков чудно иллюстрировал эту картину следующими стихами:
Воздушный этот крест – ты понял – он всегда С таинственных высот всегда сиял над нами!.. Он шел пред нашими полками, Как Вифлеемская звезда В чудесную ту ночь, пред теми пастухами, Что первые приветствовать пришли Благую весть любви и мира на земли… Он вел нас за Дунай, в трудах во дни и ночи, На высоты Балкан, гоня пред нами тьму… И падших, с поля битв, тускнеющие очи С последнею мольбой стремилися к нему… Сиял он – над простым, походным лазаретом, В сердца тех чудных жен, что, бросив дом и кров И негу и покой, – простилися со светом И погреблись в труде – святейшем из трудов… Он – вождь наш искони; и, им лишь предводима И чувствуя его сиянье над собой, Как Божье воинство, с безтрепетной душой, Русь от начала лет поднесь непобедима.Другой небезызвестный поэт писал в ту пору:
Художник, что тебе открылось? Твой гений творческий проник, В непроницаемый тайник…Одним словом, успех этой картины был выдающимся.
«Хождение по водам». Художник И. К. Айвазовский. 1888 г.
Глава XII
Памятник Александру III в 1896 году. Улица и фонтан Айвазовского. 60-летний юбилей славного художника в Феодосии. Обед в Петербурге. Игра А. Г. Рубинштейна[29] и сувениры-рисунки Айвазовского. И. К. в 1900 году. Полувековой юбилей.
В 1896 году на средства, собранные И. К. Айвазовским в Феодосии поставлен грандиозный и величественный памятник из финского гранита, лабрадора[30] и бронзы императору Александру III. Именем Айвазовского здесь названа улица и красивый, сверкающий яркой зеленью бульвар, где находится роскошный мраморный фонтан Айвазовского, в который знаменитый художник перевел в разное время 100 000 ведер воды из Субашских источников пригородного имения его в вечное пользование города. Кто из нас не помнит торжественных празднеств, устроенных в сентябре 1897 года по случаю 60-летнего юбилея знаменитого художника?
Весь город и полотно железной дороги тогда утопали во флагах и гирляндах, массы приезжих переполнили и оживили его; в гостиницах ни хватало номеров. День 60-летнего служения на поприще родного искусства проф. И. К. Айвазовского был общим праздником, отличавшимся столь привычным ему волшебным, сказочным блеском. Иллюминация на улицах и на море, факельцуг гимназии со своим хором и оркестром, исполнение гимназистами «Многие лета», карнавал с танцами народов Европы и Азии в картинной галерее, украшенной электрическими вензелями, блестящий раут в доме Айвазовского 27-го сентября, парадный обед и бал в Думе для приезжих гостей на другой день, роскошный концерт с приезжими оперными и музыкальными знаменитостями, депутации от разных городов, учреждений и ведомств, приветствия от высокопоставленных особ, в том числе телеграммы от ее императорского величества императрицы Марии Федоровны, великой княгини Александры Иосифовны, принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, от председателя комитета министров И. Н. Дурново, министра финансов С. Витте и от других лиц, а также от художников со всех частей света. Все это не говорило ли ясно о великом значении, которого достиг в блеске славы удостоившийся в тот день награждения высшей государственной наградой и рескриптом с высоты престола И. К. Айвазовский! И это было только три года тому назад, и сколько событий с тех пор прошло перед нами…
Это довольно редкое в наше время и почти исключительное явление в мире художества, в смысле высшей оценки, которой достиг своим трудом и выдающимся талантом И. К. Айвазовский. Бесчисленные приветствия со всех сторон, от всех классов и слоев общества, нежданный взрыв общих симпатий были так велики для скромного всегда во всем, что касалось собственной личности, художника, что он в тот же день даже прослезился, как ребенок.
Памятно еще и другое торжество, когда в ответ на подписной в честь него обед он приехал в октябре в нашу северную столицу, устроил грандиозный по числу приглашенных представителей высшего общества и своей пышности пир, собравший в зале ресторана «Контан» министров, боевых генералов, ученых, литераторов, композиторов, художников и артистов и вообще друзей, а также целый цветник дам. Недавно еще вспоминали много о том, сколько было блеска, сколько было речей во время этого парадного обеда, на котором присутствовали все высшие государственные сановники и А. Г. Рубинштейн, и Л. П. Семевский, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, и П. Д. Делянов и другие, которые сошли уже под сень гробницы, как и оживленный, в ту пору красноречивый и увлеченный Иван Константинович.
После обеда А. Г. Рубинштейн, способствуя полному блеску оживленного пиршества, играл, играл без конца, заставляя гостей бросить карты и дружеские кружковые беседы. Здесь в последний раз он сыграл с обычной могучей силой и выразительностью, какую он проявлял только в минуты особенного вдохновения, свой любимый «Свадебный марш» из «Сна в летнюю ночь». Поэты читали свои стихи.
Столы были накрыты в трех залах, в каждом на сто персон. Во время тостов тут же были составлены телеграммы государю императору и великому князю Владимиру Александровичу обществом, которое пригласило Айвазовского с выражением благодарности за празднование его юбилея, и были получены ответы из Фреденсборга и Царского Села с поздравлениями Айвазовского.
До сих пор у многих еще сохраняются роскошные небольшие акварельные рисунки собственной работы И. К. Айвазовского, разложенные заботливой рукою радушного художника на кувертах каждого из гостей, как маленькие сувениры… Нет великого художника, но память о нем жива… Она не умрет никогда. Не могу не припомнить по этому поводу случая, как однажды, вскоре после того, за обедом в Петербурге Айвазовский вспомнил с грустной ноткой в голосе о двух свежих еще тогда могилах друзей своих А. Н. Майкова и П. И. Чайковского, умерших «ранней весной, когда выставляется первая рама». И, словно предчувствуя, говорил, что пожелал бы он умереть весной, когда оживает природа, «в такие дни, когда в поле при звуках невнятных голубенький чистый подснежник-цветок напоминает о близости дней благодатных». И вот, год прошел всего, дохнуло теплом, наступила новая весна…
Волшебных картин угас властелин… Из мира похищен он смертью лукавой, Покрытый венцом благодатных седин, Увенчанный вечною славой…В 1887 году, для Айвазовского очень памятном, праздновался его полувековой юбилей художника с особенной торжественностью. Преклонные годы маститого юбиляра, живущего постоянно в Феодосии, и сравнительно недавний еще отъезд его из Петербурга не давали надежды видеть его в день юбилея, потому ему было послано особое приглашение прибыть непременно на готовящееся в честь его празднество в Петербург, для присутствия на торжественном акте, устраиваемом академией нарочно по этому случаю.
Желая облегчить ему дальнее путешествие, его друзья и почитатели распорядились предоставить ему отдельный вагон из Симферополя, в котором он прибыл в Петербург в сентябре и остановился в гостинице «Европейской».
В этот день залы академии носили особенно торжественный характер. Высокопоставленные лица, все министры in corpore с председателем комитета министров и обер-прокурором Святейшего Синода, профессора академии, почетные гости, члены совета и члены академии, публицисты, артисты, художники, композиторы и масса публики и поклонников Айвазовского явились чествовать его торжество в прекрасную круглую конференц-залу Академии художеств. Посреди зала был поставлен стол с четырьмя креслами для августейшего президента академии, Айвазовского и двух ректоров академии. На хорах помещались дамы, принадлежащие к семье Айвазовского, и их знакомые. Ректор академии и профессора Кракау и Вилевальдо поехали в «Европейскую» за Айвазовским и сопровождали его в академию в карете.
Ровно в 12 часов великий князь Владимир Александрович изволил ввести юбиляра в залу под звуки торжественного марша. Все приветствовавшие встали с мест, и воцарилась тишина. В это время взвился занавес, и глазам присутствовавших представителей искусства, науки, литературы, администрации и публики представился академический мраморный бюст Айвазовского, декоративно увенчанный лаврами и утопающий в лесе тропических растений. Заняв председательское место, великий князь передал юбиляру вместе с глубокой признательностью от лица академии и русских художников высочайшую награду – знаки ордена святого Владимира 2-й степени.
Троекратный туш слился с рукоплесканиями публики. Затем начались речи профессоров, академиков и ректора С.-Петербургского университета М. И. Владиславлева и др. лиц, и пошли депутации.
12 столичных депутаций вручили роскошные серебряные подарки и венки. Депутация артистов Императорского театра, во главе с М. Г. Савиной, П. Ф. Сазоновым, К. А. Варламовым и И. Ф. Горбуновым, поднесла серебряный, вызолоченный венок, на каждом листе которого выгравированы названия наиболее известных картин Айвазовского, и приветствовала его речью, покрытой шумными аплодисментами публики. Затем шли подношения роскошных серебряных палитр с изображением армянской святыни – горы Арарата, адресов, вложенных в серебряные ящики. Были венки с золотыми лентами (от г. Феодосии) и роскошный серебряный бювар[31] с палитрой и мольбертом на нем. Один из подарков «от почитателей таланта» – изящной работы записная книга, на чеканном серебряном переплете которой выгравирована была очень искусно его картина, написанная в тридцатых годах, «Голландский корабль в бурю» (2-я золотая медаль). От поклонников его поднесена была также роскошная серебряная вызолоченная братина[32] с 6-ю чарками на массивном серебряном подносе и несколько других диковинных предметов. Вслед за представлением депутаций конференц-секретарь академии, взойдя на кафедру, начал чтение телеграмм и поздравлений, адресованных художнику от разных лиц и учреждений. Прежде всего были прочтены телеграммы от великих князей: Михаила Николаевича, Константина Николаевича, Сергея Александровича, Александры Иосифовны, Евгении Максимилиановны, принцессы Ольденбургской и др. особ. Это были не простые поздравления, а особенно горячие излияния любви и пожеланий на многие годы маститому художнику. Вел. кн. Константин Николаевич писал, между прочим, следующие слова:
«Примите самый искренний привет и поздравление от человека, знающего, любящего и ценящего вас ровно 50 лет. Желаю вам горячо еще много лет быть славою русского искусства. Все ваши орландские знакомые вас тоже поздравляют. Константин».
Е. и в. великая княгиня Александра Иосифовна писала между прочим: «Павловский и Мраморный дворцы могут похвастаться прекрасными вашими картинами. Я давно привыкла ценить их и восхищаться вашею кистью…» и т. д.
Айвазовский был сильно растроган всем этим и в теплых выражениях взволнованной блестящей речи благодарил августейшего президента, Совет академии и всех лиц. Он сказал между прочим: «Здесь в настоящую минуту соединилось все, что дорого мне… Эту знаменательнейшую минуту моей жизни я могу сравнить только с восходящим солнцем, в лучах которого стушевываются все события моей жизни…» В память незабвенного для него дня он просил великого князя, как президента академии, «принять в дар, если признают достойной», и дать место в одной из залов академии его картину «Пушкин на берегу Черного моря».
Его императорское высочество великий князь поцеловал юбиляра, и все перешли в античную галерею. Взорам вошедшей в распахнутую дверь публики представились две картины. «Штиль» – написанная в 1837 году, за которую Айвазовский был удостоен академией золотой медали. Другая картина – громадных размеров, написанная им к юбилею, изображала любимого им Пушкина на берегу Черного моря.
При вечернем зареве заката величайший русский поэт, полулежа на скалах у самого берега и освещенный его лучами, наслаждается видом расстилающегося перед ним обширного горизонта волнующегося моря. У ног его вздымаются волны, красота и прозрачность которых передана художником с совершенством. Молодое лицо поэта выражает созерцательное величественным видом синего моря, невольно передающееся и зрителю.
Эта картина и теперь висит там же, по дороге в академическую церковь.
«Пушкин на берегу Черного моря». Художник И. К. Айвазовский. 1887 г.
Наполнявшая античную галерею Академии художеств публика сделала юбиляру шумную овацию перед его картиной, а великий князь Владимир Александрович, оставляя академию, подарил Ивану Константиновичу на память свой портрет в роскошной золоченой раме с собственноручной надписью.
Проф. И. Е. Репин, по отъезде августейшего президента, высказал встреченное общим восторгом свое намерение написать портрет Айвазовского на берегу моря.
В 6 часов вечера в красиво декорированном веслами, баграми и морскими флагами с инициалами художника зале Павловой, на Троицкой улице, в честь Айвазовского дан был обед на 300 кувертов, на котором присутствовали все министры, профессора, представители Феодосийского городского управления с городским головой и директором Феодосийской гимназии, художники и масса гостей. При звуках марша и шумных рукоплесканиях на Айвазовского, при самом входе в залу, возложен был лавровый венок, в котором он занял место за столом между министром народного просвещения и морским министром. В эту минуту поднялся занавес и на сцене представилась глазам зрителей поставленная Н. Н. Каразиным эффектная живая картина, изображавшая Россию, венчающую бюст юбиляра лаврами, а кругом – эмблемы живописи и разные народы всех стран и тех местностей, которые прославил своею кистью Айвазовский.
Глава XIII
Семейная жизнь, путешествия, светские обязанности, чтение И. К. и взгляды его, истолкованные в печати в превратном освещении. Поездка на Кавказ, в Египет и предполагаемая в 1900 году поездка в Италию по письмам художника. Жизнь его в Петербурге и на родине. Предсмертный альбом. Последняя гениальная картина «Петр Великий в бурю» и история ее по рассказу самого И. К.
В газете «Новости» на видном месте, в отделе под рубрикой «Русская печать», появилась 5 мая перепечатка из «Русских ведомостей» с несколько странной «беседой» с И. К. Айвазовским некоего г. Г. Д., имевшей будто бы место «незадолго до смерти гениального художника».
«Беседа» эта, конечно, не представляла бы собою ничего заслуживающего внимания в смысле новизны и интереса ввиду повторения в несколько измененном виде большей части всего, что я уже рассказывал в «Новом Времени» о художнике по поводу выставки последних картин еще при жизни его, но даже при беглом просмотре ее бросается в глаза превратное и совершенно неправдоподобное освещение, в котором в ней выставлен наш знаменитый художник.
Встречая очень часто художника «незадолго до смерти» и беседуя с ним по вопросам искусства и в письмах, я, как и многие, конечно, был удивлен, прочитав недавно строки, в которых ему навязывают совершенно противоположные составившимся о нем понятиям взгляды.
Думается, что никогда И. К. Айвазовский никому не мог говорить, будто бы в ранние годы его «отвлекали от работы удовольствия, путешествия, семейная жизнь, светские обязанности и чтение». Напротив, в своей переписке он упоминает, что «никогда не забывал для удовольствий работы», и привожу здесь подлинные слова самого И. К., написанные его рукою: «Годы моей молодости не бесплодно для меня проходили. Это было счастливейшее время моей жизни, вселившее во мне отрадное сознание, что я по мере сил моих и способностей оправдал монаршую ко мне милость и оправдал ожидания, которые на меня возлагали соотечественники». О «постоянных, прилежных занятиях» (как И. К. выражается) за границей и о его плодотворной деятельности в чужих краях свидетельствует лучше всего количество выставок: более 48 раз за границей и 63 – в России.
«Пламенная любовь моя к искусству за все время пребывания моего за границей охраняла меня от всяких искушений», – говорит он в одном месте своего письма. Скромность и воздержанность его во дни молодости во время посещений кружка «братьев» К. П. Брюллова и М. И. Глинки выражаются и в другом месте его письма, написанного 20 лет назад, в похвалах К. П. Брюллова, каявшегося в своей невоздержанности за «дружескими» беседами кружка. Так что об «удовольствиях», отвлекавших его якобы от занятий искусством, не могло быть и речи.
«Путешествия», по словам самого И. К. Айвазовского и по моим наблюдениям, могли только способствовать развитию в нем любви к искусству. Влиянию путешествий художник приписывал полное ознакомление с природой и не только, но думал, что она отвлекает его от любимых занятий. Но еще ровно за 2 недели до смерти, прощаясь с нами при отъезде на юга, говорил о том, что собирается совершить новую поездку в Италию для того, чтобы «поработать там так же деятельно, как в пору молодости». Об этой поездке и значении ее незадолго до смерти он писал в письмах, извлечение из которых помещено мною в «Новом Времени» еще при жизни его. Кстати здесь приведу следующие слова его:
«Разъезды по берегам Неаполитанского залива вполне ознакомили меня с колоритом итальянских небес, воды и тайнами тамошней воздушной перспективы».
«Я вдохновлялся не раз живописными окрестностями чужих краев при эффектном освещении или в какой-нибудь момент бури и т. п. и сохранял воспоминание о них, – писал проф. И. К. Айвазовский и прибавлял: – Я, как пчела, сосал мед из цветника, чтобы привезти благодарную дань царю и матушке России!»
Начало своей европейской славы он приписывал тем же заграничным путешествиям.
Выставке картин и видов Кавказа, на собранные средства с которой устроена его знаменитая феодосийская галерея 25 лет назад, мы обязаны его продолжительным путешествиям в 1868 г. по Кавказу. Чудный край, дикие красоты которого вдохновляли Пушкина и Лермонтова, надолго привлекли к себе внимание художника и дали, по его словам, кисти его тот простор, тот величавый взмах, который дают громады гор с их снеговыми вершинами, ущельями и водопадами. Даже путешествие в Египет в ноябре 1868 г. исполнило его поэтическими восторгами, и, по словам его, «присоединило несколько новых данных его богатому запасу прежних впечатлений в художественной памяти». Пески Египта, кучи финиковых пальм, белые стены зданий, отчетливо выделявшиеся на фоне сапфирного или рдеющего, как расплавленный мед, африканского неба, – скоро были перенесены кистью художника на его картины. Поездка в Константинополь в 1874 г. дала возможность ему изучить яркий колорит азиатского Востока и писать в течение 3 недель пребывания в нем шесть больших картин по рисункам султана Абдул-Азиса и до 15 небольших – по своему собственному вдохновению восточною природою Турции и т. д.
Из этого видно, что путешествия нисколько его не «отвлекали от работы», а напротив, усиливали его кипучую художественную деятельность и способствовали ее развитию.
Не касаясь «семейной жизни и светских обязанностей», которым оставался неизменно верен, как и во дни молодости, в последние годы наш знаменитый художник, перейду к последнему пункту – чтение, о котором дважды упоминает автор беседы с И. К. Айвазовским, приписывая ему слова:
«И наконец, чтение… Читать я почти перестал, так как чувствую, что новые мысли и образы вытесняют мой обширный запас с юности набранных бесчисленных водяных и световых художественных впечатлений, переработки и перестановки коих хватит на много лет…» Прекрасно как будто бы сказано, но относительно правдивости этих слов я склонен к сомнению, основывая свое подозрение на том неоспоримом факте, что при своей деятельной, как всегда, работе, последних выставках и знакомых, находясь в Петербурге и приехав сравнительно на короткое время, проф. И. К. Айвазовский успевал прочитывать несколько журналов и газет почти ежедневно и читал всегда без очков. Он живо интересовался до последнего дня политикой и литературой, выписывал в Феодосию до 20 газет и журналов и вел, несмотря на свои годы, деятельную аккуратную переписку, перечитывая и увлекаясь, как в молодые годы, со своими друзьями: Гоголем, Майковым, а также Пушкиным, Тургеневым, Ренаном и другими авторами. Вечно, по его собственным словам, ища вдохновения и владея мечтой о создании новой, носящейся в воображении его картины, живя на берегу вдохновлявшего его Черного моря, он не испытывал нужды в «переработке» и «перестановке» «на много лет» прежних впечатлений.
Справедливость моих слов и восприимчивость его к новым впечатлениям доказывают и его посмертный альбом и этюды его из нашей северной природы, написанные и талантливыми штрихами только намеченные, как бы темы для будущих картин, в этом альбоме в Петербурге почти за месяц до смерти. Альбом этот он мне показывал.
В заключение позволю себе заметить, что И. К. Айвазовский никогда не говорил, что последнее громадное вдохновенное полотно его, написанное в прошлую зиму и изображающее Петра Великого, подающего из финских шхер в бурю сигналы погибающему судну, написано было в первый раз 50 лет тому назад, по заказу Пашкова. Он говорил мне и другим недавно еще так, что картина эта первоначально написана была им еще в 1846 году на сюжет, где-то им вычитанный, для жившего тогда в Петербурге мецената и покровителя искусства миллионера Яковлева. «Об этом узнал государь Николай Павлович и осчастливил меня своим посещением. Картина ему очень понравилась, – рассказывал нам И. К. Айвазовский. – „Как ты думаешь, – спросил он меня. – уступить мне ее Яковлеву?“ Я убедил его величество, что Яковлев сочтет себя счастливым. Государь купил картину и подарил ее своему сыну, великому князю Константину Николаевичу. Она висит в Мраморном дворце. Но мне самому эта картина не нравилась, и я тогда же дал себе слово написать ее еще раз. Теперь, через 64 года, я сдержал это слово, и второй картиной, настроение которой, можно сказать, почти всю жизнь я отыскивал, пока достиг поэтического впечатления и нашел сочетание яркого света и красок, я доволен гораздо больше, чем первой». Так говорил сам художник мне и присутствовавшему при нашем разговоре г. Протопопову вскоре по приезде своем в Петербург. Стало быть, «история картины» передана также неверно г. Г. Д. и требует исправления.
«Петр I при Красной горке, зажигающий костер для сигнала гибнущим судам своим». Художник И. К. Айвазовский. 1846 г.
Глава XIV
Картинная галерея И. К. Айвазовского. Картины «Плач императрицы Марии Федоровны» и «Встреча Венеры».
Из прекрасной, большой и художественно обставленной белой залы с яркой оранжевой штофной[33] мебелью, бюстами и портретами с автографами и самыми сердечными дружескими надписями великих мира сего, Иван Константинович любил переходить с гостями на большой исторический балкон, где иногда они пили даже послеобеденный кофе. Балкон выходил на сверкающий южной зеленью бульвар и морскую бухту, вблизи которой расстилалось косой уходящее вдаль безбрежное лазурное море. Развалины старинной генуэзской башни придавали всей местности особый исторический колорит, но и на самом балконе дома Айвазовского запечатлелась навеки историческая примечательность в виде турецкой бомбы, засевшей в стене во время бомбардировки города в 1878 году. Бомба пробила две стены в его доме и разорвалась в зале. И. К. рассказывал, «что осколком бомбы, лопнувшей в зале, в Феодосии, был разбит его бюст, другой же находившийся в зале бюст А. С. Пушкина уцелел». Как бы в доказательство личной ненависти турок к русскому художнику, Айвазовский in effigio (в изображении) пал жертвою войны, говорил он, смеясь.
И. К. водил приезжих гостей показывать с балкона море и говорил, что слухи о засорении портом морских купаний неверны, что нигде нет такого прекрасного купального курорта, как в Феодосии. Указывая на величественный памятник Александру III во время прогулок по городу, он с благодарностью вспоминал имя почившего императора и рассказывал, как быстро выросла при нем Феодосия и как скоро и отзывчиво откликнулись граждане, когда художник собирал у себя пожертвования, для сбора которых он даже объединил весь Крымский полуостров, побывав и в немецких колониях…
С увлечением он говорил и писал мне о своей роскошной картинной галерее, созданной его трудами и талантом и в своем роде единственной в целой России. Последние часы своего пребывания на земле великому маринисту пришлось провести среди своих чудных творений. Этот вид мертвого творца, окруженного своими вечно живыми созданиями, залитыми яркими лучами солнца, пробивавшимися сквозь стеклянную крышу картинной галереи, производил на всех сильное впечатление… Галерея завещана городу.
Во время последнего приезда моего к И. К. в комнате, смежной с роскошной оранжевой гостиной художника, но имеющей особый вход с улицы, выставлены были новые прекрасные картины его работы, от которых трудно было оторвать глаза – так красивы они по изяществу исполнения, чарующим световым эффектам и нежно подобранным тонам красок. В числе их особенно выделялись «Восход солнца в Ялте», «Судак», «Аю-Даг в лунную ночь» и «Буря на море». Чарующее впечатление на меня красотой и нежностью тонов, сочностью красок и беловато-голубым оттенком произвели еще две большие картины его – «Азовское поре» и «Закат солнца».
В сентябре почти ежегодно И. К. устраивал в Феодосии, в своем доме, выставки картин, написанных им с отличительной у него быстротой, в продолжение лета, в имении Шах-Мамай. Все сборы поступали в пользу благотворительного общества в Феодосии, причем плата взималась от 20 до 60 коп. с персоны, но дети и учащиеся, по его правилу, впускались бесплатно. И. К. говорил мне, что часть картин он отправлял на выставки в Париж и Лондон чрез одесского негоцианта[34] г. Рафаловича. В картинной галерее, куда я спускался каждый раз по лестнице из кабинета и мастерской с И. К. Айвазовским, мы заставали всегда много публики, которая толпилась здесь целые дни. Иногда И. К. встречал здесь своих приезжих петербургских знакомых и вел их нередко показывать город. Поразительное впечатление производила галерея И. К.: перед зрителями расстилалось море во всех видах, в разную погоду, в разных странах и в разное время ночи и дня, море бурное, плещущее и тихое, грозное, а в окна, лаская слух, смотрело настоящее море и весело врывалось нежное солнце…
Здесь выставлено было более 50 картин, больших и малых, кисти Айвазовского, перед которыми подолгу приходилось стоять, любуясь брызгами, волнами и пеной разъяренных вод и световыми эффектами, и море, казалось, вот-вот хлынет потоками из рамы.
Картинная галерея И. К. Айвазовского основана им 25 лет назад. В настоящее время она, как известно, является лучшим и наиболее ценным украшением Феодосии. Правда, и теперь не все еще знают о существовании этой коллекции, несмотря на то, что обладателем ее с давних пор открыт свободный доступ всем желающим осмотреть галерею; однако в последние годы она привлекает к себе все больше внимания. Она открыта для посетителей в дни и часы прихода пассажирских пароходов. За вход опускают в кружку для благотворительной цели по 20 копеек.
Выстроена она по проекту И. К. Айвазовского на средства, собранные в Петербурге выставкой его картин Кавказа, и помещается в доме художника на Генуэзской улице; большинство картин, находящихся в стенах ее, принадлежат кисти самого основателя. По внутреннему виду и убранству галерея представляет верх роскоши и изящества. По вечерам она освещается электричеством. В глубине громадного высокого зала, крытого стеклянным потолком, помещается сцена, к которой ведут 10 ступеней лестницы, украшенной по бокам изящными львами. Занавес на сцене, писанный также И. К. Айвазовским, изображает вид Венеции в лунную ночь с плывущими гондолами. С этой сцены в 1897 году читались речи и телеграммы при чествовании И. К. по случаю 60-летия его художественной деятельности.
Вблизи сцены и рядами между стульев в простенках возвышается скульптурная группа и статуи на античные сюжеты. С середины стеклянного потолка спускается висячая люстра. У лестницы, ведущей через небольшие хоры с ажурными перилами в мастерскую художника и его кабинет, красуются на особых пьедесталах в виде колонн – два бюста И. К. Айвазовского. Один из них работы Бернштама. Здесь все вблизи находится: мольберт, за которым И. К. иногда работал, а подле смежных с галереей комнат с картинами, направо от лестницы, стоит столик с фотографическими снимками его картин, с памятника императору Александру III в Феодосии и портретами Айвазовского.
Всех картин, находящихся в галерее, мы не будем перечислять: тут и морские пейзажи, и исторические, и символически картины, и портреты. Выделяется гигантское по размерам полотно «Между волн». Картина изображает бушующее море. Полотно, наверное, размером 6 аршин в ширину и более 4 аршин в длину. По словам самого И. К., картина исполнена им в течение десяти дней. Прежде на картине находилось судно с погибающими людьми, но художник его уничтожил, находя, что фон картины и сам по себе оживлен. Разъяренное бушующее море сливается на картине с хмурым горизонтом. Пена и волны замечательно хороши. Внимание публики приковывает и другая картина, «Пушкин у Гурзуфских скал»: «Там, где море вечно плещет». Поэт изображен на картине лежащим на одной из прибрежных скал в минуту вдохновенья.
Заметим, что И. К. написал много картин на эту тему и окончил ко дню столетнего юбилея Пушкина новую. В галерее находится еще копия с картины «Прощание Пушкина с морем». Происхождение картины относится к началу 80-х годов, когда И. К. услышал в обществе прекрасную декламацию стихотворения «К морю». Не попали в галерею «Пушкин у берегов Крыма», «Пушкин в Гурзуфе», «Пушкин с семьей Раевских по дороге в Гурзуф», «Пушкин на берегу Черного моря» Репина и Айвазовского и «Пушкин у Гурзуфских скал». На последней картине Пушкин изображен стоящим во весь рост на обрыве скалы во время прилива.
Наряду с картинами русских художников Филиппова, Платонова, Крамского, Штернберга, графа Мордвинова, баронессы Шлене, г-жи Петерсе и других, находящихся в галерее, назовем еще из работ Айвазовского: «Прибой», «Берег Биарица в лунную ночь», «Встреча Венеры с олимпийскими богами», «Плач императрицы Марии Федоровны», «Гроза», «Остров Капри против Неаполя», «Черноморский флот до Крымской войны на феодосийском рейде», «Разрушение Помпеи с моря», «Переход израильтян через Черное море» (копия картины, помещенной в Эрмитаже), «Тихое море с рыцарской лодкой», «Восход солнца в Ялте», «Феодосия защищается от врагов» (аллегорическая картина), «Ниагарский водопад» (большое полотно), «Мертвая зыбь», «Возвращение со свадьбы» (в Малороссии), «Группа облаков», «Аю-Даг», «Неаполитанская бухта в туманное утро», «Корабль „Мария“ во время штурма при возвращении императора Николая Павловича в 1828 году из Варны в Одессу», «Эскадра адмирала Нахимова, подходящего к Синопу», «Бриг „Меркурий“ под командой Хаэрского, атакованный двумя турецкими кораблями в 1828 году», «Место у Малахова кургана, где смертельно ранен адмирал Корнилов», «Часть Константинополя с остатками Генуэзских башен у Мраморного моря», «Гайрик, окрестности Эчмиадина», «Рыбаки у моря», «У крымских берегов», «Прибой у Биарица», «Близ Неаполя», «Сбор фруктов в Крыму», «Данте, указующий художнику на облака», и проч.
Из портретов работы Айвазовского здесь выставлены: портрет архиепископа Гавриила Айвазовского, отца, матери И. К. Айвазовского, головка девочки, портрет А. И. Казначеева и портрет самого художника во весь рот, с лентою через плечо. Портрет этот достигает 7–8 аршин в длину, закрывает собою почти всю дверь против главного входа. В смежной с галереей комнате (галерея состоит собственно из трех комнат и мастерской наверху) в прошлом году были еще выставлены последние работы конца года, предназначавшиеся для отсылки в Лондон на выставку.
К выдающимся картинам относится, кроме названных выше, «От штиля к буре». Прекрасно выполненное здесь тихое море, чуть трепещущее легкой, еле заметной на поверхности зыбью, постепенное нарастанье вдруг набежавших морских волн и переход в неудержимо-грозную бурю. Замечательно, что этот переход сделан художником на половине картины, хотя и громадных размеров – целой стены в одной из комнат галереи. Раньше она называлась «От штиля до урагана». И. К. об этом упоминает под снимком, сделанным с картины.
Картина «Аю-Даг» (также больших размеров) изображает прелестную панораму южного берега, которая открывается, когда вы плывете на пароходе из Ялты в Гурзуф. Лунное освещение, нежное и мягкое, с ярким отблеском в правой стороне моря, – верх совершенства.
Одна из любопытных картин Айвазовского – «Феодосия защищается от врагов» – подарена им городскому концертному залу. Картина эта в несколько аршин длины, занимает почти всю стену. Женщина, изображающая Феодосию, стоит на обрывистом утесе, на самом краю моря, освещенного яркими лучами солнца. Картина написана по случаю открытия в 1834 году в Феодосии, с разрешения императора Александра III, первоклассного коммерческого порта.
В находящейся справа у входа картине «Плач императрицы Марии Федоровны», написанной художником в конце 1894 года и, если не ошибаемся, нигде до сих пор не выставленной, аллегорически выражена духовная скорбь целого народа по случаю кончины императора Александра III. Императрица изображена на картине в глубоком горе, в трауре, у стола, на котором находятся чаша, крест и евангелие. В отдалении, за Невою, видна Петропавловская крепость.
Среди других картин представляет особенный интерес «Встреча Венеры, рожденной из пены морской на Олимпе». Яркая синева неба, зелень, со всех сторон окружающая великолепный храм с широкой, далеко выступающей к морю площадкой и колоннадой, напоминающей древний храм Тесея в Афинах, античные своды, фигуры богов, расположившихся в небрежных позах и группах на мраморных скамьях у фонтанов площадки, и, наконец, богиня красоты, подплывающая к зеленому берегу, – все это написано с особенным жаром. Отделанность мельчайших подробностей и сильный солнечный эффект, с легкостью тона и яркостью красок, делают картину сходной с лучшими произведениями Семирадского.[35]
«Восход солнца в Феодосии». Художник И. К. Айвазовский. 1855 г.
Глава XV
Сюжет новой картины в мечтах Айвазовского. Нильская невеста. М. М. Петипа[36] в «Снегурочке». Ф. К. Татаринова[37]. Вл. И. Немирович-Данченко. Красота и радость. «Рафаэль и его мадонны». А. С. Пушкин и А. И. Подолинский[38]. Подолинский у И. К. Айвазовского. И. Е. Репин. К. Е. Маковский[39] и спор его с Гончаровым. Офелия.
Иван Константинович рассказывал мне, что кроме написанных им картин Египта с песками древней страны фараонов, пирамидами, грудами финиковых пальм с сапфирным небосклоном – страны, с давних пор занимавшей его воображение, он задумал еще написать «Невесту Нила» – женщину в легком воздушном одеянии, с распущенными волосами, с приколотыми к ним и переброшенными через плечо гирляндами белых цветов: мирта, роз и лотосов, с роскошными белыми лилиями в руках, которые она на середине реки, во время разлива Нила, при луне, когда вода начинает подниматься, стоя на борту роскошной вызолоченной лодки, далеко бросает в воду за серебряные столбы лодки и следом за цветами бросается сама, как настоящая «невеста Нила», добровольно жертвуя жизнью за свой народ. Серебряные столбы должны поддерживать своды крыши каюты за ней, пурпуровые вышитые паруса должны быть распущены среди бурной реки, и только на самом верху мачты будет развеваться черный флаг, составляющий резкий контраст с общим светлым фоном картины. Кто читал «Nil Brant» Георга Эберса, тому должен быть знаком этот образ Apyje, т. е. невесты, говорил И. К. и восторгался вместе со мной этим романом. Думаю, что если бы Айвазовский написал эту картину, по красоте и поэзии она не уступила бы его известной «Сафо», бросающейся с высокой скалы в бурное море, «Амфитрит» или «Венере с моря».
Случайно увидя у меня один из портретов артистки Императорского балета г-жи М. М. Петипа – действительно прекрасный и редкий теперь, поэтичный снимок, подаренный мне в Ялте, на котором она выглядит, как и в натуре, обворожительной красавицей – вся в цветах, в венках и гирляндах и в виноградных листьях, с распущенными по плечам длинными белокурыми косами (из «Снегурочки», – Иван Константинович, как художник, пришел в восхищение от портрета и долго разбирал длинную подпись на нем, сказав, что не видел еще этого снимка. Хотя именно он был выставлен с автографом Марии Мариусовны в витрине музыкального магазина на набережной в Ялте и, снятый оттуда по моей просьбе, был привезен мною, кажется, во время визита ее ко мне с известной артисткой, г-жей Ф. К. Татариновой. Вместе с ней отправились мы в открытой коляске к проживавшему тогда в Ялте (в гостинице «Россия») В. И. Немировичу-Данченко с тем, чтобы пригласить его к участию в концерте, устраиваемом М. М. Петипа.
Помнится, что И. К. нашел много задумчивой мечтательности и скрытой грусти в лучезарных глазах балетной красавицы, а распущенные в поэтическом беспорядке по плечам волосы и цветы и гирлянды навели его на мысль, что давно роившийся в его воображении сюжет найден и невесту Нила как нельзя более могла бы олицетворить подходящая для полотна, как тип красоты, М. М. Петипа. При этом И. К. спросил, почему меня назвали «мечтателем и поэтом». Я должен был объяснить ему, что это мой псевдоним, и по его желанию прочесть только что напечатанное тогда и посвященное мною артистке стихотворение: «Ты помнишь ли вечер, у моря вдвоем мы сидели с тобой». Он очень смеялся, когда я рассказал, что стихи, по просьбе ее, были мною переписаны «на красивую бумажку с картинкой» и посланы ей в Петербург. Я никак не мог понять, почему этот идеализм ее показался ему тогда забавным, так как, каюсь, в моей молодой жизни на юге этот маленький эпизод составлял светлое и чистое воспоминание.
Не скоро после того, во время одной из последних встреч с Айвазовским, когда он прислал мне свою «Лунную ночь», – я посвятил ему небольшое стихотворение: «Серебром сверкает море, навевая сердцу грезы», которое он просил меня ему прислать. Но в то время, как оно было исправлено и приготовлено для печати, в Петербурге была получена печальная весть о его смерти, и редактор «Нового Времени» О. И. Булгаков известил меня об этом письмом, как только была получена телеграмма, прося прислать меня материалы для некролога и написать что-нибудь для газеты. Так что мое письмо осталось неотправленным, отчего русская литература и И. К., воспетый Майковым и др., конечно, ничего не потеряли. Я сообщаю только о своем чувстве и о факте, свидетельствующем, как он был снисходителен и как неожиданна была для меня его смерть. И как жаль, что первая в России обширная биография И. К., написанная мною для недавно появившегося роскошного издания о нем, не могла быть прочитана им и должна была, в силу печальной необходимости, закончиться сообщением о его смерти на рубеже с честью и славой прожитого им века (1817–1900). Во время нашего разговора Иван Константинович стал вспоминать великих мастеров кисти, «молившихся ей» и создавших в порыве вдохновения чудные и живые образы древней Эллады и Рима, и сказал, что многие из них всю жизнь разрабатывали какой-нибудь один мировой тип.
«Красота, одухотворенная идеей, строгая красота, с отражением на лице внутреннего чувства, например грусти, тоски, не может не запечатлеться в памяти художника, если он впечатлителен, – задумчиво произнес И. К., – и напрасно вы думаете, что веселые лица долго могут нравиться. Нет! Возьмем хотя бы Шиллера. Что он сказал о красоте и радости? Помните эти чудные стихи, в переводе Мея:
Если тебе не случалось печальной красавицы видеть — Ты никогда не видал красоты; Если тебе не случалось в прекрасном лице читать радость — Радости ты никогда не видал.Мадонны Рафаэля всем так нравятся, что немногие даже обращают внимание на окружающие их декорации, иногда довольно слабые в рисунке и даже колорите. А между тем и не вполне знают, что Рафаэль, увлеченный идеей так же сильно, как своей Фарнариной, увлеченный одним божественным образом, являвшимся ему и в сновидениях, и наяву, создавал картины одну за другой – таким образом им создан был прекрасный образ Мадонны, он увлекся этим образом и писал его всю жизнь, мог ли он обращать внимание на детали и аксессуары?»
– Это как вы увлеклись Пушкиным, к его стихам относитесь почти как к молитве и всю жизнь стремитесь создать образ любимого вами поэта, встречу с которым недавно вы мне описывали, – заметил я. За этим последовал горячий ответ:
– Пушкин – это воплощение красоты, это мировой тип, и к тому, что я писал вам о нем, могу прибавить, что, не придавая вообще своим картинам особенного или какого-нибудь исключительного значения, я должен сказать, что чувствовал особый прилив вдохновения, когда брался за кисть, чтобы изобразить один из моментов жизни великого поэта на морском берегу. В разное время моей жизни, и в молодые годы, и на склоне лет, я с увлечением прочитывал его стихи, слушал декламацию их в обществе и не переставал увлекаться одной мыслью, с прежней страстью и рвением пытаясь создать его величавый облик. Этот старый сюжет, казалось, овладел всем существом моим, и я страстно преследовал один и тот же вечно милый, знакомый по воспоминаниям мне образ. Я написал много картин из жизни Пушкина. Знаю, что за это меня упрекают многие критики, что за мои фигуры вошло почти в привычку меня осуждать, но не брошу идеи. С упорством южанина буду стремиться создать то, что желаю. Еще в 1839 году поэт А. И. Подолинский, объехавший Крым после Пушкина и не раз с ним на юге встречавшийся, был у меня в моей студии и застал меня за работой, с кистью в руках. Я писал тогда, как теперь помнится, Пушкина в ночное время, на одной из прогулок в Гурзуфе, прекрасно описанной им в «Онегине». Поэт говорил в главе VIII о «ласковой музе», услаждавшей его немой путь в Крыму «волшебством тайного рассказа» в следующих строках:
Она меня во мгле ночной[40] Водила слушать шум морской, Немолчный шепот Нереиды,[41] Глубокий, вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров.И поэт Подолинский, приславший мне потом книжку «Современника» со своими стихами, восторженный и пылкий, как все поэты, с большим увлечением отнесся к моей картине, которая мне тогда не совсем нравилась. Как раз в это время он описывал Пушкина в одном из лучших своих стихотворений «Переезд через Ялту» и по моей просьбе прочел мне отрывок, посвященный поэту и его пребыванию в Гурзуфе, который вы мне напомнили, так как приводите в своих статьях о Гурзуфе и Пушкине в «Новом Времени» и присланных мне книжках журналов. Теперь эти стихи немного устарели, в них говорится о том, что Пушкин, живя в Гурзуфе, брал поэта проводником с собой и заходил с ним в такую глушь, куда и птицы не залетают. Описывается настроение поэта, и, кажется, он назван славой и любовью отечества, избранником судьбы, что-то в этом роде; но тогда он продекламировал их с большим чувством, и я запомнил их.
Затем Айвазовский заговорил о пушкинской картине, написанной им в сотрудничестве с И. Е. Репиным, о необыкновенно удачном портрете его работы профессора Репина, и перешел к профессору К. Е. Маковскому, вспомнив, что и у этого художника есть свой излюбленный тип и даже литературный женский тип, напоминающий невесту Нила – Офелия. К. Е. Маковский три раза пробовал писать ее, и все три раза ему не удавалось придать ее лицу то выражение, которое соединялось в его представлении с этим симпатичным созданием.
При этом он вспомнил про горячий спор К. Е. Маковского с покойным И. А. Гончаровым, который настаивал на необходимости придать более реальное выражение сумасшедшей. А старик Маковский сумасшествие Офелии представлял себе необыкновенно поэтичным, говоря, что Офелия все время видела перед собой Гамлета, все время мечтала о нем и так и ушла в воду с этой мечтой, с песней на устах. Она отличалась от других сумасшедших тем, что не проявляла своей болезни ничем диким или страшным, а только мечтала, пела и раздавала цветы. Она была созданием, которого еще не коснулся земной грех, она ушла с земли таким же поэтическим призраком, каким жила на ней. И. К. говорил об этом с большим увлечением, и я вспомнил В. Ф. Комиссаржевскую в этой роли (Офелии), стал рассказывать ему о том типе, который она создает, и о песенке, которую поет эта артистка, обладающая довольно сильным и звучным голоском. При этом Иван Константинович припомнил прежних знаменитых исполнительниц, «безумного друга Шекспира» – артиста Мочалова и прежние слова старинной песни Офелии, которую когда-то, в годы его молодости, напевали все дамы:
Моего ль мы знали друга, Он был бравый молодец, В белых перьях статный воин. Первый Дании боец.Незаметно разговор наш перешел на театр, и И. К. сообщил много любопытного, но об этом в последующих главах.
«Девятый вал». Художник И. К. Айвазовский. 1850 г.
Глава XVI
Театр. Увлечение Белинского. Последняя встреча Айвазовского с Виссарионом Белинским. Предсмертные встречи с русскими поэтами. Встреча с С. Я. Надсоном. У Д. В. Григоровича. «Пятницы» Я. П. Полонского[42]. Романист И. И. Ясинский[43] (Максим Белинский). М. М. Щедрин-Салтыков. В. В. Комаров[44]. Викт. Бибиков[45], И. Н. Потапенко[46]. Мочалов[47]. Асенкова[48]. В. В. Самойлов[49]. П. А. Каратыгин[50]. М. И. Глинка. А. Я. Петрова-Воробьева[51]. Приключение с Дидло. Приезд государя. За кулисами. М. П. Мусоргский.
Иван Константинович любил театр и во дни молодости был частым посетителем русской драмы и казенной итальянской оперы в эпоху блестящего ее процветания. Вспоминая про старые далекие годы, он рассказывал немало интересного о разных знаменитостях русской сцены, воспетых нашими поэтами и оставивших глубокий неизгладимый след в истории нашего театра. Со многими из них в свое время он был лично знаком, встречая их в великосветских салонах и гостиных. В его живых речах оживали корифеи театрального мира: В. В. Самойлов, Мочалов, Дюре, Асенкова, Каратыгин, покойный Т. Я. Сетов, Петров, Комиссаржевский и многие другие. Он помнил Истомину, увлекшую Грибоедова и воспетую Пушкиным… Одни на его глазах сделали блестящую карьеру, другие при нем сошли со сцены и даже с житейской сцены. Какие имена, какое славное прошлое! Нельзя сказать, чтобы Иван Константинович, вечно занятый своими трудами, весь отдавался театру, но не полюбить театра человеку общества, с его душой, запросами и стремлениями, было невозможно. Театром увлекались в то время лучшие представители всех слоев общества, и, между прочим, его знакомые, имевшие на него большое влияние, Пушкин, Белинский и Гоголь, писавшие для театра и в своих произведениях и письмах очень часто занятые игрою артистов, как и С. Т. Аксаков, знаменитый автор «Литературных и театральных воспоминаний». Тогда еще не настала пора отрицания искусства и веяний Льва Толстого. С каким восторгом и горячностью относился к театру Виссарион Белинский, руководящий в ту пору общественным мнением и царивший безраздельно в литературных кружках, видно из его «Литературных мечтаний» – серьезной и искренней статьи, появившейся в конце тридцатых годов, в которой он восклицает:
«Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его я, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? И в самом деле, не сосредотачиваются ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всех обстоятельствах возбуждать и волновать нас, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею самовластно…»
Иван Константинович говорил мне, что читал вместе с Гоголем эту статью вскоре после выхода ее в свет (он и обратил внимание мое на нее). С Белинским И. К. встречался много раз в литературных кружках Петербурга и был у него по его приглашению один раз на Лиговке, через несколько лет после знакомства своего с А. С. Пушкиным, по возвращении своем из-за границы, незадолго до кончины великого критика. Более чем скромная, почти граничащая с нуждой, обстановка Белинского поразила И. К. не более, чем заостренные черты лица его и впалые щеки, озаренные чахоточным румянцем… Бесконечный вид жалости вызвал у него этот полный духовных сил и жажды работы и уже приговоренный к смерти идеалист-труженик, в горячих кружковых разговорах внушавший ему столько благородных, прекрасных мыслей. «Я точно теперь перед собою вижу его лицо, на которое тяжелая жизненная борьба и дыхание смерти наложили свой отпечаток, – говорил И. К. с сожалением. – Когда Белинский сжал мне в последний раз крепко руку, то мне показалось, что за спиной его стоит уже та страшная гостья, которая полвека назад отняла его у нас, но душой оставила жить среди нас. Помню, в тот грустный час он после горячей, полной энтузиазма речи, должно быть утомленный длинной беседой со мной, энергичным жестом руки откинул волосы назад и закашлялся. Две крупные капли пота упали со лба на его горящие болезненным румянцем щеки. Он схватился за грудь, и мне показалось, что он задыхается, и когда он взглянул на меня – то его добрые и глубокие глаза устремлены были в бесконечность… Сжатые губы, исхудавший, сдвинутый как-то наперед профиль с его характерным пробором волос и короткой бородкой и эта вкрадчиво-звучная, полная красноречия, горячности, пафоса речь знакомого, милого голоса, с особенной ему только присущей манерой, заставлявшая когда-то усиленно биться сердца молодежи – производили на меня тогда глубокое впечатление. Как далеко это время! Как много переменилось с тех пор!»
По странному стечению обстоятельств И. К. Айвазовскому пришлось встречаться в самый год смерти с Пушкиным (1837), Гоголем (1852), Жуковским (1852) и Белинским (1848).
Кроме того, незадолго до смерти поэта, И. К. познакомился и встретился в Ялте с прогремевшим в ту пору С. Я. Надсоном. И. К. признавал в Надсоне талант, но находил его стих, вполне музыкальный и художественный, – порой бедным в смысле недостатка слов, неумения подыскивать выражения, которыми так богата русская речь. Это он заметил и в разговоре с Надсоном, лицо которого напомнило ему портреты Шекспира. Надсон, с длинными, черными, закинутыми назад волосами, такой же длинной бородой и маленькими усами, худенький юноша с побледневшим желтоватым и впавшим лицом, одетый в короткий черный бархатный пиджак – представлял собою хотя грустный, но все же яркий и колоритный тип восточной красоты (поэт был, как известно, по происхождению евреем). Живые, умные глаза его, по словам И. К., обведенные темными ободками, казалось, увеличились в размере и «сверкали как звезды в темноте ночи», и он проявил массу горячности и ненависти, когда разговор зашел о враждебных ему течениях литературы. Напрасно И. К. силился перевести разговор на другую тему, болезненно нервного Надсона трудно было уже сбить с пути.
Надсон поразил И. К. мечтательным выражением лица и своей желтизной, худобой и нервной злобой, как будто он несколько месяцев находился между жизнью и смертью. Тяжело было смотреть, по его словам, на эту молодую угасающую жизнь, таившую в своих недрах неистощимые залежи духовного богатства. Лихорадочно блестящий взгляд красивых огненных глаз, в которых еще догорал светоч высокого вдохновения, порывисто дышащая грудь, полуоткрытые уста, с которых не сходила болезненная улыбка, и бессильно опускавшиеся руки – таков был внешний вид поэта, давно приговоренного к смерти.
И. К. Айвазовский бывал часто, как я упоминал, у Д. В. Григоровича и с увлечением вел с известным писателем беседы об искусстве и литературе. Однажды, зайдя к Д. В., я застал его здесь в жарком споре о русских художниках. Во время своих приездов в столицу он посещал иногда и поэта Я. П. Полонского, у которого устраивались тогда знаменитые «пятницы», и здесь он встретил романиста И. И. Ясинского (псевд. – Максим Белинский), о котором рассказывал мне, что он заинтересовал его своей оригинальной наружностью еще до тех пор, пока Репин избрал его дышащей красотой моделью для своей картины «Николай Чудотворец освобождает приговоренного к казни».
И. К. вскоре после того прочел романы И. И. Ясинского – «Иринарх Плутархов» и «Ординарный профессор», и они ему показались правдивыми и жизненными, причем ему казалось, что Ясинский больше поэт, чем представитель новейшей школы натуралистов по вкусу Эмиля Золя. И. К. был большим поклонником сатиры М. Щедрина-Салтыкова, которого он также встречал в обществе, и сотрудник «Откровенности» Орест Ядовиткин в сатирическом романе Белинского напомнил ему одного критика «большой» газеты, сохранившей и теперь большое влияние, благодаря таланту и способностям его представителей. Айвазовский советовал, даже через меня, Иерониму Иеронимовичу, как писателю с большой популярностью в провинции, издавать по примеру Достоевского свой «Дневник писателя». Тот же взгляд высказал мне впоследствии и наш талантливый и даровитый публицист и славянофил В. В. Комаров, очень часто встречавший И. К. Айвазовского во время его приездов в Петербург в домах литераторов и у А. В. Гейне (Самойловой). После Достоевского, мне известно, «Дневник писателя» возникал два раза: издавал его драматург Аверкиев, и в Москве – С. О. Шарапов, в 1899 году потерпевший, увы, фиаско на поприще финансового публициста. Рано отцветший беллетрист Виктор Бибиков, описавший яркими красками кружок молодежи в своем романе «Друзья-приятели», заинтересовал Ивана Константиновича живо набросанным им типом блестящего лгуна Хвостова-Трясилина. И. К., в один из моих приходов к нему, я застал весело смеющимся над эпизодом, в котором автор передает рассказ этого героя во время катания на лодке по Днепру со студентами, курсистками и молодежью. Тогда он вспоминал такое же катанье по Днепру в одну из чудных белых ночей с большой компанией народников из «Отечественных записок» во главе с Глебом Успенским и И. Ясинским; при нем Успенский был в красной кумачовой рубахе и плисовых шароварах.
«Берег моря ночью. У маяка». Художник И. К. Айвазовский. 1837 г.
Вскоре после того И. Ясинский (Максим Белинский), навестив меня во время болезни, провел у меня почти полдня, и когда мы перешли из столовой в мой скромный кабинет, после поразившего меня предчувствием близкой смерти предсмертного стихотворения А. К. Шеллера (Михайлова), отличавшегося большим чувством и вдумчивостью, я имел удовольствие прочесть ему и то место из книги Бибикова, которое так недавно еще с живостью и слухом громко читал нам Иван Константинович.
«Немирович-Данченко может писать только в Пизе, где прекрасный воздух и дешевая жизнь, он уезжает туда на весну и лето каждый год».
«Максим Белинский, высокий библейский старик с длинной седой бородой, устроил у себя в доме, небольшом мраморном дворце, наполненном статуями, редкостными художественными вещами и старинными картинами, келью, где и работает, не выходя из нее целыми неделями. Стены кельи обиты черным сукном, посередине стоит небольшой стол, вроде жертвенника, покрытый алым бархатом, на столе лежат череп и раскрытая Библия».
«Всеволод Гаршин, у которого в последней Турецкой войне бомбой оторвало правую руку, за что в свое время он получил Золотой Георгиевский крест с бантом, не может писать, но он вынашивает по годам свои маленькие рассказы и выучивает пьесу наизусть, диктует ее стенографу в один присест и т. д.».
При описании «замечательно выносливых» дам-гребцов Ольги Шапир и Цебриковой, много певшей своим могучим контральто, Михайловского, «прыгавшего через разложенный на берегу костер и не обжигающегося» и т. д., Иван Константинович разразился новым веселым взрывом смеха, и мы долго еще вели оживленный разговор о литературе.
От Айвазовского я направился к романисту И. Н. Потапенко для исполнения поручения, присланного мне в письме из Ялты г-жей Я. Пашковой (либретисткой балетов императорской сцены и автором недавно вышедшего в Париже и нашумевшего романа из русской придворной жизни), и И. К., узнав о моем знакомстве с талантливым романистом, просил передать Игнатию Николаевичу свой привет и симпатичный отзыв о его последнем романе «Дочь курьера» в «Ниве» и рассказах из быта духовенства, с интересом прочитанных им в «Вестнике Европы».
«Безумный друг Гамлета» – Мочалов восхищал своей игрой И. К., находившего в нем много страсти, огня и вдохновения. Прославленная Белинским игра его в «Гамлете» была хорошо памятна Ивану Константиновичу по сороковым годам. В то время московский Английский клуб вздумал почтить Каратыгина визитом. Честь, тогда высоко ценимая, которой перед тем удостоился один только художник К. Брюллов, а вслед за его отъездом и И. К. Айвазовский, чрезвычайно этим тронутый и польщенный.
В ту пору И. К. ездил из Петербурга в Москву еще в почтовом дилижансе и в Москве смотрел Мочалова в «Гамлете», «Отелло» и «Железной маске». Он восторгался Асенковой, когда она появлялась в мужских костюмах прелестным, сияющим «пятнадцатилетним королем» (Карл II), юнкером Лелевым (в «Гусарской стоянке»), «полковником старых времен» в пьесе Асмодея того же названия, девушкой-гусаром и «Добрым гением», увидел ее положительно во всех «победных» ролях. Она одна умела смешить его до слез. Та же Асенкова, подчинявшая его, как художника, обаявшая своей красотой и талантом, казавшаяся, по его словам, «милым шаловливым непоседливым веселым ребенком, подчас наводила на него сильную грусть», исторгая из глаз зрителей невольные слезы в драматических ролях. Смертельная грудная болезнь свела в могилу чудную артистку весной, во время пребывания на даче Ориенбаума.
Владелец Ориенбаума великий князь Михаил Павлович тогда оказывал, по словам Айвазовского, Асенковой самое благосклонное внимание, заботился об удобствах помещения больной и о ее развлечениях. По повелению его высочества, оркестр гвардейской полковой музыки в дворцовом саду разыгрывал каждый вечер особенно любимые ею музыкальные пьесы. Посланные из Зимнего дворца и дворца великого князя осведомлялись весьма часто, от его имени, о ее здоровье, и сам император Николай посвятил ее.
«Смерть Дюра произвела на нее тяжелое впечатление, напряжение душевных сил и атмосфера копоти и пыли на сцене доканали ее лихорадочно-горевшую натуру, после роли Карла II в последний раз с улыбкой откланявшейся публике в 1841 и слегшей на смертный одр в тот же день». И. К. говорил также, что память об этой артистке сохранилась у всех театралов доброго старого времени, она не умерла еще среди тех немногих лиц, которые долго и с любовью, как он в лучшую пору юности, следили за ее необычайными успехами. В тургеневской «Кларе Милич» он находил, как нам известно, черты, общие не только с известной ему также по сцене Кадминой, послужившей Тургеневу прототипом для нашумевшей в обществе новости, но и с Варварой Николаевной Асенковой. Об этом он упоминал в одной из своих бесед о театре.
В мастерских рассказах И. К. знаменитые артисты В. В. Самойлов и П. А. Каратыгин возбуждали всегда интерес слушателей. С неподдельной, свойственной ему веселостью художник живо рассказывал массу забавных эпизодов из жизни и закулисного быта этих артистов. Последний представитель артистического семейства Каратыгиных, около ста лет подвизавшихся на сцене, П. А. Каратыгин славился как поэт и писатель, блестящий ум и bons mots которого высоко ценились тогда в beau moiid’e. Необычайный юмор его, сохранившийся в известных куплетах, посланиях и эпиграммах, масса которых осталась в рукописи, передавался и в рассказах Айвазовского, иногда носивших интимный характер и передававшихся им только в мужской компании. Знаменитый артист и балагур в своих экспромтах и куплетах допускал иногда слишком крупную соль. Понятно, что такие стихотворения, при всем их сатирическом складе, не могут быть достоянием печати.
Он интересовал И. К. и как автор посещаемых им пьес. Домашний врач артиста и его искренний друг Л. А. Гейденрейх был также близким знакомым И. К. по кружку «братии», из которого они только вдвоем и уцелели, благодаря своей воздержанности, через полвека, тогда как и Глинка, и Брюллов, и П. Кукольник, и В. А. Жуковский – все умерли. Эти же два члена кружка дожили до глубокой старости, почти перешагнув в новый век.
Однажды, в первый день светлого праздника, Петра Андреевича посетил Иван Константинович, и на его вопрос, лучше ли больному, страдалец-артист отвечал:
– Христос воскресе! А вы воскресли?
– Нет, все сижу на этом кресле.
Он страдал удушьем от аневризма, но доктора находили еще у него и водянку. На заявление, что он не исхудал, П. А. произнес с улыбкой в ответ маринисту:
– Впрочем, если у меня вода, то мудрено засохнуть.
По заявлению И. К., артист не чужд был и недостатков, он отличался привязчивым ко всем знавшим его характером и главное – острым умом и веселостью, невольно вселяемой им в окружающих даже в предсмертной болезни.
В обществе кто-то как-то заметил: почему Людовик Наполеон принял титул Наполеона III?
– Оттого, – ответил артист сейчас же, – что Наполеона второго быть более не может.
И. К. рассказывал также, что на похоронах Крылова его просил кто-то показать, где министр народного просвещения.
– В гробу, – сказал артист, показывая на тело И. Крылова.
– А я думал, что министр вот этот, в звездах, – сказал провинциал, указывая на настоящего министра, графа Уварова.
– Нет, – отвечал он, – то наш баснописец, он в отчетах своих пишет басни.
На званых ужинах у В. В. Самойлова, Каратыгина и Глинки И. К. познакомился со многими артистами в позднейшее время.
И. К., бывший в дружеских отношениях с М. И. Глинкой, Часто посещал в дни своей молодости знаменитого композитора.
«Михаил Иванович Глинка, – рассказывал он, – производил тогда на мое воображение несколько странное впечатление. Очень маленького роста, худенький, черненький, с лицом бледным, темными рассыпанными волосами, он вовсе не носил на себе отпечатка гордости и величия, которые отличали Антона Григорьевича Рубинштейна и других бессмертных композиторов, которых я повстречал в Западной Европе. Серые маленькие глаза Глинки, когда он просил меня играть что-нибудь на скрипке, казалось, пронизывали меня насквозь, и только в них мелькали искорки. Я часто наигрывал на скрипке себе татарские песни, слышанные мною в детстве еще в Крыму, и он их перенес потом в „Руслан и Людмилу“. Однажды, когда я писал небольшую марину, Глинка сел за рояль и с увлечением сыграл их, восточные танцы и andante из „Руслана“. После того он пропел нам не без чувства и умения романс Антониды „Не о том скорблю, подруженьки“; я в первый раз слышал его, и он своим пением меня совсем очаровал. Владел своим голосом он чудесно».
И. К. Айвазовский рассказывал также, что он был на первом продставлении оперы Глинки на открытии Большого театра вместе с учениками Академии художеств. Многие из публики нашли оперу скучной. Дирекция, долго не хотевшая ставить эту оперу, требовала от взволнованного Глинки сокращений, но на следующих же спектаклях, когда публика «раскусила» музыку, успех был блестящий. Певцов Леонова, Петрова и на этих днях скончавшуюся в Петербурге известную артистку А. Я. Петрову-Воробьеву, супругу знаменитого О. А. Петрова, И. К. слышал не только в Большом театре, в этой опере, но и на спевках в квартире М. И. Глинки, когда эти артисты не волновалась и не робели так, как во время первого представления. Происходило это в 1836 году. Друг Айвазовского и Глинки, Нестор Васильевич Кукольник, по совету игравшей роль Вани г-жи Петровой-Воробьевой (настоящее прекрасное контральто), сделал после нескольких представлений план новой сцены, когда Ваня, посланный на царский двор, прибегает туда и будит «слуг царских». У Глинки, по словам И. К., быстро разыгралась фантазия, и он в какой-нибудь час написал всю вдохновенную сцену с речитативами, анданте и аллегро.
В следующем 1837 году опера шла на театральной сцене в бенефисе Петрова, в 1-й раз с добавочной сценой, написанной соединенными силами Глинки и Кукольника, и эта сцена, по словам И. К., имела шумный успех. Публика была взволнована и без конца вызывала бессмертного автора и даровитую исполнительницу. Автор же считал себя врагом итальянской музыки и, говоря И. К., что слышит в ней фальшь на каждом шагу, часто спорил с И. К., который не шутя увлекался итальянцами и ни разу не мог убедить Глинку пойти с ней в русскую оперу, где ставили итальянские оперы, в которых И. К. находил бездну чувства.
В позднейшее время И. К. познакомился с недавно скончавшимся в Италии бессмертным композитором Верди, с Францем Листом, и даже сам «Европы баловень Орфей, полудержавный властелин», маэстро Россини, одарил художника своей дружбой. В 1860-х годах в Париже Россини не раз навещал И. К. в его мастерской, и тот по его просьбе написал для него на память картину «Вид южного берега Крыма», куда только собирался ехать композитор. Но тщетно художник просил у разленившегося в это время и всею душой предавшегося гастрономии знаменитого композитора хоть один лист нотной бумаги, написанной его рукой. Итальянскую музыку И. К. очень любил и говорил, что Кольцоляри, Гризя, Марио, Тамберлик и Эверарди, как и другие итальянцы, доставляли ему когда-то много радости в жизни. И в последующие годы за работой он часто напевал какую-нибудь арию, и если пение «не удавалось» и «что-то не выходило» у него, то, обрывая арию, он смеялся громко и весело, с тем заразительно здоровым весельем, с каким умели жить в прежнее время.
Цыганского пения И. К. не любил и считал этот жанр искусства неудачным и несколько резким, своею дикостью смахивающим на некоторые формы уродливого декадентства в музыкальном искусстве. Хотя в памяти его было свежо предание о пушкинской цыганке Тане (умерла в 1875 г.), и в Москве он слышал когда-то знаменитую «королеву» цыганок Нашу Викулову. В обществе, впрочем, ему не раз приходилось слышать в последние годы, как он говорил, много «надоевших» ему цыганских романсов и песен.
«Неаполитанский залив в лунную ночь». Художник И. К. Айвазовский. 1842 г.
В то время как в этом году «Воспоминания об И. К. Айвазовском» уже набирались, в «Новом Времени» 30 апрели (№ 9040) появился обширный фельетон М. М. Иванова по поводу смерти А. Я. Петровой-Воробьевой, в котором помещен приводимый здесь нами отрывок из ненапечатанных воспоминаний покойной А. Я. Воробьевой-Петровой, любезно доставленный автору дочерью покойной, г-жею Е. О. Герасимовой. Покойная артистка, до конца дней своих сохранявшая редкую свежесть духовных сил и силу таланта, но из-за болезни глаз и слепоты оторванная от света, не раз вдохновлявшая писавших для нее М. И. Глинку и М. П. Мусоргского и писавших с нее и ее мужа портреты Брюллова, К. Е. Маковского и солнце русского театра Заряпко (кто не знает этого по-настоящему великого, бессмертного актера!), видела немало интересного в театральном мире. Ей пришлось иметь еще дело со знаменитым Дидло. Как известно, ее готовили в балет, где трость Дидло гуляла без церемоний по спинам воспитанников и воспитанниц. Воробьевой, когда ей было десять лет и ее впервые выпустили на сцену, пришлось испытать вспыльчивость балетмейстера. Ее привезли в театр, одели амуром; классная дама сдала ее в руки грозного Дидло. Амур должен был явиться верхом на дельфине. Бедная девочка растерялась и сквозь слезы повторяла: «Я не могу, мне стыдно». Дидло вышел из себя и так ударил ее по щеке, что она чуть не упала. В таком виде – верхом на дельфине, с пылающим от пощечины лицом, обливаясь горькими слезами, – предстал бедный амур перед публикой. Таков был первый выход Воробьевой на сцену, на которой она потом заставляла плакать уже публику.
В своей рукописи, относящейся к славному прошлому русской оперной сцены, артистка рассказывает: «На восьмой неделе 23 апреля 1835 г. меня выпустили из театрального училища на жалованье 1 200 р. ассигнаций (около 360 р. с.) и 200 р. ас. на квартиру (на эту сумму даже и в то время нельзя было нанять квартиры). Вернулась я в родительский дом счастливая и довольная; вечером заснула блаженным сном, но какое ужасное было пробуждение! Часов в 9 утра я получаю из конторы бумагу, где было написано, что „певица Воробьева выпущена из театрального училища на такое-то жалованье в русскую оперную труппу и с употреблением в хоре“. Можно вообразить мое отчаяние! Не помня себя, я бросилась к Кавосу просить его защиты. Он тоже поражен был такой вопиющей несправедливостью и обещал увидеться с директором. А между тем в другой день назначена была „Дампа“, и мне приказано явиться в хор. Делать нечего, пришлось покориться; оделась в костюм и стою на сцене. Опера начинается женским хором; главную роль пела тогда Мария Федоровна Шелехова, которая тут же на сцене. Хор поет, а я говорю: „Здравствуйте, Мария Федоровна“. Она оглянулась и с изумлением спрашивает: „Душенька, как вы сюда попали?“ А я отвечаю, что меня из офицеров разжаловали в солдаты, только без всякой вины. Она, добрая душа, так была этим поражена, что опоздала начать свой речитатив и вообще, благодаря моему сюрпризу, спела свою партию хуже обыкновенного…
Несмотря на все мои просьбы и защиту Кавоса, начальство упорно твердило, что мне делать нечего, оперы для контральто петь, и даже не имеют ничего в виду.
Не знаю за что, но директор чувствовал ко мне необъяснимую антипатию, а я ему платила тем же, никогда у него ничего не просила, старалась встречаться с ним как можно реже. Меня всегда возмущала его грубость, это вечное „ты“ к женщинам и девушкам; с этой грубостью я не могла примириться. А когда он являлся на репетицию или на спектакль, да входя, заложив руки назад, и свистел – значит их превосходительство не в духе, и так и ждешь какой-нибудь дерзости. Тогда я не только обойду сзади всю сцену, я даже вот полом пройду, чтобы только с ним не столкнуться…»
К сожалению, записки А. Я. обрываются, но по ее рассказам известно, что после ее громкого успеха в «Семирамиде» ее уже нельзя было держать в хоре за ненадобностью, тем более что государь Николай Павлович сразу оценил ее голос и талант, постоянно оказывал ей милостивое внимание и нередко приходил за сцену, чтобы выразить ей одобрение. Однако и тут неприязнь директора ухитрялась воздвигать преграды. Когда поставили оперу о Монтекки и Капулетти 17 февраля 1837 г., где А. Воробьева приводила всех в восторг в роли Ромео, директор, обыкновенно докладывая государю о более выдающихся театральных новинках, умолчал об этой опере, и, к великому огорчению артистов, всегда с нетерпением ожидавших царского одобрения, государь не приезжал слушать «Монтекки». Наконец уже в мае государь, как говорили, сам увидал в афише театра новую оперу и в тот же вечер из Петергофа приехал в театр. В последнем антракте его величество зашел за сцену и, приказав вызвать Воробьеву, высказал ей свое полное одобрение, прибавив, что не может остаться до конца спектакля. У Воробьевой слезы навернулись и невольно вырвалось: «Ах, ваше величество, какое это для меня несчастье!» Государь с удивлением спросил: «Почему»? – «Потому что в этом акте у меня самое главное, я не схожу со сцены». – «Тогда я останусь», – милостиво сказал государь и действительно пробыл до конца спектакля, еще раз выразил ей свое удовольствие и пожаловал великолепный фермуар.[52] Кроме того, после этого спектакля она получила прибавку в 1000 руб. ассигнаций, а позднее 15 руб. ассигнаций поспектаклевой оплаты. Таким образом, благодаря вниманию Николая Павловича, положение ее упрочилось.
В это время она познакомилась с М. И. Глинкой, который, пленясь ее необыкновенным голосом и талантом, именно для нее написал партию Вали. В тот год с ней познакомился и И. К. Айвазовский. К этому времени относится и увлечение артистки знаменитым певцом О. А. Петровым, как она говорила, «покорившим ее сердце еще в училище, когда он уже был на сцене и выходил красиво и живописно задрапированным черным плащом, в серой шляпе с пером, из-под которой вились черные кудри».
Автор воспоминаний об А. Я. передает еще следующие исторические факты. В начале 70-х годов покойный М. И. Мусоргский приносил ей на просмотр все, что писал, и приходил в восторг от передачи ею «Песни раскольницы» из оперы «Хованщина», и в особенности романса «Сиротка». У А. Я. сохранился его собственноручный экземпляр этого романса, транспонированный Мусоргским для А. Я. со следующей надписью: «Для гениальной Анны Яковлевны Воробьевой-Петровой, без всяких знаков (на гения не посягай) – Мусоргский; ему же во сне не снилось, что из этого скромного „Сиротки“ создала Анна Яковлевна. Май, 1874 г.». Вместо обозначения темпа написано: «Специально без обозначения скорости движения и экспрессии (когда постигнешь гения, брось указку и подчинись)».
Глава XVII
Балет. «Черкешенка» Истомина[53]. Пушкин и Грибоедов. Сара Бернар[54] и Гюстав Доре[55]. И. К. Айвазовский о Саре Бернар и Л. Б. Яворской[56]. И. К. Айвазовский на «вторниках» у Хряковых в Киеве. Среды у князя Гагарина в Петербурге. У князя В. Пятницы художников. Боголюбов и враги художника. И. Е. Репин и декаденты. Устрицы великой княгини.
Иван Константинович не был поклонником балета, где мирный гражданин позабывает чины и лета, тем не менее он иногда вспоминал, что он в свое время, хотя и недолго, как поклонник красоты в искусстве, заплатил свою дань увлечения балетом. В прежние годы, в доме Айвазовского в Феодосии, на сцене, украшенной декорациями и занавесом художника, в длинном зале с эстрадой его картинной галереи устраивались (иногда и в высочайшем присутствии) балетные любительские спектакли, с участием детей и девиц из высшего общества Феодосии и ставились живые картины, на которые приглашались им многие лица. Волшебный край, «под сенью кулис», где некогда, во времена его, «Дидло венчался славой» и «царство русской Терпсихоры», – художнику знаком был хорошо, так как большинство его товарищей здесь проводили дни свои. Балеты Дидло, по словам Пушкина, «исполненные живости воображения и прелести необыкновенной, очень нравились Айвазовскому. Один из наших романтических писателей (того времени) находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе, и на балетной сцене давались тогда переделки поэм Пушкина. «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник» имели большой успех. И. К. Айвазовский имел случай, посещая балет, познакомиться и с одной из героинь Пушкина, «прелестной черкешенкой» А. И. Истоминой (26 июня 1848 г.), о которой великий поэт упоминает в своих письмах к друзьям. На долю этой знаменитой красавицы балерины выпала редкая счастливая участь быть воспетой в гениальных стихах Пушкина, в «Евгении Онегине», благодаря чему она получила бессмертную славу:
Блистательна, полувоздушна, Смычку волшебному послушна, Толпою нимф окружена,[57] Стоит Истомина; она, Одной ногой касаясь пола, Другою медленно кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит, Летит, как пух от уст Эола;[58] То стан совьет, то разовьет И быстрой ножкой ножку бьет.Как современник прославленной «по всей Руси великой» Авдотьи Ильиничны Истоминой, И. К. находил, что «своей красотой и искусством она производила увлекающее впечатление – такое же, как и на Пушкина, – на всю остальную публику. Необыкновенно грациозная, легкая, быстрая в движениях, бойкая и самоуверенная на сцене, Истомина обладала, притом, весьма красивой наружностью beaute orientale». Стройная брюнетка среднего роста, со жгучим, огненным взглядом черных и полных страсти очей, прикрытых длинными ресницами, особенно оттенявшими ее лицо, Истомина пленяла не одну только молодежь. При этом не следует забывать, что особенно привлекательным в ней казалось и то, что сама она была натурой увлекающейся, мало тронутой культурой и образованием. Она легко воспламенялась и всегда окружена была толпой поклонников. «Прекрасная черкешенка», балерина была причиной нескольких поединков, столь модных в первой половине нашего столетия. Один пз таких поединков закончился самым печальным образом.
Для нас он особенно важен потому, что имел влияние на судьбу А. С. Грибоедова, которому после дуэли не жилось спокойно в столице, и он вынужден был уехать на службу в далекую Персию, где был убит в Тегеране. Вот как произошла эта история.
На одной квартире с Грибоедовым, в Петербурге, жил его добрый приятель Александр Петрович Завадский, с которого Грибоедов списал своего князя Григория:
Чудак единственный! Нас со смеху морит! Век с англичанами, вся английская складка…Граф Завадский ухаживал за знаменитой балериной в то время, когда ее счастливым обожателем был штаб-ротмистр Василий Васильевич Шереметев, молодой кавалергард. Давнишний знакомый Истоминой, с которой встретился на вечерах у князя А. А. Шаховского, Грибоедов пригласил красавицу балерину к себе в гости. Истомина приехала. Визит этот Шереметевым был дурно истолкован, и Грибоедов был вызван на дуэль, чему немало способствовал знаменитый в то время забияка, отчаянный театрал А. И. Якубович, впоследствии попавший в число декабристов. Было решено, что Якубович, друг Шереметева, будет драться с Грибоедовым, а Шереметев – с графом Завадским. Шереметев был смертельно ранен и через три дня скончался; Якубович перед Грибоедовым извинился и просил отложить дуэль до следующего года. Она состоялась уже в Тифлисе, осенью 1818 года: у Грибоедова была прострелена ладонь левой руки, отчего у него свело мизинец. Это увечье и помогло, одиннадцать лет спустя, узнать труп Грибоедова в груде прочих, изрубленных тегеранской чернью.
«Портрет А. И. Истоминой». Художник неизвестен. 1820-е гг.
Авдотья Ильинична Истомина (1799–1848) – легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета
Первая танцовщица петербургского балета и одна из блестящих учениц «венчаного славой» Дидло, танцевавшая на сцене с лучшими партнерами того времени, Огюстом, Гольцем и др., весьма прозаически закончила свои похождения, выйдя замуж за какого-то бездарного второстепенного актера Экунина, блиставшего ее бриллиантами даже на пуговицах жилета и пережившего ее, так как сама талантливая Истомина оставила земное поприще в 1848 году и погребена у нас на кладбище Большой Охты.
В 1879 году И. К., до поездки в Новый свет, поехал в Голландию и Париж, где пробыл с осени до половины декабря, несколько месяцев, и познакомился с Гюставом Доре и Сарой Бернар. «Кипучая жизнь, многолюдство, неугомонная деятельность европейской столицы, – рассказывал И. К. Айвазовский, – особенно поразительны после апатичной Голландии. Словно переход из мрака полутемного, сырого подвала в ярко освещенную залу. Из массы впечатлений, новых встреч и старых знакомств в Париже на этот раз ничто особенно не врезалось в мою память. Из тех художников, с которыми виделся, могу назвать Гюстава Доре, известного у нас своими прекрасными рисунками к Библии, „Потерянному раю“ и пр. Я не раз встречался с Гюставом Доре и вынес о нем самое симпатичное впечатление. Тогда Гюстав Доре изменил карандашу и прилежно занимался скульптурой. Вообще я заметил, что на парижских художников напала какая-то страсть к лепке. За нее принялась по совету и под руководством Гюстава Доре, в его мастерской, и талантливая сценическая актриса Сара Бернар, с которой я познакомился у него. Воздерживаясь от всяких сравнений ее дарования сценического со скульптурными ее произведениями, могу сказать только, что в них заметны признаки богатых ее способностей». В декламации и игре Сары Бернар И. К. находил много сходства с талантливой ее ученицей Лидией Борисовной Яворской, которую он встречал на литературных вечерах в Петербурге. Он прочел давно о ней статью Вас. Ив. Немировича-Данченко в «Севере», и в разговоре со мной он, как художник, предсказывал ей, судя по ее внешности и сценическим данным, еще в начале весны прошлого года блестящий успех в роли герцога Гейхштадтского – сына Наполеона, в только что появившейся тогда новой пьесе Ростана «Орленок». И я тогда же передал об этой, еще, по ее словам, «не подвергнутой остракизму Суворина» после истории с «контрабандистами», премьере Малого театра. В «Figaro» и др. французских газетах тогда много писали уже о старой этой пьесе и роли, с особенным вниманием разучиваемой Сарой Бернар.
Я познакомился с Иваном Константиновичем и встречал его во время его проезда в Киев в 1888 году, в одном из богатейших домов города, на вечерах по вторникам у председателя биржи, коммерции советника Николая Григорьевича Хрякова, у которого мой дядя д-р И. В. Фурин был домашним доктором. «Вторники» отличались большим вкусом и оживлением. Роскошные апартаменты Хряковых в их громадном доме на Бибиковском бульваре, украшенные по стенам штофными материями, дорогими предметами роскоши и редкими картинами Айвазовского, собирали большое общество и всю городскую знать. Здесь было немало интересных личностей, но, конечно, всех их затмевал своей славой вечно живой, общительный и приветливый Иван Константинович, неподражаемые творения которого висели перед всеми тут же на стенах и заставляли заводить разговоры на любимый предмет его – искусство. Надо отдать справедливость и семье Н. Г. Хрякова – по радушию это был также один из первых домов в городе, все было на широкую ногу и сам хозяин и милая его семья старались занимать чем только можно гостей, из которых немногие только садились за карты до ужина. Несмотря на то, что кроме литераторов, артистов и художников здесь был налицо почти всегда весь персонал административный и педагогический, – он не выносил с собой скуки, так как гостей выручали неизбежные в таких случаях карты.
Как человек тонкого воспитания, очень умный и талантливый, И. К. Айвазовский, устраивавший свои выставки в Киеве, умел выбирать не только для картин сюжеты самые современные, но и темы для разговоров животрепещущие, всех оживлявшие. Его очень полюбили все мы и даже дети Хряковых – белокурые институтки, очень живого темперамента, бойкие и выдающиеся, как и все в этой семье, умом и красивой наружностью, окружая его тесной стеной, с любопытством слушали его рассказы, не сводя с него глаз.
Айвазовский очень любил дом князя Гагарина в Петербурге, где были назначены вечера по средам. Все высшее общество ездило на эти вечера, куда также приглашались художники только с выбором, потому что требовались фрак и mo mise decente, что есть не у каждого. Цель этих вечеров была очень хорошая – сблизить художников с большим светом или, как говорил сам князь, очень даровитый любитель-художник, изучавший искусство и церковные древности и близкий ко двору, – показать их друг другу. Прелестные барышни с любопытством смотрели на этих странных людей – художников, которых они нигде не могли увидеть, как теперь цыган или неаполитанцев. Вечера по средам сделались так людны, что несмотря на огромные комнаты «дворца» князя Гагарина, в них бывало тесно; устраивались спектакли, чтение, музыка, для занятия гостей были разложены на столах прелестные заграничные иллюстрированные издания, коллекции фотографий и гравюр. Одним словом, все было хорошо: общество самое избранное, и любезные хозяева, и прекрасная, оригинальная обстановка. И несмотря на это, цель не была достигнута. Художники, старые и молодые, всегда держались в стороне и, за исключением И. К. Айвазовского, – не сближались с обществом. Становилось скучно, и скоро великосветское общество перестало ездить на эти вечера, а художников, вообще людей робких и тщеславных, надо было уговаривать идти туда. Если бы у князя Гагарина было меньше этикета, как у мадам Гейне в ее артистическом салоне, то вечера были бы в состоянии удержаться дольше. В средствах к разнообразию и оживлению недостатка не было, среди художников бывали и литераторы, и музыканты – одним словом, много интересных личностей, и все-таки было скучно.
Великосветское общество, как после в доме князя В., винило художников, а художники находили всех этих господ чересчур важными и чванливыми. Впрочем, надо и то сказать, что в то время соперниками Гагаринских вечеров являлись «пятницы» художников в полном блеске. Там всем было весело, потому что было без затей и этикета.
Душой «пятниц» был умный и талантливый Айвазовский, часто являвшийся из своего имения в Крыму в Петербург и всякий раз привозивший целую коллекцию своих картин на продажу. С годами Айвазовский приобретал все больше способность красиво и необычайно скоро писать картины, выбирая животрепещущие или интересные сюжеты с большим талантом и вкусом, и всегда отлично продавал свои картины, возбуждая зависть в художниках. Боголюбов всегда с ожесточением критиковал Айвазовского, называя его живопись «подносами». Боголюбов хвастался рисунком, чего не было у Айвазовского, зато последний владел красками и эффектами. Враги Айвазовского уверяли всегда, что картины его – одна удача, что все пишутся рутинно и без определенного вдохновения, и в одно время этот более чем странный взгляд, невежественный, нашел отражение в печати. Критики с пеной на губах набросились на И. К., обвиняя его и в том, и в другом; нашлись даже такие, которые заговорили самым строгим тоном о его фигурах, как будто Айвазовский был жанристом, но он перенес все эти интриги с гордостью и хладнокровием. Он, писал об этом Айвазовский, ни у кого из критиков и художников никогда не заискивал и ни перед кем не кланялся, любил свою alma mater – академию не меньше, чем прежних ее профессоров, и Брюллова, и Бруни, любил молодежь И надежды на нее не обманули его, когда его защитником против нападок на него новейшей «школы» декадентов выступил на страницах «Нивы» еще так недавно уважаемый профессор И. Е. Репин, несмотря на противоположность своих взглядов и разобщенность с академией, признавшей могучим его творчество и недосягаемым то общее впечатление, которого достиг И. К. в «Потопе», и отвечавший за него на последующие нападки модных и так же скоро проходящих, как моды, декадентов, неуважительно отзывавшихся в «Мире искусства» даже к такому почтенному, убеленному сединами самородку-таланту, каким является и XIX веке в России наш заслуженный профессор морской живописи И. К. Айвазовский. Вообще развенчивать великих современников при жизни, не признавать их гениальности и прославлять их во гробе – это черта русских людей, отмеченная еще Добролюбовым.
В жизни Моцарты вызывают появление Сальери почти на каждом шагу. Последние задаются беспокойным вопросом:
Что пользы, если Моцарт будет жить И новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет!И даже такой выдающийся колосс-титан в литературе, как наш Л. Н. Толстой, не избег общей печальной участи и одно время серьезно уличался нашей газетной «улицей» и г-жей Крепко с ее пресловутой комедией «Дотаевцы», имеющей будто бы, как первообраз, слышанный графом Л. Н. Толстым в ее чтении в Москве, слишком много сходства в идее и слоге (sic) с его «позднейшим» произведением «Власть тьмы», интересный отзыв о котором Айвазовского мы привели в VI главе. Замечательно, что неблагоприятное для И. К. одно время веяние критики слегка отразилось и на высоких лицах, продолжавших, однако, раскупать его картины. По этому поводу И. К. рассказал нам следующий анекдот. Однажды Айвазовский привез в Петербург целую коллекцию картин, на которые были назначены им высокие цены. На выставку этих картин в академию приехала великая княгиня Мария Николаевна; посмотрев их, она громко сказала: «На этот раз привоз устриц оказался неудачным». Великую княгиню Айвазовский, впрочем, считал своей «партизанкой».
Глава XVIII
Последний приезд И. К. Айвазовского в Петербург. Посещение И. К. Айвазовского. Разговоры с автором о новых картинах и об императоре Николае I. Айвазовский и Рафаэль. «Спаситель на берегу Галилейского моря». Письмо И. К. к автору. Бескорыстие Айвазовского. Новые картины его кисти в музее императора Александра III. На Парижской выставке 1900 г. Впечатления И. К. при посещении выставок. Поиски картин Репина и Вл. Маковского в академии. Проект постройки здания в Александровском саду и партийность художников. Вымыслы иностранцев об Айвазовском. Айвазовский – герой немецкого романа «В степях». Сказочная история.
Последний приезд И. К. Айвазовского в Петербург показал, что художник с годами не утратил прежней энергии и страсти в искусстве и остался таким же юным, каким вступал на арену искусства. Он целые дни проводил в осмотрах весенних выставок, прибыв вместе с женой Анной Никитишной в столицу, как раз в разгар их, в первых числах марта месяца. В эту пору в Петербурге было открыто более десятка художественных выставок, которые он посещал почти ежедневно. Два года Иван Константинович не был в Петербурге, и вот, приехав к нам опять, казалось, по-прежнему был совершенно бодрый старик, полный жизненной энергии и увлечения работой… Чуть не в первый же день приезда И. К. был у меня.
Иван Айвазовский со своей первой женой Юлией Гревс и дочерьми. Слева направо: Александра, Мария, Елена, Жанна
Первая фраза, которую все услышали от И. К. при его посещении, была: «Как и с лишним лет назад, так и теперь…»
– С какими новостями вы прибыли к нам с далекого юга? – спрашивали у маститого И. К. домашние.
– Какие у меня могут быть особенные новости! Пишу без устали все по-прежнему! Начал в декабре прошлого года четыре большие картины, несмотря на болезнь, – они уже готовы. Две из них остались в Крыму у знакомых, две привез с собой. Думаю их представить на суд петербуржцев и показать, что еще не перестал работать… Да и кроме того, у меня уже выставлены две небольшие картинки на академической выставке.
Два года не слышали наши художники откровенного мнения своего маститого учителя и товарища по поводу того, что происходит в их кружках в настоящее время, но вот И. К. Айвазовский приехал и заговорил. И как это всегда бывает, с той минуты как его не стало, еще больше значения, чем прежде, приобрело каждое им сказанное слово, каждая написанная им строка. Вскоре после его визита ко мне я, в свою очередь, просил посетить его, он прислал мне любезное письмо, приглашая «сделать честь и непременно быть у него теперь же на днях вечерком на Знаменской, д. 17». Через некоторое время я был у И. К.
При мне в зал вошел молодой художник, внук И. К. Айвазовского, М. П. Латри, выставивший несколько своих произведений на академической выставке, и И. К. познакомил меня с ним, заговорил, как должны работать молодые художники…
– На какой выставке вы думаете поместить свои картины? – спросил я И. К.
– Это пока неизвестно. Можете быть, и на академической, может быть, и на какой-либо другой.
– Так что, сами вы не предполагаете устроить отдельную выставку?
– Нет, вряд ли. У меня с собою новых картин только две больших и десять-двенадцать маленьких, а это недостаточно для самостоятельной выставки… Хотя… я, впрочем, еще не знаю…
С оживлением Иван Константинович показывал нам фотографические снимки с двух больших картин своей кисти. Одна из них изображала государя императора Петра Великого, подающего сигнал кораблю, застигнутому бурей. Петр стоит на финских шхерах. Небо озарено было блеском молнии. Страшные волны бросали корабль, как щепку. Другая изображала Иисуса Христа, идущего по берегу Галилейского моря. На воде виднелась лодка с рыбаками. Спаситель, по словам И. К., изображен им по Ренану – до крещения от Иоанна и 40-дневного поста в пустыне, читающим на берегу моря пергаментные свитки пророков, на лодке же ученики Иоанна Крестителя, озаренные заходящими лучами солнца. Картина интересна темой и, безусловно, нова и оригинальна по идее. Он очень любил эту картину и отвел для нее одну из лучших комнат на выставке.
Величина обеих картин была почти равная: каждая из них имела около 6 квадратных аршин.
– Решительно не знаю, где выставить две привезенные с собой большие картины, каждая по шесть с половиной аршин, – говорил И. К. – Теперь в Петербурге совсем нет хороших залов для художественных выставок. Я не одобряю освещения даже в залах обеих академий: художеств и наук. На моей громадной картине Петр Великий изображен с матросом, который подбрасывает ветки валежника в пылающий костер, очевидно, зажженный, чтобы показать плывущему вдалеке судну существование здесь камней. Картину на этот сюжет, где-то мною вычитанный, я написал в 1847 году для государя Николая Павловича. Картина ему очень понравилась.
– А ваше другое полотно?
– На нем на первом плане фигура Спасителя. Не удивляйтесь: я знаю, что меня всегда обвиняют в неудачном написании фигур; из этого ровно ничего не следует: общее достоинство картины от этого страдает очень мало. Рафаэль все-таки остается гением, несмотря на то, что около его дивных Мадонн поставлены деревья, похожие на какие-то прутики, а его лошади напоминают слонов. У меня Спаситель идет по берегу Галилейского моря, освещенного яркими, жгучими лучами. Он читает свиток, на который прямо падают эти лучи. Позади его видны фигуры учеников, около лодки. Эта картина должна служить контрастом первой: там – гром, молния, буря; здесь – ясное солнце, тишина и спокойствие.
Когда я у него был, Иван Константинович только что вернулся с академической выставки и тепло и сердечно встретил меня, представив г-ну Протопопову, которого я застал у него как своего старого знакомого, с которым он ведет постоянную переписку, стало быть еще и заочного друга, с которым поддерживается постоянный, живой обмен мыслей.
И. К. Айвазовский пробыл в Петербурге больше месяца. Маститый художник так чужд был расчетов, что сперва предполагал устроить премьерную бесплатную выставку картин в музее императора Александра III, но для этого нужно особое разрешение, которое не было получено. После долгих поисков помещения, «прощальная» выставка громадных холстов И. К. Айвазовского оказалась, наконец, на Фонтанке, в доме гр. Олсуфьева, на 2-м этаже, в квартире, не представляющей особенных удобств для выставки. Сам художник часто появлялся на ней, и под его личным наблюдением и при его участии картины развешивались по стенам, производилась обстановка квартиры, обтягивались стены красным кумачом, и он делал своей рукой надписи на каждом своем произведении. На выставке однажды он был снят фотографом среди своих произведений, осененный фигурой Спасителя.
Одно упоминание слов «плата за вход на выставку» вызывало только на лице И. К. выражение недовольства и досады.
«Я вовсе не думаю о сборе двугривенных, я все отдаю бедным», – с досадой говорил некоторым посетителям И. К. в свой последний приезд в Петербург и рассказывал даже при этом о своем решении предоставить привезенные им холсты для выставки в пользу благотворительных учреждений и новой больницы ее императорскому высочеству принцессе Евгении Максимилиановны Ольденбургской, стоящей во главе художественного кружка, или выставить их сперва бесплатно для учащейся молодежи и для публики в музее императора Александра III. Прибавим при этом, что здесь находится немало крупных произведений профессора И. К. Айвазовского, занимающих, как известно, целые стены одного из главных просторных и светлых залов верхнего этажа музея Александра III, а внизу, в коллекции княгини Тенишевой, находятся также рисунки и картины кисти нашего знаменитого мариниста. Две картины из художественной коллекции адмирала Посьета, по духовному завещанию вдовы его, перешли в собственность музея и поступили в этом году (обе изображают фрегат «Светлана» – сепия и акварель).
Вообще по своему выдающемуся дарованию и по своим чисто нравственным качествам И. К. Айвазовский являлся одним из тех художников, знакомство с которыми для всех встречающихся с ним доставляло истинное наслаждение.
Бодрый, веселый и разговорчивый старик, маститый художник, прожив с честью столь долгий век, трудясь до седин и никому не сделав ничего, кроме добра и света, привносил всегда в светское общество оживление.
В последний свой приезд в Петербург, И. К. Айвазовский откровенно высказался. Взгляды маститого учителя молодых и товарища старых художников, высказанные им нам, так важны и значительны по своей содержательности, что мы приводим их полностью.
Как художник старых традиций, И. К. не мог примириться с новыми веяниями, внесенными в художественную среду, не мог спокойно глядеть на то, что, по его мнению, унижает искусство, которому он посвятил всю свою жизнь. В первые же дни приезда в Петербург И. К. побывал на всех весенних выставках в день нашего посещения, только что вернулся к обеду с академической выставки, где находилась и его картина «Прибой волн», посланная вскоре отсюда в Париж, на Всемирную выставку 1900 г.
– Странное впечатление вынес я с этой выставки, – говорил он. – Там нет ни одного члена академии, кроме меня, – все молодежь, еще никому не известная, еще не успевшая составить себе имени. Разве такой должна быть выставка в Академии художеств? Конечно, нет: на ней должны фигурировать все члены академии, в ней должны принимать участие все профессора, близко стоявшие к этому учреждению, которое всегда останется единственным в России, несмотря на происходящие в стенах его неурядицы. Я видел в ней много беспорядков, но тем не менее она, все-таки, продолжает давать серьезное художественное образование всем, кто пожелает его получить. Шестьдесят лет сохранял я свою связь с академией, посылая картины на академические выставки с 1840 года, и теперь мне больно видеть оказываемое ей пренебрежение. Да, это пренебрежение. Тщетно я искал в выставочном каталоге фамилии Репина и Владимира Маковского – их не было. А между тем, разве они не должны, не обязаны фигурировать на выставке учреждения, профессорами которого состоят? Конечно обязаны, и, если бы в этом была моя власть, я поставил бы непременным условием приема профессоров в академию – участие на выставках. Я осведомился, почему не вижу картин Репина и Маковского, и мне ответили, что оба они «передвижники». Устав «передвижников» не допускает участия их в других выставках!.. Я это знаю, но вместе с тем никак не могу понять, зачем господа, не признающие академии, все-таки пошли туда? Пока они, конечно, не сделали ей вреда, но со временем, переводя в академию понемногу своих товарищей, «передвижники» могут совершенно обезличить ее.
Я вообще против кружков, на которые делятся и раздробляются наши петербургские художники. Что это? Ведь такие кружки не приносят искусству ничего, кроме вреда; я думаю об этом уже давно и давно собирался объединить всех художников. И вот каким образом.
Я проектировал постройку в Александровском саду, как раз против Невского проспекта, здания вроде венского Kunstlerhaus, в котором все художники выставляли бы свои картины. В то время городским головой был В. И. Лихачев. Я говорил с ним об этом проекте и объяснил ему, что это здание должно быть редким образцом изящества и вкуса: всю лепную работу должны сделать сами художники, всю живопись на стенах и потолках – тоже.
Расход на эту постройку требовался сравнительно небольшой – тысяч сто. В. И. Лихачеву очень понравилась моя идея, и он обещал оказать свое содействие не только в получении места, но и в некоторой денежной сумме, с тем, однако, чтобы здание перешло в полную собственность города лет через двадцать или двадцать пять. Но, к сожалению, из этого проекта ничего не вышло, потому что тогда «передвижники» вздумали, будто я хлопочу для них, а когда узнали, что моя цель – объединение всех художников, то перестали оказывать мне поддержку. Один я, конечно, ничего сделать не мог.
Партийность художников помешала постройке в Петербурге интересного и крайне полезного здания. Теперь в столице нет совершенно хороших залов для художественных выставок. Я не одобряю даже освещения в залах академий: художеств и наук.
Так говорил И. К.
Бесспорно, что Айвазовский умер благороднейшим рыцарем долга на земле до последних дней, в полном развитии своих сил и художественного творчества, далеко не сказав нам своего последнего слова. Его смутный отголосок сказался в последней картине, в которой прощался он с северной публикой, по единодушному отзыву критиков – «гвозде» наших выставок. О ее сюжете я писал в статье о выставке, опираясь на слова самого художника, что он с 1846 г., в котором первообраз картины был написан им для императора Николая I, искал его всю жизнь, пока достиг такого поэтического впечатления и нежных сочетаний яркого воздушного света и красок, проникнутого глубоким настроением, полным грозной, величественной и поэтически красивой передачи момента расходившейся бури на море.
В этот же вечер он рассказал мне также, что некоторые иностранцы, желая возвысить талант художника, доставивший ему и славу, и уважение в обществе, и обеспеченное состояние, – унижали его происхождение и обставляли его детство и отрочество небывалыми неблагоприятными условиями – крайней нищетой, неразвитостью семьи и т. д., что порою было ему «и грустно, и весело».
Открытие памятника Айвазовскому в Феодосии. Справа стоит еще один знаменитый житель Феодосии – А. Грин. 1930 г.
В последние годы даже в иностранной литературе стали появляться беллетристические произведения, в которых выводился наш русский художник. Так, в начале восьмидесятых годов одна довольно известная немецкая романистка и писательница г-жа Деттлофт (Клара Бауер) в романе своем «В степях» (Bis in den Steppe), который она мне показывала, поместила эпизодический рассказ об И. К. Айвазовском, в котором дала полную волю своему воображению. Сочинительница ведет читателя на бал княгини Сувановой, на котором между секретарем французского посольства и знаменитым виртуозом, приехавшим в Петербург, происходит следующий разговор:
«– Кто это пришел? Как красив собою… Настоящая голова художника!
– Это и действительно художник – наш знаменитый живописец Исаков, родом армянин, что заметно по его вьющимся виршам и греческому профилю. Вы, конечно, видели во дворце великого князя некоторые из его картин? Император Николай Павлович, найдя на улицах Симферополя мальчика, который рисовал на стенах домика своего нищего отца, дал ему воспитание, и теперь Россия видит в нем первоклассного художника. Кисть его мастерски передает огненную игру красок, которой отличается Черное море. Бледная, с каштановыми волосами, красавица – жена его. Прекрасная пара! Злые языки большого света шепчут, будто бы она ужасно его мучает своею ревностью. Англичанка по происхождению, она, разумеется, одержима своим «сплином»! Мне чрезвычайно жаль Исакова, как художника, что жена его избрала себе сплином – ревность. Вы легко можете заметить, что он подходит только к пожилым дамам и лишь с ними разговаривает; мимо молодых же обязан проходить с потупленным взором – иначе его ожидают сцены с нервными судорогами и мстительная теща! К увеличению семейного счастья у него есть и теща… Бедному приходится испытывать все муки Тантала! Он замечателен как портретист и жанрист, но вынужден отказаться от этих родов живописи. Кроме себя, супруга его не терпит натурщиц; но, несмотря на ее красоту, публике прискучивает любоваться мадам Исаковой то в образе нимфы, то Ревекки у колодца, то Элеоноры д’Эсте!.. Понимаете: toujours perdrix!.. Уступчивый по характеру, Исаков принужден ограничиваться изображением ландшафтов: природа – единственная женщина, сношения с которой ему дозволены!..»
Так фантазирует немецкая романистка. Просто «уши вянут» у непривычных к «правдивой истории» читателей, говорил И. К. Замечательно, что такой же пылкой фантазией отличались почти все иностранные биографы Айвазовского: им во что бы то ни стало нужна была драматическая подкраска мирного гражданского и домашнего быта гениального художника. Изобретательность их, в данном случае, заходила весьма далеко. Так, еще в 1847 году, в одной немецкой газете рецензент Айвазовского, отдавая должную справедливость его таланту, в биографическом очерке о художнике глубокомысленно заметил, что «необыкновенным развитием органа зрения Айвазовский обязан врожденному недостатку, будучи глухонемым», а развитию самого таланта – «проживанием им вместе с женой и детьми в Померании, на берегах Балтийского моря». Эту новость сообщили знаменитому художнику, как он вспоминал, тогда же великие князья Николай и Михаил Николаевичи, которые много смеялись над этой сказочной историей, напечатанной в одной из серьезных и влиятельных берлинских газет.
Глава XIX
И. К. Айвазовский в гостях у турецкаго султана. Султан Абдул-Азиз[59]. Гр. Н. П. Игнатьев[60]. Картины для султана. Царственный орден Османие и бриллианты. Обед у королевы Ольги Николаевны. Немецкие Афины. На родине Христофора Колумба. Генуя. Признание Брюллова. Кончина Гавриила Айвазовского.
«В бытность мою в Константинополе в 1858 году, на обратном пути из Франции в Россию, – рассказывает И. К., – я посещал начальника константинопольских пороховых заводов, Саркиза-эфенди, очень любезного и образованного человека. Рано вечером, сидя у него, я нарисовал небольшую картину papier pole (загрунтованный тонкий картон) и подарил ему на память. Этот рисунок Саркиз-эфенди поднес султану Абдул-Меджиду, который, в свою очередь, подарил его брату своему Абдул-Азизу, страстному любителю живописи.
Известно, что Коран возбраняет правоверным изображать на картинах живые существа, и потому аравийские и турецкие живописцы ограничиваются лишь пестрыми узорами и рисовкой цветов. Но Абдул-Азиз, одаренный несомненным талантом, занимался живописью с изображением фигур, нисколько не стесняясь воспрещениями Корана. Лет пять тому назад Саркиз-эфенди поднес ему подаренную его женой мою картину: „Восход солнца в Константинополе“, и султан с первого же взгляда узнал мою работу. Примеру Саркиза-эфенди последовал придворный архитектор Серкиз-бай; картина, мною написанная, подаренная им султану, также весьма понравилась Абдул-Азизу, и он выразил желание приобрести несколько моих картин. Серкиз-бай телеграфировал мне об этом в Крым. Я прислал четыре картины, которые все были куплены султаном. После того через Серкиз-бая он сам сообщал мне сюжеты для заказываемых картин! Воображение его, должно заметить, было самое поэтическое. Так, по его рисункам, сделанным красными чернилами, я написал „Бурю у скал острова Хиоса“ и „Снеговые горы“. Вообще же для Абдул-Азиза я написал тогда до пятнадцати картин.
Спустя некоторое время я получил из Константинополя формальное приглашение представиться султану. Готовясь к отъезду, я написал несколько картин, и между прочими – „Утихающую бурю с яркой радугой над волнами“. При отъезде моем в Константинополь в местных газетах было напечатано: „Генерал Айвазовский уехал из России и скоро прибудет в нашу столицу“. Гражданский мой чин редакторы константинопольских газет неведомо с какой стати переиначили в соответствующий военный, позабыв прибавить к тому слово „живописец“. Это qui pro quo подало повод к дипломатическому недоразумению. Английский посланник в Константинополе обратился к нашему послу, Николаю Павловичу (ныне графу) Игнатьеву с вопросом: кто такой генерал Айвазовский и с какою целью прибыл он в Константинополь? Во время остановки нашего парохода в Буюк-дере к нам явился посланный от Н. П. Игнатьева с приглашением к нему. Когда я исполнил желание Николая Павловича, он весьма любезно предложил мне во избавление от объяснения с таможенными довезти меня на своем пароходе до Константинополя. Я, разумеется, с удовольствием принял это предложение; по прибытии туда Н. П. Игнатьев отправился во дворец к султану.
Представление мое султану назначено было на следующий день, в 12 часов. Явясь к назначенному времени, я, сопровождаемый первым драгоманом посольства г. Опу и Серкиз-беем, был введен в залу дворца, в которую вскоре вышел султан Абдул-Азиз. Мне с первого взгляда понравились добродушные черты его лица, окаймленного небольшой бородкой, ласковый взгляд и приветливая улыбка. Он говорил со мною по-турецки; но, хотя я и знаю этот язык, однако же посредничество г. Опу, как переводчика, оказалось необходимо: Абдудл-Азиз примешивал к турецким фразам множество арабских слов. Очень лестно отзывался он о моих картинах; сказал, что во время путешествия своего по Европе приобрел некоторые из них, что в молодости он занимался копированием моих картин, подаренных ему его братом, Абдул-Меджидом. Затем, ласково распростясь со мной, султан удалился из залы.
Тогда вошло нисколько придворных и нам с г. Опу подали кофе. Минут через пять их позвали к султану, потом один из камергеров вынес и подал мне ящичек красного бархата со словами:
– Его величество султан повелел передать лично вам.
В ящичке лежали бриллиантовые знаки ордена Османие второй степени.
Когда, по возвращении моем из дворца, я явился к графу Н. П. Игнатьеву, передал ему подробности этой аудиенции и показал пожалованный мне орден, граф Николай Павлович заметил, что орден Османие – орден царственный и пожалование его есть знак величайшего благоволения султана, весьма редкого, особенно к иностранцу.
В течение трех недель пребывания моего в Константинополе я написал шесть картин, из них: „Пароход, идущей по волнам“, и „Базарный каик[61]“ исполнены были мною по рисункам султана Абдул-Азиза. По возвращении в Крым я написал ему еще до 15-ти картин и, сверх того, две – в подарок: „Вид Петербурга с Троицкого моста“ и „Вид Москвы зимою“; за эти две картины султан подарил мне драгоценную, бриллиантами осыпанную табакерку. Общее число моих картин, находящихся в султанских дворцах Константинополя, простирается до сорока».
Картинами Айвазовского украшены были стены того самого дворцового зала, в котором происходили переговоры о мире между его императорским высочеством великим князем Николаем Николаевичем и турецкими властями в феврале 1878 года. Здесь нельзя не обратить внимания на судьбу картин Айвазовского и ее странную связь с нашими военными и политическими отношениями с Турцией. Три войны России с Турцией в течение последних пятидесяти лет дают художнику сюжеты к написанию картин, изображающих подвиги и победы наших войск; его же картины, в мирное время написанные для турецкого султана, – зримые свидетели торжества нашего оружия и окончания последней войны нашей с царством оттоманов.
В столице Вюртембергского королевства наш художник был приглашен во дворец к обеденному столу. Беседа отличалась отсутствием стеснительного этикета; король, как добрый и радушный хозяин, оказывал гостю самые лестные внимательность и заботливость. Что же касается королевы Ольги Николаевны, то она, как известно, была русская в душе и достойная дочь императора Николая Павловича, высокого покровителя отечественных талантов. Ее теплое, сердечное обращение, благосклонный разговор, величественные осанка и черты лица, светлый взгляд и улыбка воскресили в памяти Айвазовского минувшие времена, когда августейший родитель королевы вюртембергской неоднократно беседовал с художником и посещал его мастерскую.
– Жаль, что вы оставались писать во Франкфурте, а не здесь, у нас! – сказала между прочим королева.
– Располагая моим временем, – отвечал Иван Константинович, – я могу, ваше величество, пользуясь вашим милостивым дозволением, остаться в Штутгарте и позаняться работой.
И действительно, оставшись в Штутгарте с двумя картинами, написанными здесь, И. К. Айвазовский истинно по-русски отблагодарил короля и его супругу за хлеб-соль. Здесь же он вспомнил неимущих и голодных и картины свои предоставил обозрению публики, с обращением платы за вход в пользу бедных. Эта выставка дала очень большой сбор, в несколько тысяч рублей. Одну из лучших картин Иван Константинович подарил Королевской академии художеств; другая, «Буря», была куплена королевой Ольгой Николаевной для подарка супругу. В награду за свое приношение академии и в знак королевского благоволения к нему наш художник удостоился получить орден Вюртембергской короны 2-й степени с командорским крестом. Оставив в Штутгарте такую добрую память, как художника и человека, о котором долго потом вспоминали газеты, Айвазовский отравился в Мюнхен на отдых.
«Немецкие Афины», Мюнхен, по личному отзыву Ивана Константиновича, богат был и ту нору высокоталантливыми художниками. Как и теперь, особенно процветала тогда живопись историческая. Нашему художнику чрезвычайно понравились картины Ленбаха и Пилоти. В середине марта того же 1879 года И. К. Айвазовский отправился во Флоренцию, где выставил четыре картины. Конечною целью его путешествия была Генуя – родина Христофора Колумба. Обдумывая сюжеты картин, посвященных памяти великого мореплавателя, наш художник желал собрать в ней исторические сведения, до мельчайших подробностей описывающие костюмы, вооружение, постройки и оснастку кораблей на исходе XV столетия. Плодом добросовестных и прилежных изысканий Ивана Константиновича в Генуе было множество эскизов, очерков и набросков, воспроизведенных в его картинах, воскресивших в памяти зрителей события открытия Нового Света.
«На лодке по Кумкапы в Константинополе». Художник И. К. Айвазовский. 1846 г.
По глубокому изучению сюжета, по историческим деталям «Христофор Колумб» Айвазовского может смело встать в один ряд с «Помпеей» Брюллова. По собственному признанию Брюллова Айвазовскому, как близкому знакомому, он, в бытность свою в Неаполе, посещал останки Помпей, ежедневно стараясь запечатлеть в своей памяти каждый камешек мостовой, каждый кантик карниза. Для костюмов, туалетных принадлежностей и украшений Брюллов целые дни посвящал обзору Бурбонского музея. С той же добросовестностью своего наставника и друга отнесся, как мы видим, и И. К. Айвазовский к своему «Христофору Колумбу».
Летом 1879 г. И. К. Айвазовский возвратился в Россию и, проведя в родной Феодосии часть осени и начало зимы, прилежно занимался живописью, исполнил четыре драматические большие картины. Из них особенно хороши были «Корабль «Santa Maria» при переезде через океан», «Колумб на палубе, окруженный недовольным экипажем», «Колумб спасается на мачте по случаю пожара на португальском судне, сожженном венецианскими галерами у берегов Португалии» и «Колумб со своей свитой пристает к берегу Сальвадора».
Весной 1880 г. старший и любимый брат его Гавриил, епископ имеретинский и управляющей епархией, скончался в Тифлисе. И. К. очень оплакивал эту утрату. Он не раз гостил в монастыре у своего брата, дарил ему свои картины и написал с него даже большой портрет, который с недавнего времени украшает его феодосийскую картинную галерею. Это был ученый иерарх армяно-грегорианской церкви, имя которого заняло видное и почетное место в летописях, как равно и в истории восточной литературы, известный своими трудами переводчик, знаток русских произведений литературы и лингвистики. По словам И. К., в 1858 г. брат его гостил долго у него, и как раз в эту эпоху – отклонил от себя пост главного начальника над всеми армянскими учебными заведениями, предложенный ему константинопольскими армянами. И. К. Айвазовский долго не мог без слез на глазах вспоминать о своем знаменитом брате и говорил, припоминая свое детство и юность, что покойный епископ-брат близко стоял к нему не только по семейному положению, но и по своему благотворному влиянию на его развитие и нравственность. Он, как и отец И. К., в совершенстве знал языки: турецкий, армянский, венгерский, еврейский, цыганский, немецкий и остальные европейские, а также почти все наречия нынешних народностей. Другой брат его, Григорий, служил на гражданской службе, был начальником порта в Феодосии (после описанного Пушкиным в письмах из Крыма) и впоследствии долгое время проживал в Феодосии при И. К., в отставке.
Глава ХХ
Воспоминания И. К. Айвазовского о встречах с августейшими лицами. Приезд великого князя Сергея Александровича и волшебный праздник в Судакской долине. Значение И. К. Айвазовского и блестящий удел «избранника неба». Предсмертное письмо художника к автору и весьма важные откровенные взгляды его на свою жизнь и творчество в течение 60 лет. Памятник Айвазовскому. Характер художника и его историческая деятельность. Дневник художника. Несколько слов, посвященных его памяти. Заключение.
Иногда И. К. Айвазовский вспоминает с удовольствием о пребывании у него в гостях и близких встречах с августейшими лицами, вообще питавшими расположение к украшавшему их зимние и летние дворцы историческому лицу, маринисту-художнику. После эпохи императора Александра III и Николая I особенно памятна для него была такая встреча в 1867 г., да она и сохранится навсегда в летописях Феодосии, так сказать, торжества и победы искусства. Летом 1867 года, в бытность государыни императрицы Марии Александровны с ее августейшими детьми в Крыму, Айвазовский имел честь находиться, по желанию ее величества, в числе лиц, сопровождавших великую княжну Марию Александровну в ее поездке в Константинополь. По возвращении ее высочество и Е. И. В. великий князь Сергей Александрович (благополучно ныне здравствующий московский генерал-губернатор) с соизволения государыни императрицы осчастливили нашего художника посещением его дома в Феодосии и его сада в Судакской долине. Это была одна из картин той волшебной сказки, куда привела художника волшебница-фея – его могущественный гений…
В день приезда их высочества весь город был расцвечен флагами, перед домом Айвазовского построена была триумфальная арка. Пароход, на котором плыли их высочества, версты за две до берега был встречен Айвазовским, ехавшим на катере, за которым следовали четыре красивые гондолы, наполненные цветами: ими гребцы усыпали волны моря перед пароходом. Введя высоких гостей, сопровождаемых многочисленными лицами двора и свиты, в свой дом, Айвазовский имел честь представить их высочествам свое семейство и затем пригласил в столовую к обеденному столу. В саду, против дома, устроены были три киоска с бьющими в них фонтанами и каменная ротонда; на берегу моря театр, а у самого берега – декоративное палаццо в венецианском вкусе.
После обеденного стола на сцене театра поставлены были живые картины с видами Константинополя, куда недавно ездили тогда еще высокие гости с художником, и небольшой балет, выполненный в греческих костюмах малолетними детьми именитых обывателей Феодосии. Живые картины поставлены были Айвазовским. После спектакля в киосках был сервирован чай, во время которого сад, окрестности, морской берег и близлежащий мол были иллюминованы и по временам озаряемы бенгальскими огнями и фейерверками. На оконечности мола установлен был вензель государя императора, сооруженный из древесных ветвей, между которыми группа из нескольких девиц в белых платьях с венками на головах и гирляндами цветов на груди, стоя высоко на подмостках, составляла очертание вензеля исполинских размеров. Этот сказочный феерический праздник продолжался до часу ночи.
На следующий день их высочества отправились в Судак, где Айвазовский в павильоне своего сада предложил гостям своим завтрак, сервированный, по обычаю местных татар, на ковре на полу. Стены столовой были драпированы пестрыми тканями с арабскими и персидскими коврами, на которых изящно обрисовывались пирамиды прекраснейших фруктов, которыми изобилует полуостров Крым.
При возвращении их высочеств на пароход для обратного следования в Ялту стена каюты была украшена видом Судакской долины во время праздника, написанным Айвазовским. Другая его картина, с изображением праздника в Феодосии, была дополнена на самом празднестве и тут же поднесена их высочествам перед отъездом их.
Много оживления и картинности празднеству в Судакской долине придавали жилища тамошних татар, красиво декорированные коврами и разноцветными тканями, а равно и толпы туземцев в их праздничных нарядах, напоминавших библейские одеяния. Государыня императрица, по возвращении августейших ее детей в Ялту, удостоила Айвазовского телеграммой с выражением высочайшей благодарности ее величества за удовольствие, их высочеству доставленное.
Так жил и принимал своих высоких гостей и, с не меньшим радушием, простых смертных великий художник, а как он работал – все мы знаем, все преклоняемся перед силой, мощью, глубиной таланта и творчества бессмертного автора «Всемирного потопа», «Девятого вала», «Петра Великого у финских шхер в бурю» и других картин, разнесенных по всему миру.
Этим далеко не исчерпываются жизнь Айвазовского и заслуги его перед лицом искусства. И ныне, когда он вошел в храм бессмертия, мы вспомним его слова и скажем невольно, что он был рожден под счастливой звездой.
Прекрасный певец моря и неведомых нам доселе красот южной природы принадлежит к числу тех редких, необычайно счастливых, исключительных избранников неба, которые на старости лет и на склоне жизни видели, что их гордые юношеские мечты не утратили своего золотого, волшебного блеска и стали явью. Бедный мальчик, ходивший в стоптанных башмаках в уездное училище, рисовавший углем на стенах своего полуразвалившегося домика, стал другом писателей, композиторов, поэтов, отечественных героев и лучших людей своего времени, из него вырос наш новый Ломоносов XIX века, и умер он на наших глазах знаменитым человеком, в чинах и орденах, в блеске славы, любимцем коронованных особ.
Непоколебимая вера в свое призвание слышится и в его последних, недавно сообщенных нам, словах, знаменательных для оценки его как художника и необыкновенного труженика.
Ввиду особенного значения их, привожу эти слова И. К., напечатанные в «Новом Времени» в статье «Памяти И. К. Айвазовского», относящейся к его прошлой и настоящей художественной деятельности, – весьма важные для будущих биографов его и нисколько не умаляющие его заслуг за 60 лет творчества.
«Я всю жизнь тружусь и работаю, не позволяя себе отдыхать. Меня упрекают в повторяемости мотивов; но я нарочно повторяю их, чтобы исправить прежние, замеченные иногда только мной недостатки. Вообще могу сказать одно: я полагаю, что все повторенные мною сюжеты отличаются не только между моими, но и между произведениями других европейских художников „силой света“, и те картины, в которых главная цель – свет и воздух, свет солнца, луны и проч., разумеется, надо считать лучшими. Какой из них отдать предпочтение? Право, нельзя решить: в каждой есть что-нибудь удачное, вообще не только между картинами моей галереи, но и между всеми моими произведениями, которых, как я сосчитал, в свете более 6000. Но все же они не вполне меня удовлетворяют, и теперь я не могу выбрать ни одной из них, про которую мог бы сказать, что это та картина, сюжет которой возник и носится предо мною в воображении. Вот почему я продолжаю писать и теперь, продолжаю еще писать, исправляя прежние недостатки и все стремясь к совершенствованию. Я никогда не утомлюсь, пока не добьюсь своей цели написать картину, сюжет которой возник и носится передо мною в воображении. Бог благословит меня быть бодрым и преданным своему делу… Если позволят силы, здоровье, я буду бесконечно трудиться и искать новых и новых вдохновенных сюжетов, чтобы достичь того, чего желаю создать. 82 года заставляют меня спешить. Я прошу вас непременно передать мои слова в ваших статьях обо мне: именно то, что я знаю, что есть, и очень много, лиц, которые не сочувствуют моим произведениям, но было бы неблагодарностью с моей стороны, если бы я не видел своих почитателей и вообще сочувствия нашего русского просвещенного общества, доказавшего в продолжение всей моей художественной деятельности его любовь и оценку. Благодаря этому сочувствию и задушевным голосам в России я не падал духом. Все интриги против меня 30, 20 лет назад меня нисколько не обескуражили, и мой постоянный труд восторжествовал».
Эти слова великого художника собственноручно записаны им и, кроме того, повторены им при нашем свидании, с просьбою передать также, что он будет, если позволят силы и здоровье, бесконечно трудиться и искать новых и новых вдохновенных сюжетов, чтобы достигнуть того, что желает создать. Мысли об этом создании постоянно владели им. Его не сопровождает теперь лесть. «Ей нечего делать близ покойника, хотя бы и дорогого, ее место только в пестром калейдоскопе жизни», – сказал великий немецкий мыслитель.
«Всемирный потоп». Художник И. К. Айвазовский. 1864 г.
В настоящее время в Феодосию стекаются со всех сторон пожертвования на памятник певцу моря, морских сражений и последней войны, и красивый городок скоро украсится новым памятником. С этой целью будет устроена в Петербурге посмертная выставка последних картин его, которая откроется, как вы слышали, в августе месяце. Весь сбор с выставки пойдет на устройство памятника И. К. Айвазовскому в центре маленькой Феодосии, этой «страны Айвазовского», облагодетельствовавшего ее на вечные времена и обессмертившего ее, далеко за пределы России передавшего имя древней Кафы, возрожденной к новой жизни и процветанию, подобно морскому пейзажу, оживленному творчеством его и любовью к природе, которая была его лучшим в жизни учителем и другом после академии. Одаренный богатством фантазии и творчества, доступным лишь гению, Айвазовский любил природу такой, как она есть, без прикрас, без идеализации, и внес в русский пейзаж, до него полный условностей, академичный и мертвый, новое слово. Говорят, любовь совершает чудеса. И эта любовь совершила нежданное чудо. Исчез скучный, безжизненный, лишенный колорита пейзаж прежних художников, перенеслась на полотно и заговорила со зрителем каждым мазком «поэзия и радуга цветов», разлитая в природе, когда застонало, заревело и бешено стало биться о скалы бурное море Айвазовского. Яркие искры его таланта запечатлены своеобразной прелестью, которая свойственна только большим картинам художника. Между любителями живописи существует особый термин «волна Айвазовского», и эти два слова так же неразрывно связаны одно с другим, как «Мадонна» с именем Рафаэля, слова «Божественный младенец» с именами Перуджино и Сассо-Феррато… И «волны» Айвазовского, даже написанные на небольшом куске картона, написанные им с быстротой минутного всплеска живой волны, неподражаемы и могли быть написаны с такою правдивою прозрачностью и текучестью только им одним.
Чуть не за месяц до своей смерти написал он удивительную картину «Петр Великий в бурю в Финляндии». И вот нашего певца моря не стало… Как-то невольно думалось вместе с поэтом:
О если бы все мы могли умереть, С такою же чистой душой…Всем и каждому, кто знал И. К. Айвазовского хорошо и близко, известно, какая это была правдивая, честная, доступная всяким добрым порывам и чувствам душа. Он входил в жизнь с душой, открытой для добра, и сохранял неизменно верную, прямую и нужную душу и сердце с гуманными, чистыми взглядами на жизнь и искусство. Эти чувства, согретые страстным огнем почти юношеской увлекающейся и вечно кипящей вдохновением живой и гуманной натуры И. К. Айвазовского, сквозят и дышат не только во всех письмах его к нам, но и в деяниях его, оценка которых – занятие будущего историка развития юга России, в которых славную и не последнюю страницу займет имя И. К. Айвазовского, оживившего и возродившего к новой кипучей и деятельной жизни и процветанию родную Феодосию.
Каждый шаг в этом красивом, чистеньком городе напоминает теперь о художнике, его доброте, и как бы служит живым его памятником. В одном месте турист наталкивается на роскошный мраморный фонтан имени И. К. Айвазовского, устроенный им для своего города, и пьет «за здоровье его и семьи» (так написано на серебряной кружке у фонтана) чистую, прозрачную струю горной ключевой воды, проведенной в фонтан из Субашского источника, из которого подарено им и женой его в вечную собственность городу в свое время сто тысяч ведер воды; в другом – на пути ему попадается музей древностей, выстроенный на средства Айвазовского и по собственному плану его. Проходя по красивому «бульвару Айвазовского» и улице, названной именем Айвазовского, он непременно забредет в концертный зал Общественного собрания, в самый музей или в здание Думы – и везде встретит громадные полотна кисти И. К. Айвазовского, принесенные в дар городу первым гражданином его, который мог бы служить образцом и примером для всех своей плодотворной, полной энергии, неустанной деятельностью на пользу родной страны и искусства. А памятник императору Александру III из бронзы, лабрадора и финского гранита, украшающий Феодосию с 1896 г., о котором с таким восторгом говорил в Крыму и в Петербурге нам И. К. Айвазовский, принимавший активное участие в сборе средств в Крыму и постановке этого монумента, первого по времени постановки на юге России! А, наконец, роскошная галерея картин И. К. Айвазовского, открытая бесплатно для публики в его доме (со сбором в пользу бедных по 20 коп.), выстроенная на средства, собранные в Петербурге выставкой его картин Кавказа и пополнявшаяся произведениями его кисти в течение 25 лет ее существования – разве не говорит она о его доброте и неустанной плодотворной энергии, почти не имеющей у нас другого примера! Так могли жить и работать современники великого Пушкина, верные хранители заветов его, служащие красоте и искусству, в которых они находили для себя утешение, и отраду, и высшую награду.
Рассеянные по всему миру несколько тысяч картин вместе с собранием полотен художественной галереи его, завещанной беззаветно любимой им родине, будут всегда красноречиво говорить о его творчестве, заслугах и славе.
Не говорит ли также все это нам, что Айвазовский не умер для нас?
Не говорите мне: «он умер», – он живет, Пусть жертвенник разбит, – огонь еще пылает. Пусть роза сорвана, – она еще цветет, Путь арфа сломана, – аккорд еще рыдает!.. С. Я. НадсонСлавный друг Н. В. Гоголя, М. И. Глинки, А. Н. Майкова и др., приветствованный в день выхода с золотой медалью из Академии художеств сходящим в гроб великим Пушкиным, заметившим тогда еще и оценившим за 3 месяца до своей кончины его выдающееся и редкое дарование при посещении с женой Натальей Николаевной в 1836 году выставки картин молодых, оканчивающих в тот год курс художников, – принадлежит вполне по заслугам и творчеству к той плеяде немеркнущих созвездий, имена которых звучат для нас незабвенным и дорогим отголоском.
В бытность свою в Петербурге, в марте прошлого года, кроме нескольких небольших картин, написанных им, профессор И. К. Айвазовский вел дневник в виде коротких заметок о разных впечатлениях и встречах и мыслей по вопросам художества, и занес в альбом с этими заметками несколько написанных пером этюдов нашей северной природы, которые он мне показывал. Интересно было бы, конечно, познакомиться со всем, что касается великого художника, этого незабвенного, исторически русского человека и русского поэта-художника, которого многие считают творцом школы морской живописи.
Из Петербурга Иван Константинович уехал 83-х лет и, неудивительно поэтому, несколько утомленным деятельными хлопотами по устройству своей прощальной выставки и – как всегда, когда человек приезжает на короткое время, – непривычным в обычное время особенно энергичным и светским образом жизни. Написав здесь еще около десятка новых картин, в том числе одну для меня («Лунная ночь на берегу Черного моря»), Пасху он, как всегда, желал встретить и провести в родной Феодосии. По болезни я не мог провожать его на вокзал, но был у него накануне отъезда и провел с ним целое утро… увы, последнее в жизни.
Мы много говорили с ним о Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском и Гоголе. И. К. с оживлением вспоминал о некоторых крымских и киевских знакомых, о предстоящей поездке в Италию, где началась его всемирная слава, приглашал меня к себе осенью и даже продиктовал мне еще одну литературную заметку для моей книги, прося прислать ему корректурные листы и обещая выслать в свою очередь мне еще несколько снимков своих новых громадных холстов. При этом он предлагал мне подарить один из бывших с ним этюдов (масляными красками); из вежливости я отклонил его предложение, так как я имел одну из последних его работ и не предвидел его скорой кончины…
Уехав в Страстную среду 1900 г., маститый художник приехал к себе здоровым и бодрым. В Петербург он не решался выезжать ранней весной иначе как в карете, а там, накануне смерти, он сделал пятьдесят верст в открытом экипаже, выехав в свое имение Шах-Мамай и вернувшись обратно. Перед смертью Айвазовский гулял с женой Анной Никитишной и даже ожидал к себе гостей.
Умер он легко – от кровоизлияния в мозг, без страданий, моментально, сидя в кресле: почувствовал себя дурно и только успел позвонить. Вся Феодосия поражена была его неожиданной кончиной 19 апреля. Депутации германских и французских художников возложили венки на его покрытую сплошным ковром цветов свежемогильную насыпь. Город и здания облеклись в траур; телеграммы с выражением соболезнований из Парижа, Вены, Берлина и Рима доказали, что Айвазовский был всемирно известным художником. Отъезд в чужие края, под небо Италии, он замышлял даже незадолго до смерти, о чем и писал мне, но мечтам его уже не суждено было сбыться – выставка в Петербурге стала его лебединой песнью.
В Петербурге, где художник так недавно еще был, как будто приехав проститься со всеми, смерть Айвазовского произвела глубокое впечатлите на всех, кто мало-мальски интересовался и дорожил успехом искусства.
22 апреля в церкви Императорской академии художеств отслужена была панихида по знаменитому маринисту, заслуженному профессору живописи И. К. Айвазовскому. На панихиде присутствовало множество молящихся, и профессора академии, и художники с вице-президентом Академии художеств гр. И. И. Толстым. Стройно пел хор учащихся академии. Многие дамы плакали в церкви.
На следующей затем неделе в присутствии Августейшего президента Императорской академии художеств великого князя Владимира Александровича и многих высокопоставленных особ, профессоров академии, художников, родственников, а также целой толпы молящихся, многочисленным столичным духовенством была отслужена торжественная панихида по Айвазовскому в нашей армянской церкви на Невском проспекте, для знакомых его и родственников. По окончании панихиды долго еще не расходились молящиеся из церкви, обмениваясь живыми впечатлениями по поводу неожиданной смерти и обаятельной личности маститого старца художника, очаровывавшего всегда всех своим талантом и добротой. Здесь передавались друг другу еще недавние свежие впечатления (две недели назад только художник покинул нашу северную столицу, где вел очень деятельный образ жизни). Об этом и вспоминали теперь.
Глаза всех присутствующих как-то невольно обращались на чудную большую морскую живописную картину-образ, пожертвованную еще в 1887 году И. К. Айвазовским, как прихожанином церкви, и перед картиной, находящейся у боковой входной двери в церковь, образовалась плотная толпа зрителей, которые не могли глаз оторвать от этой прекрасной картины, слышались восторженные отзывы. То была последняя невольная дань могучему таланту гениального нашего художника.
Похороны И. К. Айвазовского. 1900 г.
Приложения
Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову о впечатлениях от крымской природы и написанных картинах.
17 марта 1839 г., Феодосия
Милостивый государь, Алексей Романович! Так как завтра я должен исповедываться, и чтобы уменьшить свои грехи, сегодня спешу к Вам писать. Это непростительно, что до сих пор не писал к Вам. Что же делать – это один из моих недостатков, от которого трудно отвыкать, – все откладывать. Кроме сильных впечатлений [от] моментов природы, [после] которых с нетерпением жду той минуты, в которую начну писать, а в прочих случаях признаюсь сам, что очень неаккуратен, нечего делать. Вам есть много чего писать, если только успею. Сколько перемены в моих понятиях о природе, сколько новых прелестей добился и сколько предстоит впереди, которые теперь кажется скрываются за золотистым горизонтом, к которому много времени нужно, чтобы дойти. Здесь не близок горизонт, или лучше сказать, зрачок природы, тут с вершин гор выше облаков я наблюдал природу, и горизонт уже не оканчивается в 20-и верстах от меня, как на севере, а на 200 и на 300 верст есть куда углубляться и зрение Ваше уже не столкнется, как у Вас на севере, с чухонскими лайбами, а здесь и линейные корабли, чуть заметные сквозь облака, которые трутся по морю и составляется целый пейзаж из облаков, и все это под Вами. То-то наш Крым!
Уже более двух месяцев, как я отправил пять картин в Петербург на имя Зауервейда и до сих пор никакого известия не имею о них, получены или нет. Вы, верно, видели, так Вам и описывать нечего, а у меня теперь еще четыре больших готовы на следующие сюжеты: 1) «Ночь на южном берегу». 2) «Буря у Генуэзских развалин в Феодосии». 3) «Вид царской Ореанды» и четвертая начата «Вид Севастополя с военными судами», вот и контур: № 1 «Ночь» – два аршина длины, № 2 «Буря в Феодосии утром», – три аршина длины, № 3 «Вид царской Ореанды» – два аршина длины и еще есть 3 картины. Эти все Вы увидите в Петербурге в августе и на всех этих картинах много фигур, как я наметил. Вот Вам и отчет отдал об моих занятиях. Я живу в Феодосии вместе с родителями. У нас уже весна и петрушки много, только не в оранжереях. Прошу передать мое нижайшее почтение Александре Алексеевне, Роману Алексеевичу, Нине, Александре Ивановне и прочим знакомым. Как бы Вы меня обрадовали, если б несколько словечек написали и Ваше мнение о посланных моих картинах. Адрес просто: в Феодосию, Ивану Константиновичу Гайвазовскому. Итак прощайте, скоро я опять буду писать к Вам.
С истинным почтением и душевной преданностью имею честь быть покорнейшим слугой.
И. Гайвазовский.Письмо А. Р. Томилова И. К. Айвазовскому с отзывами о его картинах.
[1839 г. ]
Не мог я дождаться, любезный Иван Константинович, чтоб ты вспомнил меня в Крыме и откликнулся бы о чувствах и быте твоем на родине! Любя тебя, я очень дорожу знать, сколько можно подробнее, о тебе, знать не только о том, что ты делаешь, но и о том, что с тобою делается? Какое впечатление производит на тебя прекрасная твоя родина – Крым? Имел я вести, что ты жив и здоров, чрез Штернберга, чрез князя Херхеулидзева,[62] но этого слишком для меня мало. Александр Иванович Казначеев, в бытность его здесь, утешил меня рассказом о приезде твоем, о том, как ты открывал жадные глаза твои на красоты крымской природы и как томились помыслы твои, чтоб передать восхищавшие тебя чувства. Тогда я пожалел только, что не на первом месте ты остановился, что не первые впечатления принялся ты передавать.
Новость – неоцененная пружина к чувству изящного, которое не состоит в том, что видел, а в том, как видишь. Коль скоро новость оживила, подняла чувствия поэта, художника, он должен спешить, чтобы свежие, живые впечатления переложить на бумагу или на холст. Тогда, хотя бы и средства его были недостаточны, но все-таки останется хоть милое лепетание, в котором более или менее отразится красота его чувства. Эта красота есть необходимое зерно к произведению изящного, ибо в картине восхищает нас не предмет рассказанный или изображенный, а свежесть, живость и, наконец, верность рассказа или изображения. Сколько раз видал я, как от самовара потеют окна и как по ним чертят имена, это не оставляло в памяти моей ничего приятного; но рассказ Пушкина в «Онегине» о простейшей этой встрече так приятен, что всегда с особым удовольствием вспоминаю его Татьяну:
Задумавшись, моя душа Прелестным пальчиком писала На отуманенном стекле Заветный вензель О да Е.Итак, надобно пользоваться приятными ощущениями, которые производит в нас натура, и спешить передавать их во всей свежести и чистоте. Надобно дорожить такими ощущениями потому, что каждому не в самых выгодных обстоятельствах дана известная мера в них. Восхищение слабеет так же, как слабеет аппетит, по мере удовлетворения его пищею, как слабеют ноги наши от продолжительной ходьбы. Надобно ловить себя в дорогих этих чувствах и передавать их верно. А чтобы передавать свежо и живо, надобно передавать скоро и для этого необходима ловкость, которая может приобретаться только этюдом частей. Пожалуйста, любезнейший Иван Константинович, не пренебрегай делать почаще этюды: кустов, деревьев, скал, валов, судов и пр.
Наконец, во время поста, узнал я, что присланы от тебя пять картин, я два раза ездил смотреть их у Григоровича и скажу тебе откровенно мнение мое о них. Сначала усомнился я, не досажу ль тебе откровенностью, но после рассчитал, что безусловных похвал довольно уже ты наслушался от других и может быть так, что они и надоели тебе. Подумал (что сам ты разочтешь), что и всякий равнодушный хвалит, а кто надеется в художнике высшей степени и горячо желает, чтоб он достиг ее, тот стремится отмечать недостатки, замечая их. Наконец, сейчас прочитал я в «Северной пчеле[63]» № 80 на странице 319 очень справедливую мысль Булгарина, что «Как детей можно закормить насмерть, так и дарование можно захвалить насмерть! Человек останется жив, будет писать, не радеть, не учиться, не работать, почитая себя гением – а дарование – капут!»
Я решился писать тебе правду, как чувствую, и признаюсь тебе между нами, побуждает меня к этому мысль, что Штернберг, при всей скромности его таланта, кажется, слишком обнадеялся на похвалы и прошедшее лето, можно сказать, как и сам он признается, почти потерял. Он почти не привез этюдов, да мало и делал их. За то и не подвинулся нисколько. Теперь поехал с Перовским в Оренбург, надеюсь, что он будет занят делом, но не знаю довольно ль будет заниматься этюдами, что есть самое необходимое, ибо, опять скажу, не в том дело хорошего художника, что писать, но как писать, а не навыкнув писать части, невозможно с успехом писать целое, из тех же частей, в разном только расположении, составленное.
Фрикке,[64] напротив, с терпеливостью своею и прилежанием удивительно продвигается. Как теперь уже хорошо, ловко, отлично и сильно пишет он кусты и деревья. Три картины взяты нынче для лотереи, одна около аршина за 600 рублей и две маленькие – по 250 очень хороши, еще лучше одна, такой же меры как большая, купленная Прянишниковым тоже за 600 рублей, она изображает один из видов, Фаль [нрзб. ] г. Бенкендорфа, взятой из чащи лесной, которая занимает половину картины и прекрасно выполнена. Жаль, что видимый вдали водопад, который должен бы по знаменитости своей быть главною целью картины, исполнен слабо. Жаль также и в деревьях и кустах заметное подражание Лебедеву![65] Это подражание видно не в одной накладке красок, но и в самом колере солнечного освещения, которое, как и в Лебедеве, напоминает яичницу с зеленью. Этот последний недостаток еще заметнее в двух маленьких картинах.
Примусь теперь, любезный Иван Константинович, поговорить о твоих картинах, но пожалуйста, ежели уже надоел тебе, то брось этот листок, потому что иные говорят – правда глаза колет, а я стараюсь говорить правду, колоть же тебя никак не хочу, разве только любя и для шутки.
1. Расхождение солнца в равнине было бы прекрасно, ежели бы равнина была схвачена в ту минуту, как это золотое небо освещается. Но, к сожалению, с прекрасным небом, особливо к горизонту, вовсе не согласна земля. Небо представляет начало прекрасного дня, а земля сумрак осеннего вечера! Это сделало надо мной то действие, что, взглянув на картину, я отворотился от нее с досадою на странность и несообразность, а достоинства неба, особенно горизонта, заметил тогда, как, пересмотря уже другие картины, возвратился к этой. И небо при горизонте прекрасно!
2. Картина, которая изображает, как говорят, восхождение луны, по моему взгляду, по моим чувствам, не представляет ничего другого, как хорошую кисть и личный вкус художника, натуры же в ней, или часа, никак постичь не можно. Солнечный стог луны и отсвет ее в воде прекрасно напоминает глазу теплоту восхода солнца, теплота эта в первую минуту идет по душе, но сильные по-видимому лучи этого животворного светила не разливают никакой жизни на прочие предметы, представляемые в картине, отсветов нет! В сердце моем живо теплое утро, а в картине тихая холодная ночь, чувства мои разнородны с картиною, я не могу гулять в ней. Она не может нравится мне. Василий Иванович в защиту и сказал было, что на юге часто бывает луна такова, но я был на юге и луны, так похожей на солнце, никогда не видал; да если бы и увидел, то говорил бы о ней как о чуде, как об изъятии законов природы. Но картина должна быть зеркалом природы, или лучше сказать, должна быть слепком тех ощущений, какие природа произвела на чувствие художника. Зачем же художнику заниматься слепками ощущений неудобопонятных образами, не согласными с привычкою наших чувств? Случай, которым природа удивляет художника, никогда не действует столько на чувствие его, сколько поражает рассудок, соображения же рассудка передают прозою, которую страшно впускать в удел изящного!
Картина имеет целью долго, всегда утешать нас, и потому не должно искать в ней утешения, производимого удивлением. Это чувствие поражает и потом ослабляется более и более, а хорошая картина, как мой Пуссен,[66] или скромная ночь Вандернера,[67] чем более смотрим на них, тем более они нравятся. Я распространился столько, любезный Иван Константинович, о картине луны оттого, что капризы, причуды и вообще изысканность Кипрянского,[68] этого высокого художника-проказника, пугают меня, чтоб и ты не сбился на его стать в этом опасном отношении. Довольно бы мне сказать, что увидя луну твою крымскую, я покрыл твою успенскую луну теплым красноватым лаком, он согласил два разнородные света луны и огня и теперь я любуюсь ею, как правдивым отголоском знакомой натуры. В луне крымской больше искусства и вкуса в кисти, но в луне успенской несравненно больше правды, а правда краше солнца, особливо того, которое без отсветов.
3. «Кейф турка». Турок хорошо посажен и прекрасно написан, голова его писана с особым вниманием и чувством, лицо рассказано кистью сочною, вкусною и правдивою, одет очень хорошо, но все окружающее его какая-то фантасмагория, безотчетная, небрежная и далеко не подходящая к натуре, так что я подумал было искать намерение твое дать мысль о мечтах турка по чрезвычайной несообразности перспективы воздушной с линейною. Ствол удаленного дерева столько же занимает места, как и ствол приближенного. Но увидя вместо Урий двух мужичков за дальним стволом и таких, которые похожи на кукол в сравнении с деревом, я не мог остановиться на этой догадке, и так ничего не разгадал. Зачем окружать предмет своего рассказа такими околичностями, которых не видел тогда, ни же прежде, и которых не хочется выполнить хоть немножко согласно с натурою. Так Кипрянской погубил прекраснейшую свою картину «Анакрюновой пляски», представляя в плохом пейзаже и под открытым небом фигуры, которые отлично написал с натуры, в темной мастерской. Грешно портить грезами такую хорошую фигуру, как этот турок!
«Османская кофейня в лунном свете». Художник И. К. Айвазовский. 1857 г.
4. Греки на палубе прекрасно написаны, но правая нога у грека, что на первом плане, подогнута так, что не видно, в котором месте сгиб ее? Не видно вовсе колена и никак его не отыскать, хотя ничем оно не покрыто. Это непростительная небрежность в освещении, которое, впрочем, на торсе его почувствовано отлично. Солнце на правом плече и на всем боку тепло, прелестно, жаль только, что лицо, которое всегда привлекает главное внимание в фигурах этой величины, не освещается тем же солнцем, которое так очаровательно золотит весь бок фигуры; жаль также, что мешок, который сделался из широких шаровар его, мешок, на котором он сидит, сложился очень неловко и неясно; а еще более жалею, что в композиции оба грека, сидящие рядом, не имеют ничего общего, будто внимание обоих так сильно занято, что они не помышляют один о другом, глядя в одну сторону, тогда хорошо бы представить или намекнуть [на] предмет, который их занимает.
Сцена бы тогда оживилась и интерес несравненно бы увеличился. Со всем тем картина очень хороша.
5. Вид Ялты соединяет более всех сообразности, но зато почувствована несколько слабее других. Вода, отошед от прежде принятой тобою манеры Таннера, чему впрочем я очень рад, потому что надобно образовать свою собственную манеру, выражающую свои чувства, или лучше сказать – о манере думать не должен, она сама образуется или призобилует, как например в офортах Рембрандта, лишена прозрачности и потому несколько груба, особливо на первом плане, приплес ее валов, хотя он и правдоподобен, но грубо чувствован. Перспектива моря и удаление горизонта, кажется мне, лучшее достоинство этой картины, а достоинство это не малое. Жалею, что перспектива города, или набережной, как-то неудачна, не успел я повнимательнее рассмотреть причину, но дома кажутся крупны. Жаль также, что солнце, которое так хорошо золотит их и некоторые фигуры первого плана, нисколько не поглощает валов и приплесов их…
Письмо И. К. Айвазовского президенту Академии художеств о своих занятиях в Крыму с просьбой продлить срок командировки и разрешить ему участвовать в военных маневрах русской эскадры у кавказских берегов.
27 апреля 1839 г., Тамань
Ваше высокопревосходительство, милостивый государь Алексей Николаевич!
Пред отъездом моим из Петербурга Ваше высокопревосходительство изволили удостоить меня позволением писать к Вам. Дорожа столь милостивым и лестным позволением, я не смел часто беспокоить Вас моими письмами без особенных причин. Теперь, пользуясь им, долгом поставляю отдать Вашему высокопревосходительству, как покровителю искусств и художников, как моему благодетелю, отчет в своих занятиях.
По прибытии в Крым, после кратковременного свидания с родными, я немедля отправился, как Вам известно, с благодетелем моим А. И. Казначеевым[69] на южный берег, где роскошная природа, величественное море и живописные горы представляют художнику столько предметов высокой поэзии в лицах. Там пробыл я до июля месяца 1838 и сделал несколько удачных эскизов; оттуда возвратился в Симферополь и в короткое время нарисовал множество татар с натуры, потом устроил свою мастерскую на родине моей в Феодосии, где есть и моя любимая стихия. Тут отделал я пять картин и отправил их месяца три тому назад к Александру Ивановичу Зауерверду, прося представить их по принадлежности; о сем тогда же донесено мною и В. И. Григоровичу.[70]
К сожалению, до сих пор не имею я никакого известия об участи посланных картин. Вероятно Вы уже благоволили их видеть. Кроме сих, я приготовил шесть сюжетов, из которых три – отделаны и к выставке будут представлены Вашему высокопревосходительству. Одна представляет лунную ночь, во второй – ясный день на южном берегу, в третьей – буря. Сверх того, сделал я еще несколько новых опытов и эскизов, думал уже приступить к отделке всего, чтобы привезти с собою в Петербург, не пропуская данного мне срока. Я еще в феврале просил отсрочку до августа, но до сих пор никакого ответа не получал и решился остаться до ответа. Между тем генерал Раевский,[71] начальник прибрежной кавказской линии, проезжая через Феодосию к своей должности для совершения военных подвигов при занятии мест на восточных берегах Менгрелии, был у меня в мастерской и настоятельно убеждал меня поехать с ним, дабы обозреть красоты природы малоизвестных восточных берегов Черного моря и присутствовать при высадке на оные войск, назначенных к боевому занятию означенных береговых мест.
Долго не решался я на это без испрошения позволения Вашего, но, с одной стороны, убеждения генерала Раевкого и. принятые им на себя ходатайства в испрошении мне сего позволения, с другой – желание видеть морское сражение при этакой роскошной природе и мысль, что изображение на полотне военных подвигов наших героев будет угодно его императорскому величеству, наконец, совет доброжелателя моего Александра Ивановича Казначеева – решили меня отправить в поход аргонавтов, тем более, что и сам А. И. Казначеев, давний друг Раевскому, отправился с ним почти для меня.
Итак, осмеливаюсь просить снисхождения Вашего высокопревосходительства, что я, не дождавшись начальнического позволения, решился выйти из круга мего отпуска. Уверенный в великодушии Вашем и думая, что Вам не неприятно будет видеть новые опыты мои в изображении сюжетов морских и прибрежных сражений, усугубляю всепокорнейшую мою просьбу о дозволении мне быть на время военной экспедиции с генералом Раевским, который и сам пишет о том военному министру для доклада государю императору, равно и об отсрочке отпуска моего до будущей весны.
В продолжении этого времени я успею окончить все и явлюсь к своему начальству может быть еще прежде отсрочки. Здесь, на берегу Азии, удалось мне рисовать портреты многих черкесов, линейных казаков для будущих картин, но вот уже пароходы и флот стоят пред глазами моими для принятия войск, послезавтра надеюсь увидеть, то, чего я не видал и, может быть, никогда в жизни моей не увижу. После первого десанта, что будет около 1-го мая, я отправлюсь в Феодосию докончить совершенно картины к выставке и потом опять придти с флотом на второй и на третий десант, если на то будет Ваше согласие. Я все эти сюжеты успею до весны окончить и приехать в Петербург.
Повергая себя продолжению благодетельного ко мне расположения Вашего, с душевным высокопочтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего высокопревосходительства покорным слугою.
Академист 1–5 ступени И. Гайвазовский.
Письмо И. К. Айвазовского конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу о написанных в Крыму картинах и своих творческих планах.
13 августа 1839 г., Феодосия
Милостивый государь Василий Иванович!
Второй вояж с Н. Н. Раевским к Абхазским берегам помешал докончить все картины, которые я назначил было к выставке, и потому, возвратившись со второго десанта, я занялся окончанием картин, но не много успел, как видите – одну картину, которую посылаю с этой же почтой. Я предвижу, что про это также найдутся некоторые, [которые] скажут, что не довольно окончено. Это зависит от того, как зритель захочет смотреть. Если он станет перед картиной, нап [ример], «Лунная ночь», и обратит главное внимание на луну и постепенно, придерживаясь интересной точки картины, взглянет на прочие части картины мимоходом, так назову, и сверх этого, не забывая, что это ночь, которая нас лишает всяких рефлексий, то подобный зритель найдет, что эта картина более окончена, нежели как следует. Кстати скажу о картине, которую я помню в Эрмитаже, в старой французской галерее или в Шнейдеровском, «Лунная ночь» кажется Берггема,[72] которую я каждый раз вспоминаю, когда смотрю здесь на лунные ночи, а в Петербурге я иначе не говорил бы об этой картине, как «на черном сукне [нрзб. ]». Я знаю, что и на этой моей картине луна-полтинник, да спрятать не за что было. Да кто написал не только луну, но даже свет луны так сильно, как она есть в натуре? Вся живопись слабое подражение природе. Я Вас попрошу обратить внимание на сочинение этой картины.[73]
Прошу Вас, если согласитесь, выставить прежние картины: «Ялту», «Греки», «Пурга», «Утро» и «Ночь». Я знаю, что в них есть недостатки, но есть и то, чего прежде я не писал. Наконец, эти все пять картин доказывают, что я о себе мало думаю, смотря по сюжетам картин, которые немногосложны. Впрочем, представляю в Вашу волю, делайте как Вам угодно. Если я пишу что лишнее, только чтобы изъявить свое желание. Через эти вояжи у меня пропасть эскизов кавказских, а кроме того, масляными красками написал одну картину «Десант», когда корабли обстреливают берег, но послать к Вам я раздумал, ибо картина небольшая и много интересных предметов, которые в миниатюре, хотя картина более аршина. Если б я послал эту картину, то значит [хотел бы] этим отделаться вследствие стольких способов, какими я пользуюсь, а эти десанты я начал на хорошем размере и подробнее будет. И надеюсь, что последнее может быть понравится императору, которому известно уже, что я оставлен в Крыму для этого.
Кроме того, у меня есть картины четыре, только не кончены как следует и нет возможности докончить на выставку, ибо сегодня получил известие от Раевского, чтобы спешить в Керчь чтобы вместе отправиться опять на третий десант с флотом, и сейчас спешу на почту отдать это письмо и картину и потом отправляюсь в Керчь, а по возвращении из Кавказа начну оканчивать картины и по порядку буду отсылать их Вам. Итак, простите за этакое письмо и просьбы, а все причиной Ваше доброе сердце, если немного смелее просил.
С истинным уважением и всегда преданный Вам от всей души.
И. Гайвазовский.Письмо И. К. Айвазовского В. И. Григоровичу об исполненных им в Крыму картинах и о поездке в Петербург.
25 июня 1840 г. Феодосия.
Милостивый государь Василий Иванович!
Наконец собираюсь уже в дорогу, 10 или до 15 июля, непременно выеду и буду в Петербурге до 10 июля. Некоторые мои картины будут гораздо позже в Петербурге, ибо их не берут на почту, слишком длинен ящик. Я глупо очень сделал, что написал в большом размере. Теперь нечего делать. Надо каким-нибудь случаем отправить, что берется мне сделать мой почтенный знакомый Гаевский.[74] Он обещает непременно доставить чрез кого-нибудь по отъезде моем, а с собою беру только две небольшие картины, то есть отправляю по почте, если позволите, на Ваше имя, а Вас попрошу оставить их, как получите, закрытыми до моего приезда, а там я сам распоряжусь. И даже, чтобы никто не знал о них, кроме Вас. Вы верно догадываетесь, почему эта осторожность, приеду и расскажу Вам все. Беру с собой теперь только «Севастополь» и «Десант», все военные корабли. Не знаю, застанет ли письмо мое Штернберга в Петербурге, которое прошу Вас покорнейше послать к нему, если он в Петербурге, а если уехал, то вероятно Вы оставите у себя.
Виктор Иванович Григорович (1815–1876) – историк, русский филолог-славист, профессор в Казани, Москве и Одессе
Через пять дней буду писать опять к Вам и отправлю картины и попрошу Вас где-нибудь в кладовой сохранить, пока приеду. Недавно граф Воронцов[75] приезжал сюда и был у меня. Ему очень понравились мои картины, особенно был доволен своей картиной, которую он мне заказал: вид его имения на южном берегу, все почти зелень и скалы. В самом деле удачная картина. Он ее отправил уже в Лондон к сестре своей в подарок.
Желаю Вам и семейству доброго здоровья и до свидания. Преданный Вам душой, слуга ваш покорный.
И. Айвазовский.Из письма И. К. Айвазовского В. И. Григоровичу об успехе своих картин в Риме и о работах своих товарищей.
30 апреля 1841 г., Неаполь.
Милостивый государь Василий Иванович!
Меня очень тронуло известие о нездоровом состоянии Вашем. Я был в Риме, когда нас уведомили об этом, но надеюсь на милость божию сохранить Ваше здоровье к благополучию не только семейства Вашего, но всех нас и будущих питомцев Академии. Зная Вашу чувствительную, благородную душу, мы почти могли отгадать причину болезни Вашей. Первые письма мои Вы, вероятно, получили и знаете потому, сколько и какие картины я написал, в том числе одну картину, представляющую флот неаполит[анский] у Везувия, пожелал купить король и уже она давно у него во дворце. К карнавалам римским я с четырьмя картинами отправился в Рим, где выставил окончивши эти картины. Публика римская очень приняла великодушно мои картины, в журналах расхвалили донельзя.[76] Все меня радует, признаться, но не думайте, что это могло бы мне повредить. Я все продолжаю строго наблюдать природу, а фигуры на картинах все-таки не под [вели] другие достоинства. Но зато теперь буду каждую фигуру на картине писать с натуры. Мне лишне было бы описывать подробности о моих картинах. Вероятно, журналы дойдут и до Вас – лучшее известие. На каждую картину было по несколько охотников, небольшие все продал, но «Ночь неаполитанскую» и «День» я никак не хотел уступить иностранцам.
«… В Риме на художественной выставке картины Гайвазовского признаны первыми. «Неаполитанская ночь», «Буря» и «Хаос» наделали столько шуму в столице изящных искусств, что залы вельмож, общественные сборища и притоны артистов оглашались славою новороссийского пейзажиста; газеты гремели ему восторженными похвалами и все единодушно говорили и писали, что до Гайвазовского никто еще не изображал так верно и живо света, воздуха и воды. Папа купил его картину «Хаос» и поставил ее в Ватикане, куда удостаиваются быть помещенными только произведения первейших в мире художников».
Газета «Одесский вестник» сообщала отзыв К. А. Векки[77] о картинах Айвазовского:
«… Пользуясь дружбой Гайвазовского, я посетил его мастерскую, которую, менее нежели в месяц, он обогатил пятью картинами. Вдохновенный прелестным цветом нашего неба и нашего моря, он в каждом взмахе своей кисти обличает свой восторг и свое очарование. Игра лунного света, в котором он захотел изобразить Неаполь ночью, полна истины и блеска и приводит в такой восторг, что наблюдатель, очарованный волшебными переливами красок, среди бела дня переносится как бы в ночь, смотря, как луна светит на горизонте и, придавая особый оттенок предметам, блещет на полосе озаряемого ею моря…
Если бы не препятствовали мне условия этого журнала, я желал бы поговорить подробнее о прелести этих картин, теперь же ограничиваюсь повторением тысячи искренних похвал даровитому творцу их, который так полно соответствует искусством своей кисти и пылким гением своим – надежде, внушенной им художеству и своим соотечественникам».
Англичане давали мне 5000 рублей за две, но все не хотелось уступить им, а отдал князю Горчакову[78] за 2000 рублей «Ночь» с тем, чтобы он по приезде послал бы в Академию. Он мне обещал это сделать. «День» оставил у себя я пока, что-нибудь еще напишу чтобы [нрзб. ] только послать к Вам. Прочие небольшие две купили англичане в Лондон; две неболь[шие] купил граф Энглафштейн[79] в Берлин, а остальные две – граф Чиач в Гамбург.
С тех пор, как я в Италии, написал до 20 картин с маленькими, да нельзя утерпеть, не писать: то луна прелестна, то закат солнца в роскошном Неаполе. Мне кажется, грешно бы было их оставить без внимания, тем более мне, которому – есть главное. Теперь пятый день, как я с Штернбергом и Монигетти[80] приехали в Неаполь и разъедемся по своим местам, т. е.: я в Кастельмаро и по прочим окрестностям, Штернберг у своих грязных лацарони, а Монигетти – к развалинам Помпеи. Сей последний диктует мне свое почтение Вам, а Штернберг сам припишет.
…Очень благодарен Вам, что выслали из Академии 500 руб. домой; недавно в Риме я получил из Академии 700 рублей, вероятно это те 1000 руб., которые оставались в Академии из 5000 рублей. Прошу еще приказать во-время выслать домой, они терпели нужду пока получили деньги. Теперь на днях здесь в Неаполе экспозиция. Я приготовляю три картины к этому и потом три месяца лета буду только писать этюды с натуры, и между тем хочется съездить в Сицилию, а на зиму опять в Неаполь. Картины я отправляю отсюда в августе с курьером. Картина Ф. А. Бруни[81] делает фурор здесь, он ее окончил, в самом деле очень хорошо. Моллер[82] написал еще премиленькую головку. Тыран[83] все лучше и лучше пишет. Пименов[84] вылепил хорошо очень мальчика. Римская выставка очень незавидная была, как и всегда, говорят. Сначала выставил я, потом братья Чернецовы[85] выставили [Волховские?] виды, а потом и Шамшин[86] Петра 1-го.
Простите, Василий Иванович, что не пишу в правление Академии, не все ли равно? Право, не знаю, как писать туда, впрочем непременно будущим разом буду писать. Когда отправлю картины, тогда напишу к Вам подробное письмо. Прошу засвидетельствовать мое нижайшее почтение супруге Вашей и Константину Ивановичу и А. Казначееву также, коли увидите его. Прощайте, добрейший Василий Иванович. Дай бог Вам здоровья и благополучия.
Преданный навсегда от искренней души.
Иван Айвазовский.Письмо А. Р. Томилова к И. К. Айвазовскому с отзывами о его новых картинах.
[1842 г. ]
Славно, любезнейший Иван Конст[антинович]!
Увидя в ноябре, по приезде моем, выставленными две большие и пять маленьких картин, в числе которых «Грот Лазуревый» [нрзб. ], вижу в тебе чувство, сильно разжигается душа твоя явлениями природы и кисть твоя свободно передает то, что поражает, утешает и веселит чувствие твое. Вода! Воздух! Прекрасная луна плещет в воде прелестно. Мало кто чувствовал так сильно, так свежо. Но земля, но самые люди, т. е. фигуры, не должны пропадать в эффекте, который хоть очень приятно поражает глаза и чувства, но в той же мере возбуждает любопытство зрячим знать, где он. В какой земле видит он этот эффект природы? Какие люди вместе с ним дышат этим воздухом? Что они делают, населяют ее? А в картинах, что видим на выставке, интерес разжег этот вопрос, но он вовсе не удовлетворен. Фигуры пожертвованы до такой степени эффекту, что не распознать: на первом плане мужчины это, или женщины. Самые берега служат только, отметим, чтобы не глядеть на них, а любоваться только как помощью противоположности, что они делают мутностью и темнотою своей, красуется воздух и вода. Это огорчает меня тем более, что дает повод зоилам твоим. Говорят между вздорами (и похожее на дело обвинение), что Гайвазовский пишет слишком проворно и небрежно и что картины его больше декорации, нежели картины. Этого не имею уже силы опровергать, а досадую только и говорю: «По крайней мере согласитесь, что декорация прелестна».
Увидя привезенные три картины вместе с портретом твоим и картинами Черенцовых и некоторых других:
Ура, Гайвазовский! Ура, милый Иван Константинович! Вот две картины прелестные. Вечернее солнце сквозь легкие пары освещает прозрачное море, на котором вдали видны острова, а вблизи лодка с людьми. Я узнаю их, мне кажется и они любуются прекрасным небом, я с ними вместе дышу прелестным воздухом и жаром обдает нас палящее солнце.
Тут жадный глаз мой пробегает по открытому для него пространству, понимает все, что видит. Себя одного спрашивает и ответ приятно раздается в чувствах моих. Солнце – чудо на небе. Чудо и на картине! Ура! Другая картина, где хотя и нет солнца, свет не разительный, но освещение правдивое. Колышется море, и силы его, разбивающиеся о берег, так правдивы, так прозрачны, что хочется вслушаться в прибой их околичности. Фигуры соразмерно отвечают морю!.. Не знаю, которую из двух картин я бы предпочел, обе высокой красоты и расстояние от прежних так велико для меня показалось, что я оценил бы его несколькими годами…
Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову о своих заграничных поездках и впечатлениях.
22 мая 1842 г.
Почтеннейший, добрейший, Алексей Романович!
Виноват и очень виноват пред Вами, что никогда не писал к Вам, но будьте уверены, что всегда сильное желание было и есть уведомить Вас о себе, как добрейшего знакомого. Но к Вам не хотелось мне писать коротко и о погоде, как[овы] большей частью письма мои, которые надобно было непременно писать, но Вам желаю всегда высказать что-нибудь об изящном, ибо Ваши понятия и чувства к искусству заставляли или наводят на это желание. Признаюсь, я с нетерпением жду этих дней, когда буду иметь это удовольствие. Это очень скоро.
На будущей неделе [поеду] по Рейну и тогда непременно напишу обо всем подробно все, что было в продолжении двух лет и, вероятно, то письмо получите прежде этого, а теперь я в Венеции и уезжаю на днях в Лондон. Наконец, позвольте мне Вам говорить про рисунки, оригинальные, древних известных мастеров, я их видел и в восхищении. В самом деле во всех отношениях удовлетворяют любителя изящного, они принадлежат Г. Генфрейгонку (добрейший наш консул здешний), да вы, вероятно, слыхали об них, и так как он в скором времени уезжает в Санкт – Петербург и берет с собой эту коллекцию, то я желал очень, чтобы Вы видели эти рисунки, ибо уверен, что они чрезвычайно понравятся, и, во-вторых, Г. очень желает познакомиться с Вами и советоваться с Вами насчет рисунков этих.
«Венеция». Художник И. К. Айвазовский. 1842 г.
Я недавно проехал Геную, где встретился с Анной Васильевной Сарычевой, я очень был рад этому. Она мне рассказала про Вас и меня очень и очень обрадовала этим. Они поехали в Нис. Право, не стоит начать писать о себе, ибо теперь я спешу, я так много видел и сделал с тех пор, как за границей, что надо именно дни и месяцы, чтобы высказать, а теперь скажу только, что я слава богу здоров, счастлив во всех отношениях.
Желаю Вам от всей души здоровья, остаюсь навсегда преданный Вам
И. Айвазовский.Прошу передать мое почтение Роману Алексеевичу и Александре Алексеевне.[87]
Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову с изъявлением благодарности за оказанное ему покровительство и об успехе своих картин в Париже.
20/8 июля 1842 г., Париж
Добрейший, благодетельный Алексей Романович!
Мне очень больно, что я подал повод Вам думать, что я Вас совсем забыл. Я ни разу еще не писал к Вам с тех пор, как за границей, нечего оправдываться, виноват, по милости лени, но позвольте уверить Вас, что я никак не могу забыть доброжелательную душу Вашу, тем более, драгоценное расположение Ваше ко мне, которое не могу вспомнить хладнокровно, а как художник, тем более, зная Ваше глубокое чувство к изящному искусству. Да, Алексей Романович, поверьте мне, что чем более [я] в свете, тем более чувствую цену людей редких, и потому совсем напротив тому, чтобы забыть подобных людей, но я счастлив тем, что природа одарила меня силой возблагодарить и оправдать себя пред [такими] доброжелателями, как Вы. Я помню, в первое время еще в Петербурге, какое родное участие принимали [Вы] во мне, тогда, когда я ничего не значил, это-то меня и трогает. Теперь, слава богу, я совершенно счастлив во всем, все желают со мной познакомиться, но все это не то, что я сказал уже. Не буду продолжать мою философию, Вы верно поняли, что я хотел высказать. А теперь скажу весьма коротко, что я сделал и намерен.
Вероятно, Вам известно, что я очень много написал с тех пор, как за границей, и как лестно всегда были приняты мои картины в Неаполе и в Риме. Много из картин моих разошлись по всем частям Европы, а из царей у Неаполитанского короля, у папы, у Боварского (герцога), а прочие у частных лиц.
В нынешнее лето мне хотелось сделать вояж на север, и вот уже я возвращаюсь назад в Италию.[88] Когда я был в Генуе, видел я Анну Васильевну Сарычеву, я очень рад был ее видеть, и она мне рассказала про Вас, потом я проехал Швецарию по Рейну в Голландию, где мне очень было интересно по моей части, потом в Лондон, где видел все замечательное, и порты, а теперь уже 20 дней, как я в Париже. Здесь очень хорошо приняли меня лучшие художники Гюден и прочие, а Таннера здесь нет, и его никто здесь терпеть не может, он со всеми здесь в ссоре. Чрез пять дней я еду в Марсель и в Неаполь, заняться серьезно опять и хочу послать сюда на выставку, так просили меня многие французы, вероятно, я не могу здесь иметь первостепенную славу, какую мне дали в Италии, но все-таки пусть критикуют, пока молод, а хочется состязаться с французами.
Александре Алексеевне madame Шварц[89] мое нижайшее почтение и прошу не забыть смешного крымчака. Роману Алексеевичу и Николаю Алексеевичу и всем прочим художникам мой поклон. Буду писать к Вам из Неаполя.
Ваш Айвазовский.Нынешний год я послал к выставке петербургской картин шесть, признаюсь откровенно, они мне не очень нравятся, лучше большие у князя Витгенштейна и Толстого.[90] Коли эти господа выставят на выставку, то может понравится публике.
Письмо И. К. Айвазовского В. И. Григоровичу о своих впечатлениях от искусства Голландии, Англии и Франции.
26 октября 1842 г. Венеция
Не знал куда писать Вам, добрейший Василий Иванович, я ждал приезда Вашего в Петербург и только вчера мне говорили, что Вы благополучно прибыли. Воображаю я радость в милом семействе Вашем, дай бог Вас видеть все таким, как я помню в последнее время в Риме. Скажу Вам теперь про себя.
Я уже два месяца как в Венеции. После четырех месяцев вояжа отдыхаю в этом тихом городе. Я много рисовал здесь и писал этюды, а теперь, так как погода портится немного, начинаю писать картины и довольно многосложные. Уже у меня есть конченные. По приезде сюда меня просил Тревизо,[91] у которого галерея довольно зн[атная] и я ему написал две картины и еще другому. Все, что я теперь напишу, хочется выставить в Париже и потом послать в Петербург, если на то будет согласие. Я очень доволен, что сделал этот вояж. Я теперь лучше могу видеть свои недостатки и прочее.
В Голландии я видел много чудного, в Лондоне много маньеристов,[92] исключая Вильи, от которого я в восхищении и ничто меня так не обрадовало в этот вояж, как этот великий художник. К счастью, когда я был в Лондоне, были выставлены картины этого художника, он недавно умер. Поверьте, что я пред некоторыми картинами его смеялся во все горло, между серьезными англичанами, а пред другими картинами плакал, как ребенок. Признаюсь откровенно, никто меня так не удивляет, как этот художник. Видя его так разнообразно во всех отношениях, так совершенным в экспрессиях во всех [нрзб. ] обстоятельствах, а как искусство и нечего говорить. То как лучший Рембрандт, то как лучший конченный Тенирс,[93] как Рубенс, как Воверман,[94] как Жирарде[95] и проч. Все картины его в разных родах, но большею частью, как Вильи люблю других и предпочитаю всему тому, что я знаю в этом роде.
Здесь в Венеции теперь Бенуа, Скотти,[96] Эпингер,[97] Эльс, а от Штернберга недавно я получил письмо, он живет у Кривцова в Фроскоти и Монигетти тоже.
Из Лондона я послал три картины в Петербург, прямо в Академию и не знаю, как они доехали и выставлены ли они и прочие картины. Мне очень хотелось, чтобы картина Толстого «Ночь» была бы выставлена. На прочие картины я мало надеюсь. Вы знаете, что делать с моими картинами, а в случае, если они останутся так, то я бы желал узнать, ибо я обещал четыре картины в Гамбург, а впрочем, как придется.
Я остаюсь в Венеции еще 2 месяца, и если б Вы, по получении письма моего, приказали бы написать ко мне слова два, как была выставка и проч., что бы меня весьма обрадовало бы и письмо может меня застать еще в Венеции. Адресовать прямо на мое имя в Poste restate,[98] во всяком случае мне отошлют, если я прежде оставлю Венецию, но 2 месяца наверное останусь, а может быть, и более. В августе здесь была выставка и я приехавши написал картину и выставил, что очень понравилось венецианцам.
Прошу Вас, Василий Иванович, извинить меня за этакое письмо, на лоскутах пишу, я сам думаю об картине огромной, для которой холстина предо мной. Прошу передать мое почтение всем Вашим. Желаю Вам быть здоровым и благополучия.
Не придет ли к Вам А. Казначеев? Я жду от него ответа на письмо мое из Парижа. Итак, прощайте. Напишу потом все, а теперь простите.
Преданный Вам навсегда И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского А. Р. Томилову об успехе своих картин в Париже и о своих творческих планах.
10/2 мая 1843 г., Париж
Добрейший Алексей Романович!
Не знаю, получили ли Вы мое письмо из Италии. Я, кажется, уже описывал Вам про все, что я сделал в эти три года. Теперь спешу только сказать Вам про здешнюю выставку. Я приехал сюда из Венеции в декабре с тремя картинами для выставки, хотел было еще написать бурю, но не успел и потому только выставил тихие моменты – одна большая картина Венеции, другая – монахи при закате солнца в Венеции и третья – ночь там же. Судьи здешней Академии очень были довольны моими картинами на выставке. Не могли большого эффекта произвести по скромным сюжетам, но вообще нравятся. Они меня очень хорошо познакомили с художниками здесь, в Турине же разов шесть хвалили, а была еще критика в прессе в Siecle в journal des Beard arts и france-litteraire и еще artiste[99]). Во всех этих журналах очень хорошо отзываются про картины мои, что меня очень удивило, ибо французы не очень жалуют гостей, особенно русских художников, но как-то вышло напротив, а кроме журнальных похвал и прочего, здешние известные любители, граф Портал ее и другие члены общества художественного желали иметь мои картины, но так как они уже принадлежат, то я обещался сделать. А что более доказывает мой успех в Париже, это желание купцов картинных, которые просят у меня картины и платят большие суммы, а сами назначили им цены, за которые продают здесь Гюдена картины, одним словом, очень дорожат моими. Все это меня радует, ибо доказывает, что я им известен очень хорошей стороной.[100]
Однако довольно похвастался, теперь скажу о главном, все эти успехи в свете вздор, меня они минутно радуют и только, а главное мое счастие – это успех в усовершенствовании, что первая цель у меня. Не судите меня по картинам, что вы видели в последней выставке в Петербурге, теперь я оставил все эти утрированные краски, но между тем нужно было тоже их пройти, чтоб сохранить в будущих картинах приятную силу красок и эффектов, что весьма важная статья в морской живописи в прочем и во всех родах живописи, можно сказать, а кроме трех моих картин, что на выставке, я написал две большие бури и совсем окончил, надеюсь, что это лучше всего, что я до сих пор сделал. Жаль, что я не успел их написать к выставке, все это я отправлю к сентябрю в Петербург. Теперь я предпринимаю большую картину, бурю, случившуюся недавно у африканских берегов далеко от берега (8 человек держались 45 дней на части корабля разбитого, подробности ужасные, и их спас французский бриг, об этом писали в газетах недавно). Теперь я очень занят этим сюжетом и надеюсь Вам показать ее в сентябре в Петербурге.
Год тому назад я имел удовольствие в Генуе встретить Анну Васильевну Сарычову, очень мне было приятно видеть ее и слышать про Вас и про доброе Ваше семейство, а еще было бы радостнее видеть Вас, а может, впрочем приеду на некоторое время, хотя еще три года могу оставаться, не приезжая, но может быть необходимо будет самому поехать с большой картиной. Это письмо взялся доставить добрый Петр Петрович Ланской,[101] который едет сегодня в Петербург. Мы часто говорили с ним про Вас, про Ваше доброе попечение обо мне и проч. Он может Вам рассказать подробнее про меня и картины мои. Извините, что так бессвязно и спешу написать, сейчас уезжает. Прошу передать мое почтение Александре Алексеевне, Роману Алексеевичу, Нине Алексеевне, Александре Ивановне, почтенному семейству Философовых[102] и господину Заболотскому[103] и всем, всем знакомым. А прошу Вас быть уверенным во всегдашней моей к Вам истинной привязанности и благодарности.
Ваш Иван Айвазовский.Кстати перепишу две журнальные статьи, которые у меня находятся, а другие может быть получают в Петербурге.[104]
«Портрет Алексея Романовича Томилова». Художник О. И. Кипренский. 1808 г.
Алексей Романович Томилов (1775–1849) – член Общества поощрения художеств и почетный вольный общник И. А. X. при Николае I, любитель искусства
Письмо В. И. Штернберга И. К. Айвазовскому об успехах русских художников в Италии.
Октябрь 1843 г. Рим.
Спасибо тебе, любезный Айвазовский, за письмо из Чаватавской, которое меня немало удивило, т. е. не письмо, а Чаватавская. Я думал получить от тебя письмо из Мальты, или из Сицилии, скорее из Африки с края света, но никак не [из] Чаватавской. Ну что бы дел было заехать? Конечно, ты хорошо сделал, что решил ехать в Париж. В Риме скучно. Я слышал, что эту зиму будет в Риме Horace Vernet и Paul Delaroch[105] и еще какой-то знаменитый пейзажист – увидим.
Вчера я был у Павла Ивановича и он мне поручил тебе переслать свой вексель. Он очень занят, хлопочет об отъезде, передняя его завалена ящиками, кипами, но он однако не прежде двух месяцев оставляет Рим.
Наше общество наконец открылось, которого председатель Сомов[106] очень дурно распорядился, не сделавши порядочных условий с Назари. Мы продолжаем посещать общество, где прекрасный биллиард и разные журналы, но не знаем долго ли это продолжится, а жаль, если это нарушится.
Ты мне ничего не пишешь о письме, которое я тебе послал в Неаполь с обожженным письмом, кажется от брата твоего из Венеции. Получил ли ты его? Я написал маленькую картинку для Галогопо и начал побольше картину с того этюда, который ты у меня видел «Акведук в Тиволи». Об выставке я ничего не слышал положительного. Говорят точно, что будет ежегодная выставка, но я тебе об этом напишу после. На днях приехали Эпингер и Чижов, которые, как тебе известно, были в Черногории, Далмации, Кроации и [нрзб.]., Первый отрастил себе большую бороду, а второй совсем зарос бородой.
Архитектор Шурупов также воротился из вояжа в Каффу, куда он ездил для покупки мрамора. Вот тебе все новости. Впрочем все по старому, – нищие все на своих местах.
Прощай, любезный Айвазовский, до свидания, мой поклон Григорию Константиновичу.[107] Все наши Вам кланяются.
Письмо И. К. Айвазовского В. И. Штернбергу о своих впечатлениях от голландской живописи и голландских художников.
10 июня 1844 г., Антверпен
Пред отъездом моим из Парижа получил я твое последнее письмо, любезный мой друг Штернберг, но хлопоты по отъезду не допустили написать к тебе из Парижа. Теперь я рад, что отсюда пишу к тебе, ибо хочу сказать, до какой степени я доволен от здешней школы настоящей и советовать тебе, как можно, поспешить оставить Италию. Несмотря на то, что я предпочитаю день жизни в Италии месяцам на севере, но вот что меня заставляет тебе советовать поспешить сюда. Здесь я нашел столько замечательных талантов, как нигде в настоящее время во всех родах [живописи], особенно в твоем роде. Удивительные таланты, не уступают своим великим предкам: г. Де-Кестдор, Вапперс, Лейс, Бромлер, Вербукговен, Хунук и многие другие. Это все такие таланты, что, право, оставить их жаль, так жаль уехать отсюда. Как они совестно работают, не стану подробности описывать, пользы не будет. Но я скажу тебе только то, что бельгийская и голландская школа – самое прямо по цели, особенно для твоего рода и, ради бога, остальные два года же будь в этих краях, ты очень, очень будешь доволен. Я знаю, что большая жертва – Италию заменить на Бельгию, но художество должно быть везде первое утешение и всем [надо] жертвовать для этого. Да, впрочем, что я тебе докучаю своей философией, ты знаешь и чувствуешь очень хорошо все это. Так скажу опять, приезжай сюда и останься как можно побольше. Познакомившись с здешними художниками, сам начни работать, и я уверен, что тебя они совершенно оценят и дадут тебе ту ступень, на которую твой талант имеет право.
Здесь еще надобно дать справедливость, что все артисты живут между собой как следует: ни мелкой зависти, ни сплетни, напротив, один другого достоинство старается выставить перед иностранцем. Мне много говорили об этом, наконец я сам испытал. Как они ласково приняли и водили от одного к другому. Еще, что меня [поразило] наравне – это их патриархальная жизнь. Они живут прекрасно и видно, что они вполне наслаждаются и вне мастерской, как и должен благодарный художник.
Ну, довольно об этом. Теперь, несмотря на все эти восторги, оставляю Бельгию и еду в Голландию, потом в Гамбург и, наконец, в Петербург, где останусь четыре месяца, и в Крым на зиму…
…Ты теперь, верно, в Неаполе. Дай бог тебе здоровья и работать посерьезнее и побольше. Приехавши в Петербург, хочу много работать – петербург [ские] летние эффекты, чтобы отделаться скорее и на родину…
Комиссию Тыранова я давно передал Артемчину, кланяйся Тыранову и всем нашим: Гейне, Макрицкому, Тышнову и всем. Говорят, что старик Воробьев с восторгом копирует картину сына своего и дарит Академии и большой эффект произвела даже на тех, которые знают, что это его отец. Но все это вздор. Только лучше прославится. Будь здоров.
Твой друг И. Айвазовский.Письмо В. И. Штернберга И. К. Айвазовскому о жизни и успехах русских художников, живущих в Италии.
13 мая 1845 г., Рим.
Любезный друг Айвазовский!
Ты упрекаешь меня, что я тебе не пишу. Как же возможно, чтоб я не отвечал на твои два письма, которые я получил прошедшей зимой в Неаполе и которые столько меня обрадовали. Спустя неделю, может быть, я тебе послал письмо, в котором даже был р[исунок] и эскиз моей картины. Вскоре после этого я тебе послал другое с письмецом к Лагорио, куда же девались эти письма? Не досадно ли, и вот теперь пишу и не знаю, дойдет ли это письмо до тебя.
Прошедшую зиму я провел в Неаполе, начал там картину, изображающую рынок в одной из самых многолюдных улиц, если ты получил мое письмо, то имеешь понятие в целом. Сюжет очень живописный и в натуре эта улица прекрасна, но следовало бы сделать этюд с натуры, а я не мог, погода была постоянно дурная и к тому я почти всю зиму прохворал, особенно к весне мой кашель так усилился, что доктор Цимерман мне советовал оставить Неаполь, полагая что морской воздух слишком раздражителен. И вот я опять в Риме с моей неоконченной картиной. Жаль мне было оставить Неаполь, теперь он так хорош. Из этого ты видишь, как медленно идет моя работа, не то, что у тебя, уж сколько, я думаю, написано в это время.
Мы с Монигетти часто говорим про тебя, он мне так подробно описал твой быт, что мне кажется, что я видел твою студию, часто мне хочется заглянуть туда. Покамест я остаюсь в окрестностях Рима месяца два лечиться ослиным молоком, потом осенью может быть поеду в Париж. Наши художники скоро опять разбредутся по белому свету; Бенуа едет в Испанию, Воробьев в Сицилию, только Горач и Иванов (живописец) остаются неподвижны, как древние столбы. Наконец Михайлов приехал в Рим, уже давно бы пора, а то, право, было совестно, ни одного исторического живописца у нас не было в Риме. Дай бог, чтобы он сделал здесь что-нибудь хорошее. Он мне передал твое письмо от 30 января, хотя не очень большие новости, но не менее приятные, досадно только, что ты не получил моих писем.
О твоем векселе я два раза писал из Неаполя к Сомову, но он как видно и не думал послать его. Наконец по приезде моем сюда он мне выдал следующую сумму: 580 руб. скуд. 106–71… но там вычитается post commission do banque[108] 11/4 полторы скуды, остается 105 и 66 bogiadu, но я, виноват, распорядился этими деньгами, потому что ты мне позволил их удержать, если мне нужно. Но я бы этого для себя никогда не сделал, в особенности теперь я нисколько не нуждаюсь, я их отдал Макрицкому, он теперь в самом деле в нужде, и я уверен, что он в скором времени будет в состоянии мне их возвратить, а потому, когда они тебе будут нужны, пиши немедленно ко мне, это не бог знает какая сумма.
Меня удивил успех Макрицкого в живописи. Он написал девушку в чочарском костюме, бросающую с балкона цветы во время карнавала. Движение довольно грациозно, выражение лица очень приятно и вообще все написано добросовестно, даже со вкусом. Я уверен, что эта картина будет иметь успех в Петербурге. На здешней выставке нынче были хорошие пейзажи неаполитанского художника Carlo[109] и одного миланца marquise J’Ayeglio.[110]
Я застал еще две большие картины того и другого. Маркиз пишет очень ловко, в особенности деревья, а у Карло дома написаны мастерски. На французской выставке не было ничего замечательного. У наших художников я еще не у всех был, кроме Моллера. Он затевает писать большую картину. Эскиз очень хорош и сюжет поэтический. Однако вот уже полдень, и Макрицкий выпрашивает также местечко и для себя. Прошу тебя, пиши ко мне. И уведомь меня, скоро ли поедешь в Крым, чтоб я знал, куда писать. Кланяйся всем знакомым в Петербурге, в особенности Тыранову, я бы очень хотел теперь ему написать слова два, да день, нет времени. Прощай любезный друг.
Твой Штернберг.Гейне, Монигетти, Воробьев, Михайлов и прочие тебе кланяются.
Вам Штернберг[111] так хорошо расписал все, касающееся до меня, что я не имею ничего более сказать, кроме что с боязнью приступил к принятию помянутых денег, могу сказать, что ухватился за них, как утопающий хватается за нос другого, и таким образом, спасаясь сам, топит еще и другого.
Но бог милостив и я уверен, что наш добрый Иван Константинович, если и утопает, то в счастии и довольствии и потому только так храбро мы с Василием ограбили тебя.
Письмо И. К. Айвазовского президенту Академии художеств о написанных им картинах с видами Константинополя с просьбой продлить срок его пребывания в Крыму.
29 ноября 1845 г., Феодосия
Ваше императорское высочество!
По возвращении моем сюда из путешествия с его императорским высочеством великим князем Константином Николаевичем, я успел написать здесь две картины. Одна из них представляет вид части Константинополя, снятый с Золотого рога, другая со стороны Галатской башни.
«Вид Константинополя при вечернем освещении». Художник И. К. Айвазовский. 1846 г.
Картины сии долгом поставляю повергнуть милостивому вниманию Вашего императорского высочества для предварительного представления на высочайшее усмотрение.
При чем приемлю смелость доложить Вашему высочеству, что я бы полагал полезным остаться здесь до мая месяца, дабы удобнее исполнить высочайшую волю составлением видов Черноморских портов, если на то будет соизволение Вашего императорского высочества.
С достодолжным высокопочитанием и беспредельною преданностью имею счастие именоваться всепокорнейшим слугою Вашего императорского высочества.
Иван Айвазовский, академик императорской Академии художеств.Из письма И. К. Айвазовского графу Зубову о своих планах и предстоящей выставке картин в Феодосии.
Феодосия 16 марта 1846 г.
…Мне так совестно пред всеми добрыми знакомыми, что не знаю как и начать письмо. По этой причине долго не решался, наконец, думаю – лучше редко, нежели совсем не писать, и наконец собрался с духом написать Вам, добрейший граф, несколько слов о себе с надеждой и от Вас получить весточку. Здоровы ли Вы? Что Ваши милые дочки, артистический дом ваш, все меня очень интересует.
Вояж мой с его имп[ераторским] высочеством Константином Николаевичем был чрезвычайно приятный и интересный, везде я успел набросать этюды для картин, особенно в Константинополе, от которого я в восхищении. Вероятно, нет ничего в мире величественнее этого города, там забывается и Неаполь и Венеция.
Возвратившись оттуда на родину свою, я имел счастье по воле его императорского] величества отправиться из Николаева в Севастополь на одном пароходе с его величеством, который все время чрезвычайно был ко мне милостив и много картин заказал во время смотра морского в Севастополе.
Всю осень я провел почти на южном берегу Крыма, где я совершенно наслаждался природой, видя одно из лучших мест в Европе. Да вдобавок еще у себя в отечестве, наслаждаясь настоящим, можешь будущность свою также мечтать тут же. И потому я купил маленький фруктовый сад на южном берегу. Удивительное место. Зимой почти все зелено, ибо много кипарису и лавровых деревьев, а месячные розы цветут беспрестанно зимой. Я в восхищении от этой покупки, хотя доходу ни копейки, но зато никакие виллы в Италии не заставят меня завидовать.
Не имея с собой довольно материалов для живописи, я должен был выписывать из Петербурга, просил и прочее, и потому я немного начал поздно работать, т. е. 15 января только мог начать и вот уже написал четыре большие картины (порты Черного моря) по приказанию его величества. Теперь начинаю писать в большом же размере Константинополь и потом думаю еще картины четыре небольшие написать и уже непременно в последних числах мая с картинами отправлюсь в Петербург. Окончив здесь все картины, я хочу выставку сделать здесь на родине в Феодосии,[112] куда приедут со всех сторон Крыма и при этом хочу дать бал господину Казначееву, которому я много обязан, как Вам уже известно. Желал бы Вас застать в Петербурге, но боюсь, что Вы будете у себя в имении, вероятно, на лето. Княгине Гагариной хочу на днях писать также. Мне непростительно, право, не писать таким добрым знакомым…
И. Айвазовский.Феодосийская выставка была юбилейной. Она посвящалась десятилетию творческой деятельности молодого художника.
На этой выставке показаны были картины, написанные художником за последние годы:
1. «Буря на Керченском рейде»,
2. «Феодосия при восходе солнца»,
3. «Ночь над приморской частью Одессы»,
4. «Константинополь при захождении солнца»,
5. «Севастополь перед полуднем во время высочайшего туда приезда»,
6. «Захождение солнца над Троей»,
7. «Мелас при утреннем солнце»,
8. «Сцены общественной жизни в Константинополе. Прогулка турчанок в каюке»,
9. «Кофейня»,
10. «Бурная ночь на море»,
11. «Монастырь св. Георгия ночью близ Севастополя».
Из проекта И. К. Айвазовского об учреждении в Крыму художественной школы.
Март, 1853 г.
Предполагается учредить в Крыму художественную школу с целью образовать художников по части живописи морских видов, пейзажей и народных сцен. Южный берег этого полуострова, как самая живописная часть, может представить ученикам школы столь много разнообразных предметов для художественных их занятий. Для помещения же школы выгоднейшим полагается избрать портовый город Феодосию как по средствам к содержанию школы, так и по географическому положению оного, ибо город этот более прочих городов Крыма оживлен приезжающими из разных российских мест для морских купаний и пароходными сообщениями, окрестности же Феодосии не уступают лучшим местам южного берега Крыма и по народонаселению как город Феодосия, так и весь Феодосийский уезд есть самый разнообразный и интересный для избрания сюжетов по живописи народных сцен и проч.; кроме того, Черноморский флот несколько раз в году заходит в Феодосию.
Школа состоять имеет под управлением профессора императорской Академии художеств, приобретшего известность в означенных родах живописи, который имеет звание директора школы. В помощь директору определяются из художников надзиратель и учитель рисования, которые должны быть в непосредственном распоряжении директора, помогать ему в занятиях по школе, как по учению художествам, так и надзору за учащимися. Школа состоит под властью и покровительством императорской Академии художеств.
Все произведения учеников школы по выбору директора присылаются на рассмотрение Академии и по представлениям его достойных на основании [нрзб. ] могут быть присуждаемы академические награды, т. е. медали, звание художника и учителя рисования. Учащиеся в школе и удостоенные от Академии награды Серебряной медали 1-го достоинства могут быть по усмотрению Академии допускаемы к конкурсу с учениками Академии на получение золотых медалей и 2-го и 1-го достоинства, согласно установлениям Академии, и пользуются правами, с получением медалей сих сопряженными, средства же, для исполнения программ необходимые, получают от школы.
Школа может иметь кроме должностных лиц, при ней состоящих, покровителей и действительных членов, которые для поддержания учащихся в школе содействуют взносом ежегодно от каждого по 30 рублей серебром и другими средствами, относящимися к пользе и процветанию школы.
Члены сии, находящиеся налицо по изготовлении произведений для отсылки в императорскую Академию художеств, приглашаются директором школы для обозрения этих произведений и в общем их собрании, однажды в год сообщается к сведению их отчет о состоянии и действиях школы, который затем за общим подписанием присутствующих, представляется императорской Академии художеств.
Дабы ознакомить публику с произведениями школы, равно также и для продажи оных в пользу учащихся и школы., могут быть по разрешении директора назначаемы публичные выставки, где признано будет удобнейшим, с платою за вход в пользу школы, а также произведения учеников могут быть разыгрываемы в лотерею.
Школа имеет свою печать с изображением государственного герба и надписью «Художественная школа в Крыму».
В школу приглашаются ученики всех свободных и даже из подданых [сословий] по формальным обязательствам общества или лиц, к которым принадлежат, что в случае удостоения такового ученика от императорской Академии художеств к получению медали или звания художника и учителя будет выдан последним акт об увольнении. Число учащихся в школе не определяется, и ученики, имеющие средства, вносят ежегодно в школу по 15 рублей серебром. Школа разделяется на два отделения: 1) приготовительное, 2) художественное. В приготовительном отделении учащиеся получают понятия о линейном черчений геометрических тел и фигур и перспективе, рисуют с образцовых рисунков или гравюр [нрзб. ] и, наконец, с натуры.
По получении достаточных сведений в предметах, для приготовительного отделения положенных, ученики по назначении директора переходят в отделение художественное. Здесь они занимаются живописью морских видов, пейзажей и народных сцен, копируют с картин и пишут с натуры виды по одобрении выбора директором. Ученики, оказавшие отличные успехи в художестве и удостоенные от Академии серебряной медали 1-го достоинства при возможных средствах, доставленных покровителями и членами школы, могут быть посылаемы в путешествие по России для снятия местностей, замечательных в историческом отношении, с целью составить коллекцию картин, могущих ознакомить публику с разнообразием народного быта и природы Российской империи.
Для покрытия издержек школы, наем дома для оной, отопление, освещение, приобретение оригиналов для рисования, на жалование директору и двум художникам и наем служителей и натурщиков испрашивается от казны 3000 рублей серебром в год, сумма же, получаемая от членов и учеников и от сбора по выставкам, имеет быть обращена и собственно на содержание бедных учеников школы.
Директор школы и два художника считаются в действительной службе и имеют мундир, присваиваемый званию, полученному ими от императорской Академии художеств.
Отчет по художественной части деньгам и по денежным оборотам прихода и расхода школы представляется ежегодно господину Министру уделов или тому, которому предписано будет записывать оные в назначенное для тога время…
Из письма И. К. Айвазовского к министру уделов о результатах археологических раскопок в Феодосии.[113]
6 июля 1853 г., Феодосия.
Раскопки в Феодосии Айвазовский продолжал с перерывами в 1855–1856 гг. и в дальнейшем. В результате были обнаружены прекрасные образцы эпохи античного искусства.
… Я в восхищении от Феодосии. До вчерашнего числа открыли пять курганов, в которых ничего не нашли, кроме разбитых кувшинов с углями и золой, но вчера, т. е. в пятом кургане, нашли просто под землей в золе золотую женскую головку самой изящной работы и несколько золотых украшений, как видно, с женского наряда, а также куски прекрасной этрусской вазы.
С этой же почтой отправляю к Вам эту голову и… несколько древних монет, которые я купил в Феодосии и которые найдены в самом городе. Как новый и неопытный археолог, не смею дать своего мнения, но что касается до головки золотой, то, как артист, я в восхищении от Феодосии. Эта находка дает надежду, что не напрасны будут наши труды, и все эти открытия доказывают, что древняя Феодосия была на этом же месте…
И. Айвазовский«Старая Феодосия». Художник И. К. Айвазовский. 1845 г.
Из письма И. К. Айвазовского к Л. А. Перовскому о своем решении остаться в Крыму и писать картины на военные темы.
19 января 1854 г.
…Настоящие обстоятельства помешали мне приехать зимой в Петербург. Несмотря на славные наши победы, береговые жители в страхе, и как мы ни стараемся уговаривать – все напрасно, так что и мы перебрались к себе в имение. Кроме этого обстоятельства еще другая причина меня удерживает в Крыму – это заказы [на картины, изображающие] взятие пароходов. Кроме того, я теперь пишу чудное Синопское дело.[114] Для [сбора] сведений я жил несколько времени в Севастополе, где мог собрать самые верные сведения…
Письмо И. К. Айвазовского X. Е. Лазареву[115] о героической Севастопольской обороне, о своих планах и др.
17 ноября 1854 г., Харьков.
Милостивый государь Христофор Екимович!
Обязательное письмо Ваше от 3 ноября я имел честь получить, также и копии с писем брата Гавриила.[116] Нас всех весьма радует доброе Ваше расположение к брату и что лично узнали его редкое достоинство. Вы много можете способствовать к скорейшему его возвращению в Россию, и тогда Вы, более нежели кто-либо, имеете право указать ему, где и в чем он может быть полезнее для своих, в – любезном нашем отечестве. Весною, когда возможно будет ему возвратиться, я готов со своей стороны по возможности помочь.
С душевным прискорбием мы должны были выехать из милого нашего Крыма, оставив все свое состояние, приобретенное своими трудами в продолжении пятнадцати лет. Кроме своего семейства, матушки 70 лет, должен был взять с собой и всех родных, мы и остановились в Харькове, как ближайшем городе к югу и недорогом для скромной жизни. Нас все ласкают, как в своем городе.
Недавно я сам один ездил в Крым, был также 28 октября в Севастополе, имел счастье представиться их императорским высочествам и, по желанию великого князя Николая Николаевича, я наскоро нарисовал общий вид Севастополя во время сильной канонады. Грустно русскому сердцу видеть дерзкое предприятие нечестных англичан и французов, но с божией милостью наше храброе войско, отстоит наш дорогой уголок Крыма; храбрость наших моряков выше всякого описания. Надо видеть действие наших бастионов, и тогда можно вообразить и поверить всему, что рассказывают про гарнизон Севастопольский.
Виноват я много тем, что по сие время не исполнил своего обещания написать для института Вашего картину… Этому много причиною желание сделать что-нибудь особенное, т. е. [что] по сюжету было [бы] кстати; а этаких мне посланных идей при нынешних обстоятельствах и даже в последние полтора года трудно было исполнить. Мы уже более года жили в Крыму, как в кавказских крепостях, и к несчастью предчувствие наше оправдалось. Картину обещанную напишу непременно и не позже года.
Прошу засвидетельствовать наше глубокое уважение добродетельной Екатерине Эмануиловне и многоуважаемому Ивану Екимовичу. Всем Вашим прошу передать наш усердный поклон.
С чувствами глубочайшего высокопочитания имею честь быть, милостивый государь, Вашего превосходительства покорнейший слуга.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к заведующему морской частью и губернатору Николаева и Севастополя Г. И. Бутакову[117] в связи с отправкой ему картины «Бой фрегата «Владимир» с турецким пароходом».
5 марта 1856 г. Петербург.
Милостивый государь Григорий Иванович!
Товарищ мой В. Ф. Тимм[118] мне говорил, что Вы желаете копию с картины моей, изображающей пароход «Владимир» во время боя с «Первас-Бахри». Это желание Ваше мне дает смелость думать, что оригинал доставит Вам удовольствие. Поэтому с особенным удовольствием решился просить принять эту картину от меня на память в знак истинного моего к Вам уважения, и прошу Вас не считать как какое-нибудь с моей стороны пожертвование, а принять как альбомный рисунок, – так оно и есть в отношении к Вам.
Его высочество генерал-адмирал был очень доволен моим Намерением и по этому случаю я имел счастье получить самый лестный отзыв от самого великого князя.
Картину передаю господину Беклешову, который взялся доставить, а Вас прошу по получении отыскать в Николаеве художника Мешкова, который натянет на раму и приведет в порядок как следует.
В письме Вашем Тимму Вы замечаете, что трубы на пароходе не на месте, но вероятно Вы не помните, что «Владимир» изображен в три четверти спереди и я два раза рисовал с натуры и она верна также с чертежом, который я имею. Не отвечаю за другие недостатки, но насчет труб я уверен.
Ждем мира с нетерпением и, ежели состоится, то мы, крымчане в особенности, будем счастливы и возвратимся восвояси.
Обещают нам железную дорогу в Крым, может быть и на Феодосию, но на этот беззащитный город, а главное рейд, клевещут одесские партизаны. Спасибо хоть морякам, они поддержали меня и успели немного опровергнуть несправедливое мнение о феодосийском рейде и прочем.
Примите уверение в истинном моем к Вам уважении и преданности. Имею честь быть Вашим покорным слугой.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к X. Е. Лазареву относительно посвящения брата Гавриила в чин епископа.
24 марта 1857 г., Париж.
Милостивый государь Христофор Екимович!
Давно я имел честь получить почтенное письмо Ваше через карабагского армянина, но так как письмо только рекомендательное и не имея ничего особенного сообщить Вам, не смел своим письмом беспокоить Вас при обширных занятиях Ваших.
Между тем мы постоянно имеем сведения об Вас через добрейших Мануга-Беев,[119] с которыми, к большому нашему утешению, часто видимся. На днях Иван Мануилович передал мне содержание последнего письма Ивана Давидовича,[120] в котором с известием о смерти патриарха Нерсеса, пишет о желании видеть на таком месте брата моего Гавриила, то же самое и князь Семен Давидович[121] пишет. Из этого мы заключаем, что это общее Ваше мнение, что весьма тронуло брата, и меня очень радует, но вместе с тем постигаем вполне трудность и даже невозможность по сану его и по летам, но ежели желание будет общее, то, как говорят, Эчмиадзинский синод[122] имеет право посвятить в епископы, если он большинством будет избран в патриархи, кроме того, сизский патриарх имеет право посвятить тоже, но не константинопольский! Судя по слухам и по письмам, на Востоке все армяне будут за брата, нежели за другого, а про армян в княжествах нечего и говорить, они все до одного партизаны Гавриила, и именно теперь в Париже несколько лиц из разных сторон, и надо было видеть их восторг, когда я сообщил им о мнении, изложенном в письме Ивана Давидовича, все они взялись сообщить эту идею своим, в Константинополь, в Молдавию, в Персию. Нет сомнения, что ежели не будет препятствий по вышеуказанным причинам, то будет он избран тем более, ежели Вы возьметесь ходатайствовать в Петербурге и в Закавказском крае, это-то самое главное, как Вам известно. Брат Гавриил с нами едет в Крым, а оттуда мы намерены были поехать в Эчмиадзин по общему желанию константинопольских армян, чтобы скорее посвятить его в епископы, но теперь, по случаю смерти патриарха, придется отложить до избрания нового католикоса или как Вы посоветуете, так и исполним. Мы остаемся в Париже до 1-го мая и потом возвращаемся в Крым по Дунаю и в Одессу.
Прошу передать наше общее глубочайшее уважение Екатерине Мануиловне, Ивану Екимовичу и всему Вашему семейству.
С искренним уважением и с совершенною преданностью имею честь быть Вашего превосходительства покорнейшим слугой.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к X. Е. Лазареву[123] об обстоятельствах, связанных с получением Г. К. Айвазовским духовного сана.
18 апреля 1857 г.
Милостивый государь Христофор Екимович!
Примите мою душевную признательность за все добрые Ваши советы и сведения, так хорошо изложенные в обязательном письме Вашем. Может быть, удастся брату Гавриилу в Константинополе посвятиться в епископы, если будет на то общее желание там духовный собор и тамошнего патриарха с утверждением сизского патриарха, так что и не нужно туда ездить, что весьма затруднительно. Не для достижения патриаршества желательно скорее этот сан, а чтобы быть епархиальным, и именно в Кишиневе. При свидании с Вами брат передаст Вам все свои предположения, весьма полезные во всех отношениях. Вы можете много способствовать достижению этой цели, во-первых, два письма от Вас, одно в Константинопольский духовный собор а другое – тамошнему армянскому патриарху (акоп), когда все они увидят Ваше участие и особенно желание в посвящении брата в епископы, то наверное сделают все возможное, здесь это общее мнение: Поэтому прошу Вас покорнейше принять на себя труд написать два письма на армянском и, не откладывая, отправить скорее в Константинополь, дабы к приезду нашему туда были бы получены. Вторая просьба в том, чтобы Вы исходатайствовали в Петербурге и в Эчмиадзинском синоде о назначении брата бессарабским епархиальным, чем он мог бы управлять даже не будучи епископом, как это бывало. Что же касается до патриаршества, то предоставим судьбе, хотя все письма и слухи весьма благоприятны для брата, но его пугает вдруг этакое место трудное, поэтому он более желает быть епархиальным пока. Выезжаем мы из Парижа 10 мая (нового стиля) и будем в Константинополе вероятно к концу мая, там брату нужно будет оставаться недели две, и в первых числах июня мы будем дома в Феодосии. Из Константинополя мы напишем к Вам, ежели осуществится желание наше.
Прошу передать наш усердный поклон Екатерине Мануиловне, Ивану Екимовичу и всем Вашим.
Брат Гавриил искренно благодарит Вас за доброе Ваше участие. С чувствами глубочайшего уважения и преданности имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга.
Наш адрес до 25 мая в Константинополе в доме Российского посольства, а потом в Феодосии в продолжение лета.
Письмо И. К. Айвазовского к М. П. Погодину в связи с его поездкой по Крыму.
20 августа 1860 г., Алупка
Милостивый государь Михаил Петрович! В минуту выезда моего из Феодосии подали уже на пароходе мне Ваше письмецо из Боржома и я просил брата моего, который провожал меня, сделать Вам все, что возможно, дать Вам тарантас для Южного берега и далее, ежели бы мне не нужен был около 10 сентября, чтобы с семейством ехать в нем в Одессу. Но я полагаю, что Вы поедете из Феодосии опять на пароходе до Ялты, а уже из Ялты в обе стороны совершите Ваше путешествие в легких экипажах, которые можно достать в Ялте. Мы же будем очень рады принять Вас в Алупке, где мы пробудем до 12 сентября. На другой день уже здесь получили депешу от Василия Александровича, который извещает о приезде Вашем в Крым. Желаю искренне, чтобы наш Крым понравился Вам после Кавказа. Я уверен, что южный берег понравится, но прошу Вас быть снисходительным к старушке Феодосии, которая хотя и имеет вид грозный, но климат и в отношении условий коммерческих этот город достоин хвалы Вашей.
С глубочайшим уважением к Вам и душевной преданностью имею честь быть Вашим покорным слугой.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к М. П. Погодину о высылке ему биографических сведений.
5 ноября 1860 г., С.-Петербург
Милостивый государь Михаил Петрович!
С удовольствием исполняю желание Ваше и при сем прилагаю две записки, но ежели о Феодосии пожелаете иметь более сведений, то спросите Александра Ивановича Казначеева. Он лучше всех знает, как князь Воронцов понимал край Южный. Биографию свою я изложил столько, сколько я полагаю достаточным, а указать на лучшие свои произведения, право, не могу по той причине, что вскоре после окончания я вижу в них много недостатков и только тем утешаюсь, что вперед лучше напишу, поэтому-то я и не люблю их иметь долго у себя.
Примите мою искреннюю признательность за внимание ко всему, что так близко для нас, феодосийцев. Брату Гавриилу я написал о желании Вашем, и он вероятно скоро доставит сведения к Вам.
Против него сильно интригует армянский патриарх[124] из зависти, что брат причиною заведений и проч. Сам ничего не делает и другим хочет мешать.
С чувством глубочайшего уважения имею честь быть Вашим покорнейшим слугою
И. АйвазовскийИз письма И. К. Айвазовского к А. П. Халибову[125] о болезни жены и дочери.
7 января 1861 г. Петербург
Многоуважаемый Артемий Павлович!
Пишу несколько слов, чтобы сказать Вам, что письмо Ваше последнее и копию с бумаги к министру получил и очень нахожу дельным и кстати.
У меня в доме ужасная беда. Одна дочь – третья заболела скарлатиной и поэтому я с прочими детьми переехал напротив в гостиницу. Между тем жена моя, полуживая, как Вам известно, оставаясь с больной дочерью, выбилась из сил и вот шесть дней что опасно больна.
К счастью нашему, приехал брат ее и наш доктор, они оба день и ночь с больными, а я берегу здоровых и ежели бываю у больных, то с большой предосторожностью возвращаюсь к здоровым детям…
С истинным уважением к Вам Ваш
И. Айвазовский.Вы письма ко мне не страхуйте и так верно получу, а то много хлопот.
Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову с одобрением проекта о преобразовании его училища в гимназию.
22 сентября (1861 г.), Керчь
Многоуважаемый Артемий Павлович!
Пишу это письмо по пути из Феодосии в Тифлис на пароходе.
Очень сожалею, что Вы не приехали в Феодосию, пока я еще был там, а также князь Дабижа, который составил весьма дельный проект насчет Вашего училища.
Когда Вы прочтете, Вы увидите сами, что преобразовавши Ваше училище в гимназию, Вы окажете громадную пользу армянам и нашему городу, сохранив между тем главный интерес или характер для Ваших соотечественников, только классы должны быть общие, как Вы увидите из проекта Дабижи.
Сделавши это, Вы избавите заведение от претензии патриарха и вообще нашего духовенства, от которых толку не будет никогда.
Я с своей стороны прошу Вас очень принять этот проект. Я уверен, что Нестор Васильевич Кукольник[126] будет весьма сочувствовать этому делу. Тогда только наши армяне будут полезны себе и правительству нашему. Заведение будет называться «Халибовская реальная гимназия» и Вы будете попечителем.
Вероятно, Вы на днях получите проект князя Дабижи.
Я еду на зиму в Тифлис, весною буду обратно в Феодосии. Ежели это дело состоится, то уведомите меня в Тифлисе.
Душевно уважающий Вас и преданный Вам
И. Айвазовский.Письмо Айвазовского к А. П. Халибову о ходе постройки его дома и о получении отправленных им из Ростова ящиков.
17 октября 1861 г., Феодосия
Многоуважаемый Артемий Павлович!
На днях я возвратился из Ялты. Государь и императрица были чрезвычайно милостивы ко мне, был я приглашен к обеду,[127] получил драгоценный подарок и несколько заказов.
К сожалению, не удалось мне, да и невозможно было, мимо гр[афа] С[иверса] сказать о том, что я желал. В этом я должен был придерживаться совета приближенных.
Благодарю Вас за железо 20 пудов. На днях мой дом начнут крыть. Был несколько раз на Вашем строении, там в настоящее время заняты наружной лестницей, а внутреннюю лестницу еще не начали. Наш арх[итектор] Саркис усердно посещает, хотя не каждый день, да и не нужно теперь так часто, я только сказал Карапету, чтобы выдавал денег на извозчика за каждый приезд. В этом нельзя было отказать по причине, что далеко, и получаемое жалование пошло бы на разъезды. Вероятно, прочие подробности о работах сообщают Вам в точности.
Благодарю Вас за сведения о моих ящиках, но к удивлению моему, я их по сие время не получил, а пароходные агенты в Бердянске и Керчи отвечают, что они не получали моих ящиков. Поэтому прошу Вас, Артемий Павлович, снова узнать в Ростове, у агента Петербургской компании «Надежда», точно ли ящики мои 3, адресованные мне через ихнего агента в Феодосии Кларкис, отправлены из Ростова, когда и на каком пароходе? То же самое прошу в Таганроге узнать, на каком пароходе отправлен в августе, или же отправили сухим путем? Все это прошу подробно узнать и сообщить мне.
Если пропадут, то я много, много потеряю. Вардапет[128] и все наши родные здоровы и мы все ждем Вас, согласно обещанию Вашему, в начале ноября.
У меня в доме все по-прежнему, мало утешительного. Слава богу, что дети здоровы.
Прошу передать мой усердный поклон Егору Павловичу Хатранову, Аладжалову и зятю Вашему.
Душевно уважающий Вас и преданный искренно —
Ваш И. Айвазовский.Дело почетного гражданина все еще тянется, но я опять писал в Питер.
Из письма И. К. Айвазовского к князю Долгорукову о картине «Всемирный потоп».
20 ноября 1862 г. Феодосия
…Вы спрашиваете меня, что я пишу. Я в восторге в настоящее время от своей картины «Всемирный потоп». Я ее почти оканчиваю, и она, смело могу сказать, есть лучшее мое произведение. В большом размере эта картина изображает самый потоп в самом разгаре, а другая будет, когда Ной со своими животными спускается с вершины Арарата при чудном восходе солнца и уже местами открылась из-под воды чудная природа.[129] И эту вторую картину надеюсь к 15-январю окончить.
Письмо И. К. Айвазовского генерал-адмиралу в. кн. Константину Николаевичу о пользе сооружения железной дороги от Феодосии до Акманая.
29 марта 1868 г.
Ваше императорское высочество!
Милостивое внимание, которым Вы меня осчастливили в разные эпохи, внушает мне смелость повергнуть благосклонному воззрению Вашего императорского высочества мысль мою о продолжении железной дороги от Феодосии на Азовский порт Акманай и о значении пути этого для торговли. Сочувствие Ваше к Крыму обнадеживает меня, что Ваше императорское высочество простит смелость художника-патриота, изучившего свою родину не одною кистью, но и многолетним опытом по хозяйству. Он почтет себя счастливым, если прилагаемая записка удостоится некоторого внимания, если по ее содержанию Ваше императорское высочество соблаговолит истребовать более подробные сведения о местности и о торговых путях, которым предлагаемое изменение выгодно по моему убеждению для государства и прольет новую жизнь в наш многоиспытанный Крым.
Вашего императорского высочества всепокорнейший слуга
Иван Айвазовский.Анкета, заполненная И. К. Айвазовским по предложению правления Академии[130]
30 июня 1869 г. Феодосия
1) Время и место рождения, год, месяц и число, также звание, имя и отчество родителя и родительницы.
Родился в Феодосии (в Крыму) 1817 года июля 17 дня. Родители Константин Григорьевич и Рипсиме Айвазовские.
2) Место воспитания. Если не точно припоминаете, то укажите хотя приблизительно, время того и другого и имена наставников, особенно по искусству.
В 1829 году в Симферопольской гимназии, а с 1833 года в императорской Академии художеств; профессором был М. Н. Воробьев. В 1840 году был отправлен в Италию, возвратился в Россию в 1844 году.
3) Места служения – где и сколько времени.
По возвращении в Россию в 1845 году по высочайшему повелению назначен главным живописцем Морского штаба и по сие время считаюсь по Морскому министерству, а также профессором Академии с 1850 года, а с 1864 года с правами штатного профессора.
4) Если женаты, то укажите время вступления в брак равно звание, имя и отчество супруги; с указанием исповедания ее и Вашего.
Женат на англичанке м-ль Гревс в 1848 году, жена – англиканского вероисповедания, а сам – армяно-григорианского.
5) Имели ли учеников? Если имели, то и известия о них (имена, отчества, фамилии, звания, лета и исповедания).
Учеников имел временно в Крыму и в Петербурге.
6) Если выставляли Ваши художественные произведения вне Петербурга, то укажите что именно, где и когда?
С 1841 года выставлял многократно за границей: в Риме – два раза, в Венеции, в Неаполе, в Амстердаме. В 1845 году сделан почетным членом Амстердамской Академии.
В 1846 году выставил в Берлине, в 1843 году – в Париже. В 1843 году на выставке получил золотую медаль, а в 1857 году на выставке в Париже получил орден Почетного Легиона. Картины большею частью морские. Два раза были также выставлены в Лондоне на Всемирной выставке и картины куплены в Лондоне.
7) Что и когда именно произвели по искусству наиболее заслуживающее упоминания и где ныне находятся (хотя бы главные) произведения Ваши?
С 1838 года постоянно пишу, особенно усиленно с 1835 года, моих произведений до 1500, не считая эскизов или маленьких картинок. Главные, сколько я припомню – морские сражения, которые находятся в Зимнем дворце, а именно: Ревельское, Выборгское, Красная горка, Наваринское, Синопское. «Пожар Москвы 12-го года» находится в Московском дворце. «Буря под Балаклавой и под Евпаторией» (во время Крымской войны)», «Всемирный потоп», «Момент из сотворения мира» в Эрмитаже, также «Волна».
Много картин морских и крымских видов, всех припомнить не могу. Из них до 30 в Лондоне, в Берлине до 12 и в других местах за границей, а в России – до 1000.
В настоящее время я окончил 15 картин кавказских видов. Все они написаны в Тифлисе в последнюю зиму, картины эти будут в декабре выставлены в Петербурге.
Профессор И. К. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третьякову[131] о предстоящей выставке своих картин в Москве.
15 января 1870 г., Петербург.
Милостивый государь Павел Михайлович!
Виноват я перед Вами, что не отвечал на первое письмо Ваше, между тем сейчас получил другое и вот спешу не откладывая отвечать.
Картина «Каранай» взята государем императором в числе трех. Цена каждой 2000 руб., только самая большая 3500. Ежели эти, т. е. остальные двенадцать [нрзб. ] картин остаются в России, то вся коллекция будет выставлена в Москве, ежели же все остальные не будут вместе куплены, то их отправляю за границу и в таком случае не успею показать в Москве. Что же касается до обещанной мною Вам картины, то я непременно отделю Вам одну из небольших выставленных и отдаю так, оставляя и прежнюю Вам (в придачу прежней). Ежели я в начале марта приеду в Москву, то привезу с собою. Ежели же поеду за границу, то пришлю перед выездом. Я их ранее 10 февраля не могу взять с выставки. В Москве я вероятно остановлюсь у почтенного Василия Никитича Рукавишникова или у сенатора А. И. Казначеева, впрочем по приезде туда я сам побываю у Вас.
Прошу извинить, что я в свое время не отвечал на любезное Ваше письмо. Я помню, что во время моего путешествия я получил одно на Кавказе.
С искренним уважением и преданностью к Вам
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского конференц-секретарю Академии П. Ф. Исееву о своей поездке в Константинополь.
14 ноября 1874 г.
Милостивый государь Петр Федорович!
Недавно я возвратился из Константинополя, куда ездил по приглашению султана. До поездки моей я должен был выслать до двадцати картин и во время трехнедельного моего пребывания я по заказу султана написал пять картин. По приезде в Константинополь на другой день был я представлен первым драгоманом нашего посольства.[132] Султан чрезвычайно любезно принял меня и собственноручно пожаловал мне знаки ордена Османье 2-ой степени. Об этом наш посол мне передал, что сообщено в Петербург в Министерство иностранных дел и вероятно через Вас же испросится высочайшее разрешение о принятии.
До поездки моей в Константинополь я имел счастие поднести в Ливадии государю императору огромную картину, избражающую бомбардирование Севастополя. Его величество, приняв благосклонно картину, подарил ее в Севастопольский музеум.
Хотя я имею новые заказы от султана, постараюсь к весне прислать две картины к Вам в Академию для выставки. Эту зиму всю придется остаться в Феодосии.
В Одессе я дал письмо к Вам одному молодому греку, который по мнению моему, имеет большие способности. Я выхлопотал у богатых греков ему средства, чтобы жить в Петербурге и учиться в Академии…
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Н. П. Игнатьеву[133] об отправке ему двух картин на константинопольские мотивы.
22 декабря 1874 г., Феодосия
Милостивый государь Николай Павлович!
С сегодняшним пароходом отправляю две картины, написанные для Вашего высокопревосходительства.
Одна изображает вид с Елдыц киоска при восходе солнца. Как мне помнится, видом этим особенно восхищалась Екатерина Леонидовна,[134] вторая картина – Буюк-дере. Я просил заранее Серкис-бея[135] заказать для этих картин золотые рамы и они, вероятно, готовы. Секретарь Серкис-бея Пештималджиян явится к Вам в день получения картин, и он их вставит в рамы. По расчету моему картины должны прибыть в Константинополь с пароходом, который придет 30 декабря, в понедельник, так что накануне нашего Нового года картины в рамах будут у Вас.
Очень буду рад, ежели картины эти понравятся Вам и супруге Вашей.
Прошу покорнейше передать мое глубокое уважение Екатерине Леонидовне и княгине.
С истинным уважением и преданностью имею честь быть Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугой.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Н. П. Игнатьеву о принесении ему в дар картины с видом Константинополя.
24 марта 1875 г., Феодосия
Милостивый государь Николай Павлович!
Давно уже я имел честь телеграммой благодарить Ваше высокопревосходительство за прелестный подарок. Ныне письмом повторяя мою душевную признательность, я, в доказательство искренности моих слов, осмеливаюсь при сем послать небольшую картину, которую прошу покорнейше передать от меня глубокоуважаемой Екатерине Леонидовне. Картина эта, писанная по рисункам, сделанным когда-то с посольского дома, может быть со временем интересной для Ваших милых константинопольских уроженцев.
Вид Константинополя написан был мною для Вас как бы с Елдыц Киоска. Это неточно, вид этот верен, но только с Малта-Киоска, ошибка произошла через эскизы, я их перемешал нечаянно, но она совершенно согласна с рисунком, сделанным с натуры.
Прошу покорнейше передать мое глубокое почтение супруге Вашей и многоуважаемой княгине.
С истинным уважением и душевною преданностью имею честь быть Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугой.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского Н. П. Игнатьеву о выполнении заказов турецкого султана и о своем намерении преподнести ему картины в дар.
23 мая 1875 г., Феодосия
Милостивый государь Николай Павлович!
Письмо Вашего высокопревосходительства из Брусы я имел честь получить и спешу благодарить за все Ваши любезности, выраженные в письме Вашем. Очень рад, что небольшая картина «Ночь» так понравилась всем Вам.
Теперь позвольте мне сказать Вам об одном моем предположении, и ежели оно будет одобрено Вами, только в таком случае я решусь исполнить. Вот какого рода предположение мое.
Так как все заказы его величества султана окончены мною еще зимою и за которые деньги получены мною от Серкис-бея, теперь по окончании всего этого, я бы желал выразить свою признательность и послать с этой целью две небольшие картины: одну, изображающую вид Петербурга с Невы летом, а другую – вид Москвы зимою. Кажется, два эти предмета были бы кстати как (пешкеш[136]) от русского художника.
Ежели Ваше высокопревосходительство найдете, что это кстати и не откажете в Вашей благосклонности в представлении их его величеству, то только в таком случае я постараюсь их скорее окончить и отправить в Ваше распоряжение. Во всяком случае желательно [было] бы, чтобы это случилось во время Вашего присутствия в Константинополе ежели не до выезда Вашего, то по возвращении Вашем осенью. Ежели найдете, что лучше теперь, летом, то прошу покорнейше дать мне знать телеграммой и в таком случае я их вышлю к 15 или 20-му июня старого стиля.
Серкис-бей, хотя и весьма был любезен постоянно, но в некоторых случаях его действия были весьма странные. Как я заметил, картины мои для него были средством в его делах; (он) дарил их не только от своего имени, но и от меня лицам, которых я и не знаю, например, бывшему визиру и другим. Мне было весьма неприятно иметь вид, как бы я заискивал у этих людей. Признаюсь, ежели бы мне пришлось еще раз поехать в Стамбул, то просил бы Ваше высокопревосходительство приютить меня в посольском доме (какой-нибудь уголок).
Хотя его величество султан почти и пригласил лично приехать летом еще раз, но без вторичного приглашения я, разумеется, не поеду.
Простите меня, что я решил писать к Вам такое длинное письмо при Ваших обширных занятиях.
Прошу покорнейше передать мое глубокое уважение супруге Вашей и княгине Анне Матвеевне.
С чувством глубочайшего уважения и преданности имею честь быть Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугой.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского П. Ф. Исееву по поводу предстоящей выставки его картин в пользу учащихся Академии.
20 июня 1875 г., Шейх-Мамай
Милостивый государь Петр Федорович!
Письмо Вашего превосходительства от 24 мая я имел честь получить. Вы сообщаете о том, что медаль и диплом Венской выставки оставляете в Академии до моего прибытия в Петербург. Я точно намерен в продолжении этой зимы побывать, хотя и на короткое время, в Петербурге, но очень может быть, что не ранее весны. Поэтому прошу Вас покорнейше, ежели возможно, передать их статскому советнику Александру Яковлевичу Коротковичу-Начевному, который уже и лично известен Вашему превосходительству. Он явится к Вам с моим письмом.
В настоящее время я пишу картину большого размера, бурю в сером тоне. Картину эту я намерен подарить Академии художеств как лучшее мое произведение. Вместе с этой картиной пришлю еще 2 или 4 небольших, дабы можно было составить отдельную выставку в Академии в полном распоряжении Вашем. Ежели мне самому нельзя будет в начале зимы приехать, то отправлю их, а сам вернее, что на обратном пути из заграницы приеду в начале апреля. Выставку же Вы устроите, когда найдете удобным в продолжение зимы и, ежели с платой, то тоже по усмотрению Вашему назначьте в пользу бедных учеников и часть в пользу вдов художников. Как мне помнится, Вы принимали [в них] живое участие.
В продолжение этого года я написал более 25 картин для султана, теперь, кроме большой вышесказанной картины, пишу для Вены и Мюнхена.
Ежели Вы заранее можете определить время выставки и в пользу кого, то прошу Вас покорнейше до осени уведомить меня о Вашем мнении по предстоящей выставке.?
Я остаюсь в Крыму до 1 октября, но предполагаю отправиться за границу через Константинополь.
Прошу покорнейше принять уверение в истинном моем уважении и преданности.
Вашего превосходительства покорнейший слуга.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву о своей творческой деятельности во время поездки за границу.
30 апреля 1879 г.
Милостивый государь Петр Федорович!
На письмо Вашего превосходительства от 14 апреля за N 604 имеют честь ответить, что знаки ордена Фредерика и грамота получены были мною еще в Штутгарте и согласно желанию Вашему знать, как выражено в грамоте, я при сем прилагаю копию с нее.
При этом случае позвольте мне сообщить некоторые сведения о последних моих занятиях. За границей я написал несколько картин. Две из них будут выставлены в Париже на обыкновенной годичной выставке и три картины оставлены мною в Мюнхене для предстоящей международной выставки, которая откроется там 1-го июля этого года. Из заграницы вернулся я 15-го марта и в настоящее время приготовляюсь начать картину, изображающую Христофора Колумба[137] во время открытия Америки, довольно значительной величины. В Генуе и в Венеции я собрал некоторые верные рисунки тогдашних каравелл и портрет его самого. Надеюсь, что к будущей зиме картина будет окончена.
Позвольте благодарить Вас за поздравление и просить, покорнейше принять уверение в совершенном почтении и преданности.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского В. П. Гаевскому о написании им картин об А. С. Пушкине.
26 августа 1880 г. Феодосия
Милостивый государь Виктор Павлович!
Любезное письмо Ваше из Пиренейских гор я имел честь получить и удивительно то, что письмо Ваше подали – мне в то время, когда именно писал я Пушкина в Крыму. Я намерен был ее послать в Москву, так как меня Просили, но получив Ваше письмо, я с большим удовольствием окончил ее и рад сказать откровенно, что на этот раз удачнее, чем прежние пушкинские картины.
К первому октябрю картина будет в Петербурге и будет адресована прямо в Общество поощрения художников. Когда увидитесь с Д. В. Григоровичем, предупредите его, дабы место оставил у окна при хорошем свете, ежели не для картины Айвазовского, то ради Пушкина.
Я сам тоже приеду в начале ноября в Петербург и придется устроить отдельную выставку. У меня две громадные картины из открытия Америки.
По приезде в Петербург буду непременно у Вас. С истинным уважением имею честь быть Вашим покорным слугой
И. Айвазовский.Письмо это передает мой родственник г. Качиени, весьма даровитый и достойный молодой человек. Он видел картину.
Свидетельство на звание почетного гражданина города Феодосии.
[2 марта 1881 г. ]
Феодосийская городская Дума в заседании июля 14-го дня 1880 г. в составе 30 гласных, сочувственно выслушав доклад городского головы об исходатайствовании высочайшего соизволения в установленном порядке на присвоение профессору Айвазовскому звания почетного гражданина города Феодосии в уважение особенных заслуг, оказанных им городу, при единогласно выраженном желании постановила: увековечить незабвенное для общества имя Ивана Константиновича Айвазовского, ознаменовав день открытия им 17 июля 1880 года в г. Феодосии картинной галереи следующим образом: 1) возбудить в установленном порядке ходатайство о высочайшем соизволении на присвоение Ивану Константиновичу звания почетного гражданина города Феодосии в уважение особенных заслуг, оказанных им городу; 2) гору, где находится сооруженный заботами его музеум древностей, переданный им впоследствии городу, наименовать горою Айвазовского, каковым именем назвать также и улицу, ведущую от сказанной горы к собору, на которой находится дом, где родился И. К. Айвазовский, и 3) отвести береговой участок городской земли, начиная от генуэзского моста и до конца дома И. К. Айвазовского, для устройства на нем на средства частной подписки бульвара с наименованием его бульваром Айвазовского.
Вследствие возбужденного по первому из сих постановлений ходатайства в установленном порядке государь император по всеподданнейшему докладу господина министра внутренних дел в 14-ый день января 1881 года высочайше соизволил на присвоение профессору императорской Академии художеств, действительному статскому советнику Айвазовскому согласно с ходатайством Феодосийского городского общества звания почетного гражданина города Феодосии.
В удостоверение чего Феодосийскою городскою управой выдано настоящее свидетельство почетному гражданину города Феодосии, профессору императорской Академии художеств, действительному статскому советнику И. К. Айвазовскому.
Городской голова Дуранге.Письмо И. К. Айвазовского к В. В. Салову[138] о преимуществах Феодосии перед Севастополем в коммерческом отношении.
10 февраля 1883 г., Феодосия
Глубокоуважаемый Василий Васильевич!
Знаю, что Вы относитесь сочувственно к Феодосии, да и ко мне весьма благосклонны, чем я крайне дорожу. Все это дает мне смелость еще раз писать Вам о Феодосии. Недавно распространился верный как видно слух, что решили наконец не строить в Севастополе коммерческого порта и вследствие этого будто бы избрана для коммерции Феодосия. Не знаю, насколько это справедливо, во всяком случае нынешняя зима доказала преимущества Феодосии. Во-первых, холода были сильные, до 15 и 16 градусов, и наш порт нисколько не замерз, хотя и Севастополь также не замерзает, но судов много было из-под Севастополя в Феодесии, спасались от страшных бурь, при которых суда не могут входить в Севастопольскую бухту, а теснота Севастопольской бухты также определилась весьма ясно. Недавно от тесноты магазинов и судов в Южной бухте загорелись магазины с товарами и чуть суда бухты не подверглись пламени, а третьего дня пароход с грузом пшеницы ударился о бульвар, стал на мель и часть судна на самом бульваре. Не имея возможности повернуть пароход на свободе и не желая ударить о военное судно, оно попало на бульвар.
Вы не раз высказывали свое выгодное для нашей Феодосии мнение, довершайте наконец. Не знаю, как новый министр отнесется к Феодосии, но прошу Вас покорнейше при случае сообщить об этих фактах ему.
С истинным уважением и преданностью Вашего превосходительства покорнейший слуга.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву о своем намерении устроить картинную галерею в Ялте и о выставке своих картин для этой цели.
12 августа 1885 г.
Глубокоуважаемый Петр Федорович!
Я уже имел удовольствие писать к Вам, что вследствие объявлений в газетах приехали со всех концов России молодые люди, из которых двое, ученики нашей Академии. Почти все очень усердно занимаются, в особенности Магдесиев[139] (ученик Академии), написал прекрасные этюды. На будущее лето, судя по письмам, очень многие собираются ко мне. Я сам очень рад, что хоть в старости удалось мне быть полезным настолько, как (если) бы я служил в Вашей Академии.
Теперь я к Вам с просьбой и за советом. По обстоятельствам мне не удается самому приехать зимою в Петербург, чтобы устроить выставку свою. Я отправляю свои главные картины с одним молодым человеком (учеником моим), но мне желательно заранее знать, могу ли рассчитывать на помещение в Академии. И так как надо устроить отдельную выставку (по причине нижеизложенной), то можно ли с 15 января по 25 февраля, не помешает ли общая академическая выставка или в случае если в одно (и то же) время, то нельзя ли все-таки с отдельною платою.
Теперь изложу Вам подробно мою цель. Вам хорошо известно, что Ялта сделалась лучшим сезонным городом и труда приезжает лучшее общество со всех концов России. Местность Ялты – центр лучших живописных (мест) на нашем южном берегу Крыма. Я имею намерение весною выстроить там дом для старшей моей дочери, которая поселилась в Ялте. Место самое бойкое и дом будет доходный, но третью часть дома я намерен устроить с художественной целью, а именно, кроме внешних украшений (статуями и проч.) внутри будет картинная галерея со светом сверху, затем большая мастерская и несколько комнат – все это вместе составит отдельный от другой половины художественный павильон, который может удобно служить для выставок картин всех наших молодых художников, а также мастерской для известных художников наших за умеренную плату.
На эту постройку не имею денег и желал бы сбор с будущих моих выставок употребить на это и так как между новыми картинами есть по сюжету [такой] громкий исторический факт, как гибель Геркуланума, Помпеи и еще из дачи адмирала Плиния вид на Везувий в момент первого извержения (накануне или утром страшной катастрофы). Кроме этих, еще картин десять новых, все вместе составит порядочную коллекцию и надо будет для них две залы. После Петербурга надо будет выставить с такою целью в Москве и еще в других больших городах, чтобы до будущего лета собрать около 15000 руб. И ради этого я [также] пожертвую деньги, которые получу за проданные картины и таким образом 20000 рублей будет достаточно. Недавно я был в Ялте и при мне уже закладка этого здания состоялась. Разумеется, не будет в таких размерах, как в Феодосии, но будет весьма изящная по наружности и с художественными удобствами внутри. Помогите мне в этом предприятии сколько возможно. Я надеюсь, что его высочество президент и члены Академии нашей отнесутся сочувственно. Мне необходимо на зиму поехать в Рим, но ранее 20 октября не выеду из Крыма. До выезда все картины будут готовы для Петербургской выставки, к сожалению до 15 января невозможно выставлять в Петербурге по причине темноты, а при освещении не люблю, да и не следует.
Прошу покорнейше, многоуважаемый Петр Федорович, потрудитесь откровенно написать Ваше мнение насчет моего намерения, мне весьма важно знать заранее Ваше мнение и добрый совет.
В ожидании Вашего ответа прошу покорнейше принять уверение в истинном уважении и преданности. Вашего превосходительства покорный слуга
И. Айвазовский.Адрес учащихся Академии профессору И. К. Айвазовскому.
21 февраля 1887 г.
Глубокоуважаемый профессор!
Теплое, сердечное отношение к нам, еще только вступающим в область искусства, горячее сочувствие к нашим нуждам побудило нас публично выразить пред Вами наши чувства глубокого уважения, искренней любви и глубокой признательности.
Не станем утруждать Вас перечислением фактов неоцененного внимания к нам, фактов осязательных, говорящих сами за себя, повторяющихся непрерывно в течение многих лет.
Но мы не можем не остановиться на одном дне, сделавшимся для нас событием – на дне открытия прошлогодней Вашей выставки. Он останется навсегда самым приятным и дорогим воспоминанием для каждого из нас. Первый день выставки Вы посвятили нам. Мы первые увидели Ваши новые работы, с нами Вы говорили о своей деятельности. В своей речи, полной глубокой правды, вы очертили предстоящий нам путь, по которому мы должны идти в нашей деятельности, не обольщаясь успехами и не страшась препятствий, присущих всякому труду, особенно труду художника.
Мы не в силах приблизиться к полному точному выражению тех чувств, которые Ваше слово возбудило в нас тогда.
Теперь снова осязательные доказательства Вашего благорасположения к нам – налицо. Сборы с выставки Вашей, предназначенные академистам, дадут десяткам из нас возможность трудиться и совершенствоваться на пользу нашей родины.
Просим Вас, многоуважаемый профессор, принять нашу общую глубокую благодарность и быть уверенным, что имя Ваше будет передаваться здесь, в стенах Академии, между академистами с неподдельными чувствами уважения и любви не только как к художнику, но и как к человеку.
Речь И. К. Айвазовского перед учащимися Академии художеств.
21 февраля 1887 г.
Господа, мне весьма отрадно слышать, что я заслужил от вас благодарность.
Живя далеко от Петербурга, я не могу быть (так) полезен для вас, как мои товарищи по искусству, а этой скромной материальной помощью, которую я вам представил, я обязан снисходительному отношению публики к моим произведениям. Мне тем более утешительно, что вы оправдали меня перед Академией, которая всегда щедро меня награждала и защищала, как например, 50 лет назад при одном случае, ручаясь за меня в будущем.
Еще [раз] весьма благодарю вас сердечно, господа.
Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третьякову о написании картин на сюжет восстания греков на острове Конд.
8 марта 1887 г., Феодосия
Милостивый государь Павел Михайлович!
Письмо Ваше я имел удовольствие получить и спешу сказать Вам, что я с удовольствием исполню желание Ваше, но только по приезде в Петербург, куда я непременно должен [быть] в ноябре нынешнего года и пробуду не менее трех месяцев. Так как с моим приездом в столицу будет выставка моих новых картин, то Вы в свое время узнаете о моем приезде, ежели же поеду через Москву, то сам заеду к Вам.
В настоящее время я занят картинами из Кондинского восстания, окончил огромную, изображающую взрыв монастыря Аркадия (на острове Конд) и все ужасы турецкого варварства выставил на этой картине как нельзя сильнее. Еще две картины кондинские: одна изображает, как наш фрегат «Генерал-адмирал» принимает несчастных греков, а другая (ночью), как греческий пароход известный высаживает волонтеров на остров. Сюжет весьма живописный и как раз по душе.
Есть также у меня виды Вашей Москвы в прекрасный зимний день со стороны Серпуховской заставы.
Все эти картины на святой будут выставлены в Одессе и деньги, собранные за вход на выставку, назначены в пользу семейств кондиотов.
Знаю, что Вы сочувствуете искусству, поэтому распространился подробностями о моих последних трудах.
Примите уверения в совершенном к Вам уважении.
Мой адрес: всегда в Феодосии.
И. Айвазовский.Текст речи, произнесенной И. С. Мусиным-Пушкиным на обеде в день юбилея И. К. Айвазовского от имени Академии художеств.
26 сентября 1887 г.
Милостивые государыни и милостивые государи!
Сегодня по всем концам не только русской земли, но и за пределами ее, гремит доблестное имя нашего глубокочтимого и искренно любимого маститого художника юбиляра Ивана Константиновича. Отовсюду шлют ему самые задушевные поздравления и искренние пожелания. Он справедливо торжествует победу, но победу чудную, мирную, сердца над сердцами, которые он пленил своими высокохудожественными и поэтическими произведениями. Произведений этих насчитываются тысячи! Русская земля во все времена не бедна была даровитыми, истинно талантливыми людьми и если имена большей части из них забыты, то лишь потому, что талант свой они зарыли в землю, не приложив к развитию его той силы и доброй воли, той бодрости духа и настойчивости, которые с такою силою проявил наш почтенный юбиляр с самих юных лет и по сей, для нас всех знаменательный, день.
Полувековою художественною деятельностью Иван Константинович еще раз подтвердил непреложную истину, что сила не в силе, а сила в любви! Богом управленный талант он в землю не зарыл, как другие, а хранил в сердце, лелеял как святыню и, отдавшись ему всею силою души, полвека трудился неустанно над своим совершенствованием.
Такую силу воли, такую энергию духа можно почерпнуть только в любви к своему делу.
Не возмечтал о себе наш уважаемый Иван Константинович от щедро расточаемой похвалы своих почитателей, не смущался и хулою, не поддался никаким новым модным влияниям и взглядам на искусство, как не возгордился он от почетных званий и наград, которых разновременно удостаивался.
Иван Константинович остался для всех все тем же великим, но доступным, скромным художником и симпатичным человеком, как и самые произведения его кисти, всегда полные художественной правды и высоковдохновенного поэтического чувства.
Вот в чем заключается вся сила обаяния как личности художника, так и его таланта, вот почему видевший хоть раз в жизни дорогого юбиляра, или хотя одну из его мастерских картин, никогда не забудет запавшего в душу впечатления.
Кто из нас не был поражен сегодня при виде только что им оконченной картины, мастерски исполненной и замечательной по самой идее «Пушкин в раздумьи на морском берегу».
К торжественному дню своего 50-летнего юбилея Иван Константинович могучею кистью изобразил волну, чудную, хрустально-прозрачную, которая смиренно припав к ногам нашего великого поэта, точно хочет облобызать стопу его!
Это ли не торжественно заявленная дань великого поэта-живописца вдохновлявшему его величайшему поэту, нашему певцу?
Воздвигнув памятник поэту, он памятник воздвиг себе!
Впечатлительный ко всем явлениям природы, ее красотам, всегда готовый воспроизвести их своею мощною кистью, Иван Константинович оказывался не менее чутким и отзывчивым к нуждам ближнего. Публично заявленная ему признательность представителями Феодосийского городского и других обществ за оказанную высокую помощь, это новый светлый луч для нас, ореол его доброй, вполне заслуженной славы.
На наш, однако, взгляд, почтенный юбиляр, как художник и добрый своей родины сын сослужил России еще более высокую службу, за которую каждый из нас не может не сказать ему из глубины души великое спасибо!
Как истый патриот, он, понятно, не мог остаться и не остался равнодушным к славным подвигам наших моряков. Написанные им картины сражений под Чесьмою, Навариным, Синопом и другие составляют блестящую иллюстрацию славной боевой истории нашего флота. Картины эти он принес в дар юным питомцам-морякам, дабы грядущие поколения, глядя на подвиги смелости и отваги своих предков, учились сохранять благоговейную о них память и готовились в свою очередь отстоять грудью честь и славу своей родины!
Благой пример преподал нам маститый поэт-художник и артист! И да последуют его примеру все истинно русские люди, будь то правители, духовные пастыри, ученые, поэты, литераторы, художники – словом, все, кому дороги честь, слава, незыблемость русского царства, да потрудится каждый на избранном им поприще для поднятия духа народного любви к родине, беззаветной преданности вере предков и престолу, да поучат они народ познать и любить свое славное прошлое и благоговеть перед памятью предков, богатырей духом, потрудившихся на благо и славу России.
Дух народный, окрепший на этих началах, представит такую могучую силу, что всякая враждебная нам интрига, коварные подвохи, да и любая против нас коалиция разобьются об нее, как волна морская о гранитную скалу.
Да здравствуют же все те, кто честно потрудился и трудится для поднятия и укрепления этого духа, да здравствует наш поэт-художник патриот на много, много лет!
Н. Мусин-Пушкин.Выписка из письма И. И. Айвазовского П. Ф. Исееву об обстоятельствах получения им заказов и ордена от турецкого султана.
12 декабря 1888 г.
Прежде чем Вы узнаете о награде, полученной мною от султана,[140] я желаю объяснить Вам, как это случилось. Выставку двадцати картин устроил мой племянник Мазиров, который сам отправился туда и оставался во время выставки. Перед его выездом я многократно говорил и просил, чтобы (он) держал себя подальше от двора, особенно от султана, чтобы не подать ни малейшего повода думать, что рассчитываем на что-нибудь; выставку же затеяли потому, что картины должны были идти мимо Константинополя до Марселя, и я их должен [был] получить в Париже, но я отложил свою поездку за границу, и поэтому оставшиеся картины вернулись домой в Феодосию.
Я поручил Мазирову просить нашего посла Нелидова, которому я писал, принять большую картину «Олег», бывшую на выставке в Академии. Это доставило большое удовольствие послу, и картина – есть собственность нашего посольского дворца, затем небольшую картину отдали армянскому благотворительному обществу в пользу приютов и третью небольшую картину в турецкое учреждение, или в рисовальную школу[141] в Константинополе. Эта последняя картина наделала то, чего я не желал. Виноват немного Мазиров. Вместо того, чтобы передать тихо по назначению, он при письме препроводил [ее] министру паше, моему знакомому, который доложил султану под предлогом, чтобы султан указал, куда назначить – и вот вследствие этого падишаху угодно было наградить [меня] Меджидие I-ой степени.
Признаюсь откровенно, я сильно сконфузился и недоволен Мазировым, о чем я уже написал ему в Петербурге. Сконфужен и недоволен по той причине, что [теперь] каждый имеет право полагать, что выставка и пожертвование двух картин были сделаны с целью получить награду, что, согласитесь, в мои лета, в моем положении и имея наши высшие ордена, было бы непростительно, и я первый, признаюсь, окритиковал бы старого товарища, если бы он так поступил, а у меня к несчастью так сложилось, несмотря на все мои меры. Я даже писал нашему послу, и он совершенно разделяет мое мнение.
Правда, что высокопоставленные паши намекали Мазирову, что раздавая две-три картины учреждениям, следовало бы поднести картину и его величеству, но [в ответ] на его письмо я наотрез отказался, между тем не избег этого.
Вчера получили письмо из Константинополя от Артима-паши (министра иностранных дел), который извещает о награде и передает привет султана по поручению его и благодарит за картину, т. е. за ту, которая назначена была в рисовальную школу, к тому же, что дали награду, я, зная восточный обычай, должен теперь послать султану картину, и я решил на это пожертвовать ширму с пятью картинами, написанную лет пять тому назад в Петербурге, чудная резная работа и отлично сохранившаяся. Пошлю, разумеется, нашему послу Нелидову, и пусть уже он представит по своему усмотрению. Мне так совестно, что не думаю даже просить о дозволении носить [орден], авось так пройдет и не узнают. Если же обнаружится, то прошу Вас покорнейше при случае рассказать его императорскому высочеству президенту, как это случилось, и ежели нужно испросить разрешение на поднесение султану вышесказанного подарка, то прошу телеграфировать, если не позволяется; ежели же не есть преступление, то посол наш представит.
Сколько мне известны тамошние обычаи и после таких любезностей султана, я должен непременно послать, как говорится, пешкеш.
Ежели Вы найдете, что нет крайности в испрошении дозволения поднести, то не говорите об этом. Я полагаю, что посол наш узнает, можно или нет.
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о получении ордена от султана и о своих творческих планах.
5 мая 1889 г., Феодосия
Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Вчера я получил при письме г. Мамонтова 3 экземпляра календаря. Так как ему не приходится быть в Феодосии, то он прислал их из Севастополя. Я давно собираюсь писать к Вам, чтобы иметь право ждать и от Вас. Теперь, желая благодарить Вас за добрую память, исполняю свое желание. Жаль бедного Патканова, это потеря во многих отношениях как человека и полезного деятеля.
Мы уже месяц как приехали в имение, где проживем до 20-го июля, затем в Феодосию на купанье и ежели ничего не помешает, то 2-го сентября поедем через Берлин в Париж на выставку.
Завтра мы предпринимаем морское путешествие на неделю, едем до Батума и обратно с этим же пароходом. Я уже знаком с этим берегом, но жена увидит кавказский берег в первый раз. Мне кстати теперь еще раз осмотреть берега, так как по возвращении оттуда, начну картину, изображающую поход аргонавтов в Колхиду. Я и жена просим Вас посетить нас, чтобы Вы недельку погостили у нас. Кроме Феодосии, мы Вам покажем то, что Вас так интересует (скотные дворы, кур и проч.) и все, что есть в имении. Вы нас крайне обрадуете, только напишите, когда ждать Вас. Поручение по службе всегда можете иметь, стоит только пожелать Вам.
Напишите, пожалуйста, где графиня Лорис-Меликова и молодые?
В заключение маленькая просьба: при свидании с добрейшим Матвеем Авелевичем передать мой привет и просьбу, чтобы узнал в Азиатском департаменте, что за причина, что до сих пор не выслали мне меджедие 1-ой степени, который лежит у них более двух месяцев.
Хотя в мои лета [это] мало интересует меня и никогда не придется одевать, но раз что случилось, то естественно, что желательно знать причину замедления. Уж я ни на чужом пиру ли похмелье? При этом не менее считаю [нужным] объяснить, как это случилось.
Осенью, как Вам известно, устроена была выставка моих картин в Константинополе; сам я не ездил туда, Мазирову поручил по окончании выставки три картины распределить таким образом:
1. в русское посольство, 2. в пользу армянских школ, 3. в турецкое художественное учреждение.
Надо полагать, за это последнее султану угодно было дать мне награду, но кто представил, я до сих пор не знаю, Мунир паша или Артим паша, Мазирову мною было поручено не навязываться султану с просьбою осмотреть картины во дворце или на выставке, тем более – поднести что-нибудь. Как это было, не помню в точности, но местные высокопоставленные [особы] заметили, что следовало бы его величеству, но я боялся подобным шагом вызвать султана на покупку картины или награды. Несмотря на это, все-таки, надо полагать, за картину в турецкое учреждение получил награду.
После этого я нашел уже нужным послать ширму с пятью медалями, вписанными мною, от которых султан был в восторге (прислал мне письмо Артим паша), но я полагаю, что другим, не знающим подробности, не понравилось все это, хотя не имеют никаких данных.
Жена усердно кланяется Вам и нашей общей уважаемой Анне Артемьевне.
Преданный Вам И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Н. Н. Кузьмину о своих встречах с В. Г. Белинским.
29 июня 1889 г., Феодосия
Многоуважаемый Николай Николаевич!
Любезное письмо Ваше я имел удовольствие получить и весьма охотно отвечаю на все Ваши вопросы. Фотографии же пришлю своевременно. С Висс. Гр. Белинским я встречался много раз в литературных кружках Петербурга и был у него по его приглашению один раз на Литовской улице, через несколько лет после знакомства своего с А. С. Пушкиным, по возвращении своем из-за границы незадолго до кончины великого критика.
Более чем скромная, почти граничащая с нуждой, обстановка Белинского поразила меня не менее, чем заостренные черты лица его и впавшие щеки, озаренные чахоточным румянцем. Бесконечный вид жалости вызвал у меня этот полный духовных сил и жажды работы и уже приговоренный к смерти труженик, в горячих кружковых разговорах внушавший мне столько благородных, прекрасных мыслей.
Я точно теперь перед собою вижу его лицо, на которое тяжелая жизненная борьба и веяние смерти наложили свой отпечаток. Когда Белинский сжал мне в последний раз крепко руку, то мне показалось, что за спиной его стоит уже та страшная гостья, которая почти полвека назад отняла его у нас, но душой оставила жить среди нас.
Помню, в тот грустный час он после горячей, полной энтузиазма речи, должно быть утомленный длинной беседой со мной, энергичным жестом руки откинул волосы назад и закашлялся. Две крупные капли пота упали со лба на его горящие болезненным румянцем щеки. Он схватился за грудь, и мне показалось, что он задыхается, и, когда он взглянул на меня, то его добрые и глубокие глаза точно устремлены были в бесконечность…
Сжатые губы, исхудавший, сдвинутый как-то наперед профиль с его характерным пробором волос и короткой бородкой, и эта вкрадчиво звучная, полная красноречия, горячности, пафоса речь знакомого милого голоса с особенной, ему только присущей манерой, заставлявшая когда-то усиленно биться сердце молодежи, – как теперь помню, производили на меня тогда глубокое впечатление.
Как далеко это время! Как много переменилось с тех пор, когда вместе с Гоголем я читал по выходе в свет серьезную и искреннюю статью Белинского «Литературные мечтания», в которой с таким восторгом и горячностью относится он к театру, «любимому им всеми силами души…»[142] А теперь так далеко это время и так мало осталось помнящих Белинского, как и Пушкина.
Айвазовский неоднократно встречался с Н. В. Гоголем. Рассказывая об одной из встреч, Айвазовский говорил, что «был поражен оригинальной внешностью писателя». Вместе с Гоголем и друзьями художник бывал в Неаполе, осматривал художественные ценности Флоренции, затем встречался с ним в Риме.
Если это пригодится для Ваших статей о них, то можете напечатать, не повторяя, конечно, буквально моих слов.
Искренне уважающий Вас И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о своем намерении поехать в Америку и о целях этой поездки.
4-го сентября [1892 г. ], Феодосия
Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Любезное письмо Ваше доставило нам истинное удовольствие. Пишу почти накануне выезда.[143] Пока верно то, что едем в Париж, где придется во всяком случае прожить две недели, а затем зависит дальнейшее путешествие от того, какие меры к тому времени будут приняты против пассажиров из Европы. Если, как пишут, 20 дней карантин и в Нью-Йорке, то, разумеется, останемся на зиму в Париже или в Ницце, но надеюсь изменится к лучшему.
Как сообщает армянская газета «Мшак», перед отъездом Айвазовский дал интервью корреспонденту газеты «Русский вестник», в котором сказал: «Главная цель моего путешествия – вновь увидеть океан, возобновить мои впечатления, полученные во время поездки [в Англию] в 1840-ых годах. Люблю эти виды, наполненные бесконечными красотами вод. Смотришь на сменяющиеся картины моря, и душа отдыхает. Хочется все, все воспринять и отобразить на холсте». Художник говорил, что намерен в Америке «по возможности работать и писать все увиденное в пути».
Айвазовский прибыл в Америку в конце сентября 1892 г. Он побывал в Нью-Йорке, Чикаго, на водопаде Ниагара. В Нью-Йорке им была устроена выставка 10 новых и 7 привезенных картин, которую американцы приняли с восторгом. Американские газеты писали, что «Айвазовский был героем дня в Нью-Йорке».
Эта выставка затем была переведена в Чикаго и Сан-Франциско.
Моя главная цель – это, изучив океан, посетив Ниагару, поселиться в Вашингтоне на 4 месяца, написать коллекцию новых американских картин, и они вероятно будут выставлены отдельно в главных городах в январе, а мы переедем в Чикаго в марте.
20 картин, в том числе пять колумбовских, уже в Петербурге в Академии, откуда будут отправлены в Америку в феврале, кажется.
На юге с детства его знают. У нас страшная жара вот уже с 15 июля, в Крыму кое-где одиночные случаи холеры. В Феодосии нет. Передайте наш сердечный Анне Артемовне и всем вашим.
Жена шлет Вам усердный привет, как преданный Вам душевно
Мой адрес в Париже, а в Америку: Нью-Йорк, в русское посольство.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского и И. Е. Репина к Н. Ф. Сазонову[144] о согласии на продажу их картины.
24 января 1896 г.
Многоуважаемый Николай Федорович!
Ввиду выраженного желания некоторыми товарищами Вашими артистами, продать картину «Пушкин на берегу Черного моря» в пользу «Общества пособия выдающимся сценическим деятелям», я со своей стороны заявляю, что ничего не имею против, если Иван Константинович Айвазовский также согласен. И главный труд, и инициатива этой картины принадлежат Айвазовскому, поэтому ему я предлагаю решающий голос.
Глубоко уважающий Вас Репин.
Я со своей стороны совершенно согласен на продажу картины «Пушкин на берегу моря» с тем, чтобы вырученная от продажи сумма поступила в пользу богоделок при театральном обществе.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Н. Н. Кузьмину с воспоминаниями о встречах с А. С. Пушкиным и о своих картинах на тему о Пушкине.[145]
19 мая 1896 г.
Милостивый государь Николай Николаевич!
Третьего дня я имел удовольствие получить Ваше любезное письмо, на которое спешу Вам сейчас же с удовольствием ответить.
Внимание лестное к моим произведениям и ко мне вообще весьма чувствительно влияют на душу старого, художника, и я Вас в особенности очень благодарю, так как я читал все Ваши статьи о моих картинах и выставках.
Посылаю Вам несколько фотографий с картин для Вашей книги, они хорошо выйдут. Все остальные фотографии с пушкинских картин моих и совместной работы моей с П. Е. Репиным, изображающей Пушкина на берегу моря, я вышлю отдельно, когда будут готовы фото с последней картины, которую заканчиваю.
Эта картина изображает восход солнца на вершине Ай-Петри, откуда Пушкин верхом с проводником смотрит восход солнца. Только что на горизонте показалось, солнце, Пушкин снял шляпу свою, чтобы приветствовать светило.
Картину эту я думаю послать в Петербург или в Москву, но теперь трудно, картина почти в три аршина длиною»
В настоящее время так много говорят о Пушкине и так немного остается из тех лиц, которые знали лично солнце русской поэзии, великого поэта, что мне все хотелось написать несколько слов из своих воспоминаний о нем.
Вот они:
В 1837[146] году до смерти за три месяца, именно в сентябре приехал в Академию с супругой Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку Александр Сергеевич Пушкин.
Узнав, что Пушкин на выставке, в Античной галерее, мы, ученики Академии и молодые художники, побежали туда и окружили его. Он под руку с женою стоял перед картиной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин восхищался ею.
Наш инспектор Академии Крутов, который его сопровождал, искал между всеми Лебедева, чтобы представить.
Пушкину, но Лебедева не было, а увидев меня, взял за руку и представил меня Пушкину, как получившего тогда золотую медаль (я оканчивал Академию). Пушкин очень ласково меня встретил, спросил, где мои картины. Я указал их Пушкину; как теперь помню, их было две: «Облака с Ораниенбаумского берега моря» и другая «Группа чухонцев на берегу Финского залива». Узнав, Что я крымский уроженец, великий поэт спросил, из какого города, и если я так давно уже здесь, то не тоскую ли я по родине и не болею ли на севере. Тогда я его хорошо рассмотрел и даже помню, в чем была прелестная Наталья Николаевна.
На красавице супруге поэта было платье черного бархата, корсаж с переплетенными черными тесемками и настоящими кружевами, а на голове большая палевая соломенная шляпа с большим страусовым пером, на руках же длинные белые перчатки. Мы все, ученики, проводили дорогих гостей до подъезда.
Если Вы найдете, что в настоящее время эта маленькая заметка может быть интересна сколько-нибудь, то благоволите отдать напечатать. Сам я, признаюсь, не решаюсь этого сделать.
Теперь [можно] сосчитать на пальцах тех немногих, которые его помнят, а я вдобавок был любезно принят и обласкан поэтом.
Из Москвы меня просят прислать на выставку к осени картину из жизни Пушкина (и в исторический музей в Москве). Я послал им две картины: «Пушкин у Гурзуфских скал», «Там, где море вечно плещет» (иначе, чем прежде написанную), другую «Пушкин на берегу с семейством Раевских у Кучук-Ламбата»). («Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередой с любовью лечь к ее ногам, как я хотел коснуться милых ног устами»…).
Искренне уважающий Вас И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третьякову о предстоящей выставке своих картин в Москве.
24 октября 1897 г.
Многоуважаемый Павел Михайлович!
Надеюсь письмо мое застанет вас в Москве. Вследствие просьб и упреков я решился послать к Вам в Москву мои последние картины, которые еще нигде не были выставлены. Их всех 8, две около трех аршин величины, остальные средней величины.
Одна из больших изображает Скорфо, другая – Ниагару. Эта последняя не та, которая была выставлена в Петербурге, та находится в Берлине. Выставку я поручил устроить г-ну Аванцо,[147] не знаю, где устроит.
Сбор с нее в пользу семейств, погибших с «Русалкой».
Устраивая выставку, я считаю приятным долгом предупредить вас просить покорнейше Вашего доброго содействия.
В настоящее время я занят над большой картиной, изображающей душу вселенной между планетами.
Если бы картина эта была суха, то послал бы тоже в Москву, но придется в феврале выставить в Петербурге. В конце января.
Надеюсь быть у вас в Москве, где на этот раз проживу три дня или четыре. Прошу покорнейше передать мое глубокое уважение Вере Николаевне[148] и принять уверение в искренней моей преданности.
Ваш покорный слуга И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к И. А. Новикову о написанных им картинах и о предполагаемой выставке своих картин в Москве и Петербурге.
[1897 г.].
Глубокоуважаемый Иван Алексеевич!
Я имел честь получить любезное письмо Ваше и вместе статью Вашу в «Московских ведомостях», которую прочел с большим удовольствием, и прошу принять мою сердечную благодарность за лестный отзыв относительно меня и Феодосии. Давно я не выставлял у Вас в Москве своих картин, несколько лет тому, хотя и были картины, но после того, что они были прежде выставлены в Петербурге. На этот раз начинаю с Москвы и потом в Петербург. Картины небольшие, кроме двух: это Скорфо и Niagare (последняя тоже новая), в прошлом году была подобная картина в Петербурге, но та в Германии.
Очень буду рад, если эти последние мои произведения понравятся вашим москвичам, а если появятся строчки в «Московских ведомостях», прошу покорнейше прислать мне. Я только что окончил большую картину, содержание очень фантастическое: присутствие вселенной между планетами.
Картина эта в феврале будет выставлена в Петербурге и, если любители московские пожелают, можно выставить ее в Москве в продолжение марта. Я с женою тоже собираюсь в эту зиму на север и проездом в Питер, мы остановимся на этот раз в Москве дня три или четыре. Непременно буду иметь честь навестить Вас. Полагаю, это будет около 20 января. В Москве, как мне пишет мой комиссионер Аванцо, выставка моя будет в историческом музее.
Жена поручает передать искреннюю благодарность.
Глубокоуважающий и преданный Вам
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о выставке в Одессе и своих планах.
21 декабря [1897 г. ]
Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич!
Любезное письмо Ваше я имел удовольствие получить. Приехал также молодой Таиров, который говорил, как Вы и Анна Артемьевна добры к нему, что всех нас тронуло, особенно мать его, мою племянницу.
Сегодняшний день закрывается выставка моих картин в Одессе и дня три тому сбор с выставки составлял около 2 тысяч рублей. Так как в пользу пострадавших греков и армян, то на долю армян половина ровно. Я послал эти деньги, чтобы из Одессы в Константинополь к нашему послу Зиновьеву, но к сожалению он еще не скоро туда приедет, поэтому думаю препроводить 1-му драгоману Максимову, чтобы он передал нашему константинопольскому патриарху Орманьяну, которому я напишу, чтобы раздал по своему усмотрению, если можно преимущественно армянам в Малой Азии. Наш приезд в Петербург не решен и если состоится, то не ранее 25 января и то весьма сомнительно, боюсь усиления болезни, к тому необходимы визиты, все это для меня теперь трудно, Черникову я сообщил сведения.
Скоро картины мои, бывшие в Одессе, с прибавлением новых будут выставлены в Харькове, но сбор уже на местные нужды. А в марте будет в Москве из 20 новых картин, но там я предоставлю в полное распоряжение княгини Голициной (уроженной) Деляновой. Я ей давно обещал.
Прошу принять, а также передать Анне Артемьевне наше искреннее поздравление с наступающим Новым годом.
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину о преимуществах Феодосийского порта.
20 сентября 1898 г.
Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Пишу два слова с глубокоуважаемой Анной Ивановой, чтобы пожаловаться на бессовестных сторонников Севастополя, – они солгали, да кому, что феодосийский порт осел, что рушится, что зимою замерзает и прочий вздор. Ничего нет правды. На вершок нигде не осел. Порт превосходно держится зимою с тех пор, как порт устроен. В 15, даже 20 градусов морозу ни на палец не замерзает, естественно потому, что глубже и чище вода морская. Всю эту ложь они распустили, чтобы легче выхлопотать себе коммерческий порт, что комитет и обещает. – Но какой добросовестный русский моряк может быть доволен соседством иностранных судов, пароходов. Только одни торгаши севастопольские хлопочут, да бог сними, пусть торгуют, но зачем лгать?
Наша Феодосия имеет больше преимуществ против Севастополя, имея уже покойный порт Феодосии на 46 верст ближе к центру России, чем Севастополь. Кроме этого, между Севастополем и Симферополем большие подъемы, поэтому поезда разделяются на две и даже на три части, чрез что не успевают подвозить хлеб, поэтому южные губернии просили дать другой порт. Эти преимущества в торговом отношении остаются за Феодосией, следовательно и тариф должен быть соразмерно расстоянию. На сильном покровителе, как Министерство финансов, другие выхлопотать льготы. Хотя и не справедливо, мы не пожелаем, чтобы на Феодосию смотрели одинаково с Севастополем, т. е., что оба порта русские.
Датская катастрофа много изменила, но по возвращении оттуда, если опять в Ливадию, то мы не теряем надежды.
Анна Ивановна расскажет, насколько было это близко.
Вы человек справедливый и истинно русский, чтобы составить статью как водится «нам пишут».
А право, стоило бы в «Новом времени» отделать этих лгунов и повторить правду о Феодосии. Еду на станцию проводить Ваших.
Сердечно уважающий и преданный Вам
И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского к Н. Я. Кузьмину о своей встрече с С. Я. Надсоном.
31 октября 1899 г.
Многоуважаемый Николай Николаевич!
Спешу ответить на Ваше письмо. С Надсоном, прогремевшим уже в ту пору прославленным поэтом, я познакомился в Ялте, куда умирающий поэт приехал лечиться. Признавая талант в Надсоне, я нахожу его стих вполне музыкальным и художественным – порой бедным, по сравнению с Пушкиным и другими поэтами, в смысле недостатка слов, по умению подыскивать выражения, которыми так богата русская речь. Это я заметил сейчас же и в разговоре с Надсоном, лицо которого напоминало мне портреты Шекспира.
Надсон с длинными, черными, закинутыми назад волосами, такой же длинной бородой и маленькими усами худенький юноша с побледневшим, желтым, впавшим лицом, одетый в короткий черный бархатный пиджак, – представлял собой хотя грустный, но все же яркий и колоритный тип восточной красоты (поэт был по происхождению еврей).
Живые, умные глаза его, обведенные темными ободками, казалось, увеличивались в размере и сверкали, как звезды в темноте ночи, и он проявил массу горячности и ненависти, когда разговор зашел о враждебных ему течениях литературы.
Напрасно не желая волновать его, я силился перевести разговор на другую тему, [но] болезненно нервного Надсона трудно было уж сбить с пути…
Поэт поразил в ту пору меня мечтательным выражением лица и своей желтизной, худобой, нервной злобой, как будто несколько месяцев находился между жизнью и смертью. Он был уже на краю могилы. Тяжело смотреть на молодую угасающую жизнь, таившую в своих недрах неистощимые залежи духовного богатства. Лихорадочно блещущий взгляд красивых огненных глаз – «искрометных очей», в которых еще догорал светоч высокого вдохновения, порывисто дышащая грудь, полуоткрытые уста, с которых не сходила болезненная улыбка, и бессильно опускавшиеся руки – таков был внешний вид поэта, давно приговоренного докторами к смерти. Лечил его доктор Штангеев, поместивший по смерти поэта письмо в «Новостях» о причинах ухудшения его болезни…
Уважающий Вас И. Айвазовский.Письмо И. К. Айвазовского Н. Н. Кузьмину со сведениями о Феодосийской картинной галерее и о своих намерениях.
1 ноября 1899 г.
Многоуважаемый Николай Николаевич!
Любезное письмо Ваше от 27 октября я имел удовольствие получить. По возможности постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
Галерею свою я выстроил на свои средства, собранные ют выставок на Кавказе и в Крыму, 25 лет[149] тому назад Как галерея, так и дом выстроены по моему личному проекту.
В галерее собраны картины в продолжение 20 лет и теперь даже начаты новые, не считая картин и скульптур других художников и скульпторов, которыми она пополнилась. Галерея моя постоянно открыта для публики, особенно для приезжих на пароходах. Сбор я предназначаю в распоряжение Феодосийского благотворительного общества.
На вопрос Ваш, какие картины я считаю лучшими, я ответить не могу по той причине, что положительно в каждой есть что-нибудь удачное; вообще не только между картинами в галерее, но между всеми моими произведениями, которых, вероятно, в свете до 6000, я не могу выбрать. Вполне они меня не удовлетворяют.
И теперь продолжаю поэтому я писать. Я стараюсь по возможности исправить прежние недостатки, почему и приходится повторять прежние сюжеты и мотивы.
Вообще, могу сказать одно – это я полагаю, что мои произведения отличаются не только между моими, но многими чужими силой света, и те картины, в которых главная сила – свет солнца, луны и проч., а также волны и пена морская – надо считать лучшими. Благодаря бога, я чувствую себя здоровым и нисколько не ослабевшим к искусству. Доказательство тому – нынешнее лето: я не помню, чтобы в продолжение 60-летней деятельности я так много бы написал. О достоинстве их я не скажу, но что их писал с большой страстью – это верно. В нынешнюю зиму я не намерен устраивать выставки ни в Петербурге, ни в Москве: надо же, чтобы публика отдохнула от моих картин, но если бог благословит меня еще быть таким бодрым и преданным своему делу, то надеюсь через год представить моим почитателям все мои произведения.
Знаю, что есть и очень много декадентов, которые не сочувствуют моим произведениям и жаждут создать еще свои, но было бы неблагодарно с моей стороны не видеть и своих почитателей и за границей, и в Америке, и в России, и вообще не ценить сочувствия всего просвещенного русского общества, доказавшего его в продолжение всей моей художественной деятельности, и мне именно дорого это сочувствие, благодаря коему я работаю.
Все интриги против меня 20–30 лет тому назад меня нисколько не обескуражили, и мой постоянный труд восторжествовал. Вы, вероятно, из этих слов поймете, что я имею сказать. Не повторяя моих слов, измените по-своему, если найдете сами нужным, и поместите в Ваших статьях обо мне. Посылаю при этом Вам портрет с надписью и 20 фотографий с некоторых больших картин галерейных и новых посылаю по почте отдельно.
Прошу принять уверения в искреннем моем к Вам и глубоком уважении.
И. Айвазовский.Примечания
1
Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) – русский журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург.
(обратно)2
Александр Иванович Казначеев (1788–1880) – сенатор, действительный тайный советник, в 1829–37 гг. глава Таврической губернии.
(обратно)3
Светлейший князь Петр Михайлович Волконский (1776–1852) – русский военный и придворный деятель из рода Волконских, генерал-фельдмаршал (1843), министр императорского двора и уделов (1826–1852), владелец усадьбы Суханово.
(обратно)4
Светлейший князь Александр Аркадьевич Суворов (1804–1882) – русский государственный, общественный и военный деятель, генерал от инфантерии.
(обратно)5
Карл Павлович Брюллов (1799–1852) – русский художник, живописец, монументалист, акварелист, представитель академизма.
(обратно)6
Михаил Иванович Глинка (1804–1857) – русский композитор.
(обратно)7
Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868) – русский прозаик, поэт, переводчик и драматург первой половины XIX века, автор текстов популярных романсов.
(обратно)8
Зауервейд Александр Иванович (1782–1844) – немецкий и русский художник, профессор батальной живописи ИАХ.
(обратно)9
Яков Феодосиевич Яненко (1800–1852) – портретный живописец, академик. Сын художника Феодосия Ивановича Яненко.
(обратно)10
Филипп Таннер (1795–1878 гг) – французский живописец. Непревзойденный мастер морских видов. Учился живописи у О. Берне.
(обратно)11
Аршин – старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м.
(обратно)12
Николай Николаевич Раевский (1771–1829) – русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии (1813).
(обратно)13
Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) – русский флотоводец и мореплаватель, адмирал (1843), кавалер ордена Святого Георгия IV класса за выслугу лет (1817), командующий Черноморским флотом и первооткрыватель Антарктиды.
(обратно)14
Владимир Алексеевич Корнилов (1806–1854) – российский военный деятель, начальник штаба Черноморского флота (1850–1854), герой Крымской войны, вице-адмирал (1852).
(обратно)15
Павел Степанович Нахимов (1802–1855) – русский флотоводец, адмирал (1855).
(обратно)16
Александр Иванович Панфилов (1808–1874) – русский адмирал, участник Крымской войны. Родился в феврале 1808 года в семье кораблестроителя Ивана Кузьмича Панфилова (1774–1835).
(обратно)17
Торквато Тассо (1544–1595) – итальянский поэт XVI века, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».
(обратно)18
Александр Андреевич Иванов (1806–1858) – русский художник, академик; создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты.
(обратно)19
Василий Иванович Штернберг (1818–1845) – живописец, жанрист и пейзажист.
(обратно)20
Василий Петрович Боткин (1811–1869) – русский очеркист, литературный критик, переводчик.
(обратно)21
Иван Иванович Панаев (1812–1862) – русский писатель и литературный критик, журналист.
(обратно)22
Василий Васильевич Самойлов (1813–1887) – русский актер и художник.
(обратно)23
Василий Григорьевич Авсеенко (1842–1913) – беллетрист, критик и публицист; из дворян; служил чиновником особых поручений.
(обратно)24
Петр Степанович Котляревский (1782–1851) – генерал от инфантерии, покоритель территории современного Азербайджана.
(обратно)25
Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – русский военачальник и государственный деятель.
(обратно)26
Доменико Гаэтано Мариа Доницетти (1797–1848) – итальянский оперный композитор, автор 74 опер.
(обратно)27
Джоаккино Антонио Россини (1792–1868) – выдающийся итальянский композитор, автор 39 опер.
(обратно)28
Жан-Жак Пелисье (1794–1864) – французский военачальник, герцог Малаховский (22 июля 1856 года), маршал Франции (12 сентября 1855 года).
(обратно)29
Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894) – русский композитор, пианист, дирижер, музыкальный педагог. Брат пианиста Николая Рубинштейна.
(обратно)30
Лабрадор – минерал из группы плагиоклазов основного состава, алюмосиликат кальция и натрия. Назван по полуострову Лабрадор (Канада), где был впервые найден в 1770 году.
(обратно)31
Бювар (англ. blotting pad) – изящная настольная папка, род портфеля или тетради с листами промокательной бумаги для осушения чернил.
(обратно)32
Братина – русский шаровидный сосуд XVI–XIX веков для питья на братчинных пирах и на поминках (питья на всю братию). Братина имела вид горшка с конусообразной крышкой, подавалась, как правило, на подносах (поддонах).
(обратно)33
Штоф (нем. Stoff – ткань) – декоративная гладкокрашеная ткань со сложным крупным тканым рисунком.
(обратно)34
Негоциант – торговец, купец, оптовый посредник, предприниматель, переговорщик.
(обратно)35
Генрих Ипполитович Семирадский (при рождении Генрик Гектор Семирадский, 1843–1902) – русский и польский художник, один из крупнейших представителей позднего академизма.
(обратно)36
Мария Мариусовна Петипа (1857–1930) – артистка балета и педагог, характерная солистка Мариинского театра.
(обратно)37
Фанни Карловна Татаринова (1864–1923) – актриса, преподаватель пения в школе МХТ и в классах пения театра (1907–1923).
(обратно)38
Андрей Иванович Подолинский (1806–1886) – русский поэт.
(обратно)39
Константин Егорович Маковский (1839–1915) – русский живописец, один из ранних участников товарищества передвижников.
(обратно)40
А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава VIII, строфа IV.
(обратно)41
Нереида – в древнегреческой мифологии дочь бога моря Нерея.
(обратно)42
Яков Петрович Полонский (1819–1898) – русский литератор, известный главным образом как поэт.
(обратно)43
Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1930) – русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик, драматург, издатель и мемуарист.
(обратно)44
Виссарион Виссарионович Комаров (1838–1907) – русский журналист и общественный деятель, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., полковник российской и генерал сербской армий.
(обратно)45
Виктор Иванович Бибиков (1863–1892) – писатель и критик.
(обратно)46
Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929) – русский прозаик и драматург, один из самых популярных писателей 1890-х годов.
(обратно)47
Павел Степанович Мочалов (1800–1848) – один из величайших русских актеров эпохи романтизма. Служил в московском Малом театре.
(обратно)48
Варвара Николаевна Асенкова (1817–1841) – российская театральная актриса императорского Александринского театра. Варвара Асенкова родилась 10 апреля 1817 года в Санкт-Петербурге, дочь известной актрисы А. Е. Асенковой.
(обратно)49
Василий Васильевич Самойлов (1813–1887) – русский актер и художник.
(обратно)50
Петр Андреевич Каратыгин (1805–1879) – русский актер и драматург. Сын Андрея Васильевича и Александры Дмитриевны Каратыгиных, брат В. А. Каратыгина.
(обратно)51
Анна Яковлевна Воробьева (1817–1901) – русская оперная певица (контральто).
(обратно)52
1. Застежка особой формы на ожерелье, а также на альбоме, книге и т. п. 2. Ожерелье из драгоценных камней с такой застежкой.
(обратно)53
Авдотья Ильинична Истомина (1799–1848) – легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета.
(обратно)54
Сара Бернар (1844–1923) – французская актриса, которую в начале XX века называли «самой знаменитой актрисой за всю историю».
(обратно)55
Поль Гюстав Доре (1832–1883) – французский гравер, иллюстратор и живописец.
(обратно)56
Лидия Борисовна Яворская (по мужу – княгиня Барятинская; 1871–1921) – русская актриса.
(обратно)57
Нимфы – лесные божества; персонажи классических опер и балетов.
(обратно)58
Эол – в древнегреческой мифологии бог ветров.
(обратно)59
Абдул-Азиз (1830–1876) – 32-й султан Османской империи, правивший в 1861–1876 годах.
(обратно)60
Николай Павлович Игнатьев (1832–1908) – русский государственный деятель из рода Игнатьевых, русский посланник в Пекине (1859–1860), посол в Константинополе (1864–1877), министр внутренних дел (1881–1882), генерал от инфантерии (1878), генерал-адъютант.
(обратно)61
Каик – легкое гребное (изредка парусное) судно. В Турции каики используются по настоящее время, в основном на тихих водах Босфора. Корма его несколько выше носа, как вообще у турецких судов.
(обратно)62
Захар Семенович Херхеулидзев – князь, керченский градоначальник.
(обратно)63
«Северная пчела» – политическая и литературная газета, издаваемая в Петербурге в 1825–1864 гг.
(обратно)64
Фрикке (1820–1893) – художник-пейзажист, учился в Академии художеств вместе с Айвазовским.
(обратно)65
Михаил Иванович Лебедев (1811–1837) – известный русский художник-пейзажист.
(обратно)66
Пуссен Никола (1594–1665) – выдающийся французский художник, основоположник классицизма в живописи XVII в.
(обратно)67
Вероятно, Арт ван дер Неер (1603–1677) – голландский художник.
(обратно)68
Орест Адамович Кипренский (1782–1836) – выдающийся русский художник.
(обратно)69
Александр Иванович Казначеев (1788–1880) – феодосийский градоначальник, с 1830 г. таврический губернатор, сенатор, покровитель Айвазовского. Казначеев первым заметил способности юного Айвазовского и всячески помогал ему в дальнейшем, способствуя развитию его таланта. Айвазовский всегда вспоминал о нем с благодарностью. Несколько раз писал его портрет.
(обратно)70
Василий Иванович Григорович (1786–1865) – конференц-секретарь Академии художеств (с 1829 г.), секретарь Общества поощрения художеств.
(обратно)71
Николай Николаевич Раевский (1771–1829) – герой Отечественной войны 1812 г., генерал-лейтенант, начальник Черноморской прибрежной линии.
(обратно)72
Вероятно, Берхем Клас (1620–1683) – голландский художник.
(обратно)73
Эта картина представляет вид Гурзуфа с Аю-Дагом. (Добавлено Айвазовским).
(обратно)74
Виктор Павлович Гаевский (1826–1888) – литератор, историк литературы, друг Герцена, Тургенева, Некрасова.
(обратно)75
Михаил Семенович Воронцов (1782–1856) – князь, русский военный и государственный деятель. В 1823–1844 гг. был генерал-губернатором Новороссии и наместником Бессарабской области. С 1844 г. – наместник Кавказа.
(обратно)76
О новых произведениях Айвазовского и его успехе в Италии писали многие итальянские, армянские и русские газеты и журналы того времени.
(обратно)77
Векки К. А. – любитель и знаток живописи. В дальнейшем – друг и адъютант вождя освободительного движения в Италии Д. Гарибальди.
(обратно)78
Александр Михайлович Горчаков (1798–1883) – князь, крупный русский дипломат.
(обратно)79
Энглафштейн – граф, собиратель картин, он же кутил картину Айвазовского «Сцены на Неаполитанском рейде» с выставки в Риме.
(обратно)80
Ипполлит Антонович Монигетти (1819–1878) – друг Айвазовского, архитектор, автор проекта здания Политехнического музея в Москве.
(обратно)81
Федор Антонович Бруни (1799–1875) – видный представитель академического направления в живописи, русский исторический живописец-академист. В 1841 г. в Риме он окончил и выставил картину «Медный змий», которая пользовалась большим успехом в Риме и в России.
(обратно)82
Федор Антонович Моллер (1812–1877) – русский живописец.
(обратно)83
Алексей Васильевич Тыранов (1808–1859) – русский художник. С 1839 по 1842 гг. работал в Риме. В 1841 г. написал портрет Айвазовского, который ныне находится в экспозиции Государственной Третьяковской галереи.
(обратно)84
Николай Степанович Пименов (1812–1864) – русский скульптор, профессор, академик. В сороковых годах жил в Италии.
(обратно)85
Братья Чернецовы – известные русские художники XIX века: Григорий Григорьевич Чернецов (1802–1865); Никанор Григорьевич Чернецов (1804–1879).
(обратно)86
Петр Михайлович Шамшин (1811–1895) – русский художник, исторический живописец. Жил в то время в Италии.
(обратно)87
На письме пометка Томилова: “Получил чрез Василия Ивановича Григоровича 11 ноября 1842 г.
(обратно)88
В Париже художник оставался месяц по возвращении из Англии. Из Парижа он едет в Марсель, затем в Неаполь. Путешествие по Голландии, Англии и Франции продолжалось 4 месяца.
(обратно)89
Вячеслав Григорьевич Шварц (1838–1869) – русский живописец, академик, почетный вольный общник Императорской Академии художеств.
(обратно)90
Федор Петрович Толстой (1785–1873) – выдающийся русский скульптор.
(обратно)91
Тревизо – итальянский банкир, коллекционер картин. Владелец картин Айвазовского «Буря» и «Тишь».
(обратно)92
Маньеризм – художественное течение, возникшее в европейском искусстве. Его отличительные черты: субъективизм, надуманность, фигурность образов.
(обратно)93
Тенирс Давид младший (1610–1690) – крупный фламандский живописец.
(обратно)94
Воверман Филипс (1619–1668) – голландский художник.
(обратно)95
Жирарде – швейцарский художник-пейзажист.
(обратно)96
Михаил Иванович Скотти (1814–1861) – русский живописец, с 1839 по 1844 гг. путешествовал по Италии, профессор исторической живописи.
(обратно)97
Архип Эпингер – русский художник, в то время пенсионер Академии художеств в Италии.
(обратно)98
До востребования (франц.)
(обратно)99
«Веке», в журналах «Искусство», «Литературная Франция» и «Аргист» (франц.).
(обратно)100
Совет Парижской Академии художеств в мае 1843 г. присудил ему золотую медаль за отличные произведения морской живописи.
(обратно)101
Петр Петрович Ланской – генерал-адъютант, крымский помещик.
(обратно)102
Алексей Илларионович Философов (1799–1874) – генерал-адъютант.
(обратно)103
Петр Ефимович Заболотский (1803–1866) – русский художник, портретист и пейзажист.
(обратно)104
Далее следует заметка на французском языке.
(обратно)105
Орас Верне и Поль Деларош (франц.).
(обратно)106
Андрей Иванович Сомов (1830–1909) – председатель общества русских художников в Риме. С 1886 г. – старший хранитель Эрмитажа.
(обратно)107
Григорий Константинович Айвазовский – старший брат художника. Долгое время был начальником порта в Феодосии.
(обратно)108
Почтовые комиссионные (франц.).
(обратно)109
Карло (итал.).
(обратно)110
Маркиз де Ауглио (итал.).
(обратно)111
Приписка художника В. Макрицкого со слов: «Вам Штернберг…»
(обратно)112
Газета «Одесский вестник» еще в марте 1846 г. сообщала о намерении «знаменитого морского пейзажиста И. К. Айвазовского… сделать, по просьбе многих в родном своем городе Феодосии, выставку своих произведений».
(обратно)113
Айвазовский увлекался археологией. В 1853 г. он самостоятельно производил раскопки в Феодосии, раскопав 80 курганов. Найденные им экспонаты ныне хранятся в Эрмитаже.
(обратно)114
Айвазовский остался в Крыму и зимою 1853 г. написал большую картину “Синопский бой”. Ныне она находится в Центральном военно-морском музее в Ленинграде.
(обратно)115
Христофор Екимович Лазарев (1789–1871) – почетный попечитель Института восточных языков – Лазаревского института в Москве. В 1853 г. Айвазовский на даче Лазарева устроил выставку своих картин на военные темы в пользу «Женского комитета помощи недостаточным семействам воинов, назначенных для защиты столицы и Прибалтийских берегов».
(обратно)116
«Письмо от 3 ноября» и «копия с писем брата Гавриила» не дошли до нас. Можно, однако, предположить, что в них содержалось прошение Габриэла о переводе его из Парижа в Россию.
(обратно)117
Григорий Иванович Бутаков (1820–1882) – выдающийся флотоводец, командир русского фрегата «Владимир». В ноябре 1853 г. на Черном море, вблизи турецкого побережья, «Владимир» вел трехчасовой бой с турецким десятипушечным фрегатом «Парвас-Бахра», разгромил и доставил его в Севастополь. Это событие Айвазовский изобразил в 1855 г. в двух картинах под названием «Морской бой».
(обратно)118
Василий Федорович Тимм (1820–1895) – русский художник, мастер книжной иллюстрации. В 1855 г. он был командирован в Крым для писания картин с натуры на военные темы. В 1851–1862 гг. издавал «Русский художественный листок», в котором 1858 г. (№ 10) поместил статью об Айвазовском.
(обратно)119
Манук-бей – брат жены X. Лазарева.
(обратно)120
Иван Давыдович Делянов (1818–1897) – граф, министр народного просвещения в России в 1882–1897 гг.
(обратно)121
Семен Давыдович Лазарев – князь, генерал-майор.
(обратно)122
Эчмиадзинский синод – высший орган армяно-григорианской церкви.
(обратно)123
Письмо X. Е. Лазарева к Айвазовскому не дошло до нас. Однако из ответа видно, что оно касалось вопроса возведения его брата Габриэла в сан епископа. В то время Габриэл Айвазовский был в Париже редактором армянского журнала «Масиац агавни», издававшегося на армянском и французском языках.
(обратно)124
Армянским патриархом в это время (с 1858 по 1865 г.) был Матеос Чухаджян.
(обратно)125
Артемий Павлович Халибов (1790–1871) – богатый купец, городской голова Ново-Нахичевана, уполномоченный по церковным делам.
(обратно)126
Нестор Васильевич Кукольник (1809–1868) – писатель, драматург, с 1836 по 1842 гг. издавал «Художественную газету» в Петербурге.
(обратно)127
По дороге из Крыма на Кавказ Айвазовский остановился в Ялте. Это нарушило его маршрут и ему в 1861 г. не удалось поехать в Тифлис.
(обратно)128
Вардапет – брат художника Габриэл Айвазовский.
(обратно)129
Картины на библейские темы Айвазовский писал неоднократно и в последующие годы. Картина «Всемирный потоп» 1862 г. не дошла до нас. В Русском музее находится большое полотно «Потоп», написанное в 1864 г. Айвазовский написал несколько картин на тему «Ной с животными спускается с вершины Арарата».
(обратно)130
Краткие сведения и анкета составлены художником для сборника материалов по истории Академии художеств. Имеются некоторые неточности:
(обратно)131
Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) – известный русский коллекционер, основатель картинной галереи в Москве.
(обратно)132
Айвазовский побывал в Константинополе в октябре 1874 г. Турецким султаном в это время был Абдул-Азиз (1830–1875). Султану представил художника его друг, известный армянский архитектор, работавший в то время в Константинополе, Саркис Палян (1835–1899).
(обратно)133
Николай Павлович Игнатьев (1832–1908) – дипломат и государственный деятель царской России. В 1864–1877 гг. русский посланник в Турции, член государственного Совета. В дальнейшем – министр внутренних дел.
(обратно)134
Екатерина Леонидовна – жена Николая Павловича Игнатьева.
(обратно)135
Саркис-бей – Саркис Палян.
(обратно)136
Пешкеш – дар (по-турецки).
(обратно)137
Большую картину «Христофор Колумб во время открытия Америки» Айвазовский написал впервые в 1878 г. В дальнейшем в 80–90-х гг. он написал несколько новых картин на эту тему. Одна из них, под названием «Христофор Колумб», ныне находится в Государственной картинной галерее Армении.
(обратно)138
Салов Василий Васильевич – председатель инженерного совета Министерства путей сообщения.
(обратно)139
Эммануель Магдесян (1857–1908) – известный армянский художник-маринист, представитель школы Айвазовского в армянской живописи. Учился в Академии художеств с 1876 по 1882 г., затем у Айвазовского в его мастерской специализировался в области морской живописи. В 1895 г. устроил в Симферополе большую выставку из 150 работ. Здесь были выставлены и те работы, которые упоминаются Айвазовским.
(обратно)140
Речь идет о турецком султане Абдул Гамиде II (1842–1918), правившем с 1876 по 1909 г.
(обратно)141
Рисовальная школа в Константинополе основана была в 1882 г. Директором и преподавателем ее был армянский скульптор Ерванд Воскан (1855–1914). Айвазовский посещал эту школу и был близок с Е. Восканом.
(обратно)142
Статья Белинского «Литературные мечтания» впервые опубликована в 1834 г. в газете «Молва». В это время Айвазовский был учеником Академии художеств, а Гоголь – профессором Петербургского университета. Очевидно, вместе с Гоголем они читали эту статью позже.
(обратно)143
Айвазовский отправился в Америку с женой Анной Никитичной в сентябре 1892 г. из Одессы.
(обратно)144
Николай Федорович Сазонов (1843–1902) – артист Александрийского театра. Речь идет о картине под названием «Прощание Пушкина с Черным морем».
(обратно)145
Из жизни Пушкина Айвазовский написал всего десять картин, а именно: «Пушкин среди скал. Закат», 1877; «Пушкин у скал Аю-Дага» («Там, где море плещет…»), 1880; «Прощание Пушкина с Черным морем». Картина написана с Репиным в 1887 г.; «Пушкин на берегу моря»; «Прощание Пушкина с морем» («Прощай, свободная стихия»), 1897; «Пушкин с М. Раевской на берегу моря», 1890-е годы; «Пушкин у Гурзуфских скал», карандашный эскиз; «Пушкин у Гурзуфских скал», 1899; «Пушкин на вершине Ай-Петри» («Восход солнца»).
(обратно)146
Здесь опечатка, должно быть – 1836 г.
(обратно)147
Аванцо – владелец магазина художественных принадлежностей в Москве.
(обратно)148
Третьякова В. В. (1844–1899) – жена П. М. Третьякова, урожденная Мамонтова.
(обратно)149
Здесь, вероятно, опечатка, т. к. картинная галерея была построена в 1880 г. в течение шести месяцев «по плану и под наблюдением самого Айвазовского». Торжество открытия картинной галереи совпало с празднованием дня рождения художника – 17 июля 1880 г.
(обратно)



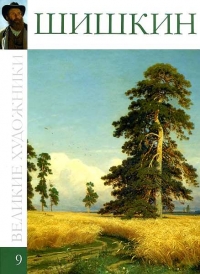



Комментарии к книге «Пленник моря. Встречи с Айвазовским», Николай Николаевич Кузьмин
Всего 0 комментариев