Олег Трояновский Через годы и расстояния. История одной семьи
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые. Ф. И. Тютчев© О. А. Трояновский, наследники, 2017
© «Центрполиграф», 2017
Введение
«Это было самое прекрасное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежды, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в облаках, то вдруг обрушивались в преисподнюю…»
Так Чарлз Диккенс начинает «Повесть о двух городах», рассказывающую о событиях времен Великой французской революции. Впрочем, тут же добавляет: «…Словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представители уже тогда требовали, чтобы о нем – будь то в хорошем или дурном смысле – говорили не иначе как в превосходной степени».
Похоже, что мы с полным основанием можем взять эстафету у Диккенса, приложив вышеприведенные его слова к XX веку, бурной эпохе войн и революций, в которые была ввергнута Россия.
И сегодня об этой эпохе говорят, как правило, в превосходной степени – либо возносят ее до небес, либо обрушивают в преисподнюю. Но мало кто удосуживается спокойно, с холодной головой разобраться в ее сложных перипетиях. В этом смысле, думается, бесспорную ценность приобретают свидетельства непосредственных участников бурных событий начала, середины и конца нашего столетия.
Именно поэтому я и решил взяться за перо. Надеюсь, что имею на это моральное право, ибо семья моя принимала самое активное участие как в революции, так и в послереволюционной жизни страны. И тоже то витала в облаках, то обрушивалась в преисподнюю.
Мой отец, Александр Трояновский, был и кадровым офицером русской армии, и революционером; близко знал Ленина, Плеханова и Сталина; участвовал в трех войнах; сидел в тюрьме и при царе, и при советской власти; работал послом в Японии и стал первым советским послом в Соединенных Штатах. Пережил он и 30-е годы массовых репрессий, когда свобода и сама жизнь находились под угрозой.
Мне довелось быть переводчиком и помощником у великих мира сего, а потом так же, как и отец, я пошел по дипломатической стезе. Жизнь сталкивала меня со Сталиным и Молотовым, Хрущевым и Брежневым, Андроповым и Горбачевым, со многими другими видными российскими и иностранными деятелями. И тут тоже были свои взлеты и падения.
Все сказанное и побудило меня рассказать о двух поколениях семьи Трояновских. О жизни отца я знаю в основном по его устным рассказам: он, к сожалению, не оставил никаких письменных воспоминаний. Этот пробел я заполнил, отчасти использовав некоторые архивные документы. Впрочем, материалы из архивов я включил и в те разделы книги, где описываю собственную одиссею.
Работая над этими воспоминаниями, я не ставил своей задачей живописать очерки истории XX века, а просто хотел поведать о наиболее ярких, на мой взгляд, эпизодах жизни не совсем ординарной семьи, жившей в очень неординарное время.
Поручик – революционер
Корни семьи Трояновских прослеживаются с XVII века, причем свое начало они берут из Польши и Литвы. В основном это была военная семья. Мой дед, Антон Трояновский, также был офицером и, дослужившись до полковника, умер сравнительно молодым, оставив жену Марию с четырьмя детьми и ограниченными средствами. Оба мальчика согласно семейной традиции были направлены в кадетский корпус. Старший, Антон, впоследствии пошел по медицинской линии, а младший, мой отец, Александр, стал артиллерийским офицером.
Александр учился исключительно хорошо, много читал, находясь в кадетском корпусе, но был весьма озорным подростком, с которым воспитателям приходилось нелегко. Его рассказы о жизни в кадетском корпусе, которые мне доводилось слышать, говорят о том, что он и его друзья доставляли начальству немало хлопот.
Однажды ребята забрались в часовню при кадетском корпусе, выпили вино, предназначенное для ритуальных целей, и в состоянии отнюдь не религиозного экстаза учинили дебош. Шум привлек внимание священника, который, войдя в часовню и увидев все это безобразие, пришел, разумеется, в ужас. Святотатство было настолько ужасающим, что дело кончилось ничем: мудрый батюшка решил замять дело, дабы неизбежный громкий скандал не опорочил его доброго имени.
Были и другие прегрешения. На выпускных церемониях начальник кадетского корпуса, поздравив отца с высокими оценками в учебе, не преминул изречь: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой». Эти слова оказались пророческими.
Окончив Воронежский кадетский корпус, Александр Трояновский был принят в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, весьма престижное заведение, дававшее высокий уровень познаний не только по военной части, но и в области математики, физики и других естественных наук. Среди окончивших Михайловское училище было немало видных военачальников, в их числе генерал Корнилов, руководитель известного мятежа в 1917 году. Любопытно, что курс фортификации там вел композитор, участник «Могучей кучки», инженер-генерал Ц. А. Кюи. В Михайловском училище, по рассказам отца, дух вольнодумства давал о себе знать значительно сильнее, чем в Воронеже, где он выражался скорее в детских и подростковых шалостях. Здесь учились уже люди интеллектуально более зрелые, живо интересующиеся социальными и политическими проблемами. К тому же Петербург был столицей великой империи, где молодые люди могли вступить в контакт с представителями различных радикальных или либеральных, легальных и нелегальных групп. Так случилось, что уже в 1902–1903 годах, когда отцу едва исполнилось 20 лет, у него установились тесные связи с группой молодых офицеров, придерживавшихся социал-демократических взглядов. Вместе они часто обсуждали положение в стране, вели агитацию среди рядовых солдат.
И в то же время продолжали верно служить Отечеству. Отец вспоминал, как курсанты училища стояли в карауле Зимнего дворца, охраняя покой Николая II и его семьи. Когда царь проходил мимо них, они должны были становиться во фрунт и обнажать сабли. Отец тогда и подумать не мог, что стремительно развивающиеся события в России уже через несколько лет заставят его обнажить саблю против царя всерьез.
Общественно-политический климат в России к началу XX века был таков, что молодой человек, обладавший острым чувством социальной справедливости и болезненно воспринимавший тогдашнюю отсталость своей родины, ее крепостнические пережитки, видел перед собой мало иных путей, кроме революционной борьбы за коренное переустройство российской общественной и политической жизни.
Немало способствовало этому и то, что на верхушке изъеденной нищетой, размежеванной сословными перегородками страны восседал ограниченный, слабовольный, двуличный человек с мировоззрением гвардейского офицера, находившийся к тому же под каблуком своей неврастеничной жены.
Александр Керенский, не ахти какой революционер, писал много лет спустя: «Мы вступали в ряды революционеров не в результате того, что подпольно изучали запрещенные идеи. На революционную борьбу нас толкал сам режим. «Поняли ли вы, – говорил он, выступая в Думе, – что исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом?.. С нарушителями закона есть только один путь борьбы – физического их устранения».
Если так говорил депутат-трудовик, то можно себе представить, какие мысли витали в умах молодых людей, стоящих на более левых позициях.
Между тем Александр Трояновский, окончив Михайловское артиллерийское училище в чине подпоручика, был направлен в 33-ю артиллерийскую бригаду Киевского военного округа. Вскоре он вольнослушателем поступил на физико-математический факультет Киевского университета, а позднее и на юридический факультет, успешно окончив оба. Таким образом, он имел три высших образования – военное, физико-математическое и юридическое.
И конечно же молодой высокообразованный интеллигент не мог оставаться в стороне от революционной волны, буквально захлестнувшей страну. Из того, что я слышал от отца, он руководствовался теми же чувствами и мыслями, что и тысячи других молодых людей его поколения. Он прекрасно понимал, что общественно-политическая система России безнадежно устарела, что страна с ее бесправием и нищетой все больше отставала от других европейских государств. К этому примешивалось и острое чувство стыда за дискриминационную политику режима по отношению к национальным меньшинствам, населявшим Россию. Отец с брезгливостью воспринимал любые проявления антисемитизма. Зверские погромы, которые, как правило, поощрялись и даже организовывались властями, вызывали у него отвращение и возмущение. Все это, вместе взятое, и побудило молодого офицера войти в революцию.
В 1904 году в возрасте 22 лет Александр Трояновский вступил в социал-демократическую партию, примкнув к ее большевистской фракции. Почему именно большевистской? Впоследствии он объяснял, что для него это был вполне естественный поступок в силу его темперамента. Он видел, что большевики составляли наиболее боевитую часть российской социал-демократии. Ему представлялось, что в борьбе против мощного механизма самодержавного полицейского государства революционное движение могло преуспеть, только опираясь на сплоченную подпольную организацию с твердой дисциплиной.
В 1904 году, продолжая служить в армии, отец начал активно работать в Киевской организации Российской социал-демократической партии. Много лет спустя известный советский политический деятель Д. 3. Мануильский, который в те годы также принадлежал к киевской организации, рассказывал мне, что выступления отца перед солдатами производили большое впечатление, особенно когда он появлялся в офицерской форме. Офицер, произносивший революционные речи, – это для солдат было необычно и поэтому имело сильное воздействие. Можно только удивляться некомпетентности военной полиции того времени, которая не могла уследить за этим необычным офицером и арестовать его. Впрочем, бездарность российских силовых структур вскоре проявилась в гораздо более широком масштабе.
В апреле 1905 года подпоручик Трояновский был направлен в артиллерийскую часть, участвовавшую в боях с японскими войсками на сопках Маньчжурии.
Отец рассказывал, что их командующим был придворный генерал Николай Линевич. Он бросал против хорошо укрепленных японских позиций один полк за другим без какой-либо артиллерийской подготовки. Мой полковник, говорил отец, решил замаскировать наши батареи, как делали это японцы. Во время осмотра позиций Линевич обругал его за «трусость» и понизил в должности. А перед строем заявил, что храбрый офицер не прячется сам и не прячет свои орудия от противника.
Неудивительно, что русскую армию разбили в сражении под Мукденом, а флот почти полностью уничтожили в Цусимской битве. Война была проиграна – полностью и безоговорочно.
Отец участвовал в сражениях. Он был свидетелем ужасов войны. И с особой болью наблюдал, как героизм солдат и офицеров был не в состоянии спасти то, что терялось в результате бездарного командования, слабой огневой мощи, недостатка снаряжения, питания и многого другого. Для отца это была первая война. Ему предстояло принять участие в двух других – Первой мировой и Гражданской.
После окончания войны с Японией Трояновский был переведен в Четвертый Сибирский артиллерийский дивизион в Иркутске. Во время его пребывания там пошли слухи о возможном использовании армейских частей для массовых репрессий против растущего революционного движения. Молодой офицер ужаснулся при мысли, что и его части может быть приказано принимать участие в этих репрессиях. Именно тогда он пришел к решению о необходимости уйти в отставку из армии и полностью посвятить себя революционной деятельности.
Рапорт, который он подал командиру своего дивизиона, гласил: «Вслед за роспуском Государственной думы армия может быть брошена против народа для подавления в небывалых еще размерах силою оружия его стремления к лучшим формам государственной и общественной жизни, тогда как сама армия содержится на средства, собранные с народа, для него существует и интересам его только должна служить. Считая унизительным для своего достоинства, противным чести, совести и долгу перед родиной находиться при таких условиях в рядах армии, прошу ходатайствовать об увольнении меня от службы…»
К рапорту было приложено прошение на имя Николая II, где Трояновский писал, что «веление совести» лишает его возможности «при современных условиях и роли, какую играет в настоящее время армия» в российском государстве, продолжать службу. Он просил принять его отставку.
Прочитав этот рапорт, командир дивизии пришел в ужас. Он пытался отговорить молодого поручика, указывая на тяжелые последствия, которые его ждут, но тот был непреклонен. Рапорт пошел по инстанциям. 14 сентября 1906 года последовал приказ военного министра «об увольнении поручика Трояновского со службы и о предании его суду без производства предварительного следствия». 16 октября отставка была принята «высочайшим указом». Затем последовал военный суд, который вынес приговор о лишении «уволенного в отставку бывшего поручика Александра Трояновского всех прав офицера в отставке». Отныне он становился «неблагонадежным», или, как бы мы сказали сегодня, диссидентом.
После этого отец формально стал числиться сотрудником редакции леволиберальной газеты «Киевская мысль», где писал рецензии на музыкальные концерты. Газета служила ему крышей для революционной деятельности, а его знакомство с музыкой ограничивалось тем, что он познал, играя на кларнете в духовом оркестре кадетского корпуса. Чтобы хоть как-то заполнить пустоты своего музыкального образования, он обычно приглашал заезжего музыканта на обед накануне концерта и таким образом узнавал кое-какие сведения о музыке, которая должна была прозвучать на следующий день. Однажды очередной гастролер в последний момент изменил программу концерта, и это стало финалом карьеры молодого музыкального рецензента.
Осталась основная работа в военной организации Киевского комитета РСДРП. Работа по подготовке боевых дружин на случай вооруженного восстания. Отец говорил, что в то время он был занят с утра до вечера, распространяя нелегальную литературу, принимая участие в различных собраниях, выступая на митингах.
Тогда в Киеве Александр Трояновский познакомился с Еленой Федоровной Розмирович, на редкость красивой женщиной, несколькими годами моложе его. Вскоре они поженились. Она также стала профессиональной революционеркой, членом большевистской фракции социал-демократической партии.
Все опаснее и труднее стало вести нелегальную революционную работу. В нескольких случаях отец только чудом избежал ареста. И все же попался. В августе 1907 года в лесу около поселка Пуща-Водица состоялось собрание членов Киевской социал-демократической организации. Обсуждались вопросы, поставленные в программе Лондонского съезда РСДРП, тактика партии в связи с выборами в третью Государственную думу и другие партийные дела. Участники собрания были выданы провокатором. Большинство из них, в том числе и отец, были арестованы. Во время обыска на его квартире ничего не нашли. Была устроена очная ставка с солдатами, ожидавшими суда, но никто из них «не опознал» его, хотя все они прекрасно его знали. Пришлось отпустить за недостаточностью улик.
К тому времени Александр Трояновский начал серьезно заниматься литературной работой – писал статьи, брошюры, листовки. Полиция принимала все возможные меры, чтобы обнаружить типографию, где печатались эти материалы, а также журнал «Железнодорожный пролетарий». Позднее вместо него стал выходить журнал «Южный пролетарий». Распространяли эти материалы в основном молодые люди. Разумеется, они были движимы своими общественно-политическими идеалами. Но много лет спустя отец говорил, что одновременно их увлекала сама игра в кошки-мышки с полицией. Опасность этой игры в юном возрасте их особенно не беспокоила, наоборот, щекотала нервы, тем более что они были абсолютно убеждены в скором крахе царского режима.
Полиция продолжала интенсивные поиски, и 4 октября 1908 года начальник Киевского охранного отделения Кулябко смог доложить: «Сегодня в доме № 64 по Львовской улице арестовал на ходу нелегальную типографию Юго-Западного железнодорожного бюро, обслуживающую местный социал-демократический комитет, военную и студенческую организации и железнодорожный профессиональный союз».
Жандармы нашли в типографии множество рукописей. Эксперты по почеркам установили, что рукописи прокламаций и статей были написаны отцом, и он был арестован прямо на улице. И хотя ему удалось выбросить находившиеся при нем бумаги, все же на этот раз доказательств было и без того более чем достаточно.
Во время следствия, продолжавшегося несколько месяцев, отец содержался в киевской тюрьме, которая в то время называлась Лукьяновской. Политические заключенные и уголовники содержались в общих камерах. Уголовники иногда пытались помыкать политическими, заставляли выполнять различные унизительные поручения. Однако они быстро сбавляли тон, если им не давали спуску. Суд состоялся 23 и 24 февраля 1909 года. Трояновский был признан виновным и приговорен «к ссылке на поселение в местности, для того предназначенные, с праволишениями и последствиями по статьям 23, 25, 28–31 и 35 уголовного уложения». 28 июня 1909 года он был «отправлен в ведение Енисейской губернской тюремной инспекции с этапом». До Красноярска ссыльные ехали поездом. Затем арестованных сгруппировали в колонну, надели на руки и ноги кандалы и отправили по этапу в Енисейск, а оттуда в деревню Тиханово Бельской волости. Жить там было тяжело. Отсутствовала какая-либо торговля, не было ни школы, ни библиотеки – культурная пустыня. А в 1909 году пришла инструкция, согласно которой ссыльным запрещалось заниматься всякой работой, которая могла приносить хоть какой-то заработок. Это было мрачное, беспросветное существование.
К этому времени была арестована и Елена Розмирович, ее также отправили в сибирскую ссылку, правда, в другой район.
В один из ссыльных дней отец получил письмо от Абрама Френкеля, приятеля из Киева, который сначала был сослан в далекую деревеньку Енисейского края, но затем получил разрешение жить в самом Енисейске. Френкель решил пригласить отца погостить у него и получил разрешение на такую побывку. Жизнь в Енисейске была гораздо более свободная и в какой-то степени цивилизованная. Френкель даже ввел отца в дом губернатора, представив его в качестве репетитора математики для его детей.
Несколько позже появилась идея организовать побег отца за границу, где он мог продолжать революционную деятельность уже в качестве эмигранта. Подготовка побега заняла несколько месяцев. Наконец все было готово, отца снабдили соответствующими паролями и информировали о местах встречи на пути.
Из Енисейска Трояновский должен был выехать в коляске вроде как на прогулку, и только за городом надо было пересесть в возок. Побег не обошелся без приключений. На одной из улиц города навстречу ехал сам губернатор в своем экипаже. К счастью, беглец не растерялся: он привстал, приподнял фуражку. Губернатор, ничего не заподозрив, машинально ответил на приветствие. Доехав благополучно до Красноярска, отец отыскал аптеку, где в пачке горчичников он нашел билет на поезд. А парикмахер, который его брил, передал ему мешок с одеждой. Как видно, существовала налаженная система переправки беглецов из ссылки на волю. Тем не менее на одном из последних этапов побег чуть не сорвался. На перроне пограничной станции ему был передан паспорт на имя Гайдамовича. Когда поезд начал набирать скорость, в вагон вошел пограничник, начал собирать паспорта. Отец отдал ему свой и тут же спохватился, что начисто забыл новую фамилию. Положение казалось безнадежным. Офицер пограничной службы подходил по очереди к каждому купе, пассажиры называли ему свои фамилии и получали свои паспорта. Отец все же нашелся, он отошел в противоположный конец вагона и стал у окна рядом с купе проводника. Когда офицер подошел к нему, у него на руках оставался только один паспорт. Он открыл его, взглянул на отца, сверился по фотографии и, взяв под козырек, передал ему паспорт со словами: «Ваш паспорт, господин Гайдамович». Путь в Париж был открыт.
В Париже к отцу через некоторое время присоединилась его жена, которой также удалось бежать из ссылки и выехать из России. Можно только удивляться большому количеству побегов из ссылки в те последние годы царского режима. Наверное, это было одним из признаков его полного разложения.
В то время в Западной Европе жили тысячи российских политических эмигрантов. Женева, Цюрих, Париж, Вена, Лондон стали тогда основными центрами эмиграции. Эмигранты вели какой-то необычный образ жизни. Люди, политически активные на своей родине, здесь оказывались полностью отторгнутыми от своей естественной среды. И потому свободное время заполнялось бесконечными теоретическими спорами, склоками и ссорами. Некоторые вообще отворачивались от политики и погружались в состояние прострации и апатии. Или с головой замыкались в сугубо личную жизнь.
По приезде в Париж Александр Трояновский посетил Плеханова. Георгий Валентинович предложил ему прийти в 6 часов вечера. Когда отец нажал на звонок без пяти минут шесть, открывшая ему девушка сказала, что Плеханова нет дома. Это его не удивило, так как хозяин дома был известен своей пунктуальностью и стремлением приучить к этому и других. Поэтому он вернулся через пять минут и ровно в шесть снова нажал на звонок. На этот раз дверь открыл Павел Аксельрод, который встретил гостя весьма приветливо, проводил его в комнату, где находился Плеханов. Было видно, что в этом доме все с большим благоговением относились к патриарху марксистской мысли в России. Когда они проходили через комнату, до потолка заставленную книгами, Аксельрод сделал широкий жест в сторону всех этих полок и произнес: «Жорж все это читал!» Беседа с Плехановым прошла интересно, с пользой для молодого эмигранта. Но его несколько поразило, что Георгий Валентинович не говорил, а как бы вещал с высоты своего величия. Это был не разговор по душам, на что рассчитывал отец, а лекция, с которой он ушел со смешанными чувствами.
Другое дело Ленин, с которым у отца установились тесные отношения. Это был очень живой, общительный, динамичный человек, у которого энергия буквально била через край. При первом знакомстве он засыпал отца градом вопросов о положении в России. Но он мог и слушать внимательно – качество, нередко отсутствующее у людей вождистского масштаба.
Несколько позднее отец обратил внимание на некоторые другие ленинские качества. Среди них была тенденция увлекаться полемикой. В этих случаях Ленин готов был применять и непарламентские выражения и наносить удары ниже пояса: когда ввязываешься в драку, палки не выбираешь. Ленин был хорошим, можно даже сказать, первоклассным оратором. Но это была не французская школа ораторского искусства, с ее округлыми фразами и несколько претенциозными, а иногда даже напыщенными выражениями. Нет, это было нечто гораздо более простое, но более логичное и мощное, пожалуй даже властное.
Был и недостаток: звуки ленинского голоса были приглушенными, особенно на открытом воздухе. Отцу довелось присутствовать на похоронах дочери Карла Маркса Лауры и ее мужа Поля Лафарга, которые заключили своего рода пакт – уйти из жизни в 70 лет, потому что им казалось, что они не смогут полезно трудиться в более преклонном возрасте. И оба покончили счеты с жизнью одновременно. Похороны состоялись в Париже в октябре 1911 года. Попрощаться пришли огромные толпы людей. Ленина почти не было слышно. Он оказался в невыгодном положении еще и потому, что выступал сразу после Жана Жореса, лидера французских социалистов, обладавшего исключительно мощным голосом. В то время микрофоны еще не были изобретены, и ораторы должны были полагаться на силу своих голосовых связок.
Трояновские сблизились и с членами семьи Ленина. Я слышал от отца немало забавных историй о них. Например, о матери Надежды Константиновны Крупской, Елизавете Васильевне. Она жила со своей дочерью и зятем и переезжала с ними с места на место, из одного города в другой. Ленин с большим вниманием и уважением относился к своей теще, заботился о ней, бегал покупать для нее курево – она много курила. Елизавета Васильевна мало разбиралась в политике и не интересовалась ею. Иногда она говорила: «Конечно, Володя очень хороший человек, но все-таки жалко, что Надя не вышла за того почтового служащего. Может быть, тогда бы мы не жили, как бродяги». История не донесла до нас, кто был этот почтовый служащий.
Ленину было свойственно по-человечески привязываться к людям, причем иногда эта приязнь сохранялась до конца жизни. Такой, например, была его привязанность к Плеханову и Мартову, несмотря на то что как с тем, так и с другим он полностью разошелся в политике. Отец вспоминал, что после IV съезда РСДРП 1906 года, получившего название Объединительного, Ленин, говоря о своих отношениях с Плехановым, любил повторять французскую поговорку: «On revient toujour a son premier amour», то есть «Всегда возвращаешься к своей первой любви». Другой пример: Монтегюз, французский шансонье, который исполнял в рабочих кварталах Парижа сочиненные им самим революционные песни. Много лет спустя отец все еще помнил одну песню, которую любил Ленин, о солдатах французского полка, отказавшихся стрелять в бастующих рабочих: «Salut, salut a vous, les braves soldats de dix-septieme».
Увлекался Ленин шахматами, велосипедом, прогулками в горах. Эти увлечения разделял и отец.
В июне 1913 года Ленин с Крупской должны были переехать из Кракова, недалеко от которого они жили, в Берн, где Надежде Константиновне должны были сделать операцию по поводу базедовой болезни. По пути в Швейцарию они на пару дней остановились в Вене и жили в квартире Трояновских, которую те сняли по приезде из Парижа. Отец предложил им посетить Венскую картинную галерею и музей Лихтенштейна. Оказалось, что гости очень интересовались изобразительным искусством. Одним из любимых живописцев Владимира Ильича был великий фламандец Питер Пауэл Рубенс. Отец вспоминал, что Ленин останавливался почти перед каждым его полотном, рассматривая различные детали картины. Значительно позже, в 1934 году, отец написал статью, опубликованную в «Известиях», о вкусах Ленина в области живописи, которая была одобрена Крупской. По-видимому, этот интерес к Рубенсу объяснялся тем, что его четкие образы, яркий колорит, уверенная, свободная манера письма были каким-то образом созвучны натуре Ленина.
Ленин, несомненно, оказал большое влияние на Александра Трояновского, особенно в первые годы их знакомства, когда отец все еще был молодым человеком и не мог не находиться в сфере притяжения такой харизматичной личности, как Владимир Ильич.
По словам отца, ленинская притягательность не исчезала даже на отдыхе, в моменты расслабления. Когда эмигранты собирались в каком-нибудь парижском или женевском кафе, присутствующие, как правило, группировались вокруг Ленина, как будто их притягивал магнит. Эта сила притяжения распространялась даже на официанток, хотя при самой богатой фантазии Ленина нельзя было назвать видным мужчиной. Очевидно, он заряжал окружающих своей колоссальной энергией, которая, в свою очередь, вытекала из его неукротимой целеустремленности, целиком отданной служению революции. И здесь благие намерения переходили в свою противоположность: цель для него нередко оправдывала средства. А средствами могли стать и люди, во имя которых делалась революция. Ленин далеко не был святым, каким его изображали долгие годы. Но и злодеем – тоже. Истории еще предстоит дорисовать его истинный портрет.
В январе 1913 года Трояновские отправились в Краков, в ту часть Польши, которая была аннексирована Австро-Венгрией. Здесь состоялась конференция партийных работников под председательством Ленина, который предложил начать издание легального ежемесячника под названием «Просвещение». Отец стал членом заграничной редакции нового журнала.
Крупская писала в своих воспоминаниях: «…Владимир Ильич возлагал большие надежды на Трояновских. Трояновская Елена Федоровна (Розмирович) собиралась в Россию. Говорили о необходимости издания при «Правде» целой серии брошюр. Планы были широкие».
В январе 1913 года Ленин писал Максиму Горькому: «…Товарищ, который перешлет Вам это письмо, – живущий теперь в Вене Трояновский. Он с женой взялся энергично за «Просвещение», раздобыл малую толику деньжонок, и мы надеемся, что благодаря их энергии и помощи удастся поставить марксистский журнальчик против ренегатов ликвидаторов. Думаю, и Вы не откажете помочь «Просвещению».
Отец очень серьезно отнесся к новой работе. Он помогал находить статьи и информацию для публикации. Сам писал для ежемесячника, заботился о том, чтобы между Веной и Россией, где он печатался, поддерживалась постоянная связь. В 1913 году ежемесячный тираж вырос с трех до пяти тысяч, что по тем временам было очень солидно.
Горький согласился редактировать литературный раздел. Эта новость обрадовала Ленина. В феврале 1913 года он писал Горькому: «Трояновскому и его жене напишу про Ваше желание свидеться. Это было бы в самом деле хорошо. Они люди хорошие…»
По мере того как росли влияние и популярность журнала, росло и раздражение полиции и цензоров. В июне 1914 года «Просвещение» было запрещено властями.
Трудности в распространении партийной литературы причиняли постоянную головную боль Ленину и его сторонникам. Главными из них были цензура и полиция, а также нехватка средств. В этой связи отец любил вспоминать эпизод, который ему представлялся довольно забавным, особенно в свете его последующей карьеры. Однажды Ленин сообщил ему, что имеется острая необходимость издать сборник статей, но не ясно, как это можно сделать по причине полного отсутствия денег в партийной кассе. Поразмыслив, он предложил обратиться к Давиду Борисовичу Рязанову, человеку со средствами, участвовавшему в революционном движении, но не входящему в то время в РСДРП. На замечание отца, что тот вряд ли согласится тратить свои деньги на публикацию большевистской литературы, Ленин посоветовал привлечь его предложением написать предисловие к сборнику. Описав в ярких тонах, до каких высот поднимется престиж несговорчивого издателя, если его предисловие украсит столь важный сборник, отец в конце концов уговорил Рязанова. Ленин был очень рад этому успеху, но потом, подумав, сказал: а зачем, собственно говоря, нам его предисловие. Сходите к нему еще раз и попробуйте уговорить, чтобы он дал деньги без предисловия. Отец снова отправился к Рязанову и стал долго объяснять ему, что он может оказаться в неловком положении, если его предисловие окажется в сборнике статей авторов-большевиков. В конечном итоге отцу удалось, к своему большому удивлению, получить согласие на финансирование сборника без предисловия издателя.
Узнав об этом, Ленин воскликнул: «Так вы, оказывается, настоящий дипломат!» Эти слова оказались пророческими.
Конец декабря 1913 года. Отец, его жена и ее маленькая дочь от предыдущего брака живут в Вене в доме номер 30 по Шенбрюннер-Шлосс-штрассе. На этом доме и сегодня висит мемориальная доска, извещающая, что там пребывал некоторое время… нет, не Александр Трояновский с семьей, а человек, который постучался в дверь его квартиры в тот холодный декабрьский день и с сильным грузинским акцентом представился как Иосиф Джугашвили.
Появление Сталина на пороге квартиры Александра Трояновского не было неожиданностью: Ленин заранее предупредил его о приезде в Вену «одного чудесного грузина». Хозяева встретили гостя как можно радушнее, поместили в отдельной спальне, благо квартира была достаточно просторная. В целом Трояновские, как отец позднее рассказывал, не бедствовали в эмиграции. Он неплохо зарабатывал, давая уроки детям русских богачей, и оба они, особенно Елена Федоровна, получали деньги от родных из России. Их гость показался им несколько мрачноватым и мало общительным, но объясняли это тем, что ему, быть может, впервые пришлось жить в интеллигентной семье. И действительно, через некоторое время он как бы раскрепостился, привык к новой обстановке. И даже стал довольно приятным собеседником.
Сталин приехал в Вену, чтобы в спокойной обстановке поработать над книгой по национальному вопросу. А поскольку он не знал иностранных языков, то было договорено с одним русским студентом, который жил в то время в Вене, что тот будет брать из библиотеки необходимые книги и переводить нужные отрывки. А Трояновские и Николай Бухарин, который также находился в то время в Вене, в случае необходимости могли оказывать гостю консультативную помощь.
Работа Сталина по национальному вопросу была опубликована в 3-м, 4-м и 5-м номерах журнала «Просвещение». А тем нескольким неделям, которые он провел в Вене, суждено было сыграть решающую роль в жизни Александра Трояновского.
В Вене жил и Троцкий. У отца с ним никогда не было взаимной симпатии. Отец считал Троцкого человеком хотя и способным, но склонным к авантюрам и очень себялюбивым, «настоящей примадонной», как он любил говорить.
Между тем в том же 1913 году заметно испортились отношения отца с Лениным. Отправной точкой послужило небезызвестное дело Романа Малиновского, который, как выяснилось, был агентом царской охранки. Отец оказался непосредственно причастным к его разоблачению.
В те годы провокаторство создавало большие проблемы для революционного движения в России. Согласно последним подсчетам, только в среде большевиков, меньшевиков и эсеров (правых и левых) действовало свыше двух тысяч штатных секретных сотрудников. Дело Малиновского стало одним из самых нашумевших, поскольку он был депутатом Четвертой Государственной думы, членом ЦК партии, одним из ее видных деятелей.
Услуги Малиновского департаменту полиции были значительными. Он сообщал важную информацию о руководящих органах большевиков, приносил письма Ленина, Крупской, Зиновьева. Ему даже удалось передать архив думской фракции большевиков и список подписчиков «Правды». Он выдал полиции ряд видных большевиков-нелегалов.
Александр Трояновский был одним из первых, у кого зародились подозрения относительно истинного лица Малиновского. Эти подозрения разделялись Еленой Розмирович, Николаем Бухариным и некоторыми другими. В то же время безупречных доказательств вины Малиновского не было. Скорее, это были догадки, основанные на его поведении, манере держаться и т. д. То, что отец считал наиболее убедительной уликой, было связано с поездкой Елены Розмирович в Россию весной 1913 года, когда она получила от Центрального комитета ряд важных поручений, о которых знал и Малиновский. В Киеве она была арестована. Из тюрьмы ей удалось переправить отцу письмо, в котором она писала, что его подозрения в отношении Малиновского имеют веские основания и подтверждаются многими ставшими ей известными фактами. После этого отец направил своему брату в Россию письмо обычной почтой, в котором высказал свои соображения по поводу провокаторской деятельности «одного видного члена партии». В письме, которое конечно же было прочитано в полиции, говорилось, что если Розмирович не будет немедленно освобождена, то это послужит доказательством виновности указанного лица.
В своих показаниях Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства в 1917 году директор Департамента полиции С. П. Белецкий, который «вел» Малиновского, довольно подробно остановился на этом эпизоде. Он сообщил, что Малиновский был напуган намеками Трояновского и настоял на освобождении Розмирович, хотя, по мнению Белецкого, в интересах самого Малиновского следовало не освобождать Розмирович, а продолжать ее судебное преследование.
Очевидно, Белецкий разгадал игру отца. В ходе своих показаний он высказал следующее мнение об Александре Трояновском: «…Трояновский меня в ту пору очень интересовал, я собирал о нем много сведений через Малиновского и агентуру, с большим вниманием читал то, что он писал для думских выступлений, в особенности по бюджету, следил за его перепиской, видел в нем убежденного противника, умного и вдумчивого человека, который, как я предполагал, в будущем должен был от Ленина отколоться. Осуществилось ли мое предположение или нет, я не знаю, но я такое впечатление выносил из всего того, что ко мне поступало в качестве материала, обрисовывавшего личность г. Трояновского».
Отец воспринял освобождение своей жены как подтверждение виновности Малиновского и принялся вместе с некоторыми другими членами партии требовать официального расследования его деятельности. Между тем Ленин и ряд лиц из его ближайшего окружения продолжали верить в невиновность Малиновского. Как уже говорилось выше, у Ленина была склонность привязываться к людям, которые ему нравились, и в этих случаях он готов был не замечать их отрицательных качеств. В данном случае он видел в Малиновском, который выдвинулся из рабочей среды и, безусловно, обладал немалыми талантами, идеального вожака рабочих.
Все же под давлением многих членов партии, среди которых отец был наиболее активным, Ленин был вынужден создать партийную комиссию, в которую вошел и сам, для расследования дела Малиновского. Однако при отсутствии каких-либо очевидных доказательств в его виновности комиссии не составило большого труда отклонить все подозрения и объявить Малиновского невиновным.
Отец вспоминал потом, что вся эта история напрочь испортила его отношения с Лениным, который не любил, когда ему перечили. Он стал смотреть на отца как на склочника или интригана. Существует несколько писем Ленина, в которых употребляются именно эти термины в адрес отца, а то и похуже, все из-за того же Малиновского. А некоторые лица из его ближайшего окружения реагировали еще более бурно. Инесса Арманд, например, буквально наскакивала на отца с кулаками: как вы смеете клеветать на такого замечательного человека, как Малиновский!
Н. К. Крупская в своих воспоминаниях о Ленине довольно подробно высказывается о деле Малиновского. Она пишет, например, следующее: «Владимир Ильич считал совершенно невероятным, чтобы Малиновский был провокатором. Раз только у него мелькнуло сомнение. Помню, как-то в Поронине, когда мы возвращались от Зиновьевых и говорили о ползущих слухах, Ильич вдруг остановился на мостике и сказал: «А вдруг правда?» И лицо его было полно тревоги. «Ну что ты», – ответила я. И Ильич успокоился… Больше у него не было никаких колебаний в этом вопросе».
Все прояснилось самым неожиданным образом. Новый вице-министр внутренних дел генерал Джунковский был шокирован, узнав, что депутат Думы от оппозиционной партии – полицейский агент. Опасаясь скандала, он приказал ему сложить полномочия депутата и покинуть страну. Но, даже убедившись в вине Малиновского, Ленин постарался преуменьшить значение этого дела. В своих показаниях Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства он высказал предположение, что Малиновский принес больше пользы революционному движению, чем властям. Согласно его аргументации полиция, дабы замаскировать провокаторскую деятельность своего агента, вынуждена была разрешить ему активно выступать в Думе, писать статьи для «Правды» и т. д. Таким образом, утверждал Ленин, полиция невольно помогала большевистской партии вести революционную антиправительственную деятельность. Довольно сомнительная аргументация.
После революции Малиновский добровольно сдался советским органам, был отдан под суд и расстрелян.
Следующее расхождение между Лениным и отцом произошло вскоре после начала Первой мировой войны, на сей раз уже по политическим мотивам. Ленин написал прокламацию, призывающую солдат протестовать против войны, не идти на фронт и нападать на офицеров. Ознакомившись с проектом прокламации, отец стал возражать, особенно против последних слов. Он обратил внимание Ленина на то, что большинство офицеров во время войны – не профессиональные военные, а гражданские лица, призванные в армию. Это учителя и врачи, инженеры и писатели, актеры и художники с различными политическими взглядами. Поэтому призыв нападать на них был бы политической ошибкой. После короткого спора Ленин согласился, хотя и в данном случае было видно, что он без восторга воспринимал такого рода замечания.
Но это были лишь авангардные стычки, окончательная размолвка произошла несколько позже, когда война была в полном разгаре. Суть спора заключалась в отношении социал-демократов к своим правительствам в этой войне. Социал-демократические партии подавляющего большинства стран проголосовали за поддержку своих правительств. С точки зрения Ленина, долг социал-демократов состоял в выдвижении лозунга борьбы с собственным правительством. Он исходил при этом из лозунга Маркса и Энгельса о том, что пролетарии не имеют отечества.
Александр Трояновский отказался поддержать крайнюю позицию Ленина и его сторонников, полагая, что необходимо обороняться против Германии как самой сильной империалистической державы. В то же время он не присоединился к какой-либо другой из существовавших в то время за границей политических групп.
Отношение Ленина к тем, кто занимал такую позицию, было категорически отрицательным. В одном из писем Инессе Арманд, рассказывая о своей беседе с крестьянином из Воронежа, бежавшим из немецкого лагеря для военнопленных и оказавшимся в Швейцарии, он писал: «Насчет защиты отечества наш воронежец – как Трояновский и Плеханов. Сочувствует социализму, но «ежели немец прет, как же не защищаться?»
Это было тяжелое для революционеров время. В результате политических раздоров старые друзья становились врагами и даже разрывались супружеские узы. Примерно в это же время разошлись и Александр Трояновский с Еленой Розмирович. Мне не известны причины развода, отец не любил говорить об этом. Но не исключено, что среди причин были и политические расхождения. Елена Федоровна осталась твердой последовательницей Ленина, занимала различные высокие посты в послереволюционный период. Она вышла замуж за Николая Крыленко, первого после прихода коммунистов к власти главнокомандующего российской армии, а позднее народного комиссара юстиции Советского Союза. Он был арестован и казнен в 1938 году во время сталинских репрессий. Елена Розмирович развелась с ним за несколько лет до этого и вышла замуж за врача, который был на много лет моложе ее. Это был ее четвертый муж.
После свержения монархии отец вернулся в Россию и немедленно вступил в армию. Участвовал в военных действиях на Юго-Западном фронте. Был свидетелем прогрессирующего процесса политизации и деморализации армии. Крестьяне, которые составляли подавляющую часть солдат, просто не понимали, ради чего они воюют. Они думали больше о своих семьях, избах, об урожае, который остался неубранным.
Вспоминая об этом периоде, отец часто возвращался к вопросу о неотвратимости развала армии и о своих тщетных попытках остановить этот процесс. Однажды ему удалось убедить целый армейский корпус не покидать своих позиций, что привело бы к фактическому открытию фронта. При этом, по его словам, ему пришлось состязаться в ораторском искусстве с несколькими большевистскими агитаторами. В тот раз ему удалось одержать верх. Но в целом это была безнадежная борьба, объективные обстоятельства содействовали большевистскому радикализму.
А отец к тому времени (сентябрь-октябрь 1917 года) полностью примкнул к меньшевикам и даже вошел в состав их Центрального комитета, хотя по ряду параметров он по-прежнему сочувствовал большевикам. В ноябре 1917 года его избрали в Учредительное собрание, и он участвовал в его первом и единственном заседании 5 января 1918 года. Основным содержанием его выступления была проблема войны и мира. В этот момент велись переговоры о мире в Брест-Литовске, и он резко критиковал позицию российской делегации на этих переговорах, обвиняя ее в сговоре с немецким империализмом. Такая направленность его выступлений была, конечно, не случайной, так как именно проблема войны и мира была главной причиной его разрыва с Лениным.
Отец вспоминал, что в ходе своего выступления он постоянно получал записки от своих коллег с просьбой продолжать как можно дольше, то есть устроить своего рода «филибастер», как такой парламентский прием называют в Соединенных Штатах. Были обоснованные опасения, что новое правительство распустит Учредительное собрание. Поздно вечером оно так и поступило под предлогом, что Учредительное собрание отказалось признать указы, изданные большевистским правительством после Октябрьской революции.
Некоторые историки склонны считать разгон Учредительного собрания отправным моментом, от которого стрелки революционного барометра были переведены на «бурю». Они полагают, что, если бы в тот момент большевики и левые эсеры, с одной стороны – и какая-то часть правых эсеров и меньшевиков – с другой, нашли общий язык, революция могла бы развиваться иным, более мирным путем: без крови, страданий и гражданской войны. Но отец рассказывал, что при полном отсутствии доверия как с той, так и с другой стороны никто тогда не был склонен идти на компромисс. Эсеры и меньшевики уверовали в то, что большевистский эксперимент обречен на короткую жизнь. Большевики же, взяв власть в свои руки, пребывали в состоянии политической эйфории и не склонны были делить ее с кем-либо, особенно теперь, когда политические ветры стали дуть в их паруса.
Так что вряд ли Учредительное собрание в тот момент могло привести к какому-либо позитивному результату.
Вскоре разразилась Гражданская война со всеми ее жестокостями, совершенными обеими сторонами. Подчеркиваю: обеими. Нашим историкам никак не удается нарисовать объективную картину содеянного. Прежде, во времена коммунистического правления, считалось, что все зверства совершались белогвардейцами, в то время как Красная армия состояла из сплошных ангелов! Теперь некоторые историки и политики шарахнулись в другую сторону. Вопреки всем фактам они изображают дело так, будто зверствовали большевики, а деникинцы, колчаковцы и прочие были кроткими агнцами.
Российское общество в ту пору раскололось на две полярные части, раскол был настолько глубоким, что для какого-либо центра места не оставалось. Отец рассказывал, что поначалу меньшевики, правые эсеры и даже либеральная часть кадетов пытались играть роль третьей, демократической силы, но очень быстро обанкротились. Ни одна из таких попыток не увенчалась успехом.
Так, 8 июня 1918 года вооруженные отряды, созданные эсерами, вместе с чехословаками вошли в Самару и создали там квазиправительство под названием Комитет членов Учредительного собрания. Позднее это правительство было преобразовано в Директорию с участием эсеров и кадетов, которая, однако, продержалась недолго. 18 ноября 1918 года она была разогнана офицерами из армии Колчака при помощи тех же чехословаков.
Еще более печальная судьба постигла другой подобный орган, также созданный эсерами, а именно Съезд членов Учредительного собрания. Этот съезд также был разогнан колчаковцами. При этом большую часть его участников в кандалах отправили в Омск, где зверски уничтожили. Сам лидер эсеров В. М. Чернов с трудом избежал гибели от рук белых офицеров. Оставшиеся на свободе после разгрома Директории и съезда представители партии эсеров на совещании 5 декабря 1918 года приняли постановление прекратить вооруженную борьбу с большевиками и все силы направить против Колчака. Как видно, Колчак не церемонился с представителями демократических партий, которые для него и его белогвардейского офицерства были такими же врагами, как и большевики. Действовал железный принцип: кто не с нами, тот против нас.
Не выдерживают критики и рассуждения некоторых историков о якобы цивилизаторской роли Антанты, котораяде вмешалась в дела России с целью помочь ее демократизации и умиротворению. На самом деле цель союзников была совсем иной. Керенский в своих воспоминаниях пишет, что когда он добрался до Парижа и встретился там с руководителями Антанты, то понял, что их вовсе не интересовали российские демократы. Всю ставку Антанта делала на монархическое офицерство и на военную диктатуру.
В Париже видный французский деятель Альбер Тома рассказал Керенскому об истинных планах союзников в отношении России. Оказывается, еще в конце 1917 года представители французского и английского правительств (лорд Мильнер и лорд Роберт Сесиль с английской стороны и Клемансо, Фош и Пишон с другой) заключили тайную конвенцию о разделе сфер влияния в западных районах «бывшей Российской империи». Согласно этой конвенции, сразу же после победы в войне балтийские провинции и прилегающие к ним острова, а также Кавказ и Закаспийская область должны были войти в английскую зону, а Франция получала такие же права на Украину и Крым.
Этим планам не суждено было сбыться. Не смог расколоть нашу страну впоследствии и Гитлер. А вот нам самим это удалось, я имею в виду политическое харакири в Беловежской Пуще.
Вернусь к нашей семейной хронике. Отец в то сложное время присоединился к меньшевистской фракции, во главе которой стоял Юлий Мартов. Они назывались меньшевиками-интернационалистами. Это была самая левая из меньшевистских фракций и самая близкая к большевикам.
Члены этой фракции выступали против монархистов и белогвардейцев всех мастей. Они также протестовали против вмешательства Антанты в российские дела. Заявление, опубликованное 27 июня 1919 года за подписью группы членов меньшевистского Центрального комитета, в их числе и отца, содержало призыв к социалистическим партиям союзных стран воздействовать на свои правительства с целью прекращения какой-либо поддержки колчаковскому режиму, который был охарактеризован как крайне правый, террористический. В начале 1920 года меньшевики и эсеры объявили всеобщую мобилизацию всех своих членов на борьбу против белогвардейцев.
В обращении 3 марта 1921 года, озаглавленном «Всем социалистическим партиям, всем трудящимся – мужчинам и женщинам», меньшевистский Центральный комитет призвал рабочий класс не стремиться свергнуть советскую власть, а вести дело к изменению ее ошибочной политики, роковой для дела революции. При этом рабочих предостерегали против каких-либо совместных действий с представителями тех общественных классов и групп, которые вели вооруженную борьбу против советской власти, чтобы вновь надеть хомут на трудящихся.
Я пишу об этом для того, чтобы показать, что ситуация в то время была отнюдь не такая ясная и однозначная, как ее описывали некоторые публицисты и историки как правого, так и левого направления. Следует учитывать также, что меньшевики во многом были движимы инстинктом самосохранения. Они понимали, что в случае победы монархической реакции их ждет уничтожение. В то же время они продолжали критиковать советскую власть за преследования и аресты политических противников, подавление личных и социальных свобод и многое другое.
Что касается политической линии в отношении меньшевиков и эсеров, которой придерживалось правительство и большевистская партия, то эта линия постоянно видоизменялась: на некоторых этапах нажим усиливался, применялись различные меры пресечения, включая тюремное заключение. При иных обстоятельствах давление уменьшалось, и между двумя сторонами даже завязывались переговоры.
Так, 14 июня 1918 года ЦИК принимает решение исключить меньшевиков из Советов, 30 ноября отменяет это решение. 25 февраля 1919 года ЦИК восстанавливает политические права эсеров, но предупреждает, что репрессии будут вновь применены «в отношении всех группировок, которые прямо или косвенно поддерживают внешнюю или внутреннюю политику контрреволюции». 17 июня 1919 года Юлий Мартов вступает в контакт с Львом Каменевым относительно условий, при которых меньшевики будут готовы работать в различных советских экономических учреждениях. В декабре 1920 года меньшевики и эсеры даже участвовали в VIII съезде Советов и выступали там, а Мартов был избран членом ВЦИК и депутатом Моссовета.
Жизнь отца в этом году была крайне нестабильна. Дважды он подвергался арестам. В первый раз это произошло в июле 1918 года, когда он и несколько его коллег по партии были заключены в Бутырскую тюрьму и содержались там до октября. Ходили даже слухи, что их намерены расстрелять или уже расстреляли. На самом деле это было даже не наказание, а скорее своеобразный метод, при помощи которого те или иные личности из чужого лагеря на время выводились из политической игры. Хотя метод был отнюдь не парламентский.
Вторично Александр Трояновский был арестован в сентябре 1920 года и содержался в тюрьме в течение одного месяца. Моя мать впоследствии рассказывала мне, как она ходила со мною (в то время годовалым ребенком) на руках к воротам Бутырской тюрьмы с передачами для отца. Сам он в своих рассказах не любил распространяться об этом периоде своей жизни. Но из того, что я от него все-таки узнал, складывалось впечатление, что он воспринимал свои аресты философски, как нечто естественное для того революционного времени. Впрочем, думаю, если бы его жизнь сложилась более трагично, он оценил бы свои взлеты и падения по-иному, более эмоционально.
Раз уж я упомянул о себе годовалом, считаю уместным сказать несколько слов о семейных обстоятельствах после развода отца с Еленой Розмирович. Спустя четыре года он женился на моей матери, Нине Николаевне Поморской. Она так же, как и он, происходила из военной семьи. Ее отец, полковник царской армии, погиб на фронте в самом начале мировой войны. Мать была полькой, и, когда в 20-х годах советская власть предоставила право репатриации лицам нерусской национальности, она с двумя сыновьями уехала в Польшу. Один из них был убит, находясь в отрядах, которые пытались сорвать переворот Юзефа Пилсудского, другой рано умер от скарлатины. Все три дочери остались в России.
Я родился в ноябре 1919 года. Это, прямо скажем, было не лучшее время производить на свет детей. В стране был голод, свирепствовали эпидемии. Тем не менее мне удалось вырасти без существенных физических изъянов.
Жизнь в те первые годы после революции была крайне запутанной. В качестве иллюстрации скажу, что мой отец не только проводил время в тюрьмах и был деятелем меньшевистской партии. Начиная с 1919 года он также служил в рядах Красной армии в качестве руководителя школы старших инструкторов запасной тяжелой артиллерийской бригады. Это была его третья война, хотя на этот раз он уже не принимал непосредственного участия в военных действиях. В свободное время, когда отец не был занят обучением молодых красноармейцев артиллерийскому делу, он работал в Главном управлении по архивным делам.
Постепенно вместе с некоторыми из коллег по партии он начал отходить от меньшевиков. Впоследствии он так объяснял этот свой отход. Основная политическая причина, подтолкнувшая его на разрыв с Лениным в 1915 году, отошла вместе с пораженческими лозунгами в прошлое. Новая власть доказала, что она способна защитить страну от любых врагов. А после того как в начале 20-х годов была разработана и введена новая экономическая политика, между отцом и большевиками не осталось практически никаких расхождений и в экономической области. Что же касается репрессий, то он всегда считал некоторые репрессивные меры необходимыми, особенно в первые годы после революции. Кроме того, отец был сыт по горло постоянными перебранками в среде меньшевиков и в конце концов пришел к выводу, что в обозримом будущем у социал-демократов нет перспектив в России. Он понял, что главным для страны стала практическая работа восстановления и развития ее хозяйства. Теперь только эта работа могла принести ему удовлетворение.
Но было еще одно обстоятельство, которое дало импульс возвращению отца к большевикам и, более того, в немалой степени определило его будущую судьбу. Как-то зимой, в начале 1921 года, он шел по Ильинке. Темнело, и бушевала метель. Вдруг кто-то обхватил его сзади со словами: «Ну что, друзья мы или враги?» Отец обернулся: перед ним стоял Сталин, который тут же предложил зайти к нему на квартиру. «Надо поговорить», – сказал он. Это было время, когда даже большие руководители – а Сталин к тому времени уже стал Генеральным секретарем партии – ходили по улицам без охраны и без сопровождения. К сожалению, отец никогда не рассказывал мне подробности той беседы, состоявшейся на квартире у Сталина. Но 1921 год был особенно тяжелый для советской власти. По-видимому, руководство в Кремле решило попробовать еще одну комбинацию с меньшевиками. Для этого вряд ли можно было найти более подходящего посредника, чем Александр Трояновский, который в то время находился где-то на перепутье между меньшевиками и большевиками.
Вот что писал об этом эпизоде издававшийся в эмиграции «Социалистический вестник» и П. Н. Милюков в своих воспоминаниях: «В частных беседах Сталин еще в 1921 году считал дело социалистического строительства в России бесповоротно проигранным. Тогда он прямо заявлял, что компартия не может взять на себя работу по восстановлению буржуазного строя в России, и предлагал передать власть какой-нибудь другой группе. Тогда он с благословения Ленина делал даже конкретные шаги в этом направлении».
А вот из воспоминаний Павла Милюкова – одного из лидеров кадетской партии: «По нашим сведениям из вполне достоверного источника, такие переговоры с меньшевиками действительно велись незадолго до нэпа. Для переговоров с меньшевиками Сталин избрал Трояновского, своего многолетнего близкого друга и видного члена компартии, перешедшего к меньшевикам после Октябрьского переворота и бывшего членом меньшевистского ЦК. Сталин через него предложил меньшевикам войти в правительство. Получив доказательства полномочий Сталина, Трояновский заявил ему, что меньшевики не войдут в правительство, пока не будет ликвидирован «социалистический эксперимент». Сталин отвечал, что необходимость такой ликвидации не вызывает сомнений, что и сам Ленин совершенно убежден в этом и весь вопрос – в методах и темпе ликвидации, так как спуск невозможен без тормозов. Сталин спрашивал при этом Трояновского, что, по его мнению, должно было быть предпринято в первую очередь. Трояновский набросал проект декрета о продналоге (получивший впоследствии осуществление) и наметил другие меры, составившие частично содержание нэпа. Ленин горячо стоял за соглашение, но наткнулся на оппозицию, с которой не мог совладать. Со своей стороны ЦК меньшевиков, в лице сидевшего в тюрьме Дана, предъявлял политические требования («демократия»). Переговоры оборвались».
В этих цитатах, несомненно, много неясного и даже сомнительного. Можно полагать, что в данном случае под термином «социалистический эксперимент» имелась в виду политика, проводившаяся советской властью во время Гражданской войны, которая теперь обычно называется военным коммунизмом. Тогда была национализирована вся тяжелая и средняя промышленность и большинство мелких предприятий, произведена максимальная централизация промышленного производства и распределения, была запрещена частная собственность, введена всеобщая трудовая повинность, уравнительность в оплате труда.
Так или иначе, этот эпизод, насколько мне известно, никогда не был глубоко исследован нашими или иностранными историками. А между тем он интересен хотя бы тем, что дает представление о сложности тогдашней политической ситуации в России, которая оказалась на перепутье исторических дорог. Не ясно так же, почему эти встречи между отцом и Сталиным, если они действительно касались возможности вхождения меньшевиков в Советское правительство, не привели ни к каким результатам.
Для меня ясно одно: для нашей семьи они имели самые серьезные последствия. После длительного лихолетья, которое можно сравнить только с приключенческим романом (три революции, три войны, три ареста противоположными режимами, членство в двух партиях), жизнь отца, а следовательно, и всей семьи приобрела относительную стабильность.
В 1923 году отец обратился к XII съезду ВКП(б) с просьбой о приеме его в партию. Характерным для того времени было отсутствие в его заявлении каких-либо признаний в прошлых грехах, какого-либо битья себя в грудь, каких-либо заверений в верности делу коммунизма. Это было вполне деловое, я бы сказал, прозаическое заявление, по которому было принято решение принять А. А. Трояновского в партию без кандидатского стажа.
После этого отец стал довольно быстро продвигаться вверх по служебной лестнице. Это неудивительно, так как новая власть испытывала серьезную нехватку в опытных, высокообразованных людях. К тому же Сталин как бы взял его под свое покровительство, отец был назначен начальником торгово-промышленной инспекции, одного из важнейших подразделений в Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции. Это была немаловажная должность, в некоторых случаях отец докладывал непосредственно Ленину. Следует добавить, что наркомат этот возглавлялся самим Сталиным.
Проработав там пару лет, отец обратился в Центральный комитет ВКП(б) с просьбой перевести его на самостоятельную работу. В мае 1924 года он был назначен председателем правления Госторга – крупнейшей внешнеторговой организации по экспорту и импорту товаров. Одновременно он стал членом коллегии Наркомата внутренней и внешней торговли, который в то время возглавлялся А. И. Микояном.
Много лет спустя Микоян в журнале, издаваемом Институтом США и Канады, дал следующую характеристику отцу и их взаимоотношениям друг с другом: «Я был моложе его на 14 лет. Трояновский по своей хватке ничуть не уступал американским бизнесменам. Он успешно организовал дело, хорошо руководил аппаратом, совершенствовал методы его работы, научился торговать у капиталистов, так сказать, перенял дух коммерции. Поэтому все наши деловые встречи были для меня полезны, так как в то время я еще слабо разбирался в вопросах торговли. Я уважал Трояновского за его знания, за умение руководить. Он был квалифицированным, способным и знающим работником. Для нас не было секретом, что его знания превалировали над моими, хотя по служебному положению я стоял выше».
В конце 1927 года отец, опять же по инициативе Сталина, был назначен послом в Японию, или полпредом, как тогда называлась эта должность. Покрыть дистанцию от тюрьмы до посольства за семь лет – это, пожалуй, для Книги рекордов Гиннесса. Такое было возможно только в бурные, волнующие, трагичные и вместе с тем увлекательные революционные времена.
Отец – дипломат
Первые годы пребывания в Токио были относительно спокойными. Это дало возможность новому послу набраться опыта, познакомиться со страной, установить полезные связи, которые ему впоследствии очень пригодились.
На Ивана Майского, который в то время был советником токийского посольства, а впоследствии много лет возглавлял посольство в Лондоне, новый полпред произвел положительное впечатление: «Это был очень умный, смелый и живой человек, хороший марксист, чуждый всякому догматизму. Он смотрел на действительность открытыми глазами и в своих практических действиях руководствовался велениями здравого смысла. Я слегка знал его по прошлому и хорошо познакомился с ним в течение того года, который нам вместе пришлось проработать в Японии. От этого тесного сотрудничества с Александром Антоновичем на дипломатическом поприще в Токио я навсегда сохранил самые лучшие воспоминания…»
Конечно, и в этот первоначальный период возникали свои проблемы. Например, из-за нападений на посольство правых экстремистов. Было покушение на торгпреда Аникеева, в него стрелял японец при выезде из дома, где он жил. Очевидно, это покушение было связано с ведущимися в то время нелегкими переговорами по рыбной ловле. Этот вопрос всегда занимал важное место в отношениях между двумя странами, ведь продукты моря служат главной пищей японцев (видимо, поэтому Япония стоит на первом месте в мире по продолжительности жизни). В те первые годы в связи с массовыми арестами местных коммунистов было немало обвинений посольства в связях с местной компартией.
Помнится, что такие события, как нападения на посольство, производили на мою тогда еще детскую психику сильное впечатление. Я всегда боялся, как бы что-нибудь не случилось с отцом. Любопытно, что, когда спустя много лет мне довелось самому стать послом, за себя и семью я был абсолютно спокоен.
Вероятно, та детская нервозность проистекала из-за того, что в начальный период нашей жизни в Японии в газетах появились личные выпады против отца и матери. Отца обвиняли в том, что он автор книги с оскорбительными пассажами против Японии. Проверка показала, что это был какой-то другой Трояновский. И уж совсем бредовым было обвинение в адрес матери, будто она – бывший крупный чин в ЧК-ГПУ. На самом же деле Нина Николаевна была далека от политики, хотя и весьма успешно выполняла роль жены полпреда. Судя по всему, ее кто-то спутал с первой женой отца Еленой Розмирович, которая в первые годы после революции действительно возглавляла следственную комиссию Верховного трибунала при ВЦИК.
Были некоторые неприятности и другого сорта. Еще в конце 1927 года начались переговоры о гастролях в Советском Союзе театра кабуки. Переговоры зашли настолько далеко, что труппа стала готовиться к отъезду. Однако несмотря на постоянные напоминания посольства, окончательное согласие из Москвы долго не поступало. А главное, не было подтверждения о переводе значительной суммы денег для финансирования этих гастролей. Тогда отец принял решение перечислить театру кабуки 70 000 иен из средств, которые ранее были переведены посольству для строительства нового здания. Это было, безусловно, рискованным шагом и являлось нарушением финансовой дисциплины, но отец сознательно решил форсировать события и, поставив Москву перед свершившимся фактом, заставить ее выполнить взятые на себя обязательства. Впоследствии Иван Майский рассказал мне, что однажды утром отец зашел в его кабинет, весь сияющий, как будто у него гора свалилась с плеч, и заявил: «Я получил строгий выговор от политбюро, но средства, необходимые на покрытие расходов по гастролям, предоставлены». Гастроли кабуки прошли с большим успехом как в Москве, так и в Ленинграде. Это способствовало улучшению политического климата между нашими странами, да и посольству стало работать полегче.
Если судить по большому счету, то нарушение, допущенное отцом, было вполне оправданным. Однако проявление инициативы в дипломатической работе нередко бывает чревато недовольством Центра. В этом смысле отца нельзя было назвать карьерным дипломатом, поскольку он привык мыслить и решать самостоятельно, что нередко приводило к неприятным казусам. Так, вскоре после начала работы в Токио он послал письмо на имя Сталина с критикой некоторых аспектов работы Народного комиссариата иностранных дел. Нужно ли говорить, что это не вызвало восторга у наркома Георгия Чичерина. Я знаком с замечаниями, высказанными в этом письме, и думаю, что Чичерин имел основания быть недовольным. Эти замечания отец должен был послать не Сталину, а ему, они не были уж очень принципиальными.
Между тем после первых двух лет относительно спокойной работы положение дел резко усложнилось. В конце 1929 года сначала в США, а затем и в других странах с рыночной экономикой началась Великая депрессия. Она потрясла Японию не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем другие страны. Здесь образовалась взрывчатая смесь из милитаризма, поднимающего голову фашизма, различных мелкобуржуазных групп, кидавшихся то вправо, то влево, обнищавшего крестьянства, готового примкнуть к любому движению, указывающему выход из отчаянной ситуации в деревне. Все это создавало обстановку крайней нестабильности внутри страны. Началась серия покушений на политических деятелей и руководителей «дайбацу», как в Японии называют крупные монополии. Были убиты премьер-министр Инукаи и руководитель корпорации «Мицуи» барон Дан, бросили гранату в помещение партии Сеюкай. Была попытка убить старейшего японского государственного деятеля Киммоти Сайондзи. Лишь случайность спасла лорда-хранителя печати графа Макино. Много лет спустя, когда уже я был послом в Японии, его внучка Катцуко Асо, с которой у меня и у моей жены установились дружеские отношения, весьма красочно описывала, как она вывела своего деда из дома через задний ход и как они прятались потом, спасаясь от убийц.
Наше знакомство с Катцуко Асо и ее мужем имело одно любопытное последствие. Значительно позже, когда я уже работал представителем при ООН в Нью-Йорке, мы с женой однажды получили приглашение на обед к Джону Рокфеллеру, старшему из пяти братьев, с которым до этого не были знакомы. Мы, разумеется, удивились этому. Но, приняв приглашение, были еще более удивлены, обнаружив, что из гостей там оказались только мы и супруги Асо. Как выяснилось, наши японские знакомые, получив от Рокфеллеров приглашение, попросили их обязательно пригласить и русского посла с супругой. Так случилось, что это была наша первая и последняя встреча с Джоном Рокфеллером, так как он вскоре погиб в автомобильной катастрофе.
Но вернемся к бурным событиям 30-х годов в Японии. Сообщая в Москву об этих событиях, посол придерживался той довольно смелой точки зрения, что последние террористические выступления нельзя считать чисто реакционными. Их участники выступали под монархическим флагом, но отражали в стихийной и грубой форме социальное недовольство широких масс. Реакционеры, писал он, пытаются подчинить это движение своему влиянию. Видимо, с такой характеристикой можно согласиться применительно к тому этапу, но с оговоркой, что впоследствии это движение приняло вполне отчетливый реакционный характер.
Внутренняя борьба в стране сопровождалась нарастанием экспансионистских тенденций, которые всегда были сильны в Японии, о чем говорит захват Кореи и Тайваня еще в конце XIX – начале XX века. Теперь под влиянием тяжелого экономического положения и возросших социальных трудностей и политических неурядиц эти тенденции стали быстро набирать силу. Мы временами забываем, что Вторая мировая война началась не в Европе, а в Азии нападением Японии на Китай и кончилась также в Азии капитуляцией Японии. В те годы в стране была разработана своего рода доктрина, провозглашавшая необходимость очистить Азию от иностранных колонизаторов и угнетателей. Азия для азиатов – таков был лозунг. На самом деле это было лишь прикрытием для установления господства Японии над всей Азией. По-видимому, Сталин пытался играть на этих настроениях, когда, неожиданно появившись на вокзале в апреле 1941 года, чтобы проводить министра иностранных дел Японии Мацуоку, сказал ему на прощание: «Мы, азиаты, должны держаться вместе».
Сложилась обстановка, когда агрессия Японии представлялась практически неминуемой. Это было ясно советскому посольству в Токио, это не могло не быть очевидным также и для представителей США и Великобритании. В этой предвоенной обстановке важно было не только попытаться определить направление японской военной экспансии, но по возможности давать своему правительству такие рекомендации, которые могли бы помочь направить ее подальше от своих границ. Это делали американцы и англичане, это делало и советское посольство в Токио.
Из бесед с видными политическими, партийными деятелями и крупными представителями бизнеса у посла сложилось мнение, что очередным объектом японской агрессии станет Маньчжурия. Прежде чем решиться на такой рискованный шаг, как война против Советского Союза или Соединенных Штатов, Япония должна была обеспечить себе достаточно прочную сырьевую базу. А такой наиболее доступной лакомой территорией была Маньчжурия.
К тому же отмечалось немало признаков, свидетельствующих о том, что Вашингтон, стремясь отвлечь Японию от авантюр в восточном или южном направлении, подталкивает ее в сторону Китая и СССР. В апреле 1930 года полпредству стало известно, что министр иностранных дел Сидехара на заседании правительства повторил слова американского посла Кастля о признании Соединенными Штатами доминирующего положения Японии на Дальнем Востоке, особенно в Китае. Сидехара сообщил также, что государственный секретарь Генри Стимсон заявил японскому послу Мацудайре о том, что американское правительство имеет намерение признать совершенно определенно доминирующее положение Японии на Востоке. При этом было подчеркнуто, что так считает президент Герберт Гувер.
А когда в сентябре 1931 года операция по овладению Маньчжурией с целью создания там марионеточного государства Маньчжоу-Го началась, сотрудники посольства США в Токио и другие американские представители открыто заговорили о предстоящей войне Японии с Советским Союзом. Премьер-министр Сайто в беседе с отцом сказал, что слухи о японо-советской войне распространяются американскими агентами.
Для политики западных держав не менее показательна была их позиция в Лиге Наций, где Англия и Франция имели превалирующее влияние. В Китай и, в частности, в Маньчжурию была направлена миссия Литтона для расследования на месте происшедших событий. Она представила доклад, который трудно назвать иначе, как попыткой если не обелить, то преуменьшить значение японских действий в Маньчжурии и Шанхае, где также высадились японские войска.
В этой достаточно тревожной обстановке советское руководство заняло твердую линию на то, чтобы избежать войны с Японией. Москва, с одной стороны, разоблачала всякие провокации тех кругов в Японии, которые стремились втянуть страну в военный конфликт с Советским Союзом, а с другой – стремилась не допустить ситуации, которая могла бы служить предлогом для развязывания конфликта.
Вернувшись в Токио из отпуска, который был срочно прерван осенью 1931 года, отец сообщил в Москву, что японское правительство пока не стремится к осложнению отношений с нами. Но среди военных, особенно находящихся с войсками в Маньчжурии, имеются весьма агрессивно настроенные элементы. Он рекомендовал быть настороже и внимательно следить за тем, что произойдет на севере Маньчжурии. Вместе с тем было высказано мнение, что до выяснения планов дальнейшей агрессии японцев следовало бы воздержаться от резких демонстраций вроде отказа от намечавшихся приглашений японских деятелей в Москву, прекращения рыболовных переговоров и т. п. Такие демонстрации могут только сыграть на руку агрессивным элементам.
Вопрос о признании государства Маньчжоу-Го не возникал, но контакты с ним по практическим вопросам были установлены. В частности, советский посол в Токио имел несколько встреч с представителем этого государства. А в 1933 году Советский Союз выразил готовность продать КВЖД Маньчжоу-Го. Через два года, 23 марта 1935 года, соглашение об этом было подписано.
30 апреля 1931 года народный комиссар по иностранным делам Максим Литвинов, сменивший Чичерина, предложил находившемуся в Москве проездом министру иностранных дел Японии Иосидзаве заключить советско-японский пакт о ненападении. В последующем переговоры о пакте длительное время велись в Токио послом СССР с соответствующими японскими политическими деятелями. Переговоры шли зигзагообразно – то возникали надежды на достижение соглашения, то исчезали, а затем снова появлялись. По-видимому, сейчас можно сказать, что это зависело от соотношения сил в японских правящих кругах, а там были как те, кто стоял за войну с США, так и те, кто полагал более целесообразным выступить против Советского Союза. Только через десять лет после начала переговоров министр иностранных дел Японии Мацуока, находясь в Москве, наконец скрепил своей подписью пакт с Советским Союзом о нейтралитете. Очевидно, в тот момент верх взяли силы в Японии, выступавшие за движение Японии на восток и на юг против Соединенных Штатов и Великобритании.
Семена того, что окончательно созрело в 1941 году, были брошены еще в начале 30-х годов. Если уже тогда США и Великобритания поощряли Японию двигаться в желательном для них направлении, то Советский Союз и, в частности, посольство в Токио стремились убедить японские правящие круги, что война против СССР ничего хорошего им не принесет.
К тому времени у отца уже сложились обширнейшие связи в самых различных кругах Японии, что содействовало, конечно, плодотворной и эффективной работе посольства. Одно из важных направлений этой работы заключалось в том, чтобы использовать определенные противоречия, существовавшие между армейскими и морскими кругами японских вооруженных сил. Если высшие армейские чины традиционно выступали за экспансию на суше – против Китая, а затем и советского Дальнего Востока, то руководство военно-морскими силами настаивало на движении в противоположном направлении.
Посольство посылало в Москву подробную информацию о перипетиях этой работы. Анализируя ситуацию, оно не преуменьшало опасность японской агрессии против Советского Союза. Но вместе с тем высказывало и убеждение в том, что сближение с США не может быть для Японии прочным, какие бы иллюзии японские американофилы ни питали. Ожесточенная конкуренция на Тихом океане между Соединенными Штатами и Японией, по мнению полпредства, является неоспоримым фактом, и эта конкуренция должна будет неизбежно развиваться, усиливая политические противоречия между обеими странами.
У отца сложились очень хорошие отношения с рядом крупных чиновников в военно-морских силах Японии, которые в беседах с ним были весьма откровенны. А когда срок командировки отца закончился, морской министр адмирал Осуми устроил в его честь прощальный обед, на котором присутствовал премьер-министр Сайто, влиятельный адмирал Като и другие. Министр произнес политическую речь, заявив, что дружественные отношения с СССР должны составлять одну из основ внешней политики Японии.
Большим подспорьем в работе отца было то, что советские вооруженные силы были представлены в Японии такими крупными фигурами, как военно-морской атташе Иван Кожанов, впоследствии командующий Черноморским флотом, я о нем расскажу позже; военные атташе Витовт Путна и Виталий Примаков – оба они впоследствии проходили по процессу маршала Тухачевского. Работали в Токио в то время и другие видные военные деятели. Это давало возможность иметь достаточно детальное представление о численности и состоянии японских вооруженных сил. Сведения об этом имели для Москвы первостепенное значение. К тому же в этот период был налажен обмен японскими и советскими офицерами, которые прикомандировывались непосредственно к тем или иным воинским частям обеих армий. Много лет спустя, когда я был послом в Японии, на каком-то приеме ко мне подошел очень пожилой японец, который сказал, что в 30-х годах он служил в дивизии имени К. Е. Ворошилова и что перед отъездом в Советский Союз его и других японских офицеров принимал полпред Александр Трояновский.
Важным обстоятельством было и то, что общество «Япония-СССР» возглавлялось крупными японскими деятелями. Сначала его президентом был начальник Генерального штаба японских вооруженных сил принц Канин, родственник императора и крупная фигура на политическом поприще страны. Его сменил адмирал Макото Сайто, который вскоре после этого стал премьер-министром. Он был убит во время бунта молодых офицеров в 1936 году. Понятно, что, имея в качестве хороших знакомых таких политических деятелей, можно было проводить достаточно эффективную работу. Но посольство пошло дальше. Во время пребывания в отпуске отец получил благословение Сталина расширить связи с правыми и даже крайне реакционными элементами. В своем докладе в конце марта 1932 года отец сообщал, что сблизился с такими фигурами, как виконт Канеко, принц Токугава, граф Кобаяма. На этом докладе Сталин написал: «Молотову, Ворошилову, Кагановичу. Прочтите, – интересно. И. Ст.».
Одним из важных достижений отца был тесный контакт, установившийся у него с генералом Садао Араки. В то время тот был военным министром и считался главным идеологом японского милитаризма и экспансии. Отец характеризовал его как человека, который по демагогии, фанатичности, умению говорить и действовать – готовый кандидат в Гитлеры. После войны он был приговорен Международным военным трибуналом в Токио к пожизненному тюремному заключению. В 1955 году он был освобожден и умер в 1966 году. Но в начале 30-х годов от него во многом зависело, в каком направлении будет развиваться японская агрессия. Кстати, он неплохо говорил по-русски, так как в свое время работал в японском посольстве в Санкт-Петербурге.
Контакты посла с генералом установились в начале 1932 года и на первом этапе касались конкретных вопросов, возникших в результате начавшейся агрессии Японии в Маньчжурии. Потом тематика бесед расширилась. Араки утверждал, что суть его политики – борьба за равноправие азиатских народов с белыми. По его словам, если СССР искренне стоит на такой же антизападной позиции, то с ним можно было бы договориться. Эту мысль он затем повторил и публично, выступая на собрании японских общественных деятелей 2 ноября 1932 года. От некоторых высказываний Араки за версту несло демагогией. Он, например, доказывал отцу, что он пролетарий, что Япония – пролетарское государство, что ей не нужны «Мицуи» и «Мицубиси», нужна простая и скромная жизнь для всех.
Советский посол, зная об истинных убеждениях Араки, в выражениях не стеснялся, говорил тому, что если Япония решится все же напасть на Советский Союз, то это кончится для нее самым плачевным образом – она потерпит сокрушительное поражение.
С одобрения руководства отец в целях расширения своих контактов пошел еще дальше. 18 января 1933 года с помощью посредников он встретился с руководителем японских фашистов Тоямой. Впрочем, ничего особенно интересного эта встреча не дала.
Как бы там ни было, но можно с уверенностью утверждать, подводя итог пребыванию отца в Японии, что ее отношения с нашей страной в этот период претерпели позитивные изменения. Сыграли не последнюю роль в этом личные связи отца с крупнейшими политическими, военными и общественными деятелями страны. Согласно полученной посольством информации такие люди, как премьер-министр Сайто, адмирал Като, принц Канин и другие, постоянно добивались от военных ясности в отношении СССР и предостерегали их от осложнений с ним.
А в личной беседе с отцом барон Харада, секретарь старейшины японской политики, влиятельнейшего принца Киммоти Сайондзи, заверил, что на данном этапе о будущем японо-советских отношений беспокоиться не следует.
На основании всей имевшейся информации посольство, направляя в Москву аналитический доклад, делало вывод, что известный поворот в планах и настроениях среди тех, кто определял внешнюю политику Японии, по-видимому, наступил. Вместе с тем делалась оговорка, что успокаиваться на этом никак нельзя.
Сегодня, зная ретроспективу истории, можно с уверенностью сказать, что последняя точка на планах японских милитаристов развязать агрессивную войну против СССР была поставлена значительно позже, в 1939 году, когда советско-монгольские войска под командованием будущего маршала Георгия Жукова разгромили японские части на Халхин-Голе.
Пребывание отца на посту полномочного представителя СССР в Японии подходило к концу. Несмотря на успехи в работе, отец постоянно тяготился дипломатической деятельностью, о чем говорил неоднократно. В одном из писем на имя Сталина он писал: «Три года назад, желая уйти из Госторга в связи с возникшими тогда у меня с Наркомвнешторгом разногласиями относительно дальнейшей судьбы Госторга, я согласился поехать полпредом в Японию… Я больше чувствую склонность к хозяйственной работе, чем к дипломатической, и гораздо лучше себя чувствовал бы на большой хозяйственной работе, чем на большой дипломатической. Может быть, и пользы для СССР было бы больше». Последнее его обращение к Сталину было 20 сентября 1932 года. Он писал, что «измотался». И жаловался, что долголетнее пребывание за рубежом «сильно отражается на здоровье, развивается сильное малокровие. Необходимо учить сына. Желания дипломатической работы не имею. Прошу дать интересную хозяйственную работу, на которой буду более полезен. Сообщите, когда могу рассчитывать уехать».
На это Сталин 19 декабря дал следующий ответ: «Не считаете ли Вы возможным отложить вопрос о замене Вас другим полпредом в Японии месяцев на 8 – на год. Мы бы не хотели терять тех связей, которые завелись у Вас с деятелями Японии, что имеет для нас большое значение, особенно в настоящий момент. Привет. Сталин».
Тем не менее отец настоял на своем, и мы покинули Японию в конце февраля 1933 года. Отказ отца дать согласие на просьбу Сталина задержаться в Токио расценивался в Москве как незаурядный поступок, в это время уже редко кто осмеливался перечить ему. А. И. Микоян потом рассказывал мне, что однажды на вечеринке у него дома один из тогдашних лидеров комсомола, выпив лишнего, чуть ли не с кулаками полез на отца с криком: «Как вы посмели отказать нашему вождю в его просьбе!» Впрочем, сам Сталин, судя по последующим событиям, не затаил злобы по этому поводу.
Нашему отъезду предшествовали проводы, которые можно назвать необычными. Император презентовал отцу две вазы. При этом министерство двора дало в печать сообщение, что подарок сделан за выдающиеся заслуги в развитии советско-японской дружбы. Министр иностранных дел Утида прислал в полпредство письмо, в котором заверил посла в том, что японский народ навсегда сохранит память о результатах его деятельности в Японии.
Было и много других подобных высказываний, в том числе и от премьер-министра Сайто на уже упомянутом мной прощальном обеде, который был дан морским министром Осуми. Генерал Араки в беседе с полпредом с глазу на глаз спрашивал, не мог ли он остаться еще на какое-то время в Токио. Во всем этом был, разумеется, элемент протокольной куртуазности, но все же чувствовалось, что некоторые японские политические деятели, обеспокоенные тем, по какому пути ведут страну милитаристы, видели, что полпред, действуя в интересах своей страны, старался в меру своих сил и возможностей удержать Японию от военного конфликта с Советским Союзом. Причем он мог позволить себе высказывать предостережения тому же генералу Араки, чего сами японские политики позволить себе не могли. Опасения их были не напрасны, не прошло и четырех лет, как Сайто и ряд других сторонников добрых отношений с СССР погибли от рук взбунтовавшихся офицеров.
Особенно тесные отношения, граничащие с личной дружбой, сложились у отца с Киджюро Сидехарой, который занимал посты заместителя министра, потом министра иностранных дел, а после войны – даже премьер-министра. Он принадлежал к числу тех японских политиков, которые видели, что милитаристы проводят гибельную для Японии линию. Отец вспоминал впоследствии, что Сидехара даже всплакнул немного, когда они прощались перед нашим отъездом из Токио. А в феврале 1934-го, уже работая в Вашингтоне, отец получил от Сидехары частное письмо, в котором тот, помимо комплиментов, выражал надежду, что мудрость победит как в Москве, так и в Токио. В заключение Сидехара писал, что, насколько он может судить, между двумя странами не существует таких проблем, которые не поддавались бы дружескому урегулированию.
Наверное, стоит сказать о том, что, когда отец прибыл в качестве полномочного представителя в США, на вокзале американской столицы его, помимо американских официальных лиц, встречал и посол Японии.
Я хорошо помню наше возвращение на родину. Оно было обставлено с большой помпой. Видимо, из Москвы на этот счет поступило соответствующее указание. Наш пароход прибыл во Владивосток ранним утром. Нас разбудили звуки духового оркестра. Потом кто-то постучал в дверь каюты и сообщил, что пароход спустит трап через 15 минут и что на берегу готовится торжественная встреча Александра Трояновского. Отец накинул пальто поверх нижнего белья и выскочил на палубу, чтобы издали приветствовать встречавших. Затем он вернулся в каюту, чтобы закончить свой туалет и уже в более потребном виде спуститься на родную землю. Мы пробыли во Владивостоке два-три дня, нас куда-то возили, что-то показывали. Потом нам предоставили отдельный вагон (это был первый и последний раз, когда я ехал в салон-вагоне), в котором мы отправились в Москву с двухдневной остановкой в Хабаровске.
Работа в Японии была звездным часом в дипломатической карьере отца. Впоследствии, в Соединенных Штатах, он не мог похвастаться такими же результатами, каких достиг в Токио. Сам он говорил, что работать в Японии ему было значительно легче, чем в Вашингтоне. По его словам, разница заключалась в том, что в Японии достаточно было установить контакты с главными, ключевыми фигурами, чтобы знать всех, кто определял внешнюю политику страны. В отличие от этого политическая жизнь США представляла собой необъятное море, в котором действовали самые различные течения. Если Японию можно было сравнить с роялем, то Соединенные Штаты представляли собой целый симфонический оркестр.
Мне кажется, что дело не только в этом. Работа в Японии открывала более широкие возможности для достижения полезных результатов еще и потому, что в те годы вопрос о дальнейшем стратегическом курсе страны оставался во многом открытым. И потому активный посол, опираясь на авторитет и силу великой державы, которую он представлял, мог сказать свое веское слово, с которым нельзя было не считаться. В этом смысле ситуация в Соединенных Штатах была иной. Кризис и депрессия остались позади, и президент Франклин Рузвельт вел американский корабль твердой рукой. Новый курс уже был определен.
Кстати, вручая президенту США верительные грамоты, отец услышал от него комплимент по поводу своей успешной работы в Японии.
Но все по порядку. По возвращении из Японии в апреле 1933 года отца пригласили выступить на заседании политбюро, с тем чтобы дать оценку положения дел на Дальнем Востоке и высказаться о перспективах советско-японских отношений. Квинтэссенцией его доклада была мысль о том, что японская агрессия против нашей страны отнюдь не фатальна и что главная опасность стране грозит не с Востока, а с Запада, со стороны пришедшего к власти в Германии фашизма.
Спустя несколько дней у отца состоялась беседа со Сталиным. Среди прочего обсуждался вопрос о его дальнейшей работе. Примерялись различные варианты. Сталин даже поинтересовался, не хочет ли он вернуться к своей первоначальной профессии – получить высокий пост в Красной армии. Отец ответил, что после стольких лет на гражданской службе он отстал от современной военной науки, и выразил настойчивое желание вернуться к хозяйственной деятельности. В конечном итоге было решено назначить его заместителем председателя Госплана СССР под началом Валерьяна Куйбышева.
Думаю, что нашей семье крупно повезло. Если бы в 1933 году отец стал военным деятелем, он вряд ли избежал той участи, которая почти поголовно постигла несколькими годами позже командный состав Красной армии. Насколько я могу судить, отец работал в Госплане успешно и с удовольствием, хотя срок его пребывания там оказался очень коротким – всего каких-то полгода.
В середине октября отец взял меня с собой на какой-то спектакль в Большом театре, кажется, это был балет. Мы оказались в одной ложе с Литвиновым. В антракте я слышал, что он сказал отцу: «Наконец и американцы зашевелились. По-видимому, мне скоро придется поехать в Вашингтон». Отец не особенно живо отреагировал на эти слова. Он не мог представить себе, что это может иметь к нему какое-то отношение.
16 ноября 1933 года, после поездки Литвинова в Вашингтон и проведенных там переговоров, дипломатические отношения между СССР и США были официально установлены путем обмена письмами между Председателем ЦИК СССР М. И. Калининым и президентом США Франклином Делано Рузвельтом.
Еще за день-два до этого события к нам на квартиру позвонил Ворошилов. В разговоре с отцом он сказал, что звонит из кабинета Сталина, где с ним и Молотовым они обсуждали вопрос о том, кого следует назначить первым советским послом в Вашингтон. Их вывод – послом должен быть Трояновский. Отец сказал, что он не хотел бы снова возвращаться на дипломатическую работу, и просил дать ему подумать. В ответ было сказало, что подумать, конечно, можно, но в то же время следует исходить из того, что назначение уже состоялось.
Установление дипломатических отношений с Соединенными Штатами получило беспрецедентное освещение в советской прессе с фотографиями глав двух государств и двух послов, их биографиями на первых полосах центральных газет. По всему было видно, что советское руководство придавало этому событию первостепенное значение, да оно того и заслуживало.
Первым послом США в Советском Союзе был назначен Уильям Буллит. Это назначение нельзя было назвать ординарным. В марте 1919 года, будучи молодым дипломатом, Буллит был направлен президентом Вудро Вильсоном и премьер-министром Ллойд Джорджем в Москву. Ему было поручено выяснить возможность заключения мира между Советской Россией, державами Антанты и белогвардейскими правительствами. В ходе состоявшихся переговоров советское правительство пошло на существенные уступки вплоть до того, что выработанное соглашение предусматривало сохранение контроля белогвардейских правительств над занятыми ими территориями. Однако, когда Буллит вернулся в Париж со своим уже согласованным с Москвой проектом, выяснилось, что руководители Антанты полностью потеряли к нему интерес, ибо решили делать ставку на военную силу. Колчак был объявлен верховным правителем России и в марте же предпринял широкомасштабное наступление, которое, как и наступление Деникина на Москву, окончилось полным крахом. По-видимому, учитывая тот эпизод в биографии Буллита, Рузвельт и решил назначить его послом в Москву. Добавлю к этому, что одно время Буллит был женат на Луизе Брайант, вдове Джона Рида, автора знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир».
Однако через некоторое время американский посол по ряду причин разочаровался в своей миссии и стал играть скорее отрицательную, чем положительную роль в советско-американских отношениях. А потом, когда незадолго до войны Буллит был назначен послом во Францию, занял позицию, мало отличающуюся от подхода тех, кто подталкивал Гитлера к походу на Восток.
Отец начал усиленно готовиться к новой должности и к предстоящему отъезду, который должен был состояться с таким расчетом, чтобы прибыть в Вашингтон до конца 1933 года. Он встречался с Буллитом, который прибыл в Москву в декабре для вручения верительных грамот и установления первых контактов. Американский посол должен был отбыть обратно в США примерно в то же время, что и отец. Типичным для отца было то, что он сразу же установил знакомство с американскими журналистами, аккредитованными в Москве, ходил к ним в гости и даже играл в покер, что, разумеется, произвело на них впечатление. Среди американских корреспондентов, работавших в Москве в ту пору, было несколько незаурядных профессионалов. Следует прежде всего назвать Уолтера Дюранти, представлявшего «Нью-Йорк таймс» и неплохо относившегося к нашей стране. В связи с установлением отношений с США Дюранти получил ответы Сталина на заданные им вопросы. В этом интервью, опубликованном 25 декабря, Сталин дал свою оценку американскому президенту: «Рузвельт, по всем данным, решительный и мужественный политик. Есть такая философская система – солипсизм, заключающаяся в том, что человек не верит в существование мира и верит только в свое я. Долгое время казалось, что американское правительство придерживается такой системы и не верит в существование СССР. Но Рузвельт, очевидно, не сторонник этой странной теории. Он реалист и знает, что действительность является такой, какой он ее видит».
Несмотря на скептическое и даже циничное отношение Сталина к людям, личность Рузвельта, видимо, всегда интересовала и привлекала его. Это было видно из некоторых его высказываний в последующих беседах с отцом. И что не вызывает сомнений, так это то значение, которое Сталин, да и советское руководство в целом, придавали установлению отношений с Соединенными Штатами.
Приведу только два примера. Сохранился журнал, в котором дежурный по приемной Генерального секретаря ЦК КПСС вел запись всех его встреч. В нем указано, что перед отъездом отца в США он три раза беседовал со Сталиным, что, безусловно, можно считать исключительным случаем. Еще более необычным был обед, устроенный в честь Буллита, на котором присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Литвинов, Трояновский. На этом обеде Сталин произнес развернутый тост в честь Рузвельта, назвав его человеком, который прокладывает новые пути в американском обществе.
К сожалению, оставляли желать лучшего отношения между отцом и Литвиновым. Они испортились еще во время работы отца в Японии. Руководителей Наркоминдела не могло не раздражать то, уже отмеченное мною обстоятельство, что полпред время от времени обращался лично к Сталину, обходя наркомат. Причем они не видели возможности положить конец этой переписке за их спиной.
Конфликтная ситуация между Литвиновым и отцом обострилась при формировании штата вновь создаваемого полпредства в Вашингтоне и генеральных консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Отец, естественно, хотел работать с людьми, которых он знал и на которых мог положиться. Литвинов же, как нарком, считал, что подбор кадров – это его прерогатива. Быть арбитром в этом споре пришлось Сталину в конце банкета в честь Буллита, когда американский гость уже ушел. Мне неизвестно, кто довел этот вопрос до сведения Сталина, но решил он его в основном в пользу отца, что, разумеется, не могло не отразиться на самолюбии Литвинова. Если можно так выразиться, это была еще одна кошка, пробежавшая между ним и отцом.
Итак, мы отправились в Америку. Отец пересек океан на одном теплоходе с Буллитом, который возвращался в Вашингтон, чтобы завершить какие-то свои дела. Мы с матерью задержались на несколько дней в Париже.
Верительные грамоты первый советский посол вручил президенту Рузвельту 8 января 1934 года. Президент принял его весьма тепло, выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться на благо всеобщего мира. Хотя такие слова принято говорить каждому послу, в данном случае вся церемония вышла за пределы обычно принятого протокола.
Вернувшись в Москву, Буллит в разговорах с заместителем наркома по иностранным делам Н. Н. Крестинским и сотрудником Наркоминдела И. Дивильковским сообщил, что Рузвельт при первой аудиенции предлагал Трояновскому во всех затруднительных случаях обращаться прямо к нему и запросто звонить ему по телефону. «Это не простая любезность, – заявил Буллит, – президент остался в восхищении от Трояновского. Такие вещи он не предлагал еще ни одному послу». И в самом деле, не было случая, чтобы Рузвельт уклонился от встречи с советским послом. Однажды он даже принял его, будучи больным и находясь в постели.
Это был медовый месяц советско-американских отношений. К сожалению, он продолжался не очень долго. В апреле был поднят советский флаг над зданием посольства, которое в течение нескольких недель реставрировалось и приводилось в порядок, поскольку там никто не жил, с тех пор как его покинул последний посол Временного правительства. Прием, который был устроен по случаю открытия посольства, стал, можно сказать, гвоздем сезона. Количество гостей в этот вечер превзошло все ожидания. Конечно, были люди разных взглядов; некоторые пришли из симпатии к Советскому Союзу, другие из уважения к нему, третьи по служебной обязанности, четвертые просто из любопытства.
Страна в тот период только начинала приходить в себя от потрясений, связанных с Великой депрессией. Люди все еще чувствовали большую неуверенность в себе. А в условиях, когда негритянское население находилось в состоянии немногим лучше, чем в конце прошлого века, а истребление большей части индейцев, коренного населения страны, закончилось незадолго до этого, хвалиться правами человека тоже не приходилось. Поэтому та аррогантность, которая свойственна если не американцам в индивидуальном плане, то американскому обществу в целом, в то время еще не давала о себе знать. На этом фоне успехи Советского Союза в области экономического развития и особенно индустриализации выглядели вполне внушительно, как и отсутствие безработицы, которая в США оставалась одной из самых болезненных проблем.
С первых дней своего пребывания в Вашингтоне отец занялся установлением контактов с американскими политическими деятелями. При его общительности и чувстве юмора это не составляло большого труда.
Он часто выступал перед различными аудиториями, давал интервью, устраивал пресс-конференции. Старался превратить посольство в привлекательное место для широкого круга людей. Помимо различных приемов, там устраивались концерты: выступали великий композитор Сергей Прокофьев, ведущий тенор «Метрополитен-опера» Джованни Мартинелли, приходил совсем тогда юный Иегуди Менухин, который очень интересовался жизнью в Советском Союзе. Устраивались в посольстве и своего рода диспуты на различные международные темы, на которые приглашались видные журналисты из различных стран, аккредитованные в Вашингтоне. По случаю приезда Александра Дейнеки в посольстве была устроена выставка его живописи. Были в посольстве И. Ильф и Е. Петров в начале своей поездки по США, в результате которой появилась книга «Одноэтажная Америка».
Отец познакомился и даже подружился с журналистом, юмористом и киноактером Уиллом Роджерсом. Для русского читателя это имя мало что говорит, но в США, особенно в те годы, он пользовался колоссальной известностью. В начале августа 1934 года Роджерс и летчик Уили Пост задумали полет через Аляску в Советский Союз. Посольство оказало им посильную помощь в этом. К несчастью, их самолет разбился где-то на Аляске. Из Сиэтла Уилл Роджерс прислал отцу следующую телеграмму, пожалуй, одну из последних вестей, поступивших от него: «Спасибо за оказанную помощь. Хотелось бы, чтобы некоторые из наших цивилизованных стран были такими же обязательными. В мое отсутствие не допустите, чтобы наш Новый курс потерпел фиаско. С наилучшими пожеланиями У. Роджерс». Речь шла о Новом курсе Рузвельта.
Разумеется, отцу в его контактах с американцами и в работе с гостями из Союза очень помогал небольшой дружный персонал посольства. В 30-х годах в нем трудилось от силы десять дипломатов, включая посла, но все были при деле, по завязку. Теперь в больших посольствах персонал разбух до огромных размеров, и многие из нынешних послов жалуются, что развелось много лишних людей, среди которых нередки родственники влиятельных московских деятелей. Правда, нынче и объем работы посольств вырос, но все же далеко не пропорционально росту численного состава дипломатов.
Впоследствии, в бытность мою послом в Токио, японские власти строго ограничивали количественный состав советского посольства. И хотя мы постоянно добивались его расширения (несколько новых единиц было бы очень кстати), в душе я надеялся, что этого не случится. Очень опасался, как бы количество не пошло в ущерб качеству человеческих отношений, от которого зависит и качество работы.
Наверное, читателю покажется необычным и то, что у доброй половины советских дипломатов в Вашингтоне в те годы жены были иностранками. Так, супруга советника Уманского была австрийкой, первого секретаря Неймана – бельгийкой, атташе и главного шифровальщика Липко – немкой. Тогда в этом не находили ничего предосудительного, даже напротив, это как бы подтверждало наш советский интернационалистский характер. Однако с началом волны репрессий положение в этом плане резко изменилось. Нейман и Липко были арестованы, и думаю, что одной из основных статей обвинения в их адрес явились «жены-иностранки». Хотя сами они почему-то остались на свободе.
Немного о себе. Вскоре после нашего приезда в Вашингтон я поступил в американскую школу. К тому времени я более или менее освоил английский, и потому процесс адаптации больших трудностей не представлял. Школа, в которую я пошел, принадлежала квакерам или, как они себя официально называли, Обществу друзей. Это была протестантская община, образованная в Англии в середине XVII века и затем глубоко укоренившаяся в Соединенных Штатах. Будучи христианами, квакеры придерживаются, однако, весьма свободных взглядов. В частности, они отвергают институт священников и церковные таинства, проповедуют пацифизм и отказываются служить в армии. Вместо церквей собираются в так называемых молельных домах, где вместо церковного ритуала происходит свободный обмен мнениями на нравственные темы.
Ввиду всего сказанного, религиозная направленность в квакерской школе полностью отсутствовала, что очень устраивало дипломатов, придерживавшихся различных конфессий. И потому они нередко для своих детей выбирали именно эту школу. В мое время она была весьма скромной, с небольшим числом учащихся. Но со временем разрослась и стала очень популярной. Достаточно сказать, что сейчас в ней учится дочь президента Клинтона. В последние годы, наезжая по каким-либо делам в Штаты, я не раз посещал свою школу. Однажды даже выступил там с лекцией о российско-китайских отношениях, а в мае 1997 года мне, по приглашению руководства школы, посчастливилось побывать в Вашингтоне на юбилее школы и встретить там некоторых своих однокашников. Вместе мы помянули добрым словом нашу классную руководительницу мисс Райт. Она была, пожалуй, лучше всех учителей, у которых мне довелось учиться в течение школьных лет. Она привила мне интерес к литературе и истории, и я тогда даже решил, что изучение литературы – это мое истинное призвание. Именно поэтому по возвращении в Москву я поступил в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ).
Как потом оказалось, учеба в Вашингтоне послужила своего рода тренировкой для моей будущей дипломатической работы, хотя в те годы никакого вкуса к ней я не испытывал. А тренировка состояла в том, что, когда на уроках общественных наук возникал какой-нибудь вопрос, касающийся Советского Союза, мисс Райт обычно говорила: «Давайте попросим Олега сказать, что думает по этому поводу он сам». И мне приходилось, худо-бедно, объяснять позицию своей страны. К сожалению, как я потом узнал, мисс Райт плохо кончила. Она пристрастилась к спиртному и однажды явилась на урок, как говорится, «не в форме», за что была тут же уволена. Что с ней стало потом, никто мне толком ответить не смог.
Учиться в школе было интересно и приятно. У меня установились хорошие отношения с товарищами по классу, появились даже друзья. В выпускном классе меня избрали президентом, по-нашему – старостой. И еще – одним из редакторов школьного журнала, который выпускали раз в квартал. Не избежал я и того, что обычно случается в этом возрасте: начал ухаживать за одной девочкой из нашего класса. Узнав об этом, отец как бы между прочим однажды спросил меня: «Ты не забыл, что нам надо будет возвращаться в Москву?» Вообще-то в нашей семье «воспитывать» было не принято. Поэтому вопрос отца я воспринял всерьез.
Но вернусь к большой политике.
Ясное лето советско-американских отношений стало постепенно переходить в осень с ее дождями, ветрами и туманами. Для этого было несколько причин. Прежде всего в отношениях между двумя странами появились серьезные проблемы, что само по себе нормально, но они нередко раздувались чиновниками из Государственного департамента, которым пришлось не по душе сближение с Советским Союзом. Эти негативные тенденции усиливались из-за роста изоляционистских настроений, желания держаться в стороне от иностранных конфликтов. В обстановке 30-х годов это играло на руку странам-агрессорам – Германии, Японии, Италии. Наконец все явственнее стала просматриваться изнанка жизни в Советском Союзе с ее все еще низким уровнем, перебоями в снабжении и конечно же репрессиями, которые начали расцветать буйным цветом.
Первый серьезный конфликт возник вскоре после открытия посольства. Это был вопрос долгов и взаимных финансовых претензий. Во время пребывания Литвинова в Вашингтоне не удалось окончательно договориться по этому вопросу. Возможно, потому, что обе стороны торопились объявить о главном политическом результате переговоров – установлении дипломатических отношений. Что касается финансовых претензий, то дело ограничилось отдельным коммюнике, в котором констатировалось, что советское правительство согласно уплатить долг правительства Керенского в сумме не менее 75 миллионов долларов. При этом оно отказывалось от претензий, обусловленных пребыванием американских вооруженных сил в Сибири в 1918 году. Соединенные Штаты, со своей стороны, выразили согласие предоставить СССР солидный заем сроком на 20 лет.
Не буду детально излагать ход переговоров. Это удел скорее историков, чем автора воспоминаний. Тем более что переговоры длились несколько лет как в Вашингтоне, так и в Москве. В посольстве создавалось впечатление, что чиновники из Государственного департамента чинили искусственные преграды на пути решения вопроса. Кроме того, 6 апреля 1934 года конгресс принял Билль Джонсона, который запрещал предоставление кредитов странам, не выполнившим своих долговых обязательств в отношении США. Это относилось в первую очередь к Англии и Франции, у которых образовались огромные долги перед США, но было распространено и на СССР. Кроме того, Экспортно-импортный банк принял решение не предоставлять Советскому Союзу кредитов до урегулирования вопроса о долгах. Таким образом, положение дел в советско-американских торговых отношениях стало даже хуже, чем до установления дипломатических отношений.
Не помогла и беседа Трояновского с Рузвельтом, состоявшаяся 30 апреля в присутствии государственного секретаря Хэлла и его заместителя Мура. Президент уклонился от обсуждения спорных вопросов по существу и фактически подтвердил жесткую позицию, которую занимал Госдепартамент.
Судя по всему, в Вашингтоне сложилось мнение, что Советский Союз оказался в затруднительном положении из-за давления на Востоке со стороны Японии и нараставшей напряженности на Западе. А следовательно, считалось, что Москва будет вынуждена искать поддержки у США, и это заставит советскую сторону пойти на уступки в вопросе о долгах и кредите.
Рузвельт в беседах с отцом проявлял особый интерес к тому, как он оценивает положение на Дальнем Востоке и дальнейшие планы Японии. Он как бы прощупывал, не чувствует ли Советский Союз нависающей угрозы с ее стороны. Активно эту тему эксплуатировал и Буллит в своих беседах в Москве.
Прогноз, которого придерживался советский посол, сводился к тому, что Япония завязла в Китае и в ближайшее время особых неожиданностей с ее стороны вряд ли следует ожидать. Использовал он и частное письме от Сидехары, о котором уже шла речь. В той же беседе с Рузвельтом отец передал и мнение Литвинова о том, что в будущем сократить экспансионистские аппетиты Японии окажется нелегко. Она не будет слушать отдельно ни Америку, ни СССР, но другое дело, если мы будем выступать вместе. Тут отец с Литвиновым был целиком солидарен.
А вот в вопросе о кредитах у него с наркомом назревал конфликт. Литвинов, видимо, чувствовал свою ответственность за то, что вопрос взаимных финансовых претензий не был окончательно согласован на его переговорах в Вашингтоне. В возникшей ситуации он пытался возложить вину за создавшееся тупиковое положение на посольство. 7 июля 1934 года он писал отцу: «…Я должен откровенно сказать Вам, что у меня создалось впечатление, что Вы невнимательно читаете наши шифровки и письма, в которых Вам даются совершенно точные директивы и указания. Оттого получилось уже столько недоразумений…»
Переписка между Москвой и Вашингтоном принимала все более острый характер. А в марте 1934 года произошел следующий инцидент. Трояновский, не зная, что Моссовет изменил свою позицию относительно предоставления американскому посольству участка на Воробьевых горах, сообщил Буллиту, что московские власти готовы удовлетворить его просьбу. Возмущенный этим, Литвинов направил Сталину письмо, которое заканчивалось гневным словами: «Так как это не первый случай недисциплинированности Трояновского и игнорирования директив НКИД (достаточно вспомнить стоившую нам многих десятков тысяч руб. и неприятностей историю с японским театром), я должен предупредить, что если Трояновскому вовремя не будет сделано соответствующее внушение и предупреждение против «самостийности», то мы не ограждены от крупных неприятностей с Америкой».
В июле 1934 года посольство получило копию представленной руководству записки о разговоре Литвинова с Буллитом 13 мая. В ней было сказано: «Сделанное сегодня Буллитом предварительное предложение очень напоминает мысли, высказанные в разных шифровках Трояновским. Приходится думать, что либо Трояновский передал мысли, изложенные ему американцами, не упомянув об этом, или же, что будет гораздо хуже, он сам подсказывал американцам сегодняшнее предложение».
Если до этого отец оставлял колкие замечания наркома без должного ответа, то теперь он решил, что дальше не реагировать нельзя. 24 июля 1934 года он обратился к Сталину с личным письмом, где указывал, что его предложение серьезно отличалось от проекта Буллита. Он заявил далее, что, «…если бы я подсказывал без согласия своего правительства какие-то предложения, которые идут вразрез с предложениями, сделанными с нашей стороны, я был бы повинен в большом преступлении…
Обвинение, выдвинутое по моему адресу Литвиновым, я не могу оставить без внимания. Я знаю, что этот человек зол на меня до последней крайности за то, что ЦК не согласился с его позицией по вопросу о кандидатурах для полпредства и консульств в Америке. Свою злобу он вымещает теперь вместо ЦК на мне…
У меня могут быть упущения и ошибки, но в нечестности меня еще никогда никто не обвинял. При создавшейся обстановке все, что я буду предлагать, будет встречаться Литвиновым не только критически, что неплохо, но непременно враждебно.
Обдумывая это, я вынужден ставить вопрос о моем отзыве отсюда.
Я никогда не горел желанием работать за границей и очень хочу работать в Москве. Моя кратковременная работа в Госплане меня больше удовлетворяла, чем работа здесь. И, кажется, я работал там неплохо. Я хочу этим сказать, что я способен к другой работе, кроме дипломатической…
Я очень прошу по получении этого моего письма принять просимое мной решение и уведомить меня шифровкой.
Между прочим, основная беда в наших переговорах с Соединенными Штатами о долгах состоит в том, что Литвинов не хотел договориться о них, когда был здесь. Тогда президент был всесилен, тогда был медовый месяц в наших отношениях, тогда еще не бросались миллиарды долларов, и наши 200 млн казались значительной суммой. Может быть, Литвинов понимает, что это было ошибкой, а потому сугубо сердится.
Крепко жму руку и шлю привет.
А. Трояновский».Сталин, прочитав письмо, пометил многие его места и наложил следующую резолюцию: «Т. Кагановичу. Надо отклонить просьбу т. Трояновского. (Письмо не следует показывать Литвинову.) И. Сталин».
Знакомясь в архиве с этим письмом 60 лет спустя, я был удивлен эмоциям отца, так как всегда считал его весьма сдержанным человеком, который не привык выплескивать свои чувства наружу. И тогда, когда возникла эта конфликтная ситуация, я не обнаруживал в его внешнем поведении какой-либо напряженности или раздражительности. Видимо, претензии Литвинова действительно задели его за живое. Возможно, он рассчитывал на защиту Сталина, как это бывало в прошлом. Во всяком случае, посол в Москву отозван не был. Должен сказать, что я, в свою бытность послом, пожалуй, на такой шаг пойти бы не рискнул. Возможно, тогда, в начале 30-х годов, времена были другие, да и люди – тоже.
Так или иначе, переговоры продолжались во все более неблагоприятной обстановке. По сообщениям посольства, Рузвельт нервничал и ругал Литвинова. В беседе с послом 10 августа Хэлл заявил, что в стране растет разочарование по поводу признания СССР. К этому его помощник Мур добавил, что под вопрос ставится сама целесообразность существования в Москве американского посольства, которое обходится в 400 тысяч долларов в год. Такое давление трудно было воспринимать иначе как угрозу.
Советское руководство решило предложить американцам компромисс в духе некоторых предложений, выдвинутых ранее посольством. 24 августа отец вручил соответствующий меморандум Хэллу в присутствии Мура и Келли. К удивлению посла, государственный секретарь с ходу заявил, что компромиссные предложения неприемлемы. С советской стороны было заявлено, что это максимум уступок, на которые Москва может пойти. 6 сентября Государственный департамент сделал официальное заявление о том, что переговоры прерываются.
После этого отец отправился в Москву, где имел беседу со Сталиным. Они обсуждали сложившуюся ситуацию. Сталин сказал, что отцу придется еще поработать в Вашингтоне, однако посоветовал в настоящий момент не торопиться с возвращением в Вашингтон. «Пусть американцы немного понервничают», – сказал он. Американцы действительно занервничали. Буллит, находившийся в Вашингтоне, несколько раз звонил в советское посольство, справляясь о сроках возвращения Трояновского. От этого зависели и сроки его возвращения в Москву. Американцы хотели знать, с каким политическим багажом приедет в США советский посол. В общем, беседа со Сталиным прошла в теплой обстановке. В конце Сталин пригласил отца посмотреть с ним «Чапаева». Когда тот сказал, что уже видел этот фильм, Сталин засмеялся: «Подумаешь, я смотрел его уже несколько раз». Отец, разумеется, не стал возражать.
2 ноября состоялось заседание политбюро. Был принято решение: «Поручить т. Трояновскому сообщить Рузвельту, что, по тщательном изучении всего комплекса вопросов о взаимных претензиях, высшие правительственные инстанции не нашли возможным отступить от той позиции, которую советское правительство до сих пор занимало в этих вопросах».
Отец вернулся в Вашингтон не спеша, кружным путем – через Сибирь, с остановкой в Японии, на Гавайских островах, в Лос-Анджелесе, а далее самолетом, до Вашингтона.
31 января состоялась его встреча с Хэллом, который, как обычно, принял посла в присутствии Мура и Келли. Они выступали как своего рода понятые, которые должны были свидетельствовать о правильности высказываний их шефа. Вернувшись с этой встречи, отец рассказывал, что он напустил на себя как можно более суровый вид, пока Хэлл читал ноту. Когда государственный секретарь заявил, что новые советские предложения неприемлемы, и обвинил Советский Союз в срыве переговоров, развернулась короткая, но острая полемика. Посол оборвал ее на полуслове, сказав, что ему нечего добавить к уже сказанному. После чего поднялся и ушел.
Конечно, его волновали последствия срыва переговоров, и он даже не исключал, что правительство США может пойти на крайние меры. На следующий день Хэлл опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за случившееся на советскую сторону. В этот же день поверенный в делах США в Москве Дж. Уайли информировал НКИД о решении Госдепартамента прекратить переговоры о долгах и кредитах, сократить персонал американского посольства, закрыть генконсульство, а также, возможно, ликвидировать Экспортно-импортный банк в Вашингтоне, созданный специально для финансирования торговли с СССР.
Вскоре случилось еще одно событие, которое еще больше обострило советско-американские отношения. С 25 июля по 20 августа 1935 года в Москве проходил 7-й конгресс Коммунистического Интернационала, на котором выступали и представители американской компартии. В Вашингтоне расценили это как еще одно нарушение договоренности, достигнутой в свое время между Рузвельтом и Литвиновым. Правительство США направило по этому поводу Москве резкую ноту. Советское правительство категорически отклонило ее.
В беседе с Буллитом 23 ноября 1935 года Трояновский в шутку сказал: «У нас существует поговорка: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». И добавил, что в данном случае эту поговорку можно видоизменить: «Полюбите нас красненькими, а беленькими нас всякий полюбит».
Когда сегодня знакомишься по документам со всеми этими перипетиями в советско-американских отношениях 30-х годов, то складывается впечатление, что отец воспринимал все слишком близко к сердцу и боролся с ветряными мельницами, вновь и вновь предлагая новые пути к урегулированию разногласий по вопросу о долгах и кредитах. Конечно, для нашего поколения, прошедшего через Вторую мировую войну и такие потрясения холодной войны, как Берлинский или Карибский кризисы, те давние споры и конфликтные ситуации выглядят как мелочь, не заслуживающая серьезного внимания. Но это далеко не так. Надо не забывать, что в то время Вторая мировая война фактически уже началась: Япония захватила Маньчжурию и вторглась в Центральный и Южный Китай, Италия вела войну в Абиссинии, шла гражданская война в Испании, активно действовали силы, стремившиеся направить агрессоров против Советского Союза. И конечно же в этой сложной международной ситуации от позиции Соединенных Штатов зависело очень многое.
Высшее советское руководство исходило именно из такого понимания обстановки. В отчетном докладе ЦК ВКП(б) XVII съезду партии установление нормальных отношений между СССР и США было охарактеризовано следующим образом: «Не может быть сомнения, что этот акт имеет серьезнейшее значение во всей системе международных отношений. Дело не только в том, что он поднимает шансы сохранения мира, улучшает отношения между обеими странами, укрепляет торговые связи между ними и создает базу для взаимного сотрудничества. Дело в том, что он кладет веху между старым, когда США считались в различных странах оплотом для всяких антисоветских тенденций, и новым, когда этот оплот добровольно снят с дороги ко взаимной выгоде обеих стран».
Разумеется, советский посол в Вашингтоне не мог не ощущать всей тяжести ответственности, которая лежала на нем. А потому делал все возможное и невозможное, чтобы дело не дошло до разрыва ставших хрупкими отношений. Хотя переговоры о долгах и кредитах фактически были заморожены, тем не менее в 1937 году удалось заключить советско-американское торговое соглашение, в основу которого был положен принцип наибольшего благоприятствования. В 1938 году это соглашение было продлено.
Помог потеплению в советско-американских отношениях беспосадочный полет из Москвы в США через Северный полюс В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова летом 1937 года. Он произвел в США настоящий фурор. Отец специально полетел на западное побережье Соединенных Штатов, чтобы встретить там героический экипаж, который приземлился на военной базе близ города Ванкувера.
Пару дней они жили в доме командующего военным округом генерала Джорджа Маршалла, который впоследствии прославился во время войны на посту начальника Генерального штаба армии США, а затем – в качестве государственного секретаря и министра обороны. Не исключено, что Рузвельт впервые обратил внимание на малоизвестного генерала именно в связи с полетом чкаловской тройки. Будучи в Москве в 1947 году на совещании министров иностранных дел четырех держав, Маршалл выразил Молотову желание посетить вдову Чкалова. Никакого ответа на эту просьбу он почему-то не получил.
Из Ванкувера летчики в сопровождении посла отправились поездом в небольшое турне по Америке: Сан-Франциско-Чикаго-Вашингтон-Нью-Йорк. По пути на всех станциях состоялись торжественные встречи, а в больших городах – многолюдные митинги и банкеты.
Любопытный случай, характерный для поведения сотрудников Госдепа, произошел в Вашингтоне. Считая, что подвиг советских летчиков заслуживает того, чтобы они были приняты президентом, посол обратился с соответствующей просьбой в Госдепартамент. Вскоре поступил ответ: президент очень занят, да и случай не такой уж выдающийся, чтобы отрывать его от дел. Получив такой не очень вежливый ответ, отец позвонил Маргарите Леханд, личному секретарю Рузвельта, и повторил свою просьбу. Она ответила, что постарается что-нибудь сделать. Через час позвонили из Госдепартамента и сообщили, что они еще раз подумали, связались с Белым домом и могут сообщить, что президент будет рад принять советских летчиков.
Рузвельт оказал Чкалову и его товарищам очень теплый прием, высоко оценил их подвиг, сказал, что они как бы приблизили Советский Союз к Соединенным Штатам. В столице их приняли также Хэлл и некоторые другие высокопоставленные лица.
Через несколько дней после отъезда летчиков из Нью-Йорка наша семья отправилась в отпуск. Мы присоединились к ним в Париже и дальше до Москвы ехали вместе. Когда поезд пересек границу, на каждой остановке толпы людей приветствовали героев, «покоривших пространство и время», как тогда пели. Энтузиазм был неподдельный. Пожалуй, то, что происходило тогда, можно сравнить только со встречей Гагарина после его полета в космос. На каждой остановке Чкалову, Байдукову и Белякову приходилось выступать с речами. Наконец они настолько обессилели, что в некоторых случаях просили отца выступить вместо них. В Москве толпы заполнили площадь перед Белорусским вокзалом всю улицу Горького до Кремля. Летчики и отец вместе с ними отправились прямо на прием в Георгиевский зал, а мы с матерью поехали к себе домой на Малую Бронную. Вскоре после нашего приезда туда нам позвонила жена Молотова Полина Семеновна Жемчужина, которая сказала, что посылает за нами машину. Когда мы приехали в Кремль, прием был в полном разгаре. Роль тамады исполнял Молотов. Среди прочих был такой тост: «За наших выдающихся дипломатов – Литвинова и Трояновского!»
Через несколько дней отца принял Сталин. Он был очень доволен приемом, оказанным летчикам в Соединенных Штатах, и считал это хорошим признаком, так как был убежден, что такое не могло произойти без одобрения и поощрения Белого дома. Отец не стал отрицать этого, но, вернувшись домой, сказал, что Сталин все-таки плохо представляет себе, как функционирует американское общество.
Хотя в своих письмах и телеграммах в Москву отец сам постоянно подчеркивал, что на данном этапе советско-американских отношений и в обозримом будущем решающую роль играет фигура Франклина Рузвельта: «Нам надо считаться с фактом, что судьба наших отношений с США в известной мере связана с судьбой самого Рузвельта. Если он потеряет свое влияние, отношения ухудшатся, и договориться будет труднее. Если он укрепится, отношения улучшатся, и можно будет достигнуть договоренности…» В письме от 21 октября 1936 года, то есть накануне президентских выборов, отец вновь писал о важности победы Рузвельта. Победа эта состоялась, причем с таким подавляющим преимуществом, какого не было в истории США ни до того, ни после.
Отец был шокирован, когда в письме Литвинова от 26 марта 1938 года прочитал: «Рузвельт и Хэлл продолжают дарить мир своими проповедями, но в то же время палец о палец не ударяют в пользу мира. На фоне сохранения закона о нейтралитете и неограниченного снабжения Японии оружием означенные проповеди становятся тошнотворными».
В Москве, видимо, действительно до конца не понимали ситуацию в США, где изоляционистские, нейтралистские и пацифистские настроения все еще были весьма сильны, и ими пользовались реакционные силы, заинтересованные в сохранении дружественных отношений со странами-агрессорами. Тактика Рузвельта заключалась в том, чтобы, не забегая вперед, постепенно подводить страну к пониманию того, что и сами Штаты не гарантированы от агрессии, а потому не должны стоять в стороне от борьбы против сил, развязывавших войну.
И нужно сказать, что, несмотря на конфликтные ситуации, возникавшие в советско-американских отношениях в 30-х годах, отцу удалось сохранить хорошие личные отношения с президентом. В нескольких его беседах с Рузвельтом возникал вопрос и о Японии, о чем я уже говорил, и о гитлеровской Германии, хотя и реже. Можно было понять, что на том этапе Рузвельта больше беспокоила угроза со стороны Японии. Тем не менее 24 декабря 1936 года на банкете, который традиционно устраивался журналистами в честь президента в Гридайрон-клубе, где советский посол сидел рядом с Рузвельтом, последний ему сказал, что предвидит возникновение большой войны в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и Советский Союз будут союзниками в этой войне и победят, а после победы перед ними возникнет сложная задача реконструировать мир на новой основе.
Там же, в Гридайрон-клубе, Рузвельт расспрашивал отца о Сталине и Ленине как об ораторах. Он говорил, что сам стремится к простоте и общедоступности своих выступлений, вплоть до того, что старается реже использовать слова романского происхождения, а чаще – с англосаксонскими корнями. Обращал он внимание также на то, что в своих предвыборных выступлениях никогда не упоминает фамилию оппонента. «Зачем, – сказал он, – создавать ему лишнюю рекламу». Затем он высказался о Троцком как о краснобае. Отец выразил надежду, что краснобайство Троцкого не будет слышно на территории США. Рузвельт подтвердил это и добавил, что мексиканское правительство, на его взгляд, совершило ошибку, дав Троцкому убежище на территории своей страны.
Было бы наивно идеализировать Рузвельта, изображать дело так, будто он все видел, все понимал и прежде всего заботился об укреплении отношений с Советским Союзом. Это был умный и гибкий политик, который порою шел к своей цели не напрямик, а обходными путями. Многое в его действиях определялось внутриполитическими соображениями и конечно же национальными интересами США, как он их понимал.
Однажды – это было примерно в мае 1936 года – отец показал мне письмо, полученное им дипломатической почтой. Он закрыл рукой основную часть письма и показал мне только концовку. Насколько я помню, там от руки было написано: «Прошу сделать это лично для меня. И. Сталин».
Как я узнал много лет спустя, в письме содержалось поручение договориться с американцами о строительстве в Соединенных Штатах двух сверхтяжелых линейных кораблей с 16-дюймовыми орудиями. Начались затяжные переговоры. По указанию из Москвы к ним был подключен американский бизнесмен Сэм Карп, который в сентябре 1936 года создал в Нью-Йорке фирму с единственной целью добиться строительства для Советского Союза одного или двух самых мощных для того времени военных кораблей. Это был родной брат уже упомянутой мной Полины Семеновны Жемчужиной, жены председателя Совнаркома В. М. Молотова, девичья фамилия которой была Карповская (отсюда и Карп). Осенью 1936 года в Нью-Йорк прибыла и сама П. С. Жемчужина. С какой целью, для меня осталось загадкой. Отец ничего мне об этом не говорил, так что я могу только догадываться.
Решение поставить Сэма Карпа во главу переговоров о военных кораблях было далеко не лучшим вариантом. Он был мелким бизнесменом, и, хотя располагал значительными средствами, полученными от советской стороны, такой крупный проект, как строительство двух огромных линейных кораблей, был ему просто не по плечу. К тому же американцы отнеслись к нему с большой долей скепсиса и открыто говорили, что было бы гораздо солиднее, если бы этим проектом занимался советский Амторг или какая-нибудь известная американская фирма.
Посольство занималось указанным проектом в тех случаях, когда необходимо было подключить к нему государственные учреждения США. Это была сложная работа. Сначала против сделки с линкорами выступил Государственный департамент. Когда же он снял свои возражения, уперся министр военно-морских сил Клод Суансон. После того как удалось преодолеть и его сомнения, продолжали вставлять палки в колеса высшие офицеры его министерства.
Когда проект стал приобретать реальные очертания, Государственный департамент доложил состояние дел президенту Рузвельту. 3 апреля состоялось заседание кабинета министров, где рассматривался этот вопрос. Согласно записям в дневнике министра внутренних дел Гарольда Икеса, министр Суансон на этом заседании фактически не сказал ни да ни нет. Сам же президент не имел возражений против того, чтобы линкор или линкоры были построены в США. Он поручил Суансону найти частную судостроительную компанию, которая взялась бы за постройку кораблей.
Однако высшие чины военно-морского ведомства и особенно руководство разведки военно-морского флота по-прежнему относились к этой затее негативно. Не без их участия в газетах стали появляться весьма тенденциозные сообщения, направленные против сделки с Советским Союзом. Под влиянием этих сообщений подрядчик, которым стала фирма «Бетлехем», отказался подписать контракт с финансовой группой, возглавляемой Карпом.
Пытаясь позитивно решить дело, отец на одном из приемов сказал адмиралу Леги, который занимал пост начальника штаба военно-морских сил, что если линейный корабль удастся построить, то он, вероятнее всего, будет базироваться на Дальнем Востоке, а следовательно, сможет в случае военного конфликта противостоять вместе с кораблями США японскому флоту. Однако даже этот заход не получил положительной реакции.
В конце августа 1937 года президент Рузвельт, может быть, под впечатлением того, что японская агрессия распространилась уже на значительную часть китайской территории, заявил адмиралу Леги, что он «был бы доволен, если бы контракт, находившийся в стадии обсуждения, был осуществлен».
Но даже и после этого флотское руководство продолжало саботировать проект. Некоторые офицеры министерства военно-морского флота фактически шантажировали представителей различных частных фирм. Поскольку распределение американских заказов частным фирмам в значительной степени зависело от военно-морского министерства, давление со стороны его представителей имело значительный эффект.
В конце концов переход к практическим шагам в деле со строительством линкора или линкоров произошел в результате событий, происшедших не в Вашингтоне, а в Москве. Американский посол Джозеф Дэвис, сменивший Буллита, готовился покинуть свой пост. 5 июля 1938 года он нанес прощальный визит Молотову. К удивлению посла, после нескольких минут разговора с председателем Совета народных комиссаров в кабинет вошел Сталин. В состоявшейся беседе он главное внимание уделил вопросу о линкорах. По словам Дэвиса, он сказал, что ему трудно понять, почему этот вопрос остается без движения. Советское правительство готово заплатить за строительство линейного корабля, который будет строиться в Соединенных Штатах, а также за техническую помощь со стороны американских фирм в строительстве дубликата в Советском Союзе, от шестидесяти до ста миллионов долларов, причем наличными.
Личное вмешательство Сталина сыграло свою роль. 8 июня Рузвельт, собрав у себя высших офицеров военно-морского министерства и чиновников Государственного департамента, подтвердил, что он одобряет строительство в США линейного корабля водоизмещением в 45 тысяч тонн. Он не только заявил, что отсутствуют какие-либо возражения против этой сделки, но повторил ранее сказанные им слова, что он лично очень надеется на ее осуществление. Не ограничиваясь этим, на сей раз он приказал министерству военно-морского флота оказать содействие конструкторам, судостроителям и советским представителям, которые будут участвовать в осуществлении проекта. Когда президента предупредили, что некоторые руководящие работники военно-морского министерства все же могут уклониться от поддержки проекта, Рузвельт посоветовал назначить ответственным за все мероприятие офицера в ранге адмирала.
В тот же день Государственный департамент сообщил советскому послу о принятых решениях. Однако, к удивлению американцев, в конце 1938 года советское руководство по какой-то причине пересмотрело свои планы и решило строить линкоры в Советском Союзе, разместив в США заказ только на вооружение для них.
Впрочем, это произошло уже после возвращения нашей семьи в Советский Союз летом 1938 года.
Можно ли считать работу отца в Вашингтоне успешной? Если судить о ней по конкретным результатам, ответ, пожалуй, должен быть отрицательным. Ему не удалось урегулировать ни вопрос о долгах и кредитах, ни выполнить личное поручение Сталина о строительстве в США линейных кораблей для советского флота. Но быть может, контакты, которые он установил во время пребывания в США, особенно откровенные беседы президентом Рузвельтом, его многочисленные публичные выступления, интервью и пресс-конференции помогли заложить основы для более продуктивного советско-американского диалога в последующие годы, а затем и для союзнических отношений во время войны.
К тому же отец неоднократно подчеркивал в своих письмах и телеграммах из Вашингтона, что в предстоящей мировой войне – а он не сомневался, что такая война вскоре будет развязана, – роль США в поддержке антифашистских сил может оказаться неоценимой. Поэтому Советскому Союзу уже в предвоенные годы надлежит исходить из этого и строить свою внешнюю политику соответствующим образом.
Иван Майский в своих воспоминаниях пишет:
«…Между Лондоном и Вашингтоном всегда существовали постоянные политические связи, и я из разных источников – английских, американских и всяких иных – часто получал сведения о работе Трояновского за океаном. Все эти сведения, как правило, были положительного характера. Быть может, ярче всего и вернее всего о нем сказал в разговоре со мной Гарри Гопкинс, когда мы встретились с ним летом 1941 года в Лондоне. Рассказывая о трудностях, с которыми было связано создание антигитлеровской коалиции, Гопкинс упомянул об Александре Антоновиче, который в это время уже не являлся советским послом в США.
– Это был хороший русский посол, – заметил Гопкинс. – Самое главное, он понимал американцев и американцы понимали его. Всегда была возможность договориться».
В годы репрессий
В начале декабря 1934 года моя мать, военный атташе Клайн-Бурзин, его жена и я ехали на машине из Вашингтона в Филадельфию, где должен был состояться традиционный матч по американскому футболу между военной и военно-морской академиями. На заправочной станции я купил газету и на одной из последних страниц обнаружил небольшую заметку о том, что в Ленинграде убит местный партийный босс Сергей Киров. Я поведал об этом своим спутникам и был удивлен прямо-таки панической реакцией, которую это сообщение вызвало у военного атташе. Я тогда еще не мог себе представить, какие страшные последствия будет иметь это событие. То, что началось двумя-тремя годами позже, сегодня кто-то называет сталинским террором, кто-то – годами репрессий. Это была действительно полоса тяжелейших испытаний, в особенности для той категории людей – партийных, военных, дипломатических работников, – в среде которых вращалась наша семья.
Для меня первым сигналом надвигавшейся, а по существу, уже бушевавшей в Советском Союзе бури послужил разговор где-то в первой половине 1937 года с тогдашним корреспондентом «Известий» в Вашингтоне Владимиром Роммом. В прошлом он числился среди троцкистов. В тот день мы случайно встретились у входа в посольство. Не знаю, что побудило Ромма сказать те несколько фраз мне, семнадцатилетнему юноше. Наверное, у него было тяжко на душе, и его мучили нехорошие предчувствия, а потому и возникло непреодолимое желание с кем-нибудь поделиться своими опасениями. Так или иначе, но он промолвил тогда: «Знаешь, меня вызывают в Москву. И я чувствую, что это означает, но иначе не могу, не могу не вернуться».
Позднее стало известно, что по приезде в Москву Ромм был сразу арестован. Затем он выступал в качестве свидетеля на одном из крупных тогдашних процессов и «признавался», что выполнял чуть ли не роль связного между высланным за рубеж Троцким и его сторонниками в СССР. Можно не сомневаться, что Ромм был вместе с другими отправлен на тот свет. А нынче наверняка реабилитирован.
Возникает вопрос: что побудило его возвратиться в Советский Союз и тем самым обречь себя почти на верную смерть. Не было ли это проявлением того синдрома, который казался столь загадочным для многих, готовности пожертвовать собой, лишь бы не выглядеть в глазах друзей предателем дела, в которое человек верил и которому честно посвятил большую часть своей жизни. А это так бы и выглядело, если бы Ромм остался в США.
Но мучит и другой вопрос: почему многие поверили в то, что нарастающие изо дня на день репрессии справедливы? Конечно, тут сыграла свою роль массированная пропаганда. Но было и одно серьезное объективное обстоятельство. Это резко возросшая в те годы международная напряженность, вызванная агрессивностью гитлеровской политики. Причем создавалось впечатление, что первой жертвой нападения Германии в блоке с Японией станет Советский Союз, слишком миролюбиво вели себя по отношению к Гитлеру политики Англии и Франции. Думаю, что это ожидание войны с Германией и служило в глазах многих определенным психологическим оправданием репрессий, направленных против немецких и японских «шпионов» и «агентов».
Такую же реакцию мы наблюдали и в Соединенных Штатах. Конечно, традиционно антисоветская пресса изобличала эту охоту на ведьм. Но многие американцы считали, что сообщения об арестах и судилищах – плод преувеличений и выдумок. Главная опасность для них исходила из Берлина. Думаю, что именно к этой части американцев относился и сам президент Рузвельт. Полагаю, что определенную роль играла и информация, которую он получал, от тогдашнего посла Соединенных Штатов в Советском Союзе Джозефа Дэвиса, который впоследствии в своих воспоминаниях о пребывании в Москве писал, что воспринимал как абсолютную правду все то, что он услышал на процессе Бухарина, Радека и других, где ему довелось присутствовать.
Воздерживались от резкой критики тогдашних порядков в Советском Союзе и многие американцы еврейского происхождения, если не большинство, уже тогда понимавшие, что Гитлер несет евреям гибель. Основатель и президент крупнейшей компании по производству электроники и радиотрансляционной техники Сарнов полушутя-полусерьезно говорил отцу, что, если Германия нападет на Советский Союз, он готов пойти добровольцем в Красную армию. В это же время в США был создан Американский комитет по переселению евреев в Биробиджан, чтобы спасти их от преследований в других европейских странах.
Вообще в те годы в США под влиянием Великой депрессии и нового курса Рузвельта получили довольно широкое распространение левые настроения. Носители этих настроений склонны были смотреть на происходящее в Советском Союзе через розовые очки и рассматривать сообщения о массовых репрессиях как клевету на социалистический строй. Помнится, что, когда в сентябре 1937 года я впервые вошел в общежитие Суортморского колледжа, где мне предстояло провести один учебный год, я был удивлен, увидев на стенах студенческого общежития советские плакаты с карикатурным изображением троцкистов, которых красноармейцы пригвоздили к позорному столбу. Троцкий с его теорией «перманентной революции» имел репутацию ультралевого бунтаря, готового разжечь пожар в любой точке земного шара. На этом фоне Сталин выглядел как умеренный политик националистического толка, сосредоточивший внимание на построении социализма в одной стране. Поэтому в широких кругах американского общества Троцкий симпатий не вызывал.
Приехав в Москву в отпуск летом 1937 года, мы окунулись в атмосферу тревоги, подозрительности и какой-то непредсказуемости. По Москве ходила мрачная шутка: на вопрос: «Как живете?» ответ: «Как в автобусе: половина сидит, половина трясется». Это был самый разгар репрессий, которые особенно больно отразились на том круге людей, с которыми общалась наша семья. Некоторые, если не большинство наших знакомых к тому времени уже исчезли, другие не скрывали опасений за свою судьбу.
Было заметно, что чувства замешательства и настороженности проникли и в высшие сферы политики. Наш первый визит по прибытии в Москву был к Полине Семеновне Жемчужиной. Мы навестили ее в здании нынешнего ГУМа, где находился парфюмерный трест ТЭЖЭ, которым она руководила. После своей поездки в США в 1936 году Полина Семеновна прониклась какой-то особой симпатией к нашей семье. «Что же это творится, что же это творится! – восклицала она. – Вот теперь и Межлаука арестовали. Кто бы мог подумать!» (Межлаук был председателем Госплана СССР.) И хотя она вроде бы прямо не подвергала сомнению закономерность арестов, все же в этих восклицаниях сквозили определенные сомнения. Впоследствии была арестована и сослана сама Полина Семеновна, ее освободила только смерть Сталина.
Жемчужина пригласила нас поехать послушать генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, который выступал где-то неподалеку с докладом перед общественностью. Речь Вышинского была полна победных реляций и гневного осуждения «врагов народа». Когда мы вернулись домой, отец спросил, обратил ли я внимание на высказывание Вышинского о том, что карательные органы обезвредили не только тех, кто совершил преступления, но и тех, кто мог бы их совершить. И с усмешкой добавил, что это нечто новое в юриспруденции.
В Москве мы побывали в нескольких домах высокопоставленных деятелей. Невольно обращали на себя внимание определенные нюансы в их высказываниях по поводу происходящих репрессий. Из всего, что пришлось слышать, наиболее непримиримо прозвучали слова В. М. Молотова, когда мы были у него на даче. В ходе беседы отец, который уже тогда хотел уйти с поста посла в Вашингтоне, упомянул о бывшем председателе Амторга Богданове в качестве своего возможного преемника. В ответ Молотов тоном, не терпящим возражений, заявил, что Богданов совершенно разложившийся тип и что давно пора разделаться со всей этой публикой. После такой реплики дальнейший разговор на эту тему становился бессмысленным. Позднее, во время моей работы в МИДе, мне не раз приходилось слышать Молотова, переходящего на этот жесткий тон, когда он хотел выразить свое недовольство поведением того или иного сотрудника. В этих случаях его голос приобретал какой-то металлический, чрезвычайно неприятный, отталкивающий оттенок.
Несколько раз мы побывали в гостях у Микоянов. Анастас Иванович и его супруга Ашхен Лазаревна незадолго до этого посетили США, где провели несколько недель, путешествуя по стране. Анастас Иванович по заданию Сталина знакомился с американскими предприятиями пищевой промышленности. Кое-что он потом внедрил в нашей стране, главным образом в Москве: появилось фабричное мороженое, маленькие котлетки, получившие в народе шутливое название «микоянчики», сосиски в булках по типу американских хот-догов. К сожалению, многое из этого потом ушло в прошлое.
Микоян был в хороших отношениях с отцом с давних времен, начиная с 20-х годов. В тех случаях, когда мы бывали в гостях у Микоянов, Анастас Иванович воздерживался от каких-либо комментариев по поводу бушевавшей в стране арестной стихии. Зато с пафосом, в духе времени превозносил коллективизацию как победу над самым многочисленным эксплуататорским классом – кулачеством. Приходилось слышать много лестных слов о только что опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» и особенно о четвертой, теоретической главе, написанной, как подчеркивалось, лично товарищем Сталиным. Кстати говоря, когда садились за стол во всех этих высокопоставленных домах, существовал ритуал – первый тост всегда провозглашался за товарища Сталина.
Несколько иной дух витал в доме Литвинова, в то время он еще оставался народным комиссаром иностранных дел. Там даже не пытались скрывать своего скептического, а то и саркастического отношения к царившему в стране беспределу. Когда отец упомянул о ком-то из общих знакомых, кого окрестили шпионом, Максим Максимович заметил: «А что же тут удивляться, теперь все шпионы, а если кто-то еще не шпион, то в любой день может им стать».
Время от времени, хотя все реже и реже, к нам домой наведывались сослуживцы отца по Госторгу, Токио или Вашингтону. Запомнился разговор отца с пришедшим к нам домой В. Н. Кочетовым – он был торговым представителем в Японии в бытность моего отца послом. Кочетов рассказал, что почти всех торгпредов вызвали в Москву, и практически каждый день кого-то из них не досчитывались. «Впрочем, – с некоторой гордостью сказал Кочетов, – я чувствую себя довольно уверенно. Дело в том, что, когда я работал в Германии, туда приезжал Николай Иванович Ежов, и между нами установились хорошие отношения. Пару дней назад я решил посетить Ежова и поговорить с ним. Он встретил меня очень дружелюбно, мы поговорили о старых временах, и в заключение он сказал, что мне, конечно, нечего беспокоиться, я могу спокойно работать». Не прошло и двух-трех дней, как мы узнали об аресте Кочетова.
Я знаю два случая, когда отец пытался заступиться за известных ему людей. Один из них был председатель Амторга Боев. Отец ходил пару раз на партийные собрания, где рассматривалось дело Боева, и выступал в его защиту. В каких грехах обвиняли Боева, я не знаю, но так или иначе дело кончилось арестом. Другой случай был связан с довольно видным инженером-нефтяником, мужем приятельницы моей матери, который был арестован по обвинению во вредительстве. Отец говорил по этому поводу с кем-то из Комиссии партийного контроля и через некоторое время получил ответ, что человек, о котором он хлопочет, сознался не только в конкретных случаях вредительства, но и в заговоре против советской власти. Причем когда на допросе его спросили, как мог он договариваться с представителями иностранной державы о передаче ей части советской территории, он будто бы заявил, что не видит в этом ничего особенного – ведь передали же большевики немцам значительную часть российской земли по Брест-Литовскому договору.
Видимо, надо было обладать известной долей наивности или даже простодушия, чтобы полагать, что в обстановке 30-х годов такого рода хлопоты могли кому-нибудь помочь. Результат был как раз противоположный – не облегчение участи арестованного, а стремление следователей любым путем выжать из подследственного дополнительные, еще более серьезные признания. Я не говорю уже о том, какому риску подвергал себя сам ходатай, особенно если в прошлом он, как отец, был меньшевиком.
Особенно болезненно наша семья восприняла арест командующего Черноморским флотом, флагмана флота Ивана Кузьмича Кожанова, героя Гражданской войны, у него был орден Красного Знамени. Иван Кузьмич, я его уже упоминал, был военно-морским атташе в Японии, и наши семьи подружились. Эта дружба сохранилась и после возвращения из Токио. К тому же у Кожановых не было детей, и они относились ко мне с особой теплотой. Приезжая в Москву, они обычно останавливались у нас на квартире. А в 1931 году по приглашению Ивана Кузьмича мы с отцом побывали на флагманском корабле Черноморского флота – линкоре «Парижская коммуна», присутствовали на маневрах. Это произвело на меня, одиннадцатилетнего мальчика, большое впечатление, хотя и не потянуло на морскую службу, на что надеялся Иван Кузьмич. Отец не раз говорил, что он считает Кожанова политически наиболее подготовленным работником из всех советских военных, работавших в то время в Японии.
И вот теперь, летом 1937 года, однажды вечером, вернувшись домой, мы узнали от родственницы, жившей в то время у нас, что звонил Иван Кузьмич и спрашивал отца, причем ей показалось, что он был пьян. Поскольку Кожанов практически никогда не пил, мы почувствовали, что произошло что-то из ряда вон выходящее. На следующий день выяснилось, что Ивана Кузьмича вызвал к себе Ворошилов и сообщил, что на него поступили серьезные компрометирующие материалы. Нарком выразил надежду, что все это вскоре прояснится, но заявил, что тем временем он вынужден отстранить Кожанова от командования Черноморским флотом.
Через несколько дней я должен был уезжать в Соединенные Штаты для продолжения учебы (родители уехали чуть позже). Перед отъездом я посетил Ивана Кузьмича, который жил в гостинице «Москва» и ждал решения своей участи. Я нашел его, во всяком случае внешне, вполне спокойным или, может быть, лучше сказать, владеющим собой. Он читал «Хромого беса» Лесажа – французский плутовской роман XVII века. Мы поговорили немного, я пожелал, чтобы все обошлось благополучно, и ушел. Больше мы не виделись, его вскоре арестовали как врага народа.
В журнале «Вопросы истории» (№ 4 за 1995 г.) в статье О. Ф. Сувенирова «Военная коллегия Верховного суда СССР (1937–1939)» я с волнением прочел: «Среди многих тысяч военных, судимых в 1937–1938 гг. Военной коллегией, встречались и такие, у которых на всем протяжении предварительного и судебного следствия, несмотря на угрозы, провокации и истязания, не удалось вырвать ни единого признания в несовершенных ими преступлениях. Подлинными героями сопротивления произволу были флагман флота 2-го ранга И. К. Кожанов… Несмотря на отсутствие объективных доказательств их участия в «заговоре», все они были осуждены Военной коллегией к смерти».
Еще год мы находились в США. Отец мало высказывался о событиях на родине. Только иногда повторял то место из Шекспира, где Гамлет говорит Горацио о том, что в мире случаются такие вещи, какие и не снились философам. В то же время, будучи официальным представителем своего правительства, он временами делал публичные заявления о том, что перед непосредственной угрозой фашистского нападения Советский Союз считает необходимым расчистить свой тыл.
Летом 1938 года мы окончательно вернулись в Москву. Там продолжала бушевать стихия арестов, ссылок и просто исчезновения людей. Вокруг нашей семьи образовалась какая-то пустота, и психологический климат был даже хуже, чем в предыдущем году. На высшем уровне отца никто не принимал. На высокопоставленные дачи мы уже не ездили, за исключением, пожалуй, дачи Микоянов. Да и тут появились какие-то неуловимые изменения в поведении хозяина.
Запомнилось одно воскресенье, когда мы приехали и оказалось, что Анастас Иванович отсутствует. Через некоторое время он появился в сопровождении небезызвестного Фриновского, который в то время был первым заместителем наркома внутренних дел Ежова. За обедом Фриновский принялся разглагольствовать об успешной борьбе НКВД против врагов народа, шпионов, вредителей, саботажников и им подобных. И поскольку он говорил все это, смотря в упор на мою мать, то весь этот монолог производил какое-то тяжелое и даже зловещее впечатление. На следующий день в понедельник наступило нечто вроде развязки: был звонок в дверь нашей квартиры, и появился фельдъегерь, который вручил отцу пакет. В нем оказалось решение политбюро об освобождении А. А. Трояновского от обязанностей полномочного представителя СССР в США по собственному желанию. Формально говоря, здесь не было оснований для беспокойства, так как речь шла об удовлетворении просьбы об освобождении, с которой отец действительно обращался к руководству. Но в тот период люди испытывали повышенную чувствительность. А поскольку отца так никто из высших руководителей не принял, да еще под впечатлением предыдущего дня у Микоянов, оставившего весьма неприятный осадок, решение политбюро вызвало чувство тревоги.
После этого отец в течение длительного времени не получал никакого нового назначения и находился в ка ком-то подвешенном состоянии, числясь в резерве Наркомата по иностранным делам. При всем его умении владеть собой, он не мог скрыть нервозности. Был случай, когда он сказал мне: «Как бы нам не пришлось отправиться в места не столь отдаленные». И хотя в его словах звучала ирония, смысл их был далеко не ироничный. В другой раз он сказал уже без всякой тени иронии: «Имей в виду, какие бы методы они там ни стали применять, я все равно ничего не стану наговаривать ни на себя, ни на других».
А однажды я по-настоящему испугался. В середине ночи в конце 1938 года раздался звонок в дверь. Все проснулись с тревожным чувством. Вспоминая об этом, я и сейчас ощущаю, как сильно у меня забилось сердце при этом звонке. К счастью, это была только срочная телеграмма от кого-то из родственников или знакомых – я сейчас уже точно не помню. Конечно, в этом эпизоде, как и в некоторых других подобных, было что-то унизительное. Совершенно ни в чем не виновные люди должны были бояться ночного звонка в дверь. Но таково было то время острых, мягко говоря, ощущений.
Бывали и эпизоды, которые теперь лишь вызывают улыбку. У нас в доме было множество фотографий со времен пребывания в Японии, в том числе портреты различных японских деятелей со словами уважения, а иногда и прямо-таки льстивыми, в духе японцев, надписями в адрес отца. Однажды моя мать решила, что у нас в любой день может быть произведен обыск и тогда все эти японские фотографии с надписями станут компрометирующим материалом. И она попросила меня помочь ей уничтожить фотографии. Мы начали рвать несчастных японцев и спускать их в унитаз. Но, видимо, их было так много, что канализационная система стала захлебываться. Через некоторое время появился дворник и поинтересовался, что происходит. Он жаловался, что из унитазов на всех этажах стали выныривать какие-то японцы, некоторые со строгим выражением на лицах, другие – улыбающиеся. Нина Николаевна ответила что-то невнятное, дала дворнику какой-то подарок и выпроводила его. К счастью, все обошлось, утонули только фото безвинных японцев, которые сегодня очень бы пригодились для иллюстраций этой книги.
Тем временем я поступил на первый курс Московского института философии, литературы и истории (ИФЛИ). Отпечаток того времени, конечно, давал себя знать и там. Время от времени на комсомольских собраниях рассматривались персональные дела студентов или студенток – детей «врагов народа». Кто осуждал своих родителей, тот получал индульгенцию, а кто нет – немедленно исключался из комсомола. Все это было чрезвычайно тягостно для всех, в том числе, как казалось, и для членов комитета комсомола, во всяком случае для некоторых из них.
Вместе с тем я не хотел бы, чтобы у читателя сложилось однобокое впечатление о том времени. Жизнь была очень противоречива. Мы были молоды и полны энтузиазма, верили, что будущее все исправит. Учиться было очень интересно. ИФЛИ был учебным заведением высшей квалификации как по профессионализму профессорско-преподавательского состава, так и по уровню учащихся. Из него вышли люди, занявшие заметное место в культурной и общественной жизни страны. В качестве студентов или аспирантов посещали лекции Александр Твардовский, Константин Симонов, Александр Чаковский, а также ставшие потом видным журналистами мои друзья Лев Шейдин и Лев Безыменский. Давид Самойлов, который для всех был Дезькой Кауфманом, стал одним из моих ближайших друзей. Он учился в одной группе со мной и сочинял тогда стишки вроде этого: «Народ избрал царем Кауфмана, смеяться – поздно, плакать – рано». На курс младше учился Семен Гудзенко. ИФЛИ часто навещали такие начинающие поэты, учившиеся в Литературном институте, как Павел Коган, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий. Учился в ИФЛИ будущий член политбюро ЦК КПСС и председатель Комитета государственной безопасности Александр Шелепин.
В ИФЛИ витал дух пытливости, любознательности и в меру – вольнодумства. Помню, например, что каждый раз по пути на Красную площадь во время майских и ноябрьских демонстраций, проходя мимо определенного места, было принято хором кричать: «Да здравствует Борис Леонидович Пастернак!» Впрочем, в то время Пастернак еще не имел той репутации диссидента в официальных кругах, которую он приобрел впоследствии.
Можно не сомневаться, что ИФЛИ дал бы еще много других имен, не менее блистательных, чем перечисленные, если бы не страшные потери, понесенные нашим народом во время Отечественной войны. Вспоминаются многие ребята, обладавшие выдающимися способностями. Их вклад мог бы быть поистине уникален.
Но в то время война с Гитлером была еще впереди, а люди наши гибли в мирное время. Впрочем, к концу 1938 года тут произошел некоторый сдвиг в лучшую сторону. Судя по всему, у Сталина возникли опасения, что машина уничтожения, которая действовала по всей стране, может полностью выйти из-под контроля. Следуя известной методике, он обвинил своих подручных палачей в нарушениях законности, неправильных методах ведения следствия и других грехах. Ежов и некоторые другие, в том числе и Фриновский, были сняты со своих постов, а позднее арестованы и казнены.
Преследовал Сталин и иную цель – показать людям, что он ко всем этим безобразиям и беззакониям не имеет никакого отношения, просто его элементарно не ставили в известность и обманывали. Чепуха, конечно, но очень многие в нее верили. Я помню, как люди говорили: вот если бы Сталин знал! И вот Сталин «узнал», и наступило заметное послабление: топор продолжал падать, но значительно реже. Кое-кто стал возвращаться из лагерей, а в той обстановке даже малое число производило впечатление.
Так или иначе, дышать стало свободнее. У нас было такое чувство, будто ангел смерти пролетел где-то совсем близко, даже задел своим крылом. Спустя много лет А. Микоян рассказывал мне, что вопрос о будущем Александра Трояновского рассматривался руководством. Сталин, по его словам, долго размышлял, как поступить: с одной стороны, речь шла о бывшем меньшевике, в отношении которого к тому же поступили доносы, с другой – Сталин хорошо знал его лично и, во всяком случае до недавнего времени, относился к нему с уважением. Конечно, судьба других говорит о том, что в те времена близкое знакомство с вождем не было охранной грамотой, а скорее наоборот. Так или иначе, но в данном случае было принято половинчатое решение «не трогать», но и на ответственной работе не использовать.
Тем не менее примерно в середине 1939 года, вскоре после снятия Литвинова с поста народного комиссара иностранных дел, было принято решение образовать комиссию по написанию истории дипломатии в составе: Литвинова, Трояновского и академика Ротштейна. Однако эта комиссия фактически осталась мертворожденной, главным образом потому, что Литвинов считал себя обиженным и к тому же не имел вкуса к этой работе.
Отец продолжал вести достаточно активный образ жизни, читал лекции в Дипломатической академии и других местах, начал писать книгу о Франклине Рузвельте. Однако болезнь Паркинсона неумолимо развивалась и подтачивала его силы. Умер он летом 1955 года.
Репрессии 30-х годов легли несмываемым черным пятном на всю историю Советского Союза, и все же этот период далеко не так однозначен, как его трактуют сегодня. То, что главная ответственность за происшедшее ложится лично на Сталина, вряд ли может вызвать сколько-нибудь серьезные сомнения. Но можно ли ограничиться только этим в поисках истины? Были ли карательные органы лишь орудием в руках Сталина, или с их помощью велась и другая большая игра? Вынашивались ли какими-то группами планы компрометации тогдашнего руководства и устранения Сталина? Существовали ли планы ликвидации советского строя или, напротив, исправления серьезных ошибок, допущенных Сталиным? К сожалению, события этого периода настолько затуманены эмоциями, что сколько-нибудь объективный подход к его изучению вряд ли возможен сейчас или в ближайшем будущем.
Впоследствии на протяжении всей своей служебной деятельности как в качестве помощника Хрущева и Косыгина, так и в качестве посла мне так или иначе приходилось более или менее регулярно иметь дело с представителями КГБ. Впрочем, это, как правило, были сотрудники внешней разведки, а не службы внутренней безопасности. Среди них, как в любом другом ведомстве, попадались люди разного интеллектуального уровня и различных моральных кондиций. Встречались в высшей степени разумные, честные, готовые помочь тем, кто оказывался в трудном положении. Среди них назову теперь уже покойного Ю. И. Попова, который был при мне советником посольства в Японии. Хочется назвать и Д. И. Якушкина, прямого потомка декабриста Якушкина, много лет работавшего в США. Были и другие высокопорядочные люди. Значительно реже я встречался с теми, кто занимался контрразведкой и внутренней безопасностью. Поэтому о них мне судить труднее.
В этой связи расскажу об одном приключившемся со мной случае. Это было в конце 50-х годов, когда во главе КГБ находился А. Н. Шелепин, а я тогда работал помощником Н. С. Хрущева. Шелепин однажды позвонил мне и, к моему удивлению, заявил: «Олег Александрович, брось ты встречаться с этой… (тут он назвал женскую фамилию, которую я услышал первый раз в жизни). Она путается с иностранцами и вообще пользуется дурной репутацией. Разве нельзя найти других баб?»
Я сказал, что не понимаю, о чем он говорит, так как первый раз в жизни слышу это имя. На что Шелепин ответил, что ко мне никаких претензий, разумеется, нет, но тут же повторил, что с этой… он настоятельно рекомендует порвать.
Вечером я рассказал об этом разговоре жене, которая сказала: «Ну вот, теперь «железный Шурик» (так мы его называли) будет смотреть на меня как на обманутую жену». Она настоятельно рекомендовала найти способ прояснить ситуацию.
На следующий день я сам позвонил Шелепину и повторил, что здесь явно имеет место какое-то недоразумение. Он ответил, что у него нет никаких оснований сомневаться в правдивости имеющейся у него информации. И добавил уже в несколько неприязненном тоне весьма странную фразу, а именно что если я настаиваю на своем, то он предлагает вместе пойти к Хрущеву, которому он сможет показать имеющийся у него материал.
После этого я решил посоветоваться с двумя другими помощниками Хрущева – Григорием Шуйским и Владимиром Лебедевым, которые оба рекомендовали довести дело до конца, так его оставлять нельзя. Иначе в каком-то досье останется соответствующая запись, которая при случае может быть использована против меня. Шуйский взялся переговорить с Шелепиным и попросил его лично проверить всю эту загадочную историю.
Через несколько дней мне вновь позвонил Шелепин и попросил подъехать к нему в КГБ. Войдя в его кабинет, я обнаружил там мужчину, который, как я потом узнал, был начальником Московского управления государственной безопасности, и испуганную молодую девицу весьма вульгарного вида. В состоявшейся своеобразной очной ставке девица призналась, что со мной знакома не была, но в разговорах со своими друзьям иногда щеголяла различными фамилиями, дабы произвести впечатление. На этом дело закончилось, хотя я не исключаю, что «железный Шурик» остался при своем первоначальном мнении.
Не могу сказать, что я счел случившееся чем-то возмутительным. Служба безопасности любого государства для того и существует, чтобы не допускать в высшие эшелоны власти тех, кто представляет собой security risk, как говорят американцы. Это означает, что сам человек может быть вполне лоялен, но в его окружении или в его прошлом имеются такие компроматы, которые могут быть использованы иностранными разведками, террористическими группами или мафией для шантажа или запугивания.
На меня в рассказанной истории отрицательное впечатление скорее произвело не то, что я был в чем-то заподозрен, а то, что даже мне, занимавшему тогда высокое положение и находившемуся в хороших отношениях с председателем КГБ, потребовались значительные усилия, чтобы добиться истины. Я понял тогда, что для рядового советского гражданина это была бы совершенно невыполнимая задача. На другом этапе моей жизни со мной произошел другой случай, когда я был «опущен» из секретариата министра иностранных дел на другую должность и лишь через несколько лет узнал, в чем была причина этого перевода. Но об этом я расскажу в одной из следующих глав.
В США, например, принято, что любой кандидат, намеченный на ответственный государственный пост, проходит проверку Федерального бюро расследований. Иногда это доходит до абсурда. Помню, в конце 70-х годов Аверелл Гарриман был назначен членом делегации США на очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН. Он в прошлом был и министром, и губернатором штата Нью-Йорк, и послом в СССР. И тем не менее в печати появилось не без сарказма написанное сообщение о том, что Федеральное бюро расследований занялось проверкой его «сексуальных наклонностей». Может быть, для самого Гарримана, которому перевалило за восемьдесят, такая проверка и показалась лестной, но для читателей газеты это выглядело достаточно нелепо.
Посол одной западной страны (не буду называть, какой именно) рассказывал мне, что, будучи еще сравнительно молодым дипломатом, он женился на русской женщине. Это, по его словам, сразу встревожило «наших американских друзей», которые высказали беспокойство по этому поводу соответствующим службам той страны, гражданином которой был данный дипломат. Это создало ему немало проблем, но в конце концов после разговора со своим министром иностранных дел все подозрения были с него сняты.
Можно привести немало других подобных случаев.
Возмездие
В те самые дни, когда гитлеровцы напали на нашу страну, началась экзаменационная сессия в нашем Московском институте философии, литературы и истории. Я шел на квартиру к одному из своих товарищей, чтобы вместе готовиться к очередному экзамену, когда по радио объявили, что вскоре будет передано важное правительственное сообщение. Потом выступил В. М. Молотов с заявлением о начале войны. Помнится, мелькнула мысль, почему выступил Молотов, а не Сталин.
Несмотря на войну, экзамены продолжались. Пожалуй, это были самые легкие экзамены в моей жизни. Мысли как преподавателей, так и студентов были заняты совсем не науками, поэтому зачеты ставились с беспрецедентной легкостью. В эти дни я перешел на четвертый курс литературного факультета.
Примерно через три недели, в середине июля я был призван в армию и вместе с большой группой студентов отправлен в Тесницкие лагеря под Тулой. Здесь из нас должны были сделать солдат. Но все обучение сводилось к маршировке, так как ни винтовок, ни какого-либо другого воинского снаряжения в лагерях не было. Энтузиазм курсантов, по мере того как с фронтов поступали невеселые сообщения, таял. Тяжкое впечатление произвел приказ Сталина, который был зачитан перед строем где-то в августе. В нем объявлялись всяческие кары за сдачу позиций, дезертирство, невыполнение приказа и т. д.
В середине сентября к нам в лагеря прибыла комиссия, которая стала отбирать курсантов, знающих иностранные языки. Естественно, особая нужда ощущалась в знатоках немецкого. Однако в некоторых случаях отбирали и тех, кто хорошо знал английский. Таким образом, я был направлен в Военный институт иностранных языков в качестве слушателя. Буквально несколько дней спустя – это было уже в первой половине октября, когда немцы подходили к Москве, – наш институт погрузили на пароход и отправили в небольшой городок, который тогда назывался Ставрополем-на-Волге, ныне Тольятти. Там нас разместили в бывшем туберкулезном санатории.
Все шесть месяцев, что я пробыл там, я изнывал от скуки. От всяких занятий меня освободили ввиду уровня моих познаний в области английского. В то же время отпускать меня в Москву начальник института генерал Биязи категорически отказывался, хотя периодически приходили запросы на слушателей со знанием английского. Видимо, он имел в виду со временем использовать меня в качестве преподавателя. В апреле 1942 года, когда генерал уехал куда-то в командировку, пришел очередной запрос. Полковник, который исполнял обязанности начальника института, пошел навстречу моей просьбе и отправил в Москву в распоряжение управления кадров Генерального штаба.
Однако оказалось, что и там не знали, что со мною делать. Тем временем генерал Биязи посылал телеграммы в Москву, требуя моего возвращения. Дело дошло до того, что я получил приказ возвращаться в Ставрополь. Меня в последний момент спасло то, что в учреждении под названием «Советское информбюро» была острая нужда в людях, хорошо знающих английский язык. Я был командирован туда на должность редактора-переводчика. Начальником Совинформбюро был генерал-полковник А. С. Щербаков, кандидат в члены политбюро, секретарь МК и МГК, начальник Главного политуправления Красной армии, его заместителем – С. А. Лозовский, который одновременно был заместителем народного комиссара иностранных дел. Совинформбюро имело двойную функцию: оно состояло и публиковало сводки о ходе военных действий и в то же время готовило и отправляло за рубеж различные публицистические материалы о Красной армии, о помощи тыла фронту, о зверствах гитлеровцев на оккупированных территориях и т. д. Переводческой работы было очень много, а редакторов-переводчиков всего четверо, в том числе и я.
Так я проработал около двух лет. Летом 1944 года между СССР, США и Великобританией была достигнута договоренность о создании совместного комитета по ведению психологической войны против Германии с месторасположением в Лондоне. Фактически это была попытка координировать пропаганду, которую три державы вели против Германии. Советский Союз в этом комитете должна была представлять группа из трех человек, в которую был включен и я в ранге атташе.
Мы отправились в путь в начале августа. Поскольку война еще продолжалась, наш кружной маршрут пролегал через Баку, Тегеран, Каир и Касабланку. В конце августа мы наконец приземлились в лондонском аэропорту.
На месте выяснилось, что наш комитет психологической войны очень напоминал крыловский квартет, позиции его участников слишком отличались друг от друга, чтобы они могли координировать пропаганду на Германию.
А война тем временем продолжалась. Живя в Лондоне, это чувствовалось почти ежедневно. Станции метро на ночь по-прежнему заполнялись людьми, которые спали на трехэтажных нарах, построенных еще в 1940 году, когда начались массированные налеты немецких бомбардировщиков на Лондон. Теперь начались налеты ракет Фау-1. Они появлялись над городом, так сказать, поштучно, но практически каждую ночь, взрываясь то в одном, то в другом районе. Когда английские истребители научились их сбивать, наступил следующий этап: появились Фау-2. Это были уже баллистические ракеты. Поскольку они обладали гораздо большей скоростью, чем Фау-1, истребители были не в состоянии их сбивать, не было даже времени давать сигнал тревоги об их приближении. К тому же эти ракеты обладали значительно более мощной разрушительной силой, что делало жизнь лондонцев по-прежнему весьма неспокойной. Вскоре, однако, англо-американские войска достигли районов расположения немецких ракетных баз в северной Франции и Бельгии, и налеты прекратились.
Прошло еще несколько месяцев, и наступил День Победы. Многотысячные толпы хлынули в центр города. Как и в Москве, это было время всенародного ликования. Где-то в середине дня в посольство позвонили из Министерства иностранных дел и сообщили, что премьер-министр Уинстон Черчилль сейчас поехал в посольство США, чтобы поздравить американцев с победой, а оттуда направится в наше посольство. Посол Федор Тарасович Гусев срочно собрал старших дипломатов, приказал привести в порядок представительские помещения, выставить напитки и закуску. Меня пригласили на всякий случай, если вдруг понадобится переводчик.
Вскоре в открытой машине, стоя ногами на сиденье и приветствуя прохожих известным знаком победы в виде латинского V, приехал Черчилль в сопровождении одной из своих дочерей. Как мне показалось, премьер уже был навеселе, что неудивительно, учитывая исторический характер отмечаемого события. Наш посол провел его в главный приемный зал, познакомил со старшими дипломатами и наполнил рюмки.
После этого Черчилль произнес короткую, но знаменательную речь. Вообще он был превосходный оратор – один из лучших, если не лучший из всех, кого мне довелось слышать. Говорят, к концу жизни он стал слишком многоречив, но в предвоенные и военные годы был на высоте. Некоторые его выступления, такие, например, как по поводу Мюнхенского соглашения или нападения Германии на Советский Союз и некоторые другие, – это не только важные политические заявления, но и блестящие литературные произведения.
В этот раз в посольстве Черчилль произнес не длинную, но проникновенную речь. Он говорил о вкладе Советского Союза и Красной армии в победу над Германией, о сотрудничестве стран антигитлеровской коалиции. Не преминул упомянуть о том, что Великобритания в течение двух лет одна несла на своих плечах всю тяжесть борьбы с Германией. В конце он произнес примерно следующие слова: «Сегодня, когда народы всего мира празднуют великую победу, мои мысли обращаются к Сталину». Тут он повысил голос и почти прокричал: «Великому Сталину!» Это было внушительно, хотя, на мой вкус, слишком выспренне.
К тому времени я был зачислен в состав посольства сначала в качестве атташе, а несколько позже – продвинут до уровня третьего секретаря. Таким образом, непроизвольно, без какого-либо желания с моей стороны (я имел иные планы на жизнь), началась моя дипломатическая карьера.
У меня не было какого-либо определенного участка работы в посольстве, в основном – отдельные задания. В то время Красная армия, Советский Союз пользовались огромной популярностью в Великобритании. Мне, как и другим сотрудникам посольства, приходилось часто выезжать в разные города, чтобы выступать на собраниях в обществах дружбы и на других мероприятиях, славящих боевое содружество с Советским Союзом.
Познакомился я тогда со многими интересными людьми, в частности, запомнилась встреча с очень пожилым джентльменом из Манчестера, который когда-то был знаком с Фридрихом Энгельсом. Рассказывая о нем, он говорил: «Вы утверждаете, что мистер Энгельс был философом. Может быть, и так, не берусь судить. Но одно могу сказать: бизнесмен он был высшего класса».
Интересным собеседником был Роберт Брюс Локкарт, в то время заместитель министра иностранных дел Великобритании. Он интересно рассказывал о своем пребывании в Москве в годы революции, отрицал, что организовывал заговор с целью свержения советской власти. Когда узнавал, что кто-то из наших молодых дипломатов не был знаком с его биографией, Локкарт делал большие глаза и говорил: «Как плохо вас воспитывают. Ведь обо мне говорится даже в «Кратком курсе истории партии».
Приходилось мне также работать с различными делегациями, приезжавшими из СССР. Это было в основном уже после окончания войны.
Но больше всего времени и усилий пришлось уделить подготовке к Нюрнбергскому процессу. Об этом процессе, где вершилось возмездие над главными военными преступниками гитлеровского режима, написано бессчетное количество книг и воспоминаний его непосредственных участников. И у каждого из них можно найти подмеченные только им детали, которые дополняют общую картину этого поистине исторического события.
Будучи в Лондоне, я находился у самых истоков процесса, его подготовки и был непосредственным свидетелем и участником весьма сложных переговоров об учреждении военного трибунала. С советской стороны в этих переговорах участвовали член Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко, который впоследствии был назначен судьей Нюрнбергского трибунала от СССР, и профессор международного уголовного права А. Н. Трайнин. При них я был единственным помощником, так что в мои обязанности входило быть и переводчиком, и секретарем, и экскурсоводом, и завхозом. Делегацию Соединенных Штатов возглавлял член Верховного суда США Роберт Джексон, впоследствии главный обвинитель на процессе в Нюрнберге, Великобритании – сэр Дэвид Максуэлл-Файф (будущий заместитель главного обвинителя на процессе), Франции – судья Робер Фалько (заместитель члена трибунала от Франции).
Началу переговоров в Лондоне о согласовании Устава трибунала предшествовало весьма сложное маневрирование. Англичане с самого начала возражали против какого-либо суда над главными немецкими военными преступниками. По их мнению, целесообразнее было составить список наиболее злостных из них и казнить их без суда и следствия по решению правительств союзных держав. На основе некоторых косвенных данных можно предполагать, что в Лондоне опасались, как бы суд не превратился в обмен взаимными обвинениями, в ходе которого подсудимые могли использовать некоторые неприглядные действия английского правительства, такие как молчаливое согласие с захватом Гитлером Австрии, мюнхенский сговор, который привел к аннексии Чехословакии, и кое-что другое. На встрече с Рузвельтом в Квебеке в сентябре 1944 года Черчилль даже уговорил последнего поддержать эту позицию, которую в английских правительственных кругах называли «наполеоновским прецедентом» – как известно, французский император был отправлен на остров Святой Елены не по решению суда, а на основе политического решения союзных держав.
Однако, когда месяцем позже, в октябре того же года, английский премьер посетил Москву и поставил этот вопрос перед Сталиным, он натолкнулся на серьезные возражения. 22 октября 1944 года Черчилль информировал Рузвельта, что «дядя Джо», так западные лидеры в своей переписке именовали Сталина, «неожиданно занял ультрареспектабельную позицию: не должно быть казней без суда, иначе во всем мире будут говорить, что мы боимся их судить. Я указал на трудности, которые могут возникнуть по линии международного права, но он ответил, что если не будет суда, не должно быть смертных приговоров, а лишь пожизненные заключения. Ввиду этой позиции, я не намерен настаивать на меморандуме, который я вручил Вам…»
Может показаться странным, что Сталин занял такую позицию, учитывая методы, которые он применял внутри страны. Но как показали последующие события, такой подход в данном случае полностью оправдал себя.
Между тем и сам Рузвельт стал сожалеть, что одобрил меморандум Черчилля. Поэтому вскоре было решено, что суд над главными военными преступниками состоится.
Тем не менее лондонские переговоры по согласованию Устава международного трибунала оказались сложными и затяжными. Временами они, как казалось, были на грани срыва. Главная трудность, пожалуй, заключалась в том, что англо-американская система права в процедурном отношении серьезно отличалась от европейской, будь то французская, русская или немецкая, которые между собой имели много совпадающих моментов. А американская делегация, и особенно ее глава Роберт Джексон, настойчиво добивалась, чтобы по всем основным пунктам в устав были включены процедурные правила из англо-американской правовой системы.
Джексон неоднократно угрожал обойтись без русского участия, если его требования не будут приняты. У американцев в этом торге на руках были весьма серьезные козыри. Дело в том, что подавляющее большинство главных военных преступников бежали на Запад, там же оказалась и большая часть важнейших документов, поскольку немецкие архивы были эвакуированы из Берлина также на запад страны. И лишь два преступника, оказавшиеся в руках советских властей (бывший командующий немецким флотом адмирал Эрих Редер и один из помощников Геббельса по линии пропаганды Ганс Фритче), были признаны «достойными» сесть на скамью главных подсудимых. И все же в угрозах Джексона был значительный элемент блефа, ибо в обстановке 1945 года, когда никто еще не оспаривал ведущую роль Советского Союза в разгроме Германии, общественное мнение в западных странах вряд ли могло принять такой процесс над главными военными преступниками, в котором не участвовал бы Советский Союз. К тому же я не ошибусь, если скажу, что настырная, вызывающая позиция Джексона по ряду вопросов раздражала не только советскую, но и другие делегации.
Следует признать и то, что, хотя первоначально англичане были против суда, все же, когда решение о нем было принято, их роль стала весьма конструктивной, и во многих случаях как в ходе согласования устава, так и в ходе самого суда они помогали находить компромиссные решения, приемлемые как для советской, и для американской стороны.
Не была безгрешна в ходе лондонских переговоров не только американская, но и советская делегация. Первоначально, например, наши представители придерживались линии, согласно которой главные военные преступники уже были осуждены решением глав правительств трех государств антигитлеровской коалиции. А потому, настаивали они, задача трибунала сводит лишь к формальному определению степени виновности каждого подсудимого и установлению меры наказания ему. Когда же стало ясно, что удержаться на этой позиции невозможно, из Москвы поступили указания занять более гибкую позицию.
Я не намерен излагать всю историю переговоров по уставу, материалов тут наберется на целую книгу. Скажу только, что, несмотря на все сложные перипетии, они были успешно преодолены и устав подписан 8 августа 1945 года.
Затем наступил этап переговоров по составлению списка подсудимых, а потом и обвинительного заключения, в которых я уже не участвовал. Однако в конце ноября мне пришло предписание из Москвы срочно отправиться в Нюрнберг, где вот-вот должен был начаться суд. В мои обязанности входило помогать нашему главному судье И. Т. Никитченко и его заместителю А. Ф. Волчкову переводами и некоторыми секретарскими обязанностями. Передвигаться по Европе в то время было далеко не просто, так как никаких регулярных авиационных рейсов в Германию или через Германию еще не существовало. Но у меня сохранились хорошие контакты с английскими чиновниками, участвовавшими в переговорах по Уставу трибунала, и они помогли мне получить место в одном из военных самолетов, которые периодически совершали рейсы между Лондоном и Нюрнбергом.
Прибыл я в Нюрнберг 19 ноября, накануне начала процесса. Город производил удручающее впечатление. Весь его исторический центр в результате англо-американских бомбардировок был превращен в развалины. Никто там не жил и не мог жить, и только время от времени из развалин домов появлялись огромных размеров крысы. Окраины города, однако, сохранились в более или менее приличном состоянии. Они были застроены небольшими коттеджами, из которых в большинстве случаев прежние немецкие владельцы были выселены американскими оккупационными властями. Многие из этих домов занял персонал трибунала. Я поселился в доме, который занимали советские судьи.
Пожалуй, наиболее убедительный аргумент, благодаря которому американцам удалось склонить представителей других государств – учредителей международного трибунала провести суд над главными военными преступниками именно здесь, в Нюрнберге, заключался в том, что тут каким-то чудом сохранилось в довольно приличном состоянии огромное здание местного Дворца юстиции, к которому непосредственно примыкала большая тюрьма. Как будто сама судьба распорядилась так, чтобы сохранить этот комплекс для наступившего после войны возмездия. К тому же Нюрнберг был местом массовых фашистских пропагандистских действ, которые Геббельс умел организовывать на широкую ногу. Так что в этом смысле существовала определенная символика – где все начиналось, там суждено было всему и завершиться.
Мне пришлось пару раз посетить тюрьму, которая прилегала к Дворцу юстиции. На мой взгляд, условия для заключенных там были весьма суровые. Каждый из ее обитателей имел небольшую камеру, примерно три метра на четыре, с железной койкой, небольшим примитивным столиком и не менее примитивным стулом. Кроме того, рядом с дверью находился рукомойник и унитаз. В двери было небольшое отверстие, вроде форточки, через которое охранники постоянно наблюдали за заключенными. Через это же отверстие им давали еду, состоявшую из стандартного солдатского рациона. В качестве одежды подсудимым выдавали списанную солдатскую одежду, хотя для появления в суде они получали нечто более презентабельное. В камерах постоянно – днем и ночью – горел свет. Это, как и ощущение, что за ними постоянно наблюдают, конечно, мешало нормальному сну. Каждые несколько дней в камерах устраивался обыск. Раз в неделю заключенных по одному водили в душ. Прогулки в тюремном дворе были короткие и тоже поодиночке, так что общения у подсудимых друг с другом не было. Кое-какое общение между ними допускалось только в зале суда и во время обеда в перерыве между утренним и дневным заседаниями.
И все же, несмотря на все меры предосторожности, двум заключенным удалось покончить с собой. Что касается руководителя гитлеровских профсоюзов Роберта Лея, то обстоятельства его самоубийства, которое произошло еще до начала процесса, ясны. Поскольку унитаз в камере находится в углу с правой стороны от входа в камеру, то он оставался вне поля обозрения часового. Этим и воспользовался Лей. Он привязал полотенце к проходящей за унитазом трубе, обвязал другой его конец вокруг шеи и стал наклоняться вперед, пока не задушил себя. Конечно, чтобы воспользоваться таким способом самоубийства, надо было испытывать очень большое желание свести счеты с жизнью.
Что касается Германа Геринга, то он покончил с собой накануне исполнения приговора, когда узнал, что его ходатайство о замене казни через повешение расстрелом отклонено. Он прибегнул к классическому способу, который использовали Гитлер, Геббельс, Гиммлер и некоторые другие, – раздавил во рту ампулу с цианистым калием. Остается неясным, откуда у него взялась эта ампула – то ли ему удалось с самого начала сохранить ее при себе, то ли кто-то передал ее ему на последнем этапе. Несмотря на проведенное после смерти Геринга расследование, ответ на этот вопрос так и не был найден.
Как при подготовке процесса, так и в самом Нюрнберге мне пришлось работать главным образом с судьями. Поэтому о них мне проще всего говорить. Председателя суда избирали сами судьи. Очень хотел занять председательское кресло американский судья Фрэнсис Биддл. Но ему сами американцы настоятельно рекомендовали не добиваться этого, поскольку и без того США играли слишком заметную роль в организации и проведении процесса. В результате председателем суда был без каких-либо проблем избран член апелляционного суда Англии Джеффри Лоуренс. Это было весьма удачное решение. Хотя Лоуренс с первого взгляда производил впечатление мягкого, безобидного джентльмена, как бы сошедшего со страниц романов Диккенса, он мог, когда необходимо, проявлять и твердость, и настойчивость, не злоупотребляя, однако, этими качествами. А роль председателя, впрочем, как и всех судей, была нелегкая: выполнить социальный заказ и наказать преступников не составляло труда, так как доказательства вины подавляющего большинства подсудимых были убийственные. Но суд должен был убедить и самих немцев в справедливости приговора.
Забегая вперед, скажу, что эта цель, по-моему, была достигнута.
Между судьями бывали, разумеется, споры, порой достаточно острые. Были и случаи, когда приходилось объявлять короткий перерыв, чтобы они могли посовещаться за кулисами и прийти к общему мнению. Но все это происходило в деловой и достаточно спокойной обстановке.
Нужно отдать должное советскому судье – генерал-майору юстиции Ионе Тимофеевичу Никитченко – он проявил себя не только как юрист, но и как квалифицированный дипломат. В дискуссиях с другими судьями требовалось не только хорошее знание юриспруденции, но и умение отстаивать свою позицию, а когда нужно, то и проявлять достаточную гибкость. При этом надо признать, что положение Ионы Тимофеевича было более сложное, чем у судей из других стран, так как он все время вынужден был оглядываться на Москву, а периодически оттуда поступали указующие директивы, наверное, не всегда совпадающие с его собственным мнением.
Приведу его характеристику из книги одного из американских обвинителей Телфорда Тейлора «Анатомия нюрнбергских процессов»: «Генерал Никитченко… был одновременно и непроницаем, и внушителен. Его способности в области диалектики были удивительные, его ответы, хотя и острые, никогда не были грубыми. Он никогда не поднимал голоса, не проявлял раздражения, был до предела терпелив…»
Я провел в Нюрнберге полгода. И сразу признаюсь: мало из того, что пришлось видеть и слышать за всю жизнь, оставило такой неизгладимый след в моем сознании, как свидетельства тех массовых убийств, которые были совершены нацистским режимом за сравнительно короткий срок в 13 лет, пока этот режим господствовал в Германии и в большей части Европы. По сравнению с этим бледнеет и святая инквизиция, и массовое уничтожение индейцев американцами и испанцами в Западном полушарии, и подавление восстаний крепостных крестьян в дореволюционной России, и все прочее.
Поостерегся бы я ставить на одну доску, как это сейчас нередко делается, сталинские репрессии и гитлеровский геноцид, равного которому не было в истории.
Конечно, сведения о фашистских зверствах получили достаточно широкое хождение еще в ходе войны. Но во-первых, многие воспринимали такого рода публикации как военную пропаганду и сомневались в ее достоверности, а во-вторых, в Нюрнберге речь уже шла не об отдельных публикациях, а о подлинных приказах и других документах, о кино– и фотосвидетельствах, об устных рассказах как жертв, так и самих палачей. Помнится, что вначале заместитель судьи от США Джон Паркер не мог поверить в достоверность свидетельств о массовом уничтожении детей в концентрационных лагерях, а потом он был просто морально подавлен, когда ему стало ясно, что даже эти свидетельства отражали реальность лишь в малой степени.
Вспоминается также, как реагировали сами подсудимые, когда в зале суда были показаны кинокадры с грудами мертвых тел, снятые в концлагерях сразу после освобождения. Многие из них отворачивались, другие смотрели в потолок, делая вид, что все это их не касается, все это, дескать, дело рук небольшой группы преступных элементов. Вскоре, однако, суду были представлены доказательства того, что ряд подсудимых имел прямое отношение к массовому истреблению людей.
Как в ходе процесса, так и в последующие годы особенно много внимания уделялось документальным материалам о поголовном уничтожении еврейского населения. Это и понятно, ибо только в отношении евреев нацистское руководство ставило задачу именно тотального истребления всех мужчин, женщин и детей этой национальности.
Но не многим лучше была судьба, уготованная русским, полякам, украинцам или белорусам. Вот только несколько фактов, ставших известными на Нюрнбергском процессе.
В докладе шефа гестапо, руководителя СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера, одобренном в мае 1940 года Гитлером, говорилось: «В восточных районах для негерманского населения не должно быть школ второй ступени. Для них будет достаточно четырехлетнего обучения в народных школах. В этих школах должны обучать простому счету, не более чем до 500, учить подписывать свое имя и верить в то, что Божья заповедь предписывает повиноваться немцам, быть честным, трудолюбивым и послушным». Гиммлер выражал надежду, что через несколько лет такие национальности, как евреи, украинцы, поляки и некоторые другие, вообще перестанут существовать на оккупированных территориях. Гитлер потребовал, чтобы была подорвана «биологическая сила» русских, чтобы они были лишены иммунотерапевтических прививок и защиты против эпидемий. Уровень жизни коренного населения должен был планово понижаться, а всякое градостроительство – прекратиться. Согласно немецкому плану «Ост», 30 миллионов (а впоследствии и 50 миллионов) славян переселялись в Сибирь.
В другом случае Гиммлер заявил, что население России должно сократиться до 30 миллионов человек, которые пребывали бы в информационном вакууме, никаких связей с прошлым – ни науки, ни искусства, ни религии.
А вот еще один красноречивый документ. Меморандум от 19 февраля 1942 года за подписью некоего доктора Гротиуса из Управления хозяйственных служб и вооружений Верховного командования германских вооруженных сил. «Нынешние трудности с рабочей силой не возникли бы, если бы мы вовремя решили широко использовать русских военнопленных. В свое время в нашем распоряжении было 9 900 000 русских, из них сейчас осталось всего 1 100 000. Только с ноября 1941 года по январь 1942 года умерло 500 000 русских. Вряд ли окажется возможным увеличить число русских военнопленных, используемых в качестве рабочей силы в настоящее время (400 000 человек)… Вместе с тем все большее значение приобретает использование на работах в Германии русских гражданских лиц… Здесь ограничителем служит вопрос транспортировки. Бессмысленно перевозить эту рабочую силу на открытых платформах или в холодных товарных вагонах лишь для того, чтобы потом выгружать трупы». Эта дьявольская бухгалтерия привела председателя трибунала лорда Лоуренса в состояние, близкое к шоку.
И это была политика государства со свободной рыночной экономикой и сильным средним классом, который, как теперь считается, должен обеспечить стабильность демократии и цивилизованных порядков.
Просто диву даешься, когда слышишь сегодня по радио и телевидению рассуждения некоторых представителей молодого поколения о том, что вот если бы немцы победили, то они, пожалуй, наладили бы жизнь в нашей стране, навели бы в ней порядок. Может быть, но это был бы кладбищенский порядок.
В Нюрнберге на сцене прошли в качестве свидетелей и непосредственные исполнители нацистских злодеяний. Здесь поражало и в то же время ужасало уже другое. Этот феномен подмечен в книге Ханны Арендт, в которой исследуется такое явление, как «банальность зла». Речь идет о том, что нацистская Германия сумела превратить массовое убийство людей в обычную правительственную программу, которую выполняли самые обычные люди, не видевшие в этом ничего особенно предосудительного.
Дает показания, например, комендант лагеря Освенцим Рудольф Хесс. Человек, похожий на самого обычного немецкого бюргера, – опрятный, непримечательный, и он начинает спокойным тоном, как будто отчитывается о делах своей лавки, рассказывать об уничтожении несметного количества человеческих существ. Он сообщил, что с начала 1940 года по 1 декабря 1943-го «было казнено и умерщвлено в газовых камерах и сожжено по крайней мере 2 500 000 человек, а еще полмиллиона погибли от голода и болезней, то есть всего около трех миллионов». Присутствующие поражены его безразличием к злу, а он спокойно возражает: «Мы, эсэсовцы, не должны были думать об этих вещах, мы были приучены выполнять приказы без размышлений, так что никому и в голову не могло прийти не выполнить приказа».
А вот другой свидетель – Отто Олендорф, показания которого весь зал слушал в состоянии гробового молчания. Это был довольно благообразный и сравнительно молодой человек, скорее даже интеллигентского толка. Считалось, что наряду с Шелленбергом, возглавлявшим внешнюю разведку, и некоторыми другими выдвиженцами он входил в группу молодых умников – любимцев Гиммлера.
Олендорф рассказал, что в начале войны против Советского Союза он взял на себя командование одной из четырех оперативных групп, которые двигались вслед за германскими войсками, наступавшими в глубь советской территории. Их задача заключалась в том, чтобы расстреливать на оккупированной земле всех евреев и коммунистов. Группа под его командованием в период с июня 1941 года по июнь 1942 года расстреляла 90 тысяч мужчин, женщин и детей.
На тех, кто присутствовал в зале в день начала процесса, особое впечатление произвел тот момент, когда одного за другим стали вводить обвиняемых. Каждому хотелось поскорее узнать, какие они на самом деле. Конечно, они были разные, но думаю, не ошибусь, если скажу, что, за редким исключением, природа наделила их достаточно высоким интеллектом. Да и могло ли быть иначе? Чтобы за короткий период времени одурачить большинство германского народа и завоевать большую часть Европы, надо было обладать недюжинным талантом.
Не знаю, в какой степени можно полагаться на те тесты, которыми пользуются психологи, чтобы определять интеллектуальный уровень людей. Но американский психолог доктор Г. М. Гилберт, который в течение всего процесса наблюдал за подсудимыми и часто беседовал с ними, получил следующие результаты своего тестирования (по этой системе 120 пунктов считается средним интеллектуальным уровнем): Шахт – 143, Зейсс-Инкварт – 141, Геринг – 138, Дёниц – 138, Папен – 134, Редер – 134, Франк – 130, Фритче – 130, Ширах – 130, Риббентроп – 129, Кейтель – 129, Шпеер – 128, Йодль – 127, Розенберг – 127, Нейрат – 125, Функ – 124, Фрик – 124, Гесс – 120, Заукель – 118, Кальтенбруннер – 113, Штрейхер – 106. Как видим, только у троих подсудимых был зарегистрирован интеллектуальный уровень ниже среднего. Между тем такие личности, как Шахт, Зейсс-Инкварт, Геринг и Дёниц, получили исключительно высокие баллы.
Как вели себя на заседаниях суда подсудимые? Несмотря на ограниченные возможности общения между собой и на то, что каждый из них был прежде всего озабочен собственной судьбой, определенная степень дисциплины у них все же сохранилась. Геринг с самого начала взял на себя роль лидера, и это было воспринято остальными или большинством из них как его естественное право. Можно было подумать, что оставалось в силе известное завещание Гитлера, в котором говорилось, что в случае его смерти первым человеком Третьего рейха должен был стать Геринг. Когда возникал тот или иной сложный вопрос, было видно, что остальные ждали его реакции или указаний. Именно он дирижировал этим маленьким обреченным оркестром.
Это подтвердилось в ходе допроса Геринга. Он был уже не тот растолстевший, обрюзгший прожигатель жизни, каким мы его представляли и видели на фотографиях. За время пребывания в тюрьме он похудел, стал почти подтянутым, врачи излечили его от наркомании, постепенно сокращая дозу морфия и паракодеина.
Начал допрос Геринга Роберт Джексон, который построил его столь неудачно, что, по общему мнению, нацист № 2 выиграл его по очкам без особого труда. Американский обвинитель, вместо того чтобы сосредоточиться на конкретных злодеяниях, совершенных гитлеровским режимом и Герингом в том числе, ввязался в спор по псевдотеоретическим вопросам – область, в которой Геринг владел материалом значительно лучше, чем он. Уже первая фраза, произнесенная Джексоном, звучала как бы приглашением к теоретической беседе. Он заявил: «Вы, возможно, осознаете, что являетесь единственным оставшимся в живых человеком, который может объяснить нам, каковы были истинные цели нацистской партии и внутренние механизмы ее руководства». Геринг увидел в таком подходе возможность заняться пронацистской пропагандой и не преминул этим воспользоваться. Тем более что в области демагогии и популизма нацисты были мастерами.
К тому же наследник Гитлера сохранял хладнокровие – видимо, он хорошо понимал, что кому-кому, а ему не избежать высшей кары. Он даже бравировал тем, что был вторым человеком в Германии. Например, когда Джексон пытался доказать, что существовал своего рода сговор нацистской верхушки в выработке планов, направленных против других государств, против мира, Геринг давал ответы, сводящиеся к тому, что если мог быть какой-то сговор, то только между ним и фюрером. Он давал понять, что все другие были на несколько ступеней ниже его.
Единственно, чего Геринг пытался избежать, так это доказательств его прямого участия в различных массовых зверствах, совершенных гитлеровским режимом. Поэтому, только когда Джексон, обессиленный и подавленный, закончил допрос и к делу приступили другие обвинители – Максуэлл Файф от Великобритании и Руденко от Советского Союза, которые оперировали не абстрактными теоретическими построениями, а ссылками на конкретные преступления, только тогда Геринг стал нервничать и спотыкаться, а процесс вернулся в свое нормальное русло.
Один из наиболее захватывающих эпизодов нюрнбергского действа произошел 11 февраля 1946 года, когда старший советник юстиции Н. Д. Зоря, выступая от советского обвинения, заявил суду, что намерен зачитать письменные показания фельдмаршала Фридриха Паулюса, который, как все предполагали, находился в плену в России. Защитник подсудимого Кейтеля доктор Нельте тут же запротестовал, заявив, что Паулюс жив и вполне может дать устные показания в суде. Расчет заключался в том, что советское обвинение не решится привезти немецкого фельдмаршала в американскую зону оккупации и, таким образом, его свидетельские показания не будут использованы. Но в те первые месяцы после войны движение между оккупационными зонами было достаточно свободное, и Паулюса втайне от американцев привезли в Нюрнберг. Поэтому Зоря, напустив на себя самый безразличный вид, заявил, что Паулюс сможет приступить к даче показаний сразу после обеденного перерыва.
Это произвело подлинную сенсацию. Новость о предстоящем появлении Паулюса распространилась буквально со скоростью света, и после перерыва зал суда был забит до предела. Подсудимые по ряду причин ждали появления бывшего фельдмаршала с нервозностью, враждебностью и в то же время с чувством любопытства, словно перед ними должен был появиться призрак из прошлого.
Войдя в зал, Паулюс действительно походил на призрак, настолько он был бледен. Можно было представить себе, какие эмоции испытывал он, являясь перед лицом своих бывших – как их назвать? – коллег, товарищей по оружию, сопреступников… Но говорил он четко, по-военному. Главный смысл его показаний заключался в том, что в качестве заместителя начальника Генерального штаба он, начиная с 3 сентября 1940 года, непосредственно руководил разработкой плана нападения на Советский Союз, известного под названием «Барбаросса». А потому его свидетельства означали, что ни о какой превентивной войне не могло быть и речи, что нападение на СССР было заранее запланированной, ничем не спровоцированной агрессией. Конечно, доказательств на эту тему было представлено более чем достаточно, но слова Паулюса звучали особенно весомо.
После допроса Паулюса советским обвинением наступила очередь защитников, которые по подсказке подсудимых, особенно Геринга, Кейтеля и Йодля, делали все возможное, чтобы скомпрометировать свидетеля. Они задавали, например, такие вопросы: известно ли вам, что вы были любимым генералом Гитлера и, если бы не ваша капитуляция под Сталинградом, он назначил бы вас на одну из высших должностей в германской армии? Правда ли, что, сдавшись в плен, вы стали преподавать в высших советских военных академиях? Паулюс отвечал с достоинством, но видно было, что он находился в состоянии стресса. На первый из приведенных выше вопросов он ответил, что фюрер всегда относился к нему хорошо, но нет основания считать его «любимым генералом». Отвечая на второй вопрос, он сказал, что сам результат войны говорит о том, что ему нечему было учить советских военачальников.
В течение всего процесса в Нюрнберге было представлено огромное число документов и свидетельских показаний, которые не оставляют и тени сомнения в том, что война, начатая Германией 22 июня 1941 года, была войной агрессивной, развязанной в соответствии с замыслами, которые Гитлер вынашивал чуть ли не с самого начала своей политической деятельности. Тем не менее и сегодня еще продолжают появляться публикации вроде книги Суворова «Ледокол», делается попытка доказать недоказуемое – что война, развязанная нацистами, была войной если не спровоцированной, то, во всяком случае, не агрессивной, превентивной. То, что такие публикации время от времени появляются, не столь уж и сенсационно. Удивляет другое, а именно то, что они печатаются и находят сбыт в России. Видимо, желание очернить свою историю у некоторых личностей столь велико, что они готовы ради этого обелить даже Гитлера.
В связи с Нюрнбергским процессом периодически возникает еще один вопрос, на котором стоит остановиться. Некоторые средства информации как за рубежом, так и в России склонны изображать дело таким образом, что в ходе процесса главными были вопросы, неприятные для советской стороны, такие как пакт Молотова-Риббентропа и Катынское дело.
Что касается первого из этих вопросов, то он действительно время от времени всплывал в выступлениях некоторых подсудимых и их защитников. Но ситуация была такова, что другие вопросы, столь же или даже более неприятные для Великобритании и Франции, также возникали в ходе процесса: попустительское, если не сказать поощрительное, отношение этих держав к захвату Гитлером Австрии; Мюнхенский сговор, когда за спиной чехословацкого правительства был дан зеленый свет Германии на захват Судетской области, а затем и всей Чехословакии; некоторые до сих пор остающиеся непроясненными места в переговорах англичан с Гессом в мае 1941 года. И все же как непосредственный свидетель я могу твердо заявить, что как эти вопросы, так и советско-германский пакт 1939 года остались на заднем плане, главными темами были агрессивная политика гитлеровской Германии и зверства, которые были совершены фашистами в ходе войны.
Дело о расстреле польских офицеров в Катыни было действительно включено в обвинительное заключение, причем по настоянию советской стороны. В то время правда о Катыни еще не была известна, и я допускаю, что ее не знали даже сами советские обвинители, которые, поднимая этот вопрос, могли исходить из доклада официальной комиссии, состоявшей из весьма уважаемых представителей советской общественности.
Так или иначе, но трибуналу пришлось заняться Катынским делом. Это было в июне 1946 года. К тому времени я уже уехал из Нюрнберга. В суде были заслушаны аргументы как советского обвинителя, так и немецких защитников. Ни та ни другая сторона не предоставили неопровержимых доказательств, которые бы подтвердили, что это дело рук другой стороны. Все дело сводилось к дате расстрела польских офицеров – 1940 году, то есть до начала войны и прихода немцев, или осени 1941 года, когда те места уже были оккупированы. Вопрос этот остался непроясненным, а потому, заслушав обе стороны, трибунал решил вообще не включать его в приговор, что в тот момент скорее выглядело как неудача советского обвинения. Сегодня после обнародования записки Берии Сталину с предложением расстрелять более 12 тысяч польских офицеров вопрос этот ясен. Неясным остается, во всяком случае для меня, почему надо было расстреливать этих офицеров. Ведь многие другие польские офицеры оставались нетронутыми, а после начала войны с Германией генералу Андерсу была предоставлена возможности сформировать специальный корпус из поляков, находившихся на советской территории.
Расскажу еще об одном эпизоде, который не получил сколько-нибудь широкого политического резонанса, но отчетливо продемонстрировал разницу в психологии советских и западных юристов. Однажды – мне кажется, что это было уже в начале 1946 года, – Нюрнберг посетил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Вышинский. На одном из приемов, устроенных в его честь, Вышинский поднял свой бокал со словами: «Предлагаю тост за то, чтобы все подсудимые были осуждены и повешены». Это было в духе его извинительных речей на московских процессах. Сказав эти слова, он тут же опорожнил свой бокал. За ним, не дожидаясь моего перевода, последовали и другие присутствовавшие. Когда же я перевел этот далекий от норм юриспруденции тост, англо-американские судьи и их заместители, если пользоваться нынешним сленгом, буквально «отпали». Как я потом понял из разговоров с секретарями американских судей, их начальников больше всего беспокоило, как бы эта история не попала в прессу. По-моему, обошлось.
А в общем и целом работа судей, в кругу которых, как я уже говорил, мне в основном и довелось пребывать, в течение всего процесса шла достаточно гладко. Главное и, пожалуй, единственное принципиальное разногласие возникло только в самом конце, когда обсуждался вопрос о приговоре. Никитченко высказал свое особое мнение по поводу решения других судей признать Шахта, Папена и Фритче невиновными. Советский судья также высказал мнение, что Гесса должны были бы приговорить к смертной казни, а не к пожизненному заключению.
К тому времени меня уже не было в Нюрнберге, и мне неизвестно, отражало ли особое мнение, высказанное Никитченко, его собственную точку зрения, или же оно было продиктовано из Москвы. Но так или иначе, мне тогда казалось и кажется теперь, что было бы лучше, если бы приговор стал единогласным, без особых мнений. К тому же психологически оправдание двух или трех подсудимых делало его более убедительным для немецкого населения.
У истоков холодной войны
Суд над главными немецкими военными преступниками был как бы последним успешным актом союзников по антигитлеровской коалиции, подводившим черту под их победоносной борьбой против Германии. Но в сентябре 1945 года, то есть за два месяца до Нюрнберга, на сентябрьской встрече министров иностранных дел пяти стран в Лондоне, где я работал переводчиком, уже дули другие ветры, предвестники набиравшей силу холодной войны.
Уже тот факт, что эта лондонская сессия закончилась, не приняв никаких решений, говорит о многом. Такого раньше не бывало.
Разногласия возникли в связи с подготовкой мирных договоров с бывшими странами-сателлитами гитлеровской Германии. Согласно решению Потсдамской конференции первоначальная разработка таких договоров возлагалась на США, Англию и СССР. Сейчас же, на лондонской встрече, американская и британская делегации настаивали на подключении к этой работе Франции с Китаем. Если учесть, что Китай был представлен в тот момент гоминьдановцем, то расклад был явно не в нашу пользу. Особенно для СССР это было невыгодно, когда речь шла о составлении мирных договоров с его ближайшими соседями, такими как Румыния или Болгария. И потому советская сторона требовала строгого соблюдения буквы потсдамской договоренности.
В результате встреча зашла в тупик. А поскольку никто не хотел первым вносить предложение о закрытии совещания и как бы брать на себя ответственность за первый провал конференции союзных держав, пять министров иностранных дел продолжали изо дня в день свои ставшие уже бессмысленными встречи. Наконец, американцы подговорили китайского министра в день, когда он занимал председательское кресло, совершить героический поступок и закрыть совещание, что он и сделал.
И надо сказать, что это было сделано вовремя, так как обстановка на сессии становилась взрывоопасной. Все были на нервах. На одном из заседаний произошел из ряда вон выходящий случай: министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин сравнил политику Советского Союза с политикой Гитлера. Молотов немедленно встал и, сказав, что не намерен выслушивать оскорбления, направился к двери. Он вернулся на свое место, только когда Бевин, опомнившись, крикнул вслед ему, что он берет свои слова обратно.
Позже, когда холодная война стала набирать обороты, люди как-то свыклись со всякого рода стычками и неприятностями такого рода. Однако та сессия Совета министров иностранных дел, столь резко контрастировавшая с предыдущими встречами союзников, осталась в моей памяти, пожалуй, как самая неприятная из всех, в которых мне пришлось участвовать.
Впрочем, мое участие в ней сводилось к работе на заседаниях заместителей министров иностранных дел, где рассматривались по поручению министров различные менее существенные вопросы, чем на встречах самих министров. Советским представителем на этих заседаниях заместителей был Вышинский, в то время первый заместитель министра иностранных дел.
Впоследствии мне пришлось довольно часто иметь с ним дело, и я его достаточно хорошо узнал. Это был человек малоприятный, постоянно державший нос по ветру и мало заботившийся о каких-либо принципах. Он подстраивался под мнение Молотова и иногда бывал настолько угодлив, что мог вызывать только брезгливость.
Правда, однажды, в 1946 году в Нью-Йорке, у Вышинского с Молотовым произошла стычка. Когда Молотов начал резко критиковать его за то, что в одном из комитетов Генеральной Ассамблеи ООН не оказалось советского представителя, он в ответ на реплику министра иностранных дел: «Вы не делаете того, что вам положено, вам только речи произносить» ответил какой-то резкостью. Молотов не на шутку рассердился: «Вы не имеете права так разговаривать с членом политбюро». Потеряв над собой всякий контроль, Вышинский выпалил: «А вы не имеете права так говорить с членом Верховного Совета СССР». Но это было исключением из правила.
Чего у Вышинского нельзя было отнять, так это то, что он был хороший оратор и любил ораторствовать. В 1955 году в Вене, где состоялось подписание Государственного договора с Австрией, госсекретарь США Даллес выразил Молотову соболезнование по случаю смерти Вышинского. При этом он сказал, что это, пожалуй, был самый сильный оратор прокурорского толка, которого ему когда-либо приходилось слышать. Правда, добавил Даллес, под конец он стал выдыхаться, его выступления в ООН стали скучноватыми, страдали длиннотами.
Добавлю, что Вышинский был весьма находчив, умел выходить из трудных положений, в которые он иногда попадал в силу недостаточно хорошего знания деталей, в частности в области проблемы разоружения. Во время одного из его выступлений в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН сидящие за его спиной советские эксперты услышали, к своему ужасу, что он излагает позицию по одному из аспектов этой проблемы, которой придерживались западные державы. Они поспешили написать ему записку о том, что советская позиция противоположна тому, что он говорит. И пришли в паническое состояние, когда увидели, что, прочитав записку, Вышинский продолжал излагать ту же ошибочную позицию. Наконец он сделал многозначительную паузу и с большим пафосом заявил: «Да, господа, так говорят враги мира. Наша, советская позиция диаметрально противоположная».
Приведу еще один, довольно забавный случай. Как-то в Нью-Йорке Вышинский выступал на многочисленном собрании американской общественности. Я его переводил. В то время в обиход начал входить термин «тоталитаризм». В ходе своего выступления Вышинский сказал примерно следующее: «Теперь некоторые так называемые «кремленологи» готовы обвинять Советский Союз в чем попало. Говорят даже, что мы «тоталитаристы». Дойдя до этой фразы, я запнулся на слове «тоталитаристы», никак не мог выговорить его по-английски. Тогда Вышинский выхватил из моих рук микрофон и под аплодисменты публики заявил: «Видите, мы даже выговорить это слово не можем, а утверждают, будто мы тоталитаристы».
Со своими подчиненными Вышинский бывал груб и у сотрудников МИДа не пользовался уважением. Бывали случаи, правда, редко, когда он получал отпор. Тогда смельчак, который отваживался на это, становился героем дня. По МИДу ходила легенда, будто однажды Вышинский по какому-то случаю напустился на заведующего экономическим отделом Геращенко (отца недавнего президента Центрального банка) и кончил свою тираду словами: «Вы ничего толком не можете сделать, вы только детей умеете делать!» На это Геращенко, который действительно имел четверых или пятерых детей, спокойно отпарировал: «А у вас, Андрей Януарьевич, это плохо получается, вот вы и злитесь». Говорят, Вышинский был настолько ошарашен, что даже не нашелся что ответить. О своем участии в политических процессах 1937–1938 годов он предпочитал умалчивать. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы он упоминал о них.
Лично у меня с ним особых проблем не было. О был доволен моими переводами. И однажды даже сказал мне: «Ваш язык – враг ваш». Он имел в виду, что мои знания английского языка мешают мне продвигаться по службе.
Практически весь 1946 год я в той или иной степени был привязан к Вышинскому, исполняя переводческие и частично секретарские функции сначала в Париже на сессии Совета министров иностранных дел четырех держав, а затем там же, на конференции по разработке мирных договоров с Италией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Финляндией. Чуть позже совершилась передислокация всего табора во главе с Молотовым в Нью-Йорк, где продолжалась сессия Совета министров иностранных дел для завершения работы по договорам с бывшими союзниками Германии. Параллельно шла сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Это был последний год, когда Советский Союз и западные державы могли о чем-то еще договориться – в данном случае о пяти мирных договорах. И произошло это только потому, что США и Великобритания были заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора с Италией, где их влияние преобладало. В то же время Советский Союз придавал не меньшее, если не большее значение заключению мирных договоров с Венгрией, Румынией и Болгарией, чтобы узаконить в международном плане возникшие там ориентированные на Москву режимы.
Вряд ли можно определить точные сроки возникновения холодной войны. На эту тему опубликованы десятки, если не сотни книг и различных других публикаций. Некоторые склонны считать стартовым моментом встречу Молотова с президентом Трумэном, которая произошла 23 апреля 1945 года, сразу после смерти Рузвельта. Советский министр направлялся на конференцию в Сан-Франциско, созванную для разработки Устава Организации Объединенных Наций. Судя по ряду американских источников, перед этой встречей Трумэн созвал совещание своих специалистов по американо-советским отношениям, на котором сразу заявил, что «до сих пор наши соглашения с Советским Союзом представляли собой улицу с односторонним движением. Так дальше продолжаться не может. Поставить на этом точку надо теперь или никогда». Все присутствующие с готовностью поддакивали президенту, и только военный министр Генри Стимсон пытался умерить пыл участников совещания, но без какого-либо успеха. Трумэн, который не стеснялся в выражениях, провел беседу в подчеркнуто агрессивном тоне или, как он впоследствии сам охарактеризовал ее, «съездил Молотову пару раз по физиономии».
А. А. Громыко был в то время послом в США и присутствовал на той беседе. Описание ее он не включил в книгу своих мемуаров, но однажды рассказал, как это было. По его словам, Трумэн сразу же перешел в атаку, упрекая Советский Союз в различных смертных грехах. Натиск был столь неожиданным, что Молотов даже растерялся, что с ним случалось крайне редко. После тирады Трумэна он приготовился отвечать, но тут президент дал понять, что беседа закончена, и, попрощавшись, вышел. Молотов был явно встревожен. Он предвидел, что поведение Трумэна вызовет крайне негативную реакцию в Москве, и опасался, как бы Сталин не возложил ответственность за все это на него. По мнению Громыко, было во всяком случае очевидно, что ухудшение отношений с США никоим образом не входило в планы советского руководства.
Вернувшись в посольство, Молотов уединился и стал писать телеграмму в Москву с отчетом о состоявшейся беседе. Писал он долго. Видимо, перекрашивание мрачных тонов беседы в более светлые у него никак не получалось. Наконец он позвал Громыко, и они вдвоем принялись смягчать острые углы. Кое-что им удалось. Как рассказывал Андрей Андреевич, в конечном итоге из текста телеграммы трудно было понять, кто первый прервал беседу. Но основное содержание беседы изменить конечно же было невозможно.
Какое впечатление высказывания американского президента произвели в Москве, мне неизвестно. Но считать состоявшуюся беседу началом холодной войны вряд ли возможно. После встречи Молотова с Трумэном последовал ряд шагов со стороны Вашингтона, которые выглядели как отход от жесткой позиции, занятой американским президентом. Видимо, в Вашингтоне спохватились, что общественное мнение Соединенных Штатов еще не подготовлено к резкому изменению внешнеполитического курса. Во всяком случае, после апрельской встречи в Белом доме в июне последовала важная миссия Гарри Гопкинса, которому после нескольких бесед со Сталиным удалось сгладить возникшие шероховатости. За этим (17 июля – 1 августа) последовала Берлинская (Потсдамская) конференция на высшем уровне, которая в общем и целом закончилась успешно. В том же 1945 году была проведена конференция в Сан-Франциско, завершившаяся подписанием Устава Организации Объединенных Наций. Следующий, 1946 год ознаменовался согласованием мирных договоров с государствами – союзниками Германии.
Но вот к этому времени отношения Советского Союза с США и Великобританией стали действительно трещать по всем швам. В марте 1946 года прозвучала известная речь Уинстона Черчилля в Фултоне, которая, по мнению многих, как бы символизировала начало холодной войны.
В тот период пропаганда, особенно в Соединенных Штатах, стала принимать все более откровенный антисоветский характер. Например, выступление Сталина на предвыборном собрании в феврале 1946 года – весьма спокойное и даже миролюбивое – на Западе было преподнесено чуть ли не как вызов всему западному миру.
Широкий отзвук в США получила так называемая длинная телеграмма, направленная Джорджем Кеннаном из американского посольства в Москве в феврале 1946 года. Подводя итог изложенным в этой телеграмме аргументам, Кеннан писал: «Таким образом, речь идет о политической власти, которая с фанатичной последовательностью верит в то, что с США у нее не может быть постоянного modus vivendi, что для утверждения советской мощи желательно и необходимо подорвать внутреннюю гармонию нашего общества, уничтожить наши социальные устои, расшатать международный авторитет нашего государства».
Значительно позднее в своих мемуарах Кеннан писал: «Когда я перечитал эти высказывания, они показались мне ужасными и вместе с тем смехотворными… Многое из того, что я тогда написал, звучит как публикация, изданная напуганным до смерти комитетом конгресса или обществом «Дочери американской революции» (крайне реакционная женская организация в США. – О. Т.), с целью призвать граждан на борьбу с угрозой коммунистического заговора».
Западная пропаганда изображала дело так, будто Советский Союз подстрекает европейские компартии, и в частности французских коммунистов, поднять вооруженное восстание. Между тем еще в конце 1944 года Сталин в беседе с лидером французских коммунистов Морисом Торезом советовал не прибегать к каким-либо насильственным методам. Он подчеркивал, что Советский Союз делает ставку на сотрудничество с де Голлем.
Политическая жизнь того времени была полна парадоксов. Например, президент Трумэн в своей так называемой доктрине призывал в 1947 году защитить Грецию от коммунистов, а Сталин в ответ на предложение Димитрова оказать помощь греческим партизанам, которые вели борьбу против правых сил, говорил: «Я советовал им не начинать эту борьбу в Греции… Они начали дело, для которого у них нет достаточно сил. По-видимому, они ожидали, что Красная армия дойдет до Эгейского моря. Мы не можем этого сделать. Мы не в состоянии направить свои войска в Грецию. Греки совершили глупость».
Даже позднее, в 1948 году, Сталин говорил югославским руководителям Карделю и Джиласу, что восстание в Греции должно быть прекращено, причем как можно скорее. А Черчилль впоследствии подчеркивал, что Сталин строго и добросовестно придерживался октябрьского соглашения, и в течение многих недель боев с коммунистами на улицах Афин ни в «Правде», ни в «Известиях» не появилось ни одного упрека в адрес Великобритании.
Что касается Восточной Европы, то есть основания утверждать, что примерно до 1947 года основная линия поведения Советского Союза в отношении государств этого региона сводилась к тому, чтобы иметь там дружественные правительства, но не обязательно коммунистические режимы по образу и подобию СССР. Имеется ряд свидетельств этому.
В рассекреченных архивах компартии Чехословакии есть, например, документ, согласно которому руководитель этой партии Клемент Готвальд информировал Центральный комитет в октябре 1946 года: «Тов. Сталин сказал мне, что опыт показал и классики марксизма-ленинизма учат нас, что путь через Советы и диктатуру пролетариата – это не единственный путь развития». Показательно, что Эдуард Бенеш, политик западной ориентации, оставался президентом Чехословакии вплоть до 1948 года. В свою очередь, болгарский руководитель Георгий Димитров подчеркивал, что его страна «не станет советской республикой». А польский – Владислав Гомулка заявил в официозном журнале, что «диктатура рабочего класса, а тем более одной партии не будет ни полезной, ни необходимой».
На выборах в Венгрии в 1945 году Партия мелких сельских хозяев получила 57 % голосов, а Объединенный фронт коммунистов и социал-демократов – только 34 %. Корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» писал тогда из Будапешта, что на этих выборах было меньше жульничества, чем бывает на выборах в городе Нью-Йорке.
В Болгарии выборы также не принесли победы коммунистам.
Историки и политики уже много лет ведут спор о том, кто несет ответственность за развязывание холодной войны. Этот спор, вероятно, будет продолжаться еще не один десяток лет. Поскольку я пишу книгу воспоминаний, а не научный трактат, в мою задачу не входит вдаваться в этот спор. Скажу только, что, по моим наблюдениям, начиная с 1947 года, когда по возвращении из Нью-Йорка я начал работать в секретариате министра иностранных дел, советская политика в отношении государств Восточной Европы стала заметно ужесточаться. Причем это зачастую делалось без учета специфических условий в той или иной стране, ее национальных традиций или настроений населения. К сожалению, советские руководители, и Сталин прежде всего, не знали, забыли или предпочитали игнорировать некоторые весьма актуальные высказывания тех, кого они называли классиками марксизма. Энгельс, например, писал: «Бесспорно, во всяком случае, следующее: победоносный пролетариат не может навязать какому-либо зарубежному государству способ быть счастливым, если он не хочет похоронить собственную победу».
В конечном итоге все это привело к тому, что Советский Союз получил на своей западной границе не дружественных соседей, а государства, постоянно стремившиеся ослабить свои связи со сверхдержавой на Востоке. Причины этого ужесточения советской политики остаются на сегодня недостаточно изученными. Несомненно, однако, что этот процесс начался и развивался параллельно с началом и обострением холодной войны. И в связи с ней.
Мало изученным остается и вопрос о том, почему Советский Союз в течение всего периода холодной войны проводил совершенно иной курс в отношении Финляндии без каких-либо попыток превратить ее «страну народной демократии». В результате у Москвы сохранились вполне добрососедские, дружеские отношения с этой страной. Во всяком случае, там не возникли такие конфликтные ситуации, как в Польше, Венгрии или Чехословакии.
Если же попытаться определить более точный рубеж начала холодной войны, то им, наверное, будет 17 марта 1947 года, когда президент США выступил в Конгрессе с речью, которая получила название доктрины Трумэна. Это была заявка на роль «мирового полицейского». Советское руководство восприняло эту доктрину как своего рода объявление холодной войны, тем более если учесть, что она была обнародована накануне московской сессии Совета министров иностранных дел четырех держав.
Именно в это время мне было предложено работать в секретариате Молотова. В круг моих обязанностей входили переводческие функции, а также ряд временных или постоянных поручений. За Молотовым сохранились некоторые функции с прежней его работы по Совету министров СССР в качестве одного из первых заместителей Сталина. Поэтому у него было два секретариата. Один из них базировался постоянно в Кремле, а другой, мидовский, работал как бы на колесах, передвигаясь из министерства в Кремль и обратно, в зависимости от местонахождения министра. Впрочем, министерский секретариат (как и кремлевский), не в пример нынешним временам, был сравнительно малочисленным – пять-шесть дипломатов и пять-шесть канцелярских работников.
Для меня, новичка, как, впрочем, и для остальных был один неприятный аспект работы в секретариате Молотова: рабочий день почти всегда заканчивался в три-четыре часа ночи, а иногда и под утро. Так работал весь верхний эшелон советской власти. Это соответствовало режиму работы Сталина, культ которого к этому моменту уже сформировался. Он привык работать по ночам: вставал поздно и ложился часа в четыре ночи, а иногда и позже. Такой распорядок суток опускался по цепочке вниз до определенного номенклатурного уровня. Молотов редко уезжал с работы до того, как получал сигнал о том, что Сталин закончил свой рабочий день. И мы или те из нас, кто дежурил в тот вечер, изнывая от желания поспать, ждали этого заветного сигнала. В том, что касается сна, наш министр иностранных дел имел преимущество над большей частью человечества. Он мог заснуть, как только его голова прикасалась к подушке. Иногда он говорил своему начальнику охраны: «Я пойду прилягу. Разбудите меня через 15 минут».
Молотов был догматиком в политике и педантом во всем остальном, начиная с мелочей, например, с какой стороны следует скреплять бумаги скрепками. Он был суров, и, когда отчитывал кого-нибудь, его голос приобретал очень неприятную металлическую тональность. Как-то он долго бранил одного из своих подчиненных за какую-то провинность и закончил свою тираду словами: «Разве я не правильно говорю?» Когда тот ответил: «Вы всегда правильно говорите, Вячеслав Михайлович», Молотов завелся еще больше: «Ах так, вы, оказывается, еще и подхалим», и далее последовала новая жесткая тирада. Но это мелочи. Значительно хуже то, что Молотов был человеком не просто жестким, но и жестоким. Об этом говорят его подписи с комментариями на смертных приговорах 30-х годов.
И вместе с тем он был нежно привязан к своей семье, к супруге Полине Семеновне, к дочери Светлане. Семейную фотографию всегда возил с собой и ставил на столике у своей постели. Могу себе представить, каким ударом для него явился арест жены в 1948 году. Молотов говорил впоследствии, что у него затряслись колени, когда на заседании политбюро Сталин внес предложение об аресте Жемчужиной. Но он перенес и это – слово Сталина было превыше всего.
Время от времени я имел возможность близко наблюдать за семьей Молотова как в качестве его помощника, так и потому, что Полина Семеновна, видимо, испытывала какие-то чувства к нашей семье еще с 1936 года, когда посетила Соединенные Штаты. Иногда она бывала у нас дома и делилась некоторыми впечатлениями о прошлом. Я не все помню из того, что тогда говорилось, так как в основном это происходило еще до войны. Но в память врезался ее рассказ о суровой критике, которой ее подверг Сталин, когда было принято решение о выводе ее из состава ЦК. После этого заседания с ней случилась истерика, и Вячеслав Михайлович с трудом разжал ей зубы, чтоб влить какое-то успокаивающее лекарство.
Когда Светлана закончила школу, ей в качестве подарка дали возможность съездить в Париж: Вячеслав Михайлович находился тогда там на конференции. Это было лето 1946 года. Тогда ко мне обратилась женщина, которая работала экономкой в доме Молотовых, передала просьбу Полины Семеновны показать ее дочери ночной Париж. Это был странный вечер, так как нас сопровождала экономка и один охранник. Я предложил им поехать в хороший ресторан в Булонском лесу (разумеется, оплачивать счет пришлось не мне), затем – в театр, где показывали вполне благопристойный мюзикл («Нет, нет, Нанет»). Светлана намеками дала понять, что ей интереснее было бы посмотреть что-нибудь более пикантное, но я счел за благо не заметить этот намек. Когда мы въехали в ворота посольства, то увидели отца, расхаживавшего по внутреннему дворику посольского дома на рю де Гренель: видимо, он беспокоился, как пройдет экскурсия его дочери. Никакого удовольствия от этого вечера я не получил, во-первых, потому, что на мне лежал определенный груз ответственности, а во-вторых, потому, что Светлана не была увлекательной компаньонкой.
В следующем, 1947 году меня пригласили на ее свадьбу. Женихом был сын знаменитого авиаконструктора Ильюшина, впоследствии известный летчик-испытатель. Свадьба состоялась на казенной даче Молотовых при большом стечении народа. Главное, что мне запомнилось об этом дне, это то, что мать невесты довольно настойчиво рекомендовала мне ухаживать за другой Светланой – дочерью Сталина, которая тоже присутствовала на торжестве. Помню, я ответил тогда: «Нет, Полина Семеновна, от этого уж вы меня увольте».
Но вернемся к Молотову. Его упорство в переговорах было притчей во языцех. Он был готов бороться до полного изнеможения. Один ветеран японской дипломатической службы, который участвовал в переговорах с ним по рыболовным вопросам, рассказал мне о таком случае. Дело было во время войны, когда многие проблемы, относящиеся к Японии, имели для Советского Союза большое значение, учитывая заинтересованность удержать эту страну от вступления в войну на стороне Германии. Поэтому даже незначительные переговоры вел министр иностранных дел. Переговоры затянулись далеко за полночь, а один пункт, на котором настаивали японцы, оставался несогласованным. Наконец Молотов, напустив на себя суровое выражение, обратился к японскому послу: «Господин посол, дальнейшие переговоры беспредметны, с вами невозможно договориться». Он захлопнул свою папку, попрощался, подошел к двери, потом остановился, улыбнулся и сказал: «Ну ладно, давайте будем подписывать». Рассказывая об этом эпизоде, мой собеседник не скрывал своего восхищения упорством Молотова. Ничего удивительного, поскольку и японцы, как правило, вели переговоры в таком же стиле.
Самые высокие оценки Молотову как дипломату дал государственный секретарь США Джон Фостер Даллес, в своей книге «Мир и война» он писал: «Молотов показал себя во всем блеске. Он применял свои приемы, различные в каждом случае, с исключительным мастерством. Наблюдая в действии всех великих мировых государственных деятелей нашего века, начиная с участников Гаагской мирной конференции 1907 года, я никогда не встречал такого высокого дипломатического мастерства, какое проявил Молотов».
Кажется странным, что такой ультраконсервативный политик и убежденный антикоммунист, как Даллес, мог относиться с уважением и даже восхищением к своему идеологическому антиподу. С моей точки зрения, оценка, которую он дал Молотову в своей книге, явно завышена. Но крайности, как говорят, сходятся. А в характерах Молотова и Даллеса было немало общего: оба были догматиками до мозга костей, оба считали, что системы, которые они представляли, несовместимы, оба скептически относились к возможности каких-либо долговременных договоренностей между США и СССР, оба опасались, что такие лидеры их стран, как Эйзенхауэр и Хрущев, могут пойти на неоправданные уступки и компромиссы. Короче говоря, оба были образцами для холодной войны. Даже в используемых ими тактических приемах было что-то общее – готовность биться до последнего патрона, прибегать к любым приемам, лишь бы добиться своей цели. Даллес как-то полушутя-полусерьезно рассказывал советскому министру, что, ведя переговоры с французами, он имел про запас один безошибочный прием – предлагал продолжать дискуссию без перерыва на обед. В этих случаях французы долго не выдерживают и на голодный желудок начинают сдавать свои позиции.
Хотя Молотов не знал иностранных языков, он придавал большое значение квалифицированному переводу. Для него в некоторых случаях имели значение не только точность, но даже звучание перевода. Однажды, когда на совещании министров иностранных дел обсуждался вопрос о репарациях с Германии, он заявил: «Мы не просим, мы требуем репараций». И, нагнувшись ко мне, шепнул: «Скажите эту фразу как можно более увесисто». Я так усердно выполнил это указание, что некоторые даже вздрогнули. Накануне открытия московской сессии Совета министров иностранных дел четырех держав в апреле 1947 года, когда я впервые должен был переводить ему, он вызвал меня поздно вечером и стал расспрашивать, достаточно ли уверенно я себя чувствую, хорошо ли я разбираюсь в тех вопросах, которые стоят на повестке дня конференции, и т. д. А после первого заседания министров интересовался у присутствовавших, как звучал мой перевод, все ли соответствовало сказанному им. Получив положительный ответ, он уже больше никогда не возвращался к этим вопросам.
Порядок в те годы был такой. Тот, кто переводил беседу министра, должен был после ее окончания первым делом составить проект телеграммы послу той страны или стран, отношения с которыми обсуждались в ходе беседы. Молотов обязательно подписывал эту депешу в тот же день, она не должна была быть слишком длинной. После этого переводчик составлял подробную запись беседы. Когда беседа бывала важной по своему содержанию, Молотов просматривал ее и рассылал соответствующим членам руководства.
Бывали случаи, когда запись беседы оказывалась включенной в повестку дня заседания политбюро. Помню, однажды, в конце 1954-го или начале 1955 года, Молотову было поручено провести беседу с послом Югославии Видичем с целью прозондировать почву – готово ли югославское руководство пойти на улучшение отношений с Советским Союзом, которые при Сталине были доведены до точки кипения. Молотов отнесся к этому поручению формально, отделавшись двумя-тремя малозначительными фразами. Как известно, он вообще не был сторонником нормализации отношений с Югославией. В результате сделанная мною запись беседы попала в повестку дня политбюро и стала основой для критики министра иностранных дел, главным образом со стороны Хрущева.
Впоследствии такой строгий порядок фиксации на бумаге хода переговоров или бесед стал постепенно размываться, что нередко приводило к печальным результатам, когда важные договоренности оставались не протоколированными на бумаге, и дипломаты не знали, что говорил их министр соответствующему иностранному министру или послу в Москве.
В период моей работы в секретариате министра иностранных дел холодная война начала переходить от первого этапа, когда обе стороны еще продолжали делать вид, будто между ними сохраняются союзнические отношения, к следующему, когда тайное стало явным. Это отчетливо проявилось на Московском совещании министров иностранных дел четырех держав. Я бы охарактеризовал его как мрачное и даже тоскливое: на столе переговоров стояли те же «блюда» – германский вопрос, репарации с Германии, договор с Австрией. Но теперь они выглядели как остывшие объедки от давно закончившегося пира. Все взаимные аргументы и контраргументы, предложения и контрпредложения будто уходили в песок.
В делегации США появился новый руководитель генерал Джордж Маршалл, который сменил Бирнса на посту государственного секретаря. Американские историки и политологи, как правило, превозносят Маршалла как военного и политика. Видимо, в качестве начальника штаба армии Соединенных Штатов, а затем и министра обороны он действительно был выдающимся организатором. Что касается его как государственного деятеля и дипломата, то на московском совещании министров он не произвел на меня большого впечатления. Возможно, сказывались его неопытность в этой области, непривычность обстановки. К тому же ему противостоял такой прожженный политик, как Молотов. В некоторых случаях Маршалл делал заявление, читая по шпаргалке, составленной для него сидящим рядом генералом Клеем, а тот тем временем набрасывал на том же листе какие-то дополнения. Видимо, и на Молотова новая американская команда не произвела большого впечатления. Однажды по окончании очередного заседания, когда я сопровождал его в комнату, отведенную для нашей делегации, он сказал: «Да, это далеко не те личности, какими были Рузвельт и Гопкинс».
Однако, приводя эти негативные оценки американских деятелей, следует сделать одну немаловажную оговорку: к тому времени, когда отношения накалились донельзя, будь во главе делегации США даже Джефферсон или Линкольн, они бы тоже, наверное, оставались в глазах кремлевских деятелей неугодными политиками.
В течение 1947 года маховик холодной войны безостановочно продолжал раскручиваться. Основные усилия Вашингтона были сосредоточены на консолидации западных стран сначала через план Маршалла в экономической сфере, а затем и в военно-политической сфере с подключением к антисоветскому блоку и Западной Германии. Даже некоторые английские государственные деятели начали с тревогой смотреть на воинственные шаги американского руководства.
В этом же 1947 году состоялись две важные международные встречи – конференция министров иностранных дел СССР, Англии и Франции по плану Маршалла и новая сессия Совета министров иностранных дел четырех держав. Как та, так и другая встречи были заранее обречены на провал. Если на предыдущих послевоенных конференциях между делегациями имелись какие-то точки соприкосновения, то теперь позиции расходились полностью.
Вспоминая Лондонскую сессию, на память приходят только некоторые детали и, прежде всего, прием, который давал король Георг VI в Букингемском дворце. Вышинский, прилетевший в Лондон прямо из Нью-Йорка, где на Генеральной ассамблее ООН он клеймил «поджигателей войны», в том числе Уинстона Черчилля, тут, как на грех, в самом начале приема столкнулся с ним лицом к лицу. Черчилль мрачно посмотрел на нашего бывшего генерального прокурора и пробурчал: «Послушайте, мне бы следовало поддать вам» (I should give you a shove.) Вышинский, который был не робкого десятка, на этот раз начал бессвязно лепетать: «И я тоже, и я тоже». На этом их «беседа» закончилась.
На приеме присутствовали обе дочери короля. Наследнице престола, ныне королеве Елизавете II, тогда было 22 года. Она имела короткую, но вполне толковую беседу с Молотовым. Видно, ее с ранних лет готовили стать главой государства. Мне впоследствии не раз пришлось иметь дело с королевой – и в качестве переводчика во время визита в Англию Булганина и Хрущева, и во время визита Косыгина, и, наконец, в качестве старшины дипкорпуса, когда состоялся официальный визит королевы в Японию.
Весной 1948 года правительство Соединенных Штатов предприняло неожиданный и не совсем понятный шаг. 4 мая посол США в Москве Биделл Смит посетил Молотова и по поручению своего правительства сделал заявление, в котором враждебная политика США объяснялась как ответная мера на диктаторское поведение Советского Союза в странах Восточной Европы. Утверждалось, в частности, что «коммунистический переворот в Чехословакии потряс Соединенные Штаты и явился причиной создания военного блока в Западной Европе». Вместе с тем в заявлении говорилось, что США «не имеют никаких враждебных или агрессивных намерений в отношении Советского Союза», и выдвигалось предложение «исчерпывающе обсудить и урегулировать разногласия между СССР и США».
Молотов обещал дать ответ послу в скором времени, его явно озадачил американский маневр. Когда Смит ушел, он сказал, что с этим американским демаршем надо тщательно разобраться. А затем сказал фразу, оставшуюся для меня непонятной: «Американцы начинают действовать все больше, как Гитлер. Только тот все время очень спешил, а у этих есть время».
9 мая послу США был дан ответ: советское правительство заявило, что оно положительно относится к пожеланию Соединенных Штатов поддерживать с Советским Союзом нормальные отношения и «согласно приступить с этой целью к обсуждению и урегулированию существующих между ними разногласий». Наряду с этим в советском ответе были опровергнуты утверждения Вашингтона относительно взаимоотношений СССР со странами народной демократии.
Получив положительный ответ Москвы на предложение вступить в переговоры, Вашингтон затем уклонился от своей собственной инициативы. Смысл всего этого маневра Вашингтона остался загадкой. Не исключаю, что окружение Трумэна допустило какой-то просчет, первоначально считая, что предложение возобновить переговоры с Советским Союзом сыграет на руку президенту в начавшейся предвыборной кампании, а затем убедилось в обратном. К тому же англичане открыто выразили свое недовольство тем, что эта игра с Кремлем была затеяна за их спиной.
Сталин
Личное знакомство со Сталиным у меня состоялось, я это хорошо помню, в 10 часов вечера 24 марта 1947 года. Выше я уже писал о Сталине в связи с репрессиями 30-х годов, многое – по рассказам отца. Многое знаю о нем по свидетельствам очевидцев и книгам, написанным исследователями. Но оценки, содержащиеся в них, настолько разноречивы, что с каждым годом понять личность Сталина становится все труднее и труднее. Причем многие из тех, кто его славословили, затем предали его анафеме, что характеризует больше их, чем его.
Но личность Сталина действительно неоднозначна. А потому он не мог быть ни дьяволом, ни ангелом. Для меня он политик, и не просто политик, а из тех, кто стоял на самой вершине политической пирамиды. В одном из писем к дочери Гарри Трумэн писал: «Чтобы быть хорошим президентом, нужно совмещать в себе качества Макиавелли, французского короля Людовика XI, Цезаря Борджиа и Талейрана, быть лгуном, предателем, лукавым церковником (Ришелье), героем и еще неизвестно кем».
Но чтобы суметь исполнить все эти роли, надо обладать недюжинными актерскими способностями. Константин Симонов подметил это и в своих воспоминаниях назвал Сталина «великим актером», который легко мог менять маски, быть суровым и обаятельным. Однако, писал он, это обаяние «было каким-то подчеркнутым, осознанным и умело эксплуатируемым».
«Способность Сталина вводить людей в заблуждение, – отмечал Джордж Кеннан, который в качестве посла не раз испытал это на самом себе, – была неотъемлемой частью его величия как государственного деятеля. Так же как его способность высказывать простые, разумные, внешне невинные мысли… Наш век не знает более великого мастера тактического искусства. Непретенциозный, спокойный фасад, который обезоруживал так же, как первые ходы гроссмейстера в шахматах, – это была только какая-то часть его блестящего и в то же время грозного мастерства».
А вот что писал в своих воспоминаниях министр иностранных дел, а затем и премьер-министр Великобритании Энтони Иден: «Сталин с самого начала произвел на меня сильное впечатление, и мое мнение о его способностях никогда не менялось. Его личность оказывала влияние на собеседника без каких-либо видимых усилий с его стороны. Он обладал хорошими манерами, может быть, это была врожденная грузинская черта. И хотя мне было известно, что этот человек лишен чувства пощады, я уважал его интеллектуальные способности и даже испытывал чувство симпатии к нему, которое я никак не мог как следует проанализировать».
В другом месте Иден пишет: «В качестве переговорщика маршал Сталин был самым серьезным партнером. Более того, если бы мне пришлось, используя свой примерно тридцатилетний опыт участия в различного рода международных конференциях, подбирать команду для круглого стола, Сталин был бы моим самым первым кандидатом».
Сталин умел и любил играть людьми. В течение войны и в начальный период холодной войны он и Молотов часто разыгрывали мизансцену, в ходе которой Молотов изображал жесткого оппонента, не желавшего идти на уступки западным союзникам, а Сталин его поправлял, шел на компромиссы, а иногда шутил, как в беседе с Черчиллем в 1944 году, что Молотов – это бандит, которого надо послать в Чикаго ко всем другим гангстерам.
Много лет спустя в Лондоне тот же Энтони Иден, который к тому времени, похоже, разгадал эту игру, рассказывал Хрущеву, что Сталин однажды сказал ему: «Наверное, вам бывает тяжело с Молотовым – он очень упрямый человек. Мой совет: если вы зайдете с ним тупик, обратитесь ко мне – я постараюсь вам помочь. По словам Идена, он пару раз с разрешения Черчилля действительно обращался к Сталину, когда переговоры с Молотовым заходили в тупик, и тот подсказывал выход из положения. На самом деле это, вероятно, был вариант, который советское руководство с самого начала держало про запас.
Играл Сталин и со своими ближайшими соратниками. Примером может послужить А. Н. Косыгин, человек трезвого ума и уравновешенного характера. Незадолго до своей смерти Сталин густо замесил так называемое «ленинградское дело», в результате которого погибли близкие Косыгину люди. Причем, как рассказывал мне Алексей Николаевич, Сталин сам направлял ему копии протоколов допросов с показаниями подследственных, которые утверждали (несомненно, под воздействием теперь уже хорошо известных методов), что Косыгин вместе с ними замышлял страшные дела против советской власти. Это была психологическая атака на проверку нервов.
И тем не менее Косыгин неизменно вспоминал о Сталине с чувством, близким к благоговению. Помню его рассказ о том, как он не мог заснуть всю ночь после решения XXII съезда КПСС о выносе тела Сталина и мавзолея.
А Полина Семеновна Жемчужина и в тюрьме по воле Сталина отсидела, и в ссылке была, и родных ее арестовали и пытали. И после всего этого она говорила дочери Сталина: «Никогда не забывай, что твой отец был гений».
Может быть, Пушкин все же ошибался насчет гения и злодейства?
…Итак, 24 марта 1947 года я был приглашен в Кремль. В тот вечер Сталин принимал в своем кабинете в бывшем здании Сената министра иностранных дел Великобритании Эрнеста Бевина.
Ту часть здания, где находился его кабинет, почему-то было принято называть «уголком», подобно тому как дача вождя называлась «ближней». Переводчик обычно приходил на «уголок» заблаговременно и располагался в комнате, находившейся непосредственно за кабинетом помощника Сталина А. Н. Поскребышева. Следующая комната была приемной, где обычно находились один-два охранника, а за ней – кабинет Сталина. Нельзя сказать, что охрана Сталина производила впечатление своей многочисленностью. Вероятно, охранников было более чем достаточно, но они располагались так, чтобы не мозолить глаза.
После смерти Сталина «уголок» подвергся кое-какой перестройке. Комната ожидания была реконструирована и преобразована в зал заседаний политбюро (при Сталине политбюро заседало в его кабинете). Сам кабинет при Маленкове был несколько расширен, как и находившаяся за ним комната отдыха. Впоследствии здесь работали Булганин, Хрущев, Косыгин, Тихонов и Рыжков. Все оставалось без изменений, только портреты на стенах менялись в зависимости от политической конъюнктуры. Позднее для Брежнева было оборудовано большое помещение на третьем этаже того же здания.
Сказать, что я не волновался перед началом беседы, означало бы кривить душой. Волновался не из-за сомнений в своих переводческих силах. Дело было в том, что я должен был переводить Сталину. Когда же беседа началась, напряжение исчезло: надо было сосредоточиться на работе.
Порядок был такой, что переводчик заходил в кабинет за несколько минут до гостей. Когда я вошел, мой взгляд, разумеется, устремился на Сталина, так как Молотова, который стоял рядом, я к тому времени достаточно хорошо знал и, можно сказать, привык нему. Сталин мне показался меньше ростом, чем я ожидал. Он был в военной форме, и погоны придавали его плечам какую-то неестественную покатость. Еще я обратил внимание на то, что, когда он наклонял голову, на темени виднелась довольно большая круглая лысина. Но в общем и целом мне в глаза не бросилась большая разница между тем, как он выглядел в жизни, и его изображениями на картинах и фотографиях.
Не могу сказать, что Сталин производил на меня какое-то зловещее впечатление или, как вспоминают некоторые, у него был особый пронизывающий, гипнотический взгляд. Мне кажется, что это, скорее всего, результат его выдающихся артистических данных. Но если Пушкин писал об Александре I: «Ты был не царь, а лицедей», то в данном случае, как мне казалось после общения со Сталиным, выдающиеся актерские способности использовались лишь как подсобное средство в политических целях.
Молотов, как бы представляя меня, сказал: «Это Трояновский». Поздоровавшись, Сталин спросил о Владимире Павлове, который до этого обычно переводил ему. Я ответил, что Павлов плохо себя чувствует, у него что-то вроде бессонницы. Тут Сталин улыбнулся и сказал фразу прямо-таки из Фенимора Купера: «Тогда передайте привет моему бледнолицему брату от вождя краснокожих». Эти слова я воспринял как желание меня успокоить. И надо сказать, в этом он, безусловно, преуспел, я сразу почувствовал себя непринужденно. Сталин обращался ко мне на «вы». В те годы и Сталин, и Молотов, и другие руководящие деятели обращались так к подчиненным всегда. Так же было и при Хрущеве. «Ты» ввели в обиход при Брежневе и, особенно, при Горбачеве.
…В кабинет провели Бевина и сопровождавших его лиц, и после взаимных приветствий началась беседа. Письменный стол Сталина находился в конце комнаты, но беседы он проводил за длинным столом, который стоял ближе к входу. Я занял место во главе стола (таков был обычный распорядок в Кремле в те времена). Сталин сел справа от меня, за ним Молотов. Англичане расположились по другую сторону стола.
Сталина было нетрудно переводить. У него был сильный грузинский акцент, но по-русски он выражал мысли правильно и точно, используя богатый набор слов. Он говорил короткими фразами, а периоды между паузами не были длинными, так что для переводчика не составляло труда делать заметки, а затем воспроизводить его высказывания.
Беседа с Бевиным и особенно с государственным секретарем США Джорджем Маршаллом, которая состоялась несколько позже, была вежливой, но натянутой, как, впрочем, и вся конференция министров иностранных дел, которая в эти дни проходила в Москве. К тому времени холодная война достигла такой стадии, когда государственные деятели с обеих сторон как бы примирились с мыслью, что никаких кардинальных соглашений добиться невозможно. Они делали вид, что ведут переговоры, хотя на самом деле и не пытались искать точки соприкосновения. Но и окончательно ссориться тоже не хотели. Приличия соблюдались: Советский Союз и Великобритания все еще считались союзниками в соответствии с договором, заключенным во время войны.
Бевин затронул некоторые чувствительные проблемы, такие как репарации с Германии, согласование между Германией и Польшей, децентрализация Германии. Но это было сделано как-то пассивно, без попыток развернуть серьезную дискуссию. Сталин, со своей стороны, тоже ограничивался общими ответами. Создавалось впечатление, что каждый излагал свою позицию ради проформы, не пытаясь и не надеясь убедить другую сторону. Когда же в ходе беседы были подняты вопросы о торговле между двумя странами и о приведении советско-английского договора в соответствие с послевоенными реалиями, обе стороны без труда пришли к согласию.
Бевин воспользовался случаем, чтобы затронуть также некоторые ближневосточные проблемы. Он, в частности, говорил о стремлении английского правительства заключить оборонительное соглашение с Египтом. Сталин на это реагировал положительно, сказал, что, если бы англичане не находились в Египте во время войны, египетское правительство вполне могло бы перейти на сторону немцев. И подчеркнул, что Советский Союз не имеет намерений мешать политике Великобритании в Египте.
Много лет спустя Хрущев вспоминал, что Сталин не раз предостерегал членов политбюро от вмешательства в дела Ближнего Востока, что может побудить англичан принять контрмеры, включая даже применение силы. Почти десять лет спустя решение Хрущева пренебречь этим сталинским предостережением имело серьезные международные последствия, а именно – нападение Англии, Франции и Израиля на Египет.
К концу беседы произошел любопытный эпизод. Бевин обратился к Сталину с просьбой разрешить русским женщинам, вышедшим замуж за английских подданных во время войны, выехать из Советского Союза к своим мужьям в Англию. Сталин ответил не моргнув глазом, что он якобы очень старался убедить Президиум Верховного Совета отменить запрет на выезд этих женщин из страны, но его так резко осекли, что он вряд ли решится снова поднимать этот вопрос.
Было видно, что Бевин был настолько ошарашен таким удивительным ответом, что не знал, то ли воспринимать его как шутку, то ли всерьез. На всякий случай он вообще оставил ответ Сталина без комментариев. Я до сих пор не понимаю, почему Сталин отказывался отпустить этих женщин, а их всего-то было семнадцать, хотя он, вероятно, должен был понимать, что такая позиция Советского Союза будет воспринята англичанами болезненно, более болезненно, чем другие более крупные решения.
Во время беседы Сталин несколько раз употреблял выражение «мы, русские». При переводе на английский я не задумываясь, как бы автоматически говорил «мы, советские». Видимо, подсознательно я исходил из того, что Сталин, будучи грузином, не должен был называть себя русским. К счастью, никто не заметил эту переводческую оплошность. Уже после беседы я сообразил, что Сталин называл себя русским умышленно, и мне могло бы попасть за такую самодеятельность. Впредь я исходил из того, что, коль скоро Сталин хотел называть себя русским – пусть он будет русским и по-английски.
В общем и целом беседа протекала в спокойном и вежливом тоне, хотя было известно, что Сталин давно невзлюбил Бевина. Еще в декабре 1945 года он жаловался британскому послу на грубоватость его министра. Бевин действительно сохранил замашки профсоюзного босса, прошедшего школу тред-юнионистских схваток. Конечно, это был большой контраст по сравнению с аристократизмом и элегантностью прежнего министра иностранных дел Энтони Идена. Порой Бевин допускал явно непарламентские приемы и выражения. Об одном таком случае я уже рассказал. Кроме того, Сталин, видимо, никогда не мог преодолеть свою, мягко выражаясь, нелюбовь к социал-демократам, хотя Бевин не раз напоминал ему, что после Октябрьской революции он находился в первых рядах активистов акции «Руки прочь от Советской России!».
Через пару недель, когда конференция министров еще продолжала свой бесславный путь, с просьбой о встрече со Сталиным обратился государственный секретарь США Джордж Маршалл. Эта встреча состоялась 15 апреля, опять же в 10 часов вечера. Маршалла сопровождал действующий посол в СССР Биделл Смит и будущий – Чарлз Болен, последний выступал в качестве переводчика, хотя с русским языком он был явно не в ладах.
Маршалл выразил сожаление по поводу ухудшения отношений между двумя странами, приписав это советским действиям или, скорее, отсутствию каких-либо действий. Далее он заговорил о разногласиях, возникших на происходящей конференции. Он сказал, что Соединенные Штаты не возражают против единства Германии в области экономики, но полагают опасным образование центрального германского правительства.
Сталин, напротив, заявил, что Советский Союз против расчленения Германии и что следует избежать той ошибки, которую совершил Наполеон, в свое время создавший ряд небольших германских государств, а впоследствии понявший, что предпочтительнее иметь единую Германию.
Кто бы мог представить, что через несколько лет позиции обеих сторон изменятся на 180 градусов: Соединенные Штаты будут выступать за единую Германию, а Советский Союз – категорически возражать против объединения. В своих мемуарах «Мои три года в Москве» Биделл Смит, рассказывая о московской конференции и о встрече со Сталиным, писал: «…Величайшее значение имел вопрос о степени централизации будущего германского правительства. Излишняя концентрация власти особенно опасна в такой стране, как Германия, где отсутствуют устойчивые традиции в области права индивидуальных граждан и общин контролировать власть правительства. Не менее верно и то, что централизованное правительство весьма подвержено проникновению, нападению и захвату со стороны какой-нибудь противозаконной, не брезгующей средствами группы меньшинства».
Среди вопросов, обсуждавшихся в беседе с Маршалом, Сталин уделил особое внимание проблеме репараций. Здесь он проявил большую настойчивость, страна была обессилена войной и разрушена до предела. В Ялте, сказал Сталин, Соединенные Штаты согласились с тем, чтобы Советский Союз получил репарации на сумму в десять миллиардов долларов. Как видно, в Америке от этой позиции теперь отказались, но советский народ был уведомлен об этой сумме, и мы не можем согласиться на меньшее.
В то же время советский лидер добавил, что тупик, который образовался на конференции, не следует воспринимать как трагедию. Разногласия возникали и прежде, но, как правило, в конечном итоге стороны осознавали необходимость компромисса. По мнению Сталина, компромиссы возможны по всем основным вопросам, в том числе и по демилитаризации Германии, ее политической структуре, по репарациям и экономическому единству страны. Необходимо только сохранять терпение и не падать духом.
Казалось, что Сталин говорил искренне, когда на прощание давал этот совет американскому государственному секретарю. Трудно представить себе, чтобы на той стадии Кремль был заинтересован в полном разрыве с Соединенными Штатами. Это означало бы положить конец всем надеждам получить репарации или предотвратить образование сепаратного германского государства и включение его в Западный союз.
Однако согласно американским источникам, Маршалл по-иному воспринял эти слова. Он усмотрел в высказываниях Сталина зловещий замысел: тянуть время до тех пор, пока условия в Европе ухудшатся настолько, что Советский Союз сможет распространить свое господство на весь континент. Удивительно, что у выдающегося военачальника, привыкшего мыслить рационально, могли возникнуть такие нелепые мысли, ведь было очевидно, что при том состоянии экономики СССР, при всем желании, не был способен на военную агрессию.
Примерно через неделю Сталин устроил обед в Екатерининском зале Кремля. Это было обычное место для такого рода мероприятий. Иностранные гости собрались в соседней комнате, где также находились члены политбюро, несколько руководящих работников Министерства иностранных дел и советских маршалов. Сталин и Молотов появились несколькими минутами позднее и обошли присутствующих, пожимая им руки. Вслед за этим гости были приглашены занять свои места за столом. Бевин сидел справа от Сталина, а дальше – Павлов, который к тому времени чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы выполнять роль переводчика. Джордж Маршалл сидел слева от Сталина, а я рядом с ним. Молотов расположился напротив Сталина, рядом с ним был французский министр иностранных дел Жорж Бидо. Вскоре после того, как все расселись по своим местам, Сталин дал сигнал Молотову, и тот принялся произносить тосты.
Были провозглашены обычные здравицы в адрес глав соответствующих государств и их министров иностранных дел, выпили и за гостеприимство, оказанное участникам конференции в Москве. Тем не менее у меня создалось впечатление, что обстановка за столом оставалась мрачноватой. Ни Сталин, ни Маршалл не были настроены обмениваться любезностями и вообще поддерживать активный разговор. Вместо этого государственный секретарь больше обращался ко мне с каким-нибудь вопросом или замечанием. Время от времени я оказывался в затруднительном положении, видя, что Сталин все чаще смотрел с подозрением на нашу с Маршаллом приватную беседу. Когда это было возможно, некоторые высказывания государственного секретаря я стал переадресовывать хозяину стола. К счастью, через какое-то время Маршалл, видимо, понял всю двусмысленность создавшейся ситуации и стал обращаться непосредственно к Сталину.
Когда хозяева и гости довольно скоро поднялись из-за стола, Сталину дали список кинофильмов для показа гостям. На меня произвело впечатление, что в 68 лет он читал без очков. Он выбрал недавно поступивший в прокат цветной фильм-сказку «Каменный цветок» и повел гостей по бесконечным кремлевским коридорам в небольшой просмотровый зал. По окончании фильма гости сразу ретировались.
Прошло несколько месяцев. В середине октября 1947 года Молотов вызвал меня и сказал, что Сталин намерен принять прибывшую в Советский Союз группу английских лейбористов – членов парламента левого направления во главе с Тони Зиллиакусом, который был известен как активный сторонник улучшения советско-английских отношений. Сталин в то время отдыхал на Кавказском побережье Черного моря, в своей даче на Холодной речке, где он и решил провести эту встречу. Я должен был сопровождать англичан и переводить предстоящую беседу.
Перспектива увидеть Сталина в неофициальной обстановке показалась мне чрезвычайно увлекательной, о чем я сказал Молотову. Он был этому несколько удивлен, но после короткой паузы сказал: «Да, вероятно, вы правы – это должно быть интересно».
В то время у советского руководства все еще существовали иллюзии относительно сохранившейся популярности Советского Союза у общественности западных стран. Во время войны и в течение определенного периода времени после войны наша страна действительно пользовалась большим престижем и популярностью за рубежом. Но к осени 1947 года положение существенно изменилось, и возможности повернуть западное общественное мнение на прежний благоприятный для Советского Союза путь были ничтожны, западная пропаганда свое дело сделала.
На следующий день англичане (их было человек восемь) и я при них отправились спецрейсом в Сочи. Оттуда после короткого отдыха на казенной даче, где роль хозяина исполнял начальник охраны Сталина генерал Власик, нас повезли на нескольких автомашинах со скоростью, которую нельзя назвать иначе как безумной, по извилистой горной дороге вдоль моря. Вероятно, это считалось каким-то особым шиком, хотя англичане, по моим наблюдениям, удовольствия от этой гонки не испытали, скорее, совсем напротив. Затем мы свернули с основной дороги и по еще более крутому серпантину стали подниматься вверх к даче Сталина. Проехав мимо здания, где располагалась охрана, мы остановились у входа в главный дом.
Сталин встретил нас приветливо у самого входа. На этот раз вместо военной формы он был одет в гражданский костюм, и это придавало ему более домашний и, как мне показалось, более доступный вид. Он загорел и выглядел отдохнувшим, в хорошем расположении духа. Он провел нас в довольно большую гостиную, где гости расположились на приготовленных для них стульях. Я сел рядом со Сталиным. Сбоку от англичан примостился генерал Власик.
Сама беседа, ее можно было, точнее, назвать сталинским монологом, вращалась в основном вокруг одной темы. Сталин, как бы не навязывая своего мнения, рассуждал о том, что лучшей ролью для Великобритании в нынешней ситуации была бы своего рода роль посредника между Советским Союзом и Соединенными Штатами с целью улучшения отношений между ними. В качестве иллюстрации такой позиции он привел образ пианиста, нажимающего на обе педали.
В течение всей встречи Сталин вел себя как сердечный, гостеприимный хозяин, вновь проявив свой актерский талант. Во время беседы произошел такой эпизод. На какой-то фразе, видимо под влиянием стресса, я запутался и, вместо того чтобы переводить Сталина на английский, стал повторять его слова по-русски. В первый момент присутствующие не могли понять, что происходит, потом начали смеяться. Тогда Сталин обнял меня, как бы выражая сочувствие уставшему переводчику. Это было откровенное актерство, но оно произвело должное впечатление на английских гостей.
Потом произошло нечто, для меня совершенно неожиданное. Выйдя на крыльцо, чтобы проводить гостей, Сталин обратился ко мне со словами: «Почему бы вам не пожить здесь с нами некоторое время» – и лукаво добавил: «Вот напоим вас как следует и посмотрим, что вы за человек». От неожиданности я растерялся и пролепетал что-то вроде того: а не стесню ли я его своим присутствием. Он не обратил на это внимания и предложил мне проводить англичан до самолета, а затем вернуться к нему на дачу. Так я и сделал.
В мое распоряжение был предоставлен небольшой гостевой домик, состоявший из двух комнат и ванной. Он находился метрах в двадцати-тридцати от основного дома.
В общих чертах опишу образ жизни Сталина на отдыхе. Помимо охраны, около него людей почти не было. Исключение составлял его многолетний помощник Александр Николаевич Поскребышев, человек штатский, но во время войны получивший воинское звание генерал-майор. Это была довольно мрачная личность, которая не внушала никаких симпатий. Поскребышев жил где-то поблизости от сталинской дачи вместе со своей женой, женщиной с восточными чертами лица, которую я видел пару раз на пляже у подножия горы, на которой была расположена дача Сталина. Из канцелярских работников при Сталине были только двое – шифровальщик и машинистка-стенографистка – оба из аппарата Центрального комитета партии. С ними я больше всего и общался во время пребывания там, на юге. Число обслуживающего персонала было, насколько я мог судить, минимальным. Во всяком случае, когда я обедал как гость Сталина, нас всегда обслуживала одна и та же женщина.
Сотрудников охраны в непосредственной близости от основного дома было немного – три полковника КГБ и несколько майоров, которые дежурили по очереди. Они занимали отдельный дом, который непосредственно прилегал к даче Сталина. Причем проезд, который вел к даче, как бы прорезал здание для охраны. Обычно я питался в этом здании вместе с полковниками. Иногда вечерами они просили меня переводить им тот или иной трофейный кинофильм с английского языка. Пока Сталин был на даче, их задача состояла в том, чтобы поменьше мозолить ему глаза. Можно было не сомневаться, однако, что по периметру территории дачи располагалась многочисленная охрана.
То, что мне показалось особенно странным, так это отсутствие поблизости какого-либо врача. Был только кто-то типа фельдшера, способный оказать только самую элементарную медицинскую помощь.
Генерал Власик появлялся на даче время от времени. Он произвел на меня впечатление довольно примитивного субъекта. Впрочем, в любой стране люди его профессии не подбираются из среды рафинированных интеллектуалов. Незадолго до смерти Сталина он был арестован, по причинам, мне неизвестным. Не исключаю, что это было результатом какой-нибудь провокации, в последние годы подозрительность Сталина достигла высшей точки, что позволяло различным интриганам, вроде Берии, играть на этом.
На юге Сталин вел жизнь отшельника. В течение моего девятидневного пребывания на его даче только дважды я замечал у него гостей. Однажды это был человек интеллигентного вида, возможно ученый. Я видел, что Сталин обедал с ним в саду рядом с дачей. В другой раз к нему приехали из Киева Каганович и Хрущев. Впоследствии я узнал, что они приезжали, чтобы уладить возникший между ними конфликт. Каганович был тогда первым секретарем ЦК компартии Украины, Хрущев там же – председателем Совета министров. Это были личности с разными характерами. Каганович имел склонность к крутым методам, он и послан был на Украину, чтобы выбивать хлеб из украинских крестьян. Хрущев же предпочитал применять более гибкие подходы. На состоявшемся разбирательстве я, разумеется, не присутствовал. Позднее стало известно, что решение Сталина свелось к тому, чтобы Каганович вернулся в Москву и снова занял пост заместителя председателя Совета министров СССР, а Хрущев стал совмещать обе должности – первого секретаря ЦК компартии Украины и председателя Совета министров.
Вечером того же дня Сталин предложил своим гостям посмотреть кинофильм. Пригласили и меня. Показывали фильм-концерт с участием грузинских артистов. Помню, что по окончании сеанса Каганович сказал: «Вот украинцы хвастаются своей культурой, а разве ее можно сравнить с древней грузинской культурой». Это было сказано, явно чтобы польстить Сталину. Хрущев не поддержал разговор на эту тему. Промолчал и Сталин.
Сталин много читал. Насколько я мог судить, это в основном были толстые литературные журналы. Один или два таких журнала всегда лежали в гостиной, открытые на том месте, где он прервал свое чтение. Александр Фадеев, который в качестве генерального секретаря Союза писателей СССР часто общался со Сталиным по литературным делам, говорил (разумеется, после его смерти), что у Сталина был плохой вкус. Думаю, он имел в виду утилитарный подход Сталина к литературе и искусству. Ценным он считал только то, что, по его мнению, могло воздействовать на читателя в правильном направлении, то есть укрепить в нем мысли и эмоции, полезные для дела строительства социализма. Это приводило к весьма печальным результатам, о чем свидетельствует, например, известное постановление о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград».
Регулярно поступала на дачу фельдъегерская почта из Москвы; Поскребышев должен был разбирать всю эту массу бумаг и докладывать о них Сталину. Впрочем, надо полагать, что какая-то предварительная разборка производилась и в Москве. Наиболее важные документы Сталин читал от начала до конца, другие просматривал, о третьих докладывал ему Поскребышев.
Я слышал, как по поводу одной какой-то записки Поскребышев отчитывал по телефону Микояна: «Вам же уже было сказано, чтобы вы по этому вопросу не беспокоили товарища Сталина, а вы снова это делаете». Поскольку Микоян говорил какие-то слова в свое оправдание, Поскребышев закончил разговор на повышенных тонах.
Меня этот случай в какой-то степени шокировал. Я не представлял себе, что Поскребышев, даже если он был помощником самого Сталина, мог так разговаривать с членом политбюро. Безусловно, он злоупотреблял своим положением, и недаром от него постарались отделаться сразу после смерти хозяина.
Моим единственным заданием за все время пребывания на юге была лишь запись беседы Сталина с английскими парламентариями. К тому времени, работая в секретариате Молотова, я изрядно набил себе руку на записях бесед. И в этот раз все прошло на отлично: Сталин внес в текст лишь одну незначительную поправку и дал указание разослать ее членам политбюро и кое-кому еще из руководства.
После этого у меня никаких дел не было. Сталин поручений мне не давал, и в принципе я должен был просто отдыхать. На самом деле общение любого человека со Сталиным вряд ли можно назвать отдыхом. Я дважды обедал с ним вместе с Поскребышевым. Два раза мы втроем играли на бильярде, и оба раза я проигрывал, хотя играл вполне прилично, просто Сталин играл лучше, хотя он, казалось, мало целился и, подходя к шару, почти сразу бил. Два раза я присутствовал при читке вслух Поскребышевым информационных сообщений. Мое положение несколько облегчалось тем, что мне было всего 26 лет, и в какой-то степени с меня были взятки гладки. Я старался поменьше высказываться и побольше слушать, отвечать только на прямые вопросы. Может быть, при такой тактике я производил впечатление несколько туповатого молодого человека, но, во всяком случае, это оберегало меня от прямых глупостей.
В то же время не могу сказать, что это было общение удава с кроликом. Сталин вел себя как гостеприимный хозяин, был весьма любезен, предлагал попробовать то или иное блюдо. Но во всем этом я чувствовал все ту же наигранность, позу. Да и общих тем для бесед у нас было немного. После встречи с англичанами он поинтересовался моим мнением об ее участниках, спросил, кто из них, на мой взгляд, является наиболее перспективным политиком.
Как-то он достаточно резко охарактеризовал американских руководителей, появившихся на авансцене после Рузвельта. По его словам, они были готовы сотрудничать с Советским Союзом и даже выражали готовность согласовывать послевоенные планы с ним до тех пор, пока русские были им нужны, поскольку они несли на себе основную тяжесть войны. Когда же победа была практически обеспечена, сразу забыли о всех своих обязательствах и повернулись спиной к своим союзникам.
Гораздо менее убедительными мне показались его замечания о французских политических деятелях. Он считал, что все крупные политики Франции исчезли со сцены после войны, поскольку примкнули к «Виши», и теперь там не видно ни одной крупной фигуры. Я хотел было спросить: «А как насчет де Голля?» Но решил, что лучше промолчать.
Однажды Сталин сказал о том, что любой человек, который имеет отношение к внешней политике или политике вообще, должен хорошо знать историю. При этом рекомендовал изучать произведения немецких историков, которые, как он выразился, пашут глубже, чем другие.
Пару раз Поскребышев при мне читал Сталину вслух полные тексты выступлений Черчилля и Гарримана. По поводу Черчилля он высказывался с некоторой долей иронии: «Ну что ж, давайте послушаем, что вещает товарищ Черчилль». О Гарримане отзывался более резко. Даже заявил, что «этот человек несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта».
Однако большей частью разговоры были посвящены воспоминаниям о 1913 годе, когда Сталин жил в квартире моего отца в Вене и писал там свою брошюру «Марксизм и национальный вопрос». Создавалось впечатление, что это было счастливое для него время и ему доставляло удовольствие вспоминать о нем. Он спрашивал, как чувствует себя отец, вспоминал о его первой жене Елене Розмирович, о ее дочери Гале, которая в те далекие годы была совсем маленькой девочкой.
Сталин рассказал несколько историй, относящихся к своему пребыванию в Вене. Он частенько водил Галю погулять в парк и каждый раз покупал ей сладости. Однажды, когда девочка достаточно к нему привыкла, он предложил ее матери пари – куда пойдет Галя, если ее одновременно позовут она и он. Естественно, она пошла к Сталину, видимо рассчитывая, как обычно, получить очередную порцию сладостей. Может быть, сужу слишком строго, но мне показалось, что эта история отражает циничный взгляд Сталина на людей, каждого из которых нетрудно тем или иным способом подкупить. Когда, вернувшись в Москву, я рассказал отцу про эту историю с Галей, он отмахнулся несколько пренебрежительно со словами: «Он при мне рассказывал эту историю по крайней мере три раза. Может быть, это действительно было».
Сталин вспоминал также о том, что много лет спустя, в первой половине 30-х годов, Галя стала женой Валериана Куйбышева. Спустя некоторое время она заболела какой-то кожной болезнью, и, когда Куйбышев узнал об этом, он, как выразился Сталин, выгнал ее из дома. «Вообще, – добавил он, – к тому времени Куйбышев превратился в заядлого ловеласа и стал много пить. Если бы я знал об этом, то положил бы конец этому безобразию».
Между тем приближался день, когда я должен был вернуться в Москву: было назначено заседание райкома, на котором среди других вопросов значился прием в партию, и меня в том числе. Я подошел к Сталину и сказал, что мне, к сожалению, надо уезжать. Сначала он удивился, но, узнав о причине отъезда, сказал, что прием в партию – дело важное. И пожелал мне успеха. А потом вдруг сказал: «Вам здесь, вероятно, скучно. Я-то привык к одиночеству, привык, еще будучи в тюрьме». Это звучало вполне искренне, и я тогда подумал, что Сталин действительно одинокий человек. Вероятно, таковы издержки неограниченной власти. С этой мыслью я на следующее утро покинул берега Черного моря, получив в качестве прощального подарка большую корзину фруктов.
Впоследствии я не раз размышлял над тем, зачем Сталину понадобилось оставлять у себя на даче меня, молодого человека, который вряд ли мог представлять для него какой-либо интерес как собеседник. Может быть, являясь человеком расчетливым, он знал, что этот его жест станет широко известен, и, возможно, хотел продемонстрировать свою человечность, доброту, открытость. Может быть, но, будучи как-то по-особому расположен к моему отцу, он хотел поделиться со мной воспоминаниями о том приятном для него периоде, когда он гостил у отца в Вене. Не исключаю и того, что Сталин, будучи человеком двуязычным, высоко ценил значение квалифицированного перевода, и ему было небезынтересно разобраться, что представлял собой этот юноша, от которого зависело, насколько убедительно его, Сталина, высказывания будут звучать по-английски. Не случайно позднее по его инициативе была награждена орденами небольшая группа переводчиков, в их числе и я. Передавали, что Сталин сказал тогда, что труд переводчиков тяжелый и важный.
Через несколько месяцев после моего пребывания на юге случилась история, которая могла закончиться для меня весьма плачевно. Это произошло в 1948 году, в начале кампании по выборам президента США. Тогда Генри Уоллес, который при Рузвельте был вице-президентом, образовал свою собственную партию и был выдвинут кандидатом в президенты. Кандидатом от демократов оставался Гарри Трумэн, а от республиканцев Томас Дьюи. Это породило у советского руководства надежды, а точнее, иллюзии, будто Уоллес сможет стать президентом и изменить направление внешней политики США в благоприятную для Советского Союза сторону.
Однажды со мной связались из секретариата Сталина и сказали, что следует позвонить ему по такому-то телефону. Я тут же сделал это. Сталин подошел к телефону сам и сказал, что он получил из нашего Министерства иностранных дел проект своих ответов на вопросы, присланные Генри Уоллесом. Проект вполне приемлем. Если и будут какие-то поправки, то самые минимальные. Поэтому мне необходимо сразу же начать переводить текст, чтобы можно было отправить его в тот же вечер. Я ответил: «Хорошо, товарищ Сталин, будет сделано» – или что-то подобное. На это последовала неожиданная реплика: «Имейте в виду – это приказ». Как будто любое поручение верховного правителя могло быть воспринято иначе!
Я сразу же приступил к работе, а поскольку текст был довольно большой, а времени мало, пригласил на помощь сотрудника Министерства иностранных дел, достаточно хорошо знавшего английский язык. Мы работали в течение нескольких часов, потом дали перевод перепечатать и уже в некоторой спешке вручили его старшему помощнику Молотова Борису Федоровичу Подцеробу для отправки в США и для опубликования в нашей печати. После этого я отправился домой на заслуженный, как я полагал, отдых.
Но когда утром пришел на работу, то обнаружил своих коллег в состоянии заметного возбуждения. «Вы знаете, что вы наделали!» – воскликнул Подцероб. Я увидел тревогу в его глазах и понял, что со вчерашним переводом, по-видимому, произошла какая-то беда. «Да, – продолжал Борис Федорович, – вы умудрились пропустить целый абзац в тексте ответов товарища Сталина Уоллесу». После некоторой паузы, убедившись, что его слова произвели на меня соответствующее впечатление, он продолжил: «К счастью, сотрудники ТАСС поздно вечером заметили пропуск и позвонили мне. Я сказал, чтобы они восстановили пропущенный абзац, прежде чем отправлять текст. Тем не менее вы понимаете, конечно, что я должен доложить о случившемся Вячеславу Михайловичу».
К счастью для меня, Подцероб был человек на редкость порядочный. Докладывая Молотову, он, по-видимому, сделал упор на то, что ошибка исправлена и отправлен правильный текст. Так или иначе, Молотов никак не отреагировал на случившееся. Реакция Вышинского, который тогда был первым заместителем министра, была короткой, но доходчивой. «Ну и говнюки», – сказал он. В данном случае я готов был с ним согласиться.
Я до сих пор не могу понять, как могла произойти эта ошибка. Видимо, машинистка пропустила абзац при перепечатывании, а мы не заметили этого, когда считывали окончательный текст.
Несколько позднее, а точнее, в июле 1948 года, моя карьера в качестве переводчика Сталина неожиданно закончилась. Как-то утром Подцероб сообщил мне, что по указанию Молотова я назначаюсь первым секретарем во Второй европейский отдел, который ведал Великобританией и британскими доминионами. На мой вопрос о причинах перевода он ответил, что ему это неизвестно.
Я, естественно, был обеспокоен. Дело было даже не столько в том, что я уходил или, точнее, меня уходили из секретариата министра. Тревожили причины столь неожиданного решения.
Спустя лет десять Подцероб поведал мне, в чем было дело. Мой отец в то время периодически ходил играть в бридж к Литвинову, их напряженные отношения 30-х годов к тому времени отошли в прошлое. Бывали там и некоторые другие люди. Во время этих встреч дело не обходилось без критических замечаний по поводу политики советского руководства. Как мне рассказывал отец, Литвинов часто не стеснялся в выражениях, в частности по поводу Молотова и Громыко. Все это, разумеется, подслушивалось, записывалось и докладывалось руководству, в том числе и Молотову. К тому времени тучи появились и над головой самого Молотова в связи с арестом его жены. Таким образом, он счел за благо перевести меня из своего секретариата в один из так называемых территориальных отделов.
Примерно в это же время или чуть раньше советские войска перекрыли наземные пути, ведущие в Западный Берлин, что явилось своего рода ответным ходом на действия США, Англии и Франции, последовательно закладывавших основы западногерманского государства целью включения его в свой военно-политический блок. В ответ на советскую акцию западные державы организовали воздушный мост, по которому население Западного Берлина в течение почти целого года снабжалось по воздуху продовольствием и другими необходимыми продуктами. Это был один из кризисных моментов в холодной войне и крупный просчет советского руководства, которое, очевидно, не представляло себе, что такой крупный город, как Западный Берлин, может выжить в состоянии полной блокады. Думаю, что Сталин все еще мыслил категориями войны с гитлеровской Германией, когда, несмотря на заверения Геринга, немецкая авиация не смогла снабжать по воздуху 16-ю армию, окруженную в Сталинграде.
Во время этого кризиса Сталин и Молотов несколько(!) раз беседовали с тремя западными послами. Меня не привлекали переводить эти беседы, что мною воспринималось как отсутствие доверия по причинам, которые по-прежнему были для меня тогда не ясны. Впрочем, к моему великому удивлению, примерно в это время в составе группы людей, в то или иное время переводивших Сталину, я был награжден орденом Трудового Красного Знамени, о чем уже упоминал выше. Будь я верующим, наверное, сказал бы: «Неисповедимы твои пути, Господи».
Работа во Втором европейском отделе была значительно менее интересной, чем в секретариате министра. К тому же после замены Молотова Вышинским, который не был членом политбюро, роль министерства в определении курса Советского Союза в международных делах заметно уменьшилась, превратилась чуть ли не в подсобную. Да и сама направленность внешней политики страны стала изобиловать просчетами и грубыми ошибками. Сталин, который в начале холодной войны проявлял выдержку и осмотрительность, теперь начал принимать явно необоснованные решения. Примеров было не мало: блокада Берлина, согласие или, во всяком случае, отсутствие возражений против развязывания войны в Корее, временный уход в самый неподходящий момент, когда эта война началась, из Совета Безопасности, бойкот конференции по мирному урегулированию с Японией. Возможно, Сталин пришел к ошибочному выводу, что победа в 1949 году революции в Китае коренным образом меняла соотношение сил в мире в пользу социалистического лагеря. Он явно утрачивал чувство реальности.
Продолжалось завинчивание гаек в восточноевропейских странах, новая волна репрессий набирала силу внутри страны. Был разогнан Еврейский антифашистский комитет, состряпано дело так называемых космополитов, а затем – врачей и многое другое. На Пленуме ЦК КПСС Сталин обрушился на своих самых близких соратников – Молотова и Микояна с обвинением в каком-то прозападном уклоне. Что могло быть нелепее!
На глазах шел распад неприкасаемой персоны, которая продолжала вершить все дела единолично. Распад закономерный, принимая во внимание и возраст, и тот груз ответственности, который нес этот человек в течение многих лет, и в особенности в период страшной войны. Такое бремя могло надломить психику любого человека. Уже после смерти Сталина Молотов, который всегда воздерживался от каких-либо критических высказываний в его адрес, однажды все же сказал в узком кругу: «Нельзя управлять такой страной, как Советский Союз, когда тебе перевалило за семьдесят, да к тому же когда все вопросы решаются за обеденным столом».
Но главная беда заключалась в том, что в Советском Союзе отсутствовала налаженная система разделения властей, которая могла бы ограничить беспредел авторитаризма.
После Сталина
В самом конце 40-х и особенно в начале 50-х годов, когда всенародная эйфория от победы над гитлеровской Германией несколько поугасла, многие начали задавать себе вопрос: а что же дальше? Явно усилились в обществе настроения пессимизма, чему в немалой степени способствовали многочисленные болячки, появившиеся у людей после войны, когда все держалось на нервах. И конечно же новая полоса репрессий, больно ударившая по интеллигенции. На ум невольно приходили слова Гамлета о гниении в королевстве Датском, которые, к сожалению, были применимы и к нашей действительности.
Это касалось всех областей жизни. Не избежало определенной деградации и положение дел в Министерстве иностранных дел, особенно после ухода с поста министра Молотова и назначения на его место Вышинского. Во всяком случае, у меня лично появилось огромное желание держаться подальше от коридоров власти.
В конце 1950 года я подал заявление о предоставлении мне длительного отпуска без сохранения содержания для завершения высшего образования, которое было прервано войной в 1941 году после трех лет обучения. Просьба эта была удовлетворена, и я был переведен в резерв МИДа. В начале 1951 года у кого-то, если не ошибаюсь, кажется, Молотова, появилась идея создать журнал на английском языке, который должен был играть роль якобы независимого, демократического издания на потребу зарубежного читателя. В апреле 1951 года меня пригласили в Управление кадров ЦК КПСС, где предложили занять должность члена редколлегии этого журнала в качестве ответственного редактора отдела переводов. Я согласился, поскольку это, как мне представлялось, помогало отдалиться от Министерства иностранных дел. И действительно, это были относительно спокойные два года.
Однако в апреле 1953 года, вскоре после смерти Сталина, меня пригласил к себе Молотов, который незадолго до этого был вновь назначен министром иностранных дел. Министерство теперь располагалось в высотном здании на Смоленской площади. Со временем кабинет министра станет мне очень знаком, я буду видеть в нем и Шепилова, и Громыко, и Шеварднадзе. Тогда его занимал Молотов, который встретил меня весьма приветливо, с улыбкой на лице, что случалось с ним не так-то часто. Видно было, что он находился в хорошем расположении духа. И было с чего. Ведь незадолго до своей смерти Сталин фактически отстранил его и Микояна от руководящей работы. И вот теперь он был снова на коне, снова на первых ролях в высшем руководстве. И снова после ссылки рядом с ним была его жена Полина Семеновна Жемчужина, к которой он искренне был привязан.
Молотов начал разговор на общие темы, задал несколько вопросов о моей работе в журнале, спросил о его редакторе Викторове, которого знал по выходившему в годы войны журналу «Война и рабочий класс». Узнав, что Викторов был арестован и только на днях освобожден, сказал с усмешкой, как о каком-то рутинном событии: «Значит, он тоже попал под колесо».
После этого Молотов сразу перешел к делу и без лишних слов предложил мне вернуться в МИД на должность его помощника. Было сказано, что начинается очень важный этап советской внешней политики, когда предстоит добиваться снятия напряженности с Западом. Вместе с тем из его высказываний следовало, что при этом требовалась определенная осторожность, дабы западные противники не восприняли наш новый курс как проявление слабости.
Недолго думая я согласился. Мне тогда казалось, что после смерти Сталина появились первые признаки начала новой эры как во внутренних, так и во внешних делах нашего государства. Для этого имелись веские основания. Появилась публикация о том, что дело врачей прекращается, что оно было сфабриковано на основе фальсифицированных данных. Молотов получал документы не только как министр иностранных дел, но и как член Президиума ЦК. Эти документы попадали на глаза и нам, работникам его мидовского аппарата. Поэтому мы время от времени узнавали нечто большее, чем другие работники внешнеполитического ведомства. Помнится, удручающее впечатление произвела покаянная записка в ЦК Игнатьева, председателя Комитета государственной безопасности в последний период жизни Сталина. Он рассказывал, как Сталин нажимал на него, требуя поскорее добиться от врачей «признания» их преступлений. Приходилось видеть и другие документы, раскрывавшие кухню КГБ.
Хотя непосредственно после смерти Сталина фигурой номер один считался Маленков как председатель Совета министров, фактически ведущую роль играл Берия. Я ним непосредственно никогда не соприкасался, но знал по рассказам очевидцев, что это был человек безнравственный, не брезговавший никакими средствами для достижения своих целей, но обладавший незаурядным умом и большими организаторскими способностями. Опираясь на Маленкова, а иногда и на некоторых других членов Президиума ЦК, он последовательно вел дело укрепления своего лидерства. Вскоре мы, работники секретариата, стали понимать, что в верхних эшелонах власти далеко не все гладко. К такому выводу можно было прийти по отдельным репликам Молотова, по некоторым документам, приходившим из ЦК на его имя, и по тому, что приходилось слышать от заместителей министра, присутствовавших на заседаниях Президиума ЦК.
Молотов заметно нервничал, и эта нервозность распространялась на его окружение. Особенно доставалось В. С. Семенову, который в то время был Верховным комиссаром СССР в Германии и послом в ГДР. Он был вызван в Москву в связи с обсуждением германского вопроса и помогал нашему министру в подготовке различных предложений и выработке соответствующей аргументации. Помнится, однажды Семенов, видимо доведенный до ручки, начал жаловаться нам, помощникам Молотова: «Неужели нельзя даже важные проблемы обсуждать в более спокойной обстановке».
Но обстановка и в самом деле была взрывоопасной. Мы и представить себе не могли, что вскоре последует арест, а затем и расстрел всемогущего Берии и его приближенных. В одно прекрасное утро Иван Михайлович Лавров, который в то время был старшим помощником министра иностранных дел, обнаружил, что в разметке шифротелеграмм, рассылаемых членам Президиума ЦК, отсутствует фамилия Берии. Решив, что это произошло по недоразумению, а может быть, и для того, чтобы перепроверить возникшие у него подозрения, он обратил внимание Молотова на это обстоятельство. Поступил лаконичный ответ: «Он в отъезде». Однако уже во второй половине дня распространились слухи об аресте того, кто привык арестовывать других. Вечером члены руководства (без Берии) появились в Большом театре, чтобы продемонстрировать, что в верхах все спокойно.
Через пару дней состоялся Пленум ЦК, на котором Берия, можно сказать, был разоблачен по всем статьям. И хотя вряд ли нашлась бы хоть горстка людей, которая симпатизировала бывшему главному кагэбисту, все же пленум оставил известное чувство неудовлетворенности. Ибо выступал как своего рода Верховный суд, постановление которого предвосхищало и предрешало выводы и приговор настоящего суда, который состоялся шестью месяцами позже. К тому же дело Берии рассматривалось на пленуме без участия самого подсудимого. Скептицизм, чтобы не сказать больше, вызвали и ничем не обоснованные обвинения в адрес Берии, будто он агент иностранных разведок. И наконец, пожалуй, самое главное – как мог Берия и иже с ним творить свои злодеяния без ведома Сталина? Какова была роль нашего кормчего во всех этих делах? Хотя было ясно, что на том сложном этапе новое руководство еще не было готово сделать решающий шаг по разоблачению преступлений самого Сталина. Тем более что ряд его соратников разделял с ним немалую долю вины за них. Не был еще: готов к этому и народ.
В последнее время на свет появилось немало мифов о деле Берии, о том, например, что он был убит при аресте, а на суде якобы выступал его двойник. Могу со всей определенностью утверждать, что это чистейший вымысел. Ход процесса над Берией передавался по прямому проводу из помещения, где он проходил, в кабинеты членов руководства. Входя в кабинет Молотова в Кремле, я несколько раз заставал его слушающим показания подсудимых. Совершенно очевидно, что ни Молотов, ни другие руководители не стали бы терять время, слушая, что там говорило какое-то подставное лицо. К тому же впоследствии приходилось слышать от знакомого мне по Нюрнбергу Р. А. Руденко, который был обвинителем на процессе Берии, некоторые подробности о том, как вели себя подсудимые. Из его рассказов также со всей очевидностью вытекало, что это были не какие-то двойники, а реальные люди.
В связи с делом Берии мне запомнилась еще одна любопытная деталь. Вскоре после пленума ЦК Молотов выступил на собрании партийного актива Министерства иностранных дел. В своем докладе он высказал мысль, которая, будучи обнародована закоренелым догматиком, каким он был, удивила многих. Он заявил, что однопартийная система при всех ее преимуществах имеет и существенные недостатки. Различного рода сомнительные элементы, подобные Берии, которые в ином случае оказались бы в других партиях, в карьеристских целях вступают в КПСС, засоряя и дискредитируя ее. Ни до, ни после я больше ничего подобного от него не слышал.
Несколько позже состоялось еще одно собрание актива с докладом начальника Управления кадров министерства С. П. Козырева. Его доклад, очень острый, произвел большое впечатление на аудиторию. Он был посвящен извращениям в работе с кадрами. Были приведены многочисленные случаи, когда работники МИДа увольнялись или лишались права выезда на работу за границу на основании ошибочных или заведомо клеветнических оговоров. Основное острие доклада было направлено против органов безопасности, что вызвало весьма положительную реакцию в зале.
Устранение Берии значительно укрепило позиции Хрущева. Именно он был главным инициатором разоблачений, которые привели к падению Берии. А вскоре он уже стал первым среди равных, primus inter pares, как говорили римляне, а еще через год-другой он уже был primus без всяких pares. Такая закономерность в те времена была правилом: после ухода очередного вождя объявлялось, что отныне и во веки веков в стране будет действовать коллективное руководство. Так было после Ленина, так было после Сталина, так было и после самого Хрущева. Между тем каждый раз дело оборачивалось новым авторитаризмом. Для людей думающих уже тогда было очевидным, что виной тому – не отдельная личность, а сама система государственного управления.
Новое руководство, пришедшее на смену Сталину, получило тяжелое внешнеполитическое наследство. Холодная война достигла своего апогея. Если бы уровень международной напряженности можно было измерять подобно температуре человеческого организма, то к началу 50-х годов она, вероятно, перевалила бы за 41 градус. При такой температуре у человека часто появляются бред и галлюцинации. Именно в таком состоянии пребывали тогда и многие руководители, определявшие политику государств, будь то в Соединенных Штатах или Советском Союзе.
В Индокитае и Корее шла война. Генерал Макартур, командовавший американскими войсками на Дальнем Востоке, добивался от президента Трумэна разрешения применить атомное оружие против Китая. У нас отсутствовали дипломатические отношения с Западной Германией и Японией. Советский Союз фактически блокировал заключение договора с Австрией, где по-прежнему сохранялся оккупационный режим четырех держав. По инициативе Москвы были прерваны дипломатические отношения с Израилем. С братской в недавнем прошлом Югославией Сталин рассорился по причинам, которые оставались неясными для простых смертных. В результате предъявленных Турции территориальных претензий на Карс и Ардаган, а также требований предоставить Советскому Союзу особые права в районе проливов наши отношения с этой страной, которые до войны были весьма дружественными, перешли в разряд напряженных. Казалось, в свои преклонные годы Сталин утратил ранее присущую ему осторожность и гибкость во внешней политике.
Вашингтон, со своей стороны, действовал настолько прямолинейно и, можно сказать, нахраписто, что это стало беспокоить даже его английских союзников. В начале 50-х годов сам Уинстон Черчилль, как об этом свидетельствуют лондонские архивы, был серьезно обеспокоен, как бы США не развязали атомную войну. Английский министр иностранных дел Эрнест Бевин в 1946 году заявил американскому дипломату и будущему послу в Москве: «Я знаю – все вы, американцы, хотите войны, но я не позволю вам развязать ее».
Так или иначе, обе стороны были заинтересованы прощупать почву и попытаться выяснить, каким воздухом дышат в противоположном лагере.
Уже 16 апреля 1953 года президент Эйзенхауэр произнес речь, в которой призвал новое советское руководство использовать имеющийся «шанс утвердить мир». Он потребовал от Советского Союза не риторических заявлений, а действий и конкретно назвал такие шаги, как достижение договоренности о перемирии в Корее, заключение австрийского договора, освобождение тех военнопленных, которые продолжали содержаться в СССР после войны, и реальный прогресс в области разоружения. И хотя через два дня государственный секретарь Джон Фостер Даллес выступил с резкой речью в худших традициях холодной войны, как бы поправляя своего президента, тем не менее в советском руководстве выступление Эйзенхауэра было воспринято очень серьезно. Уже одно то, что оно было полностью опубликовано в советской печати, говорило о многом. Для тех времен это был редкий, можно сказать, исключительный случай.
Президиум ЦК поручил МИДу подготовить проект ответа президенту США. Молотов вместе с тогдашним главным редактором «Правды» Д. Т. Шепиловым и известным обозревателем Г. А. Жуковым засел за составление ответа. В особо важных случаях он предпочитал сам составлять официальные правительственные заявления, а не править тексты, подготовленные аппаратом. Министр считал себя журналистом с тех пор, как сразу после Февральской революции редактировал «Правду». Он действительно умел точно формулировать мысль, хотя конечный продукт не отличался блеском стиля. Впрочем, Молотов и не придавал этому значения. Беда заключалась в том, что процесс сочинительства занимал очень много времени. Споткнувшись на каком-нибудь обороте или слове, Молотов мог долго примерять различные варианты, пока не находил выражение, которое его устраивало. В этом, как и во многом другом, проявлялся педантизм его характера, придирчивость, с которой он подходил ко многим явлениям жизни. Как правило, он предпочитал не писать сам, а диктовал, но не стенографистке, как это делал, скажем, Хрущев, а кому-нибудь из своих сотрудников.
Должен сказать, что Хрущев и Молотов в это время достаточно продуктивно координировали свои действия на внешнеполитическом поприще. Во всяком случае, мы, работники секретариата Министерства иностранных дел, тогда еще не замечали между ними каких-либо серьезных споров, а тем более конфликтов.
Так или иначе, но через три дня ответ Эйзенхауэру был готов, утвержден Президиумом ЦК и опубликован в «Правде» в качестве передовой статьи без подписи. Такая форма ответа сама по себе отражала ситуацию в советском руководстве на тот момент. Первый среди равных еще четко не обозначился в лице Хрущева, а Маленков уже не мог претендовать на эту роль.
Конечный продукт оказался, может быть, менее конструктивным, чем следовало, но Молотов оставался Молотовым, и он не склонен был раскрывать свои объятия, не удостоверившись в том, что взаимность ему обеспечена. Тем не менее ответ Эйзенхауэру в целом был позитивным.
Не остался в стороне и Черчилль, который вновь возглавил английское правительство. Выступая в парламенте, он призвал великие державы организовать «без долгих отлагательств» конференцию на высшем уровне. Чем вызвал раздражение заокеанских политиков, которые дали понять своему партнеру, что не одобряют несогласованных инициатив.
Этот эпизод, как и последующие дипломатические ходы Черчилля и Идена, говорят о том, как важно оценивать действия оппонентов без предвзятого мнения, объективно с учетом обстоятельств, сложившихся на данный момент. Действительно, во время войны, и особенно на заключительном ее этапе, Черчилль при поддержке Идена делал немало, чтобы осложнить отношения между союзниками и положить начало холодной войне. Но прошло время, обстоятельства изменились, видоизменились и интересы Великобритании и ее правительства. Теперь дело обернулось так, что лидеры консерваторов по ряду внешних и внутренних причин оказались заинтересованными в разрядке международной напряженности. Отсюда и призывы, несмотря на недовольство Вашингтона, к созыву совещания на высшем уровне, отсюда и успешное сотрудничество Молотова и Идена в качестве сопредседателей Женевского совещания по Индокитаю в 1954 году, несмотря на серьезное противодействие правительства США, отсюда и приглашение Булганину и Хрущеву посетить Великобританию в 1956 году. Впрочем, это были последние серьезные попытки Лондона проводить независимую от Вашингтона политику, закончившуюся крахом во время англо-франко-израильского нападения на Египет осенью 1956 года.
Идее Черчилля о созыве совещания четырех держав на высшем уровне суждено было осуществиться только в 1955 году, но уже в конце 1953 года удалось договориться о встрече четырех министров иностранных дел, которая и состоялась в Берлине в январе-феврале 1954 года.
По существу, это была скорее конференция с пропагандистским акцентом. В центре внимания находился германский вопрос, а поскольку позиции Советского Союза и западных держав здесь не стыковались практически ни по одному пункту, то дело ограничивалось стремлением каждой из сторон представить свою позицию в наиболее привлекательном виде для мирового, и особенно для немецкого, общественного мнения.
Впрочем, сама конференция проходила довольно спокойно. Никто особенно не рассчитывал на какой-либо серьезный успех. Зато каждый использовал ее для того, чтобы прощупать позиции противника на этом постсталинском этапе международных отношений.
Мне лично интереснее всего было наблюдать за поведением участников конференции. Молотов старался продемонстрировать свой новый, как теперь говорят, имидж, отличный от образа твердокаменного сталинского наркома прошлых лет. И в том, что касается если не существа вопросов, то во всяком случае внешней манеры поведения, это ему вполне удавалось. Как вспоминал позже помощник государственного секретаря США Ливингстон Мерчант, «было очевидно, что русские очень старались выглядеть разумными человеческими существами… Они пытались острить, причем г-н Молотов – успешнее других. Он оказался удивительно занимательным и непринужденным собеседником».
Даллес тоже не скупился на комплименты в адрес советского министра. На одном из обедов он сказал, что считает его дипломатом с выдающимися способностями и опытом. И в шутку предположил, что Молотову с его выдающимися умственными способностями место на Уолл-стрит. А на замечание последнего, что у него нет для этого денег, заметил, что Уолл-стрит для того и существует, чтобы делать там деньги. Молотов поскромничал, сказав, что считает себя во внешней политике новичком, поскольку начал заниматься ею только в 1949 году. Однако добавил, что сорокалетний опыт внутри политической деятельности очень пригодился ему и в дипломатии.
В Берлине мне впервые пришлось наблюдать за Энтони Иденом. О нем и раньше приходилось много слышать как о дипломате высшего класса, который еще до войны ушел в отставку из правительства Невилля Чемберлена в знак протеста против политики «умиротворения» Гитлера, проводившейся этим правительством. Уже одно это говорит о том, что он обладал целеустремленностью и мужеством. В качестве министра он приезжал в Москву в декабре 1941 года, чтобы налаживать контакты с Советским Союзом. А затем был бессменной правой рукой Черчилля на всех конференциях военного времени и даже пользовался известным расположением Сталина. Опытный, красивый, элегантный – мне казалось, что Иден был воплощением того, каким должен быть министр иностранных дел этой державы, некогда великой, но неумолимо терявшей свой международный вес. Впрочем, некоторые английские дипломаты впоследствии говорили мне, что внешний портрет Идена не совсем соответствовал тому, каким он был на самом деле. По их словам, он будто бы часто был взвинчен, своеволен и не расположен прислушиваться к мнению других.
Может быть, сказывалась наивность, свойственная молодым людям, но я видел в нем идеал дипломата. Однажды он сказал Хрущеву, что считает хорошим дипломатом того, кто добивается своего и в то же время убеждает своего противника, что именно тот добился своей цели. Я восхищался, как он в Женеве на конференции по Индокитаю, словно хороший фокусник, вытаскивал, только не кроликов из шляпы, а все новые и новые компромиссные формулировки и предложения. Иногда казалось, что переговоры полностью зашли в тупик, и тут Иден высказывал новую идею, которая давала возможность сдвинуть их с мертвой точки.
Иден постоянно заботился о своем внешнем облике. И притом не только для того, чтобы прилично выглядеть. Помнится, на одном из приемов он стоял с бокалом в руке, когда подошел фотограф с намерением его сфотографировать. Иден тотчас отвел руку с бокалом за спину, сказав своему собеседнику (кажется, это был Булганин): «Если в печати появится твоя фотография с рюмкой в руке, считай, это верная потеря нескольких сот тысяч голосов».
Но вот что интересно: при всех своих превосходных качествах дипломата Энтони Иден, отличный министр иностранных дел, утратил весь свой блеск, сменив Черчилля на посту премьер-министра. Будучи прекрасным тактиком-исполнителем, он не смог подняться до уровня стратега.
По ходу Берлинской конференции становилось все более очевидным, что если по таким вопросам, как германский, австрийский и коллективная безопасность, возникла тупиковая ситуация, то было другое, восточное направление, где просматривалась возможность продвижения вперед. К этому моменту на Корейском полуострове наступило затишье, китайцы и американцы перестали стрелять друг в друга. Усилия советской дипломатии были направлены на то, чтобы поддержать Китайскую Народную Республику в ее стремлении обрести международную легитимность, помочь ей приобщиться к грандам международной политики. И если прямой путь к этой цели через Организацию Объединенных Наций оставался пока закрыт, можно было попытаться сделать это через участие КНР в международной конференции. К этому и вела дело советская делегация в Берлине. В конечном итоге было достигнуто согласие о созыве в конце апреля того же, 1954 года совещания в Женеве по корейскому и индокитайскому вопросам на уровне министров иностранных дел с участием СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, представителей обеих сторон в Корее, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.
На Женевской конференции усилиями прежде всего делегаций СССР и Великобритании, руководители которых Молотов и Иден поочередно вели заседания и неплохо ладили между собой, были выработаны соглашения, предусматривавшие прекращение всех военных действий в Индокитае, вывод оттуда французских войск, проведение свободных выборов в Лаосе, Камбодже и во Вьетнаме. Американцы этих соглашений не подписали, а только заявили, что принимают их к сведению. Однако не прошло и месяца, как США категорически отказались от признания Женевских договоренностей. Таким образом, были сорваны все соглашения, достигнутые в Женеве, в том числе и о проведении «свободных выборов» в странах Индокитая. Тем самым правительство США продемонстрировало, что оно за «свободные выборы» в тех или иных странах, когда можно рассчитывать на их благоприятный для Соединенных Штатов исход, и против «свободных выборов», когда на такой исход рассчитывать не приходится. Дальнейшие события, приведшие к вьетнамской войне, показали, что ставка Вашингтона на военное решение вопроса оказалась их крупнейшей политической ошибкой!
Все же в Женеве был очень серьезный позитивный момент. Здесь впервые на международной арене появился и принял участие в работе конференции представитель нового Китая. Это был премьер-министр и министр иностранных дел Чжоу Эньлай, который сразу же оказался в центре внимания политиков и журналистов. И не только на самой конференции, но и далеко за ее пределами. Он умел подать себя. Это был красивый, я бы сказал, элегантный мужчина с хорошими манерами и лицом интеллектуала. Чжоу не прятался от людей, как бы говорил: посмотрите, каков новый Китай. Он успел посетить различные достопримечательности Швейцарии и даже побывать в гостях у Чарли Чаплина, который жил не так далеко от Женевы. Это было большим контрастом с Молотовым, который сидел, как взаперти, на нашей вилле, никуда не выезжая и ни с кем не встречаясь. Только в конце нашего пребывания в Женеве туда приехала Полина Семеновна Жемчужина, которая почти силком заставила его совершить короткую экскурсию.
Меня поразило, что, не имея опыта участия в международных совещаниях, Чжоу держал себя и действовал так уверенно и умело, как будто он всю жизнь только этим и занимался. Вспоминается его первый приезд в здание, где расположилось руководство советской делегации. После длительной беседы с Молотовым он попросил просмотреть проект его речи при открытии конференции. Советский министр высказал ряд замечаний (отношения между двумя странами в то время были такими, что позволяли это сделать), после чего Чжоу Эньлай еще долго оставался в здании советского представительства, дорабатывая свою речь.
Что касается Даллеса, то тот заранее публично заявил, что США не признает Китайскую Народную Республику за легитимное государство и поэтому встреча между ним и Чжоу исключена в какой бы то ни было форме. Он добавил, уже как бы в шутку, что не намерен общаться с главой делегации Китая, даже если их автомашины столкнутся на одной из женевских улиц.
Что касается Идена, то он, видимо, исходил из того, что Чжоу должен первым нанести ему визит как сопредседателю конференции, а китайский министр не хотел проявлять инициативу по каким-то своим соображениям. В конечном итоге Молотов устроил завтрак, на который пригласил обоих, и таким образом англо-китайский контакт был установлен и поддерживался в течение всей конференции. Однако один эпизод в беседе Идена и Чжо (Молотов держался пассивно, давая возможность двум своим гостям ближе познакомиться друг с другом) мог серьезно подпортить дело. Китайский министр начал резко критиковать политику США, поддерживавших тайваньский режим. Иден, защищая американцев, пытался объяснить причины их отрицательного психологического настроя в отношении Китая. И тут он допустил бестактность. Доказывая, что в прошлом американцы сделали немало полезного для Китая, он сказал, что нынешняя позиция Пекина воспринимается ими как проявление неблагодарности. И добавил: «Для них это все равно что иметь дело с собакой, которая кусает руку, ее кормившую». Можно только удивляться, как мог такой опытный дипломат допустить столь явную оплошность. Впрочем, переводчик Идена вовремя спохватился и смягчил слова своего шефа, так что иденовское высказывание прошло практически незамеченным.
Как бы там ни было, но на конференции в Женеве народный Китай сделал первый свой шаг на путь приобщения к международному сообществу. И советская дипломатия сыграла здесь свою положительную роль.
По мере того как звезда Хрущева все ярче разгоралась на отечественном небосклоне, активизировалась и внешняя политика Советского Союза. Были предприняты один за другим серьезные шаги, направленные на разрядку международной напряженности. Большое значение имело заключение государственного договора с Австрией, который положил конец оккупации этой страны войсками четырех держав.
И здесь появились первые трещины в отношениях между Хрущевым и Молотовым. Последнему явно не импонировала какая-либо спешка в развязывании австрийского узла. По моим наблюдениям, он скорее склонялся к тому, чтобы связать австрийскую проблему с германской и тем самым получить большую свободу маневра при переговорах по обоим вопросам. Хрущева же такие тонкости мало волновали, он был заинтересован прежде всего в том, чтобы убрать преграды, стоявшие на пути международной разрядки. Поэтому, понаблюдав за медленным развитием переговоров, которые вело Министерство иностранных дел, Никита Сергеевич стал напрямик договариваться с австрийским канцлером Юлиусом Раабом и быстро довел дело до завершения.
Вслед за урегулированием австрийского вопроса последовал визит канцлера ФРГ Конрада Аденауэра в Москву, который завершился установлением дипломатических отношений с Западной Германией и освобождением немцев, все еще бывших у нас в плену, в том числе и тех, которые находились в заключении в качестве военных преступников. По той же схеме были установлены отношения с Японией и освобождены японские военнопленные. Причем инициатором переговоров в обоих случаях выступал Хрущев.
Это как бы завершило ту «программу», которая была изложена в апрельском выступлении президента Эйзенхауэра. Однако дело этим не ограничилось.
В тот же период (середина 50-х годов) были предприняты и другие важные акции. Хрущев и Булганин, который к тому времени сменил Маленкова на посту председателя Совета министров СССР, посетили Белград, где, несмотря на некоторые трудности, им удалось нормализовать отношения с Югославией. Отказавшись еще в 1953 году от всех прав на военно-морскую базу в Порт-Артуре на китайской территории, Советский Союз теперь отказался и от своих прав на военно-морскую базу в Поркалла-Удд в Финляндии. Были восстановлены дипломатические отношения с Израилем. Кроме того, СССР официально сообщил турецкому правительству о своем отказе от каких-либо территориальных притязаний к Турции, равно как и требований создания советских военных баз на Дарданеллах. Кое-кто в Министерстве иностранных дел называл такую политику уступок игрой в поддавки.
Но и это еще не все. В 1956 году на XX съезде партии, помимо осуждения культа личности Сталина, были внесены важные поправки во внешнеполитическую и идеологическую доктрины. Во-первых, съезд заявил, что имеется реальная возможность избежать новой мировой войны в современную эпоху. Во-вторых, было сказано, что на современном этапе революционный переход к социализму не обязательно связан с гражданской войной. Могут быть созданы условия для проведения мирным путем коренных политических и экономических преобразований. В недалеком прошлом такие теоретические новшества были бы заклеймены как откровенный ревизионизм. Теперь они открывали некоторые дополнительные возможности для борьбы за разрядку международной напряженности.
Изменилось во многом и поведение советских руководителей, они стали более открыты для контактов с иностранцами, в том числе с западными журналистами. Хрущев и его соратники начали появляться на многих приемах, в том числе в иностранных посольствах, где свободно общались с иностранцами. Западные корреспонденты, аккредитованные в то время в Москве, сегодня вспоминают о тех годах как об одном из самых насыщенных и интересных отрезков их профессиональной жизни. На недавней конференции в США, посвященной 100-летию со дня рождения Хрущева, такие видные американские журналисты, как Марвин Калб и Макс Франкель, с увлечением говорили о своем пребывании в Москве в хрущевские времена.
Что касается американских дипломатов, то ограничения на контакты и обмен мнениями с советскими руководящими деятелями исходили скорее из Вашингтона, нежели из Кремля. Чарльз Болен, который был послом США в Москве с 1953 по 1956 год, рассказывает в своих воспоминаниях о характерном эпизоде, относящемся к марту 1956 года, когда он поведал Н. А. Булганину о своем желании серьезно побеседовать с советскими руководителями. Через несколько дней Булганин ответил послу, что можно организовать неофициальную беседу на даче либо с Хрущевым, либо с любым другим советским руководящим деятелем на его выбор. Болен, как он пишет, с энтузиазмом сообщил Даллесу об этом предложении, добавив, что, по его мнению, следовало бы информировать об этом и президента Эйзенхауэра. Однако он так и не получил от государственного секретаря согласия на такую встречу.
На Западе считают, что Москва держит своих послов на коротком поводке. Однако я не могу себе представить, чтобы какому-нибудь нашему послу не было разрешено встретиться с руководителем страны, в которой он аккредитован. Более того, большинство из послов воспользовались бы возможностью встретиться, скажем, с президентом США или руководителем другого западного государства, даже не спросив разрешения из столицы.
Был еще один случай, связанный с Боленом. Посол Бирмы, который являлся в то время старшиной дипкорпуса, устроил обед в честь министра иностранных дел СССР, на который прибыли все послы, аккредитованные в Москве. Когда я приехал в гостиницу «Советская» чуть раньше Молотова, то увидел бирманского посла, горячо доказывающего что-то послу США. А дело было вот в чем: приехав на завтрак и узнав, что на нем будет присутствовать и посол Китайской Народной Республики, Чарльз Болен заявил, что не сможет сесть с ним за один стол! Дискуссия с хозяином ничего не дала, и американский посол уехал, в данном случае буквально несолоно хлебавши.
И дело здесь, на мой взгляд, было вовсе не в формальном запрете, исходящем из-за океана. Сплошь и рядом возникают ситуации, когда послы разных стран, не имеющих дипломатических отношений, участвуют вместе в тех или иных протокольных мероприятиях, и это никогда не служит причиной для демонстративного ухода одного из них. В данном случае, я полагаю, на посла повлияла кампания охоты на ведьм, которая в то время достигла своего апогея в Соединенных Штатах. И Болен решил просто перестраховаться, учитывая еще и то, что сенат утвердил его полномочным представителем в Москве с большой неохотой.
Антикоммунистическая истерия не давала Вашингтону возможности объективно оценить те глубокие изменения, которые произошли в советской внешней политике после смерти Сталина. Во многих отношениях это был новый курс. И все же американцы вынуждены были согласиться на участие в совещании глав государств и правительств четырех держав, которое состоялось летом 1955 года в Женеве. Но, соглашаясь на встречу, Вашингтон делал это не без задней мысли. Государственный секретарь Даллес признал: «Мы в действительности не имели желания принимать участие в этих переговорах, но все же были вынуждены пойти на это, чтобы наши союзники дали согласие на вооружение Германии. Мировое общественное мнение требовало, чтобы Соединенные Штаты участвовали в этих переговорах с коммунистами».
Женевская конференция была воспринята в мире как событие первостепенной важности, ведь она стала первой за прошедшие 10 лет встречей руководителей великих держав. Саммит проходил на фоне растущей угрозы ядерного конфликта, и люди возлагали на него большие надежды.
Делегация СССР состояла из председателя Совета министров Н. А. Булганина, генерального секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, министра иностранных дел В. М. Молотова, министра обороны маршала Г. К. Жукова и первого заместителя министра иностранных дел А. А. Громыко. Главой делегации формально считался Булганин, он и выступал как таковой на всех официальных заседаниях, хотя фактическим руководителем был, конечно, Хрущев.
Делегация США включала президента Эйзенхауэра, государственного секретаря Даллеса и нескольких менее авторитетных лиц.
Делегацию Великобритании возглавлял Энтони Иден, который к тому времени сменил Черчилля на посту премьер-министра. В нее входили также министр иностранных дел Гарольд Макмиллан, генеральный секретарь кабинета министров и глава всей английской гражданской службы Норман Брук.
Францию представляли премьер-министр Эдгар Фор и министр иностранных дел Антуан Пинэ.
Наши руководители демонстративно разъезжали по Женеве в открытых машинах и почти без охраны, показывая, что сталинские времена зашторенных автомобилей ушли в прошлое. Это, надо сказать, не прошло незамеченным. Газеты тут же отметили, что, в отличие от советских делегатов, президент Эйзенхауэр и Даллес передвигались по городу в бронированном автомобиле с многочисленной охраной. Кстати, о машинах. В одном из разговоров с Хрущевым Иден рассказал такую историю: когда Черчилль и он прилетели на Тегеранскую конференцию и спустились с самолета, к трапу подъехал старый замызганный автомобиль, и охрана пригласила в него премьер-министра. Затем подкатил украшенный флагами, блестящий «роллс-ройс», в который предложили сесть ему, Идену. Он, конечно, поинтересовался у сопровождавшего его офицера, почему Черчилля увезли в такой неказистой машине. Ему объяснили, что есть данные о готовящемся покушении на премьер-министра и если это так, то нападению подвергнется именно их яркий лимузин. Иден признался, что играть роль подсадной утки было не очень приятно.
Женевская конференция проходила в весьма благопристойном духе, никто не допускал резких выпадов. За трапезой поднимали бокалы за мир и взаимное благополучие. А вот содержательностью она не отличилась. Запомнилось, пожалуй, только предложение Эйзенхауэра об «открытом небе». Согласно этому новшеству страны Востока и Запада должны были разрешить свободные полеты над своей территорией самолетам других стран. Можно было заранее предсказать, что это предложение будет нами отвергнуто. Так и случилось. В кулуарах заседания Хрущев сказал Эйзенхауэру, что эта идея попахивает шпионажем, а потому она неприемлема. Давайте, предложил он, сначала разрешим проблему разоружения, а уж потом будем открывать небо. На конференции шло перетягивание каната в основном по двум вопросам. Западные союзники добивались согласия на объединение Германии с правом вступления в тот военный блок, который ей самой покажется более привлекательным. В данном случае американцы, в отличие от своей позиции на конференции по Индокитаю, ратовали за свободные выборы, понимая, что большинство населения объединенной Германии выскажется за присоединение к НАТО.
Советская делегация, со своей стороны, выступила за создание системы коллективной безопасности в Европе, доказывая, что именно это является приоритетной задачей, более срочной и важной, чем объединение Германии.
Естественно, что стороны к согласию не пришли, и все дело свелось к выработке заключительного документа, который облекался в форму директивы министрам иностранных дел. Было необходимо сделать это таким образом, чтобы удовлетворить обе стороны и вместе тем создать для общественного мнения видимость хоть какого-то успеха. Сперва составлением такого документа занялись министры, но у них ничего не получилось, и тогда за дело взялись сами главы делегаций. Работа эта проходила за закрытыми дверями с участием пяти членов каждой делегации плюс переводчики. Наконец после долгих дебатов удалось создать вариант, худо-бедно устраивавший всех. Оставалось тщательно выверить окончательный текст, для чего от каждой делегации было решено выделить по два человека. У трех западных делегаций затруднений в этом отношении не было, так как, помимо глав и их министров иностранных дел, на встречах в узком составе участвовали лица достаточно авторитетные, но рангом пониже двух главных действующих лиц. Наша же делегация была сформирована целиком на таком высоком уровне, что никто из ее членов заниматься редакционной работой желания не испытывал.
Поручили это дело мне. В придачу дали генерального секретаря нашей делегации В. Я. Ерофеева, но, поскольку он не присутствовал на заседаниях узкого состава, его роль была чисто символическая. Пахать пришлось мне. К счастью, в то время у меня была отличная память, натренированная рядом лет переводческой работы, и достаточно хорошее знание международных вопросов. К тому же мои западные партнеры по редакционному комитету вели себя вполне корректно и не пытались подсунуть какие-либо провокационные формулировки.
Когда согласование было закончено, я подошел к Молотову и попросил его посмотреть окончательный текст. Однако к тому времени его отношения с Хрущевым, видимо, очень обострились, и потому он не захотел брать ответственность на себя. Сказал мне, чтобы я показал текст Хрущеву. Я пошел к Никите Сергеевичу, но тот послал меня обратно к Вячеславу Михайловичу. В конечном счете текст так и остался непросмотренным и пошел в печать без высочайшего утверждения.
В итоге с текстом все обошлось, но у меня от этого эпизода остался очень неприятный осадок. Я стал свидетелем того, как ссора руководителей может негативно отражаться на важнейших государственных делах. Чтобы закончить с этим сюжетом, позволю себе несколько забежать вперед.
В октябре-ноябре того же 1955 года в той же Женеве прошло совещание министров иностранных дел тех же четырех держав, которое должно было конкретизировать разработку вопросов, поднятых на встрече глав государств. Главным из них был, конечно, вопрос об объединении Германии. И должен сказать, что у англичан имелся по этой проблеме проект предложений, которые заслуживали внимания. Среди них такие, как создание демилитаризованного коридора между Востоком и Западом; заключение пакта о взаимной безопасности; выработка соглашения, определяющая количество вооруженных сил сторон. У меня к тому же сложилось впечатление, что, добиваясь объединения Германии, западные делегации готовы были пойти на дальнейшие серьезные уступки советской стороне, которая могла бы получить гораздо больше того, что она получила в результате объединения Германии в 1990 году.
Виной тому во многом личные амбиции. Вероятно, Хрущев просто не хотел, чтобы Молотов, отставка которого была уже предрешена, заработал под занавес какие-либо лавры. Для такого предположения у меня есть серьезные основания. Дело в том, что, когда на конференции министров был объявлен перерыв, Молотов и Громыко отправились к Хрущеву, который в это время отдыхал в Крыму. Взяли с собой они и меня, почему, я так и не понял. По дороге из их разговоров узнал, что они везут на согласование какие-то важные предложения, принятие которых может привести к успеху конференции. Однако после разговора с Хрущевым оба вышли от него понурые и злые. Конференция министров в итоге оказалась столь же бесплодной, как и предшествующий ей саммит.
И все же я хочу вернуться к этому саммиту в связи с участием в нем маршала Жукова. Еще до начала конференции на высшем уровне политиков и средства информации интересовало, будет ли он включен в состав советской делегации. Многоопытный Даллес считал, что маршал скорее приедет в Женеву со специальной целью «размягчить» своего соратника по оружию Эйзенхауэра.
В ходе конференции как члены делегации, так и журналисты и в самом деле внимательно присматривались к взаимоотношениям двух бывших командующих союзными войсками. Известно было, что после войны, когда Жуков и Эйзенхауэр представляли свои страны в Контрольном совете в Берлине, они относились друг к другу с уважением и пониманием. Но нынче ситуация изменилась: холодная война набирала обороты, да и два бывших коллеги стояли на разных ступеньках иерархической лестницы – один стал главой государства, другой был министром.
Тем не менее при первой встрече в зале заседаний Дворца наций президент, который прибыл последним из глав делегаций, тепло приветствовал маршала, дав понять, что у него сохранились чувства уважения и дружбы к человеку, чей полководческий талант и силу воли он высоко ценил. Пресс-секретарь Белого дома Джеймс Хэгерти характеризовал то, что произошло, как «весьма восторженную встречу». Свой вклад в ее теплоту постарался внести и Хрущев, который подошел к президенту и сказал: «Господин президент, я хочу посвятить вас в семейные секреты Жукова. Его дочь выходит замуж на этой неделе, и ему следовало бы быть в Москве на свадьбе, но он так хотел встретиться с вами, что приехал сюда». Эта реплика имела свои последствия, о чем я скажу позже.
На меня Георгий Константинович произвел сильное впечатление и как человек, и как политический деятель. Он держался с достоинством, принимал активное участие в беседах и протокольных мероприятиях. И в то же время деликатно уступал пальму первенства Хрущеву и Булганину. В его поведении совсем не чувствовалось крутости нрава, о котором часто упоминается в воспоминаниях времен войны. Видимо, он мог адаптироваться к любой обстановке.
И все же его положение было непростым. Он не мог не видеть, что Эйзенхауэр прекрасно понимает мотивы, по которым его включили в состав делегации, а потому испытывал определенную неловкость. И сознавал, что в этой щекотливой ситуации инициатива в общении должна исходить от американского президента. Надо отдать должное последнему, он ее и проявил, пригласив Жукова к себе на виллу на завтрак. На нем присутствовало всего четверо: президент, советский министр обороны, посол США в Москве Болен, который переводил Эйзенхауэру, и я, переводивший Жукову.
Большую часть беседы говорил Жуков. Достаточно четко и достаточно дипломатично. Не в пример некоторым другим нашим военачальникам, которых мне пришлось слышать. Беда была в том, что он торопился изложить всю ту достаточно широкую программу, которая была ему задана Хрущевым. Он практически поднял все темы, которые советская делегация имела в виду обсудить в ходе конференции. В результате вместо дружеской беседы получилась своего рода мини-конференция, во время которой американский президент не склонен был к дискуссии, а ограничился сравнительно короткими высказываниями. Завтрак в результате прошел корректно, но без той теплоты, на которую можно было рассчитывать. Думаю, что виноваты в этом были как Хрущев, спешивший «обработать» Эйзенхауэра, так и Жуков, не сумевший убедить Хрущева, что на дружеском завтраке с этим торопиться не следует.
В конце конференции была еще одна короткая встреча между президентом и маршалом, на сей раз по инициативе последнего. Переводили, как и в первом случае, посол Болен и я. Беседа касалась некоторых конкретных вопросов, от решения которых зависело, завершится ли конференция на негативной или позитивной ноте.
Оба собеседника проявили четкое понимание разрушительной силы ядерного оружия. Об этом первым заговорил Эйзенхауэр, которого совершенствование этого оружия серьезно беспокоит. «С появлением атомного и водородного оружия, – сказал он, – многие представления, которые были правильными в прошлом, ныне изменились. Война в современных условиях с его применением стала еще более бессмысленной, чем когда-либо прежде». Жуков согласился, сказав, что лично убедился, какой колоссальной разрушительной силой обладает это оружие. Продолжая этот разговор, Эйзенхауэр заметил: «Даже ученым неизвестно, что произойдет, если, скажем, на протяжении одного месяца взорвутся 200 водородных бомб и если условия будут благоприятствовать распространению ядерной пыли». В ответ Жуков сказал, что лично он за уничтожение атомного и водородного оружия. Можно полагать, что Жуков высказывал и эти мысли с благословения Хрущева. Много лет спустя Никита Сергеевич вспоминал, что женевская встреча на высоком уровне вновь убедила в том, что в те годы ситуация не была чревата войной, потому как наши противники опасались нас не меньше, чем мы их.
Жуков в конце беседы намекнул на желательность поездки советских руководителей в Соединенные Штаты. Президент уклонился от положительного ответа, все сейчас, по его словам, настолько заняты, что трудно будет найти время для такого визита. Однако добавил, что рано или поздно нечто подобное может оказаться возможным. «Нечто подобное» произошло четыре года спустя, когда Н. С. Хрущев посетил США с официальным визитом. К тому времени и Булганин, и Жуков уже сошли с политической сцены.
Если верить секретарше президента Энн Уитман, то он сказал после беседы: «Это не тот человек, которого я знал, его хорошо натренировали для этого выступления». Впрочем, и Жуков, когда мы ехали с ним из американской резиденции, высказался примерно в том же духе: «Да, президент Эйзенхауэр уже не тот, каким был генерал Эйзенхауэр».
Как следует из воспоминаний Чарльза Болена, примерно через месяц после Женевы посольство США в Москве получило дипломатической почтой рыболовные принадлежности в качестве подарка маршалу с письмом от президента. Письмо это не содержало ничего, кроме дружественного приветствия и добрых пожеланий. Однако канцлер Аденауэр, узнав о нем через свою разведку, серьезно заволновался, заподозрив президента США в тайном сговоре через Жукова с советским правительством.
Мне довелось встретиться с Георгием Константиновичем еще дважды, и оба раза случайно. Первый раз – на большом приеме в Кремле по случаю 20-летия победы над Германией в мае 1965 года. К тому времени Хрущев был смещен, а Жуков реабилитирован уже во второй раз (первый раз это было после опалы, в которую он попал при Сталине). Он меня узнал, хотя после Женевы прошло десять лет, обнял и сказал своей жене: «Это тот Трояновский, о котором я тебе много рассказывал». Потом он предложил выпить за старые времена, что мы и сделали. Тут наш разговор закончился, так как его стали осаждать другие гости.
В другой раз мы с женой пошли в кинотеатр «Ударник» посмотреть известный фильм «Мост через реку Квай» (его показывали в рамках фестиваля американских фильмов). При выходе из кинотеатра мы оказались рядом с Жуковым. Поздоровавшись, я спросил, понравился ли ему фильм. Он ответил, что, честно говоря, не очень. «Этот фильм слишком пацифистский для меня, мне что-нибудь со стрельбой вроде «Пушек Навароне» (это был второй фильм, который показывали во время фестиваля). Я – человек военный, другое дело вы». Мы посмеялись и разошлись. Больше я с ним не встречался.
В Женеве параллельно с совещанием происходили различные двусторонние встречи. На одной такой советско-английской встрече Иден высказал Хрущеву и Булганину мысль о том, что было бы полезно для отношений между нашими странами, если бы они посетили Англию с официальным визитом. Думаю, что американцы, и Даллес в особенности, не были в восторге от этой новости. Но в то время английское руководство продолжало проводить несколько отличную от Вашингтона линию. Советские руководители с готовностью дали положительный ответ на предложение Идена.
Визит состоялся в апреле 1956 года. Это было своего рода освоение целины. Никогда до этого высшие советские руководители не посещали какую-либо из западных стран как официальные гости. Наша делегация включала Булганина, который, как и на Женевском совещании, формально возглавлял ее, Хрущева, Громыко, а также двух наших выдающихся ученых – Курчатова и Туполева.
В ходе согласования различных организационных вопросов возникло два спорных момента. Во-первых, англичане были категорически против того, чтобы делегацию сопровождал или прибыл в Лондон для подготовки визита председатель КГБ Иван Серов. Они утверждали, что его пребывание там может вызвать враждебные демонстрации, которые испортят дружественную атмосферу, необходимую для приема гостей.
После недолгих дискуссий было дано согласие на это требование.
Во-вторых, было заявлено, что в Англии охране иностранных гостей не полагается носить оружие. Поэтому было высказано настойчивое пожелание, чтобы охрана Булганина и Хрущева прибыла без оружия. Согласились и на это пожелание, хотя, как выяснилось, оно не было соблюдено. По окончании визита я остался в Лондоне еще на один день. Как главные гости, так и все сопровождающие жили в гостинице «Клэридж». И вот на следующее утро после отъезда основной части делегации в мой номер вошла горничная, неся на серебряном подносе пистолет. Она сказала, что кто-то из нашей делегации забыл его в своем номере. Я поблагодарил, сказав, что постараюсь выяснить, кому он принадлежит. Найдя кого-то из нашей службы безопасности, я передал ему пистолет. Что произошло потом и был ли кто-либо наказан, мне неизвестно.
Новшеством было решение прибыть в Англию на новом, недавно спущенном на воду крейсере «Свердлов». За границей, да и в нашей стране, ходило немало домыслов относительно причин такого решения. Большинство догадок сводилось к тому, что это отражало стремление подчеркнуть мощь Советского Союза. На самом деле причина была более прозаичной. В то время страна не располагала четырехмоторными гражданскими самолетами отечественного производства, а тем более реактивными. Хрущев переживал, что на Женевскую конференцию они с Булганиным прибыли на уже устаревших двухмоторных «ильюшиных», в то время как другие делегации использовали большие лайнеры. Вообще, он весьма чувствительно относился ко всему, что, по его мнению, унижало его страну. И он нашел типичный хрущевский выход – прибыть на военном корабле.
Визит «Б и К» – так повсюду стали называть в Англии дуэт Булганина и Хрущева (К – потому что по-английски фамилия Хрущева начинается с этой буквы) прошел достаточно гладко и в целом успешно. Во время официальных переговоров с Иденом и новым министром иностранных дел Селвином Ллойдом были затронуты практически все актуальные международные проблемы, что углубило взаимопонимание между странами. Иден даже сказал, что по времени это были самые обстоятельные двусторонние переговоры, в которых он когда-либо участвовал. Они были настолько продолжительными, что каждый из нас уже привык к своим местам, и, когда в очередной раз советские руководители вошли в зал заседаний кабинета министров на Даунинг-стрит, 10, Хрущев сказал: «Видите, как хорошо мы вымуштрованы, сразу идем к своим местам, как лошади в стойла».
Не обошлось, правда, и без неприятного инцидента, который как бы предвосхитил события недалекого будущего. Когда разговор коснулся Ближнего Востока, английский премьер-министр заявил, что беспрепятственные поставки нефти жизненно необходимы для экономики его страны. И после небольшой паузы добавил, произнося слова с расстановкой, что Великобритания даже готова применить силу, если кто-либо попытается подорвать ее позиции в этом регионе. Тут Хрущев вспыхнул и с некоторой горячностью ответил, что, если англичане захотят начать войну, они столкнутся с сильной негативной реакцией со стороны Советского Союза. И если слова Идена означают угрозу, тогда он с ходу отвергает их. Инцидент на этом закончился.
Не знаю, вспомнил ли наш руководитель в тот момент предостережение Сталина, на которое при других обстоятельствах нередко ссылался, а именно что Советскому Союзу не следует влезать в дела Ближнего Востока, так как в этом случае англичане будут воевать.
Кроме этой короткой словесной перепалки, других острых моментов в переговорах с Энтони Иденом не возникало.
Одним из запомнившихся моментов визита в Лондон была встреча с Уинстоном Черчиллем, которая состоялась на обеде у премьер-министра в честь советских гостей. Черчилль, которому уже было за восемьдесят, передвигался с некоторым трудом, как бы волоча ноги: примерно за год до этого у него произошло кровоизлияние в мозг. Тем не менее его голова оставалась ясной, а память хорошей. Разговор патриарха английской политики с Хрущевым длился недолго, но был довольно интересен. Черчилль сказал, что очень высоко ставит Сталина как выдающегося лидера, который привел свой народ к великой победе. В то же время он ценит и готов поддержать то, что сказал о нем Хрущев на XX съезде компартии. Сталин совершил ужасные злодеяния, после того как достиг высшей власти. Этим злодеяниям необходимо было дать огласку, хотя бы для того, чтобы это послужило уроком для других. Между прочим, он посоветовал Хрущеву приглядеться к канцлеру казначейства (так в Англии называют министра финансов). Этот пост тогда занимал Гарольд Макмиллан, причем менее чем через год он сменил Идена на посту премьер-министра. Вероятно, уже тогда, в апреле 1956 года, в высших политических кругах Великобритании подумывали о замене Идена.
Кажется, на следующий день высокие московские гости были приглашены в палату общин. Нас проводили на балкон для гостей. Это было время, отведенное для ответов правительства на вопросы членов парламента. Примерно в это же время в зал зашел Черчилль и занял место в самом конце первого ряда скамей правящей партии. Нам разъяснили, что, хотя бывший премьер по-прежнему является членом парламента, он редко посещает заседания, а сегодня пришел специально из чувства уважения к советским гостям.
Кто-то из наших сторонников «шоковой терапии» распространил версию, будто на приеме в советском посольстве во время визита «Б и К» Черчилль сказал Хрущеву, что нельзя двумя прыжками перепрыгнуть через пропасть, иначе говоря – что реформы должны проводиться быстро, в один присест. Ничего подобного сказано не было ни на приеме в посольстве, которого вообще не было, ни где-либо еще. Да и вообще, какие разговоры с англичанами о каких-то реформах в Советском Союзе могли вестись тогда, в 1956 году.
В один из последних дней пребывания в Англии дуэт «Б и К» пригласили во дворец на встречу с королевой Елизаветой II. Пока она беседовала с Булганиным с помощью английского переводчика, я переводил разговор Хрущева с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, супругом королевы. Принц, который известен своим умением говорить правильные вещи в самое неподходящее время, после некоторых любезностей спросил Никиту Сергеевича: «Господин Хрущев, вы много путешествуете. Не опасаетесь ли, что в один прекрасный день, когда вы будете далеко, соберется Центральный комитет партии и сместит вас с вашего поста?» Хрущев ответил, что он таких опасений не испытывает. Но мне показалось, что по его лицу пробежала тень. Я вспомнил об этом эпизоде год спустя, когда была организована первая попытка отстранить его от должности. Думаю, что он тоже вспомнил тот разговор с принцем.
В целом в течение недельного пребывания в Великобритании Никита Сергеевич, за исключением одного или двух промахов, вел себя почти как джентльмен. Один из них произошел, когда мы проезжали мимо мемориала принцу Альберту, консорту королевы Виктории. Сопровождавший нас англичанин объяснил, что принц-консорт не имел никаких государственных обязанностей и был лишь супругом королевы. Тогда Хрущев, хитро сощурив глаза, спросил: «А что же он делал днем?» Англичанин улыбнулся кислой улыбкой, соленая шутка явно пришлась ему не по вкусу.
Пожалуй, более неприятный инцидент произошел на обеде, который члены парламента от лейбористской партии дали в честь советских руководителей. Обед начался в обычной официальной манере: лидер лейбористской партии произнес короткую приветственную речь, на которую Булганин ответил несколькими формальными фразами. Но после этого присутствующие начали требовать: «Мы хотим услышать Хрущева! Мы хотим Хрущева!»
Хрущев, естественно, не преминул выступить, он это любил. Оратор, который за словами в карман никогда не лез, стал ругать довоенную английскую политику умиротворения Гитлера. После этого он принялся критиковать идеологию социал-демократии. Тогда некоторые из присутствовавших, в их числе Джордж Браун, который через несколько лет стал министром иностранных дел, вскочили со своих мест и принялись обвинять советских руководителей в зажиме демократии в странах Восточной Европы. В конечном итоге банкет завершился полным хаосом. Когда Хрущева и Булганина провожали из зала, они, и особенно Никита Сергеевич, выражали свои чувства при помощи вполне определенных выражений. Разумеется, на чистом русском языке.
На следующий день этот эпизод или, точнее говоря, скандал стал предметом обсуждения с Иденом. В ответ на негодование Хрущева он сказал со снисходительной улыбкой: «Вы должны извинить этих людей, господин Хрущев, ведь они такие неопытные». Премьер-министр, консерватор, был явно доволен случившимся, да и официозная печать свалила вину за скандал на лейбористов.
Памятным событием во время визита была встреча с Чарли Чаплином. Он пришел на прием, который был устроен послом Яковом Маликом в честь английского премьер-министра и советских гостей. Появление великого актера вызвало ажиотаж среди присутствовавших, и Хрущеву с Булганиным пришлось уединиться с ним в отдельную комнату. Чаплин восхищался героизмом советских воинов в войне с Германией. Он ругал нынешнюю политику США, заявив, что не вернется в эту страну, даже если американцы изберут Иисуса Христа своим президентом.
В целом этот визит в Англию был полезным и приятным. К сожалению, начавшееся налаживаться взаимопонимание между Востоком и Западом было вскоре сведено на нет в результате англо-франко-израильского нападения на Египет и трагических событий в Венгрии. Високосный 1956 год оказался плохим годом. Ко всему прочему добавились становившиеся все более очевидными трещины в коллективном руководстве внутри страны.
Главными антиподами во внешней политике стали Хрущев и Молотов. По мере того как разворачивалась проводимая Хрущевым программа мер по нормализации международной обстановки, возрастало несогласие Молотова как с темпом проведения этих мероприятий, так и с их существом. На этой основе обострилась и личная неприязнь между ними. Молотов не мог примириться с тем, что Хрущев, которого он считал дилетантом во внешней политике, захватил инициативу, оттеснив его, признанного мастера дипломатии, на второй план. И при всей своей выдержке наш министр стал нервничать. В некоторых случаях он открыто критиковал Хрущева. Особенно это проявилось при обсуждении австрийского вопроса, о чем я уже говорил. Но еще более активной была оппозиция Молотова нормализации отношений с Югославией.
Со своей стороны и Хрущев не стеснялся в выражении недовольства позицией министра иностранных дел. Сначала это делалось в закрытом порядке, не публично. Так, например, после переговоров с австрийцами, когда большинство присутствовавших покинули зал (Молотов был в отъезде и в переговорах не участвовал), мне пришлось наблюдать, как Хрущев обратился к руководящим работникам МИДа – там присутствовали, если память мне не изменяет, заместители министра Громыко, Зорин и Семенов и член коллегии Ильичев – и принялся их критиковать. Почему так получается, говорил он, что на заседаниях Президиума ЦК один Вячеслав Михайлович всегда выступает по вопросам внешней политики? А где все другие коммунисты Министерства иностранных дел? Почему они молчат? Видимо, ваша ведомственная дисциплина выше партийной. Молотов, кажется, приучил вас держать язык за зубами. И далее в таком же духе.
По-видимому, Молотов задним числом подвергся критике и за предъявление сразу после войны уже упомянутых территориальных претензий к Турции. Это я понял из того, что когда он визировал при мне обращение к туркам с отказом от всех ранее выдвинутых требований, то бурчал, что его критикуют зря, ибо в то время он только выполнял решение ЦК – до XX съезда КПСС еще не было принято оправдываться ссылками на Сталина. Использовался эвфемизм в виде ссылки на решения Центрального комитета КПСС.
Через какое-то время Молотов оказался под обстрелом уже в открытую. В своем выступлении на сессии Верховного Совета в том же 1955 году наш министр заявил, что в Советском Союзе лишь заложены «основы социализма», а не «в основном» построен социализм, как обычно говорили. Это послужило предметом разбирательства на Президиуме ЦК, в результате чего Молотов был вынужден выступить с самокритикой в журнале «Коммунист».
Нам, работникам секретариата министра иностранных дел, конечно, было неприятно, что наш руководитель находился под обстрелом, так как это бросало тень на работу внешнеполитического ведомства в целом. Но в то же время становилось все более очевидным, что Молотов стал обузой для советской внешней политики в ее новом варианте. Слишком многое связывало его с делами прошлых лет, и это порой приводило к серьезным осложнениям. Так, Конрад Аденауэр во время переговоров в Москве, полемизируя с советскими руководителями, сказал, глядя прямо на Молотова, что он, Аденауэр, в отличие от некоторых, во всяком случае, не жал руку Гитлеру. А его участие в предстоящем ответном визите Тито в Советский Союз могло вообще кончиться скандалом. Всем было известно, что после Сталина именно он был главной фигурой в попытках свергнуть югославского лидера в конце 40-х годов. Он подписывал различные документы, в которых Тито и его сторонники обзывались предателями, агентами империализма и другими непотребными эпитетами. Незадолго до приезда президента Югославии в Москву Молотов был смещен с поста министра иностранных дел, хотя и оставался членом Президиума ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета министров СССР.
По всему чувствовалось, что в самых верхних эшелонах власти назревает серьезный конфликт. Развязка была ускорена такими событиями, как восстание в Венгрии, волнения в Польше и Суэцкий кризис. Но особенно – знаменитым докладом Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде партии.
Я не хочу здесь вдаваться в подробности этих событий – они хорошо известны и о них написано немало книг. Напомню только, что вскоре после них группа во главе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем, имея за своей спиной явное большинство в Президиуме ЦК, повело открытую атаку на Хрущева, обвиняя его в различных прегрешениях во внешней и внутренней политике. Заседание Президиума ЦК КПСС началось 18 июня 1957 года и продолжалось несколько дней.
Министром иностранных дел в это время стал Андрей Андреевич Громыко. Но секретариат министра остался практически тот же, хотя функции некоторых его работников несколько видоизменились. В частности, главным направлением моей работы стало обобщение различной открытой и секретной информации для последующего доклада министру.
До нас, работников секретариата, доходили лишь отголоски отчаянной борьбы, которая развернулась в Президиуме ЦК. Громыко временами отлучался на какие-то групповые встречи. По ряду косвенных признаков нам вскоре стало ясно, что наш министр с самого начала присоединился к сторонникам Хрущева. Как потом выяснилось, среди членов Президиума ЦК противники Хрущева действительно имели перевес, его поддерживали только А. И. Микоян и М. А. Суслов, а вот среди кандидатов в члены президиума и тем более рядовых членов ЦК его сторонники имели подавляющее превосходство. Что в результате и определило его победу.
Много лет спустя у меня был разговор на эту тему с А. Н. Косыгиным. Он объяснял такой расклад тем, что противники Хрущева в президиуме почти все были «люди прошлого», сподвижники Сталина. Поэтому у других членов ЦК их стремление вновь прорваться к высшей власти вызывало боязнь, что, как выразился Косыгин, «опять польется кровь». Хрущев же при всех его недостатках все-таки смотрел в будущее и не собирался возвращаться к сталинским методам. Это подтверждается хотя бы тем, как он обошелся со своими противниками из «антипартийной группы», как ее тогда называли. Ворошилов, например, до 1960 года оставался на посту председателя Президиума Верховного Совета, а Булганин еще почти год был председателем Совета министров.
Как бы то ни было, но новый механизм власти начинал набирать обороты. Страна медленно и тяжело освобождалась от сталинского наследия. Произошли серьезные изменения и в моей судьбе.
В секретариате Хрущева
В апреле 1958 года, когда Хрущев сменил Булганина на посту главы правительства, меня пригласил к себе Григорий Трофимович Шуйский, который в аппарате премьера был старшим. Сославшись на поручение Никиты Сергеевича, он предложил мне стать помощником председателя Совета министров по внешнеполитическим вопросам. И добавил, что ему поручено также передать: если я откажусь от этого предложения, мой отказ не будет воспринят отрицательно и не повлечет за собой никаких нежелательных для меня последствий. Нельзя сказать, что это предложение меня привлекло, мне к тому времени изрядно надоело работать в секретариатах и хотелось другой, более самостоятельной работы. Тем не менее от предложения главы правительства отказываться не просто. Импонировала и та форма, в которой это предложение было сделано. Поэтому, посоветовавшись дома и с Громыко (который сказал своим басистым голосом: «На вашем месте я бы не стал отказываться»), я дал согласие и переехал в Кремль.
Хрущев уже занимал кабинет на втором этаже бывшего здания Сената. Когда-то это был кабинет Сталина, затем в нем работал Маленков, а после него – Булганин. Мне отвели большую комнату по другую сторону от кабинета главы правительства.
Секретариат Хрущева был очень небольшой и состоял из двух частей. Одна находилась в здании ЦК КПСС на Старой площади. Там был кабинет генерального секретаря ЦК, пост которого Хрущев сохранил за собой. Впрочем, с течением времени он, как и Сталин до него, все меньше времени проводил на Старой площади, а в последние годы практически вовсе там не бывал. В результате получалось так, что я имел возможность общаться с Никитой Сергеевичем значительно чаще, чем другие помощники. А их было всего трое: Г. Т. Шуйский, который, как я уже упомянул, был старшим, его Хрущев любил называть «боярином»; Владимир Семенович Лебедев, который в основном ведал вопросами идеологии и культуры, и Андрей Степанович Шевченко, занимавшийся вопросами сельского хозяйства. Временами помощники работали вместе, чаще всего при подготовке проектов выступлений Хрущева или в связи с его поездками за рубеж.
Кроме того, в обеих приемных – в Совете министров и в ЦК – работали по три дежурных, которые сменяли друг друга по суткам. Вся почта поступала в приемную на Старой площади, там она сортировалась, и наиболее важные информационные и иные материалы направлялись в Кремль, где ложились на стол Хрущева. В обоих секретариатах было еще по одной или по две стенографистки, которым Хрущев диктовал, и по паре канцелярских работников. Особенно он ценил стенографистку Надежду Петровну Гаврилову, которая в самом деле была прекрасным работником.
У многих может вызвать удивление, что в те годы у главы государства был такой небольшой аппарат, в особенности если сравнить его с огромным аппаратом главы государства в наше время. Но не следует забывать, что вся структура власти была тогда иной. Существовал Общий отдел ЦК, который также обслуживал генерального секретаря, а Совет министров имел свое Управление делами с большим аппаратом опытных работников. Впрочем, повседневной работой Совета министров руководил Косыгин, а Хрущев занимался лишь наиболее важными вопросами экономической жизни страны.
Как я уже говорил, мне приходилось много общаться с Хрущевым, и потому я мог составить о нем достаточно полное и, надеюсь, объективное мнение как о личности и государственном деятеле. Природа одарила его многими важными качествами – прекрасной памятью, наблюдательностью, находчивостью. Как человек он был мне симпатичен. Мне казалось – и со временем я все больше убеждался в этом, – что его главным плюсом была человечность, гуманность. Его выступление на XX съезде о культе личности Сталина было продиктовано не только политическими соображениями, но и чисто человеческими качествами, он не побоялся, хотя понимал, что многим рискует.
Вообще храбрость была свойством его натуры, я бы даже сказал, неустрашимость, причем как физическая, так и нравственная. А это не всегда одно и то же. Впрочем, выступление на XX съезде требовало всестороннего мужества – как физического, так и морального. Приходилось видеть Хрущева и в других ситуациях, требовавших смелости. В Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 году он любил выходить на балкон советского представительства на весьма оживленной Парк-авеню и при ярком свете юпитеров устраивал импровизированные пресс-конференции. В конце концов сами американские журналисты уговорили его прекратить эту опасную практику.
Но были и другие, менее привлекательные черты. Иногда смелость переходила у него в неоправданный риск. Это особенно проявилось во время Кубинского кризиса 1962 года. В других случаях ему не хватало терпения или, если хотите, выдержки, как, например, в ходе конфликта с Китаем. У него также была тенденция доводить даже разумную идею до крайности, до абсурда, как было с известной кампанией по тотальному внедрению кукурузы в нашей стране.
Но, пожалуй, самым слабым местом был недостаток его образования, что особенно сказывалось при решении экономических вопросов. По-моему, он понимал это и стремился заполнить указанный пробел, много читал. Но то, что упущено в юности, трудно восполнить в зрелые годы, особенно когда ты бываешь занят с утра до ночи.
Вспоминается такой занятный эпизод. Во время визита в Болгарию в 1962 году Хрущев высказывал свои мысли о Сталине в сравнительно узком кругу болгарских руководителей. Я слушал, стоя недалеко от него. В какой-то момент он процитировал слова Сальери из пушкинского «Моцарта и Сальери»: «А гений и злодейство две вещи несовместные». Я был удивлен, и Хрущев, видимо, заметил это. Позднее он подошел ко мне и сказал с улыбкой: «Я заметил ваше удивление, вы, наверное, полагаете, что я вообще ничего не читал».
Много говорилось и писалось об эмоциональных вспышках Хрущева во время выступлений или бесед. Как правило, это были наигранные моменты. Он был неплохой актер, возможно, научился этому у Сталина, и мог хорошо изображать гнев, возмущение, презрение и другие эмоции. Но в некоторых, сравнительно редких случаях Хрущев действительно выходил из себя. На мой взгляд, у него был своего рода комплекс неполноценности, и не только в отношении себя самого, но и государства, которое он возглавлял. И когда ему казалось, что кто-то проявлял неуважение к Советскому Союзу или к нему как представителю страны, он мог действительно взорваться и наговорить лишнего.
Хрущев осуществил немало реформ, придал социализму более человечный облик. И все же в идеологическом плане он во многом оставался человеком прошлого, в частных беседах сам нередко признавал это.
У меня да и у других помощников не было трудностей в общении с Хрущевым. Он иногда, особенно концу своей политической карьеры, бывал резок или даже груб с другими, в том числе со своими коллегами по руководству, но это никогда не распространялось на его ближайшее окружение.
Ко всему этому можно добавить, что у Никиты Сергеевича была хорошая семья и здоровая семейная жизнь. Во многом это заслуга Нины Петровны Хрущевой, женщины положительной, которая тщательно следила за порядком в семье. Она была первой из «первых леди» Советского Союза, которая стала сопровождать своего мужа в его поездках за рубеж. И неизменно производила там отличное впечатление, помогала ему создавать образ «социализма с человеческим лицом».
Не отставали от нее и представители молодого поколения семьи Хрущевых. Никого из них не затронула даже тень какого-либо скандала, чего нельзя сказать о семье Брежнева, сменившего Никиту Сергеевича.
Я приступил к работе в секретариате председателя Совета министров тогда, когда стали назревать серьезные перемены в тактической линии Кремля по отношению к западному миру, о чем я уже рассказывал. Различные шаги, которые были предприняты советским руководством для уменьшения международной напряженности, привели к тому, что мир несколько отодвинулся от опасного края. Но все это не привело к существенному прорыву в отношениях между Востоком и Западом. На некоторых критических направлениях положение, во всяком случае с точки зрения Кремля, ухудшилось. Западная Германия вооружалась быстрыми темпами и все прочнее вовлекалась в западный военный блок. Гонка вооружений наращивала темпы и была готова вырваться в космос. Переговоры о сокращении вооружений топтались на месте, а расходы на вооружение ложились все более тяжелым бременем на экономику нашей страны. Восточная Германия по-прежнему находилась в изоляции и подвергалась различным формам давления. Вдоль периметра СССР множились американские военные базы, новые военные базы создавались в Азии и на Ближнем Востоке.
Примерно в это же время появились первые трещины в советско-китайских отношениях. Надо отдать должное Хрущеву, это его очень беспокоило, и в августе 1958 года, всего за пару месяцев до начала берлинского кризиса, советский руководитель счел необходимым совершить поездку в Пекин и попытаться преодолеть некоторые разногласия, возникшие между двумя странами.
Если же говорить о Восточной Германии, то на Западе всегда господствовало представление, что руководители ее были не более чем пешки, которые передвигала на шахматной доске Москва. На самом деле они были активными игроками, постоянно добивающимися от Москвы более наступательной тактики против Западной Германии и Западного Берлина. Наиболее часто выдвигавшийся аргумент сводился к тому, что Германская Демократическая Республика – это своего рода форпост социализма, а ее открытая граница с Западным Берлином использовалась западными государствами, чтобы подорвать позиции ГДР, разрушить ее финансовую систему и переманить ее население на Запад. Я это ясно видел, когда в 1961 году проводил свой отпуск в ГДР. Бывали периоды, когда Москву буквально бомбардировали посланиями и телефонными звонками из Восточного Берлина. Все это подтвердилось, когда восточногерманские архивы были открыты после объединения Германии.
Был еще один фактор, который побудил Хрущева переключиться в германском вопросе с умеренного на более наступательный внешнеполитический курс, а именно – изменения, происшедшие в космической гонке. Когда в октябре 1957 года Советский Союз вывел на орбиту первый спутник, я находился в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и хорошо помню то огромное впечатление, какое это событие произвело на американцев, которые прислушивались к сигналу со спутника, когда он пролетал над американскими городами. Я присутствовал тогда на встрече А. А. Громыко с государственным секретарем США Джоном Фостером Даллесом, который не мог не поздравить нашего министра с этим выдающимся достижением советской науки. Разумеется, от полета первого спутника до межконтинентальных баллистических ракет пролегал еще долгий путь. Тем не менее на том этапе американцы психологически оказались в неблагоприятном положении. Это дало Хрущеву возможность заняться неким баллистическим блефом.
В качестве иллюстрации сошлюсь на спор, возникший перед поездкой советского руководителя в США в сентябре 1959 года. Хрущев сказал нам, его непосредственному окружению, что он намерен презентовать президенту Эйзенхауэру копию вымпела, доставленного на Луну советской ракетой, причем хотел сделать это в аэропорту сразу после приземления. Было видно, что он уже предвкушал тот момент, когда перед всеми телевизионными камерами продемонстрирует, что Советский Союз далеко обогнал Соединенные Штаты в космической гонке. Некоторые из нас запротестовали, утверждая, что это будет нетактичный жест, который вызовет отрицательную реакцию у президента, да и у американской публики в целом. После долгой дискуссии мы достигли своего рода компромисса: было решено, что Хрущев вручит свой лунный подарок на первой встрече с президентом в Белом доме, в присутствии представителей средств массовой информации. Так он и сделал, но даже в этом случае мне показалось, что Эйзенхауэр принял вымпел с довольно кислой улыбкой.
Что же в конечном итоге побудило Хрущева переключиться на тактику, которую сегодня могли бы назвать чем-то вроде шоковой терапии? Думаю, что он принял такую тактику под влиянием информации, поступавшей из различных источников, о серьезных дискуссиях, ведущихся в кругах НАТО и, прежде всего, между США и Западной Германией относительно возможности допуска бундесвера к ядерному оружию. Было очевидно, что, если бы это произошло без сопротивления со стороны Кремля, престиж Хрущева покатился бы вниз.
Посол США в Москве Люэллин Томпсон будто в воду глядел: 18 ноября 1958 года он телеграфировал в Вашингтон: «Хрущев торопится, считая, что время работает против него, в особенности в том, что касается вооружения Западной Германии атомным оружием. Поэтому я считаю, что западные державы должны быть готовы к каким-то серьезным событиям в ближайшие месяцы». И он оказался прав: «серьезные события» произошли всего лишь через девять дней после его прогноза – предупреждения.
По моему мнению, Томпсон был одним из лучших американских послов в Москве. Хотя, разумеется, я могу говорить только о тех, кого видел в действии. Во всяком случае, с уверенностью могу утверждать, что Хрущев высоко его ценил как дипломата и человека. Время от времени он приглашал его с женой и детьми к себе на дачу. Бывали там и мы с женой и нашей дочерью. Все вели себя раскованно, не вспоминая о тяжелых распрях, разделявших наши страны.
27 ноября советское правительство направило ноту трем западным державам и двум германским государствам. В ней выдвигалось требование положить конец оккупационному режиму в Западном Берлине и превратить его в независимую политическую единицу – свободный город. Речь шла о демилитаризации Западного Берлина и предоставлении ГДР контроля над подъездными путями к нему. Западным державам устанавливался срок – до 27 мая 1959 года – заключить соглашение о создании свободного города.
Нельзя сказать, что это было спонтанное решение. Президиум Центрального комитета несколько раз обсуждал этот вопрос. Помню, как в моем присутствии Громыко зачитывал Хрущеву последний вариант ноты, в которую были включены все поправки, предложенные членами Президиума, да и самим Хрущевым.
Вообще говоря, утверждение, будто Никита Хрущев принимал решения по внешнеполитическим вопросам единолично, без консультаций со своими коллегами по руководству, не имеет под собой оснований. Как правило, он скрупулезно соблюдал все необходимые процедуры. Как-то в 1957-м или 1958 году, когда Громыко уже стал министром, а я еще работал в МИДе его помощником, он жаловался: «Даллесу легко жить – ему достаточно согласовать тот или иной вопрос с одним адресатом – президентом, а вот мне приходится обзванивать по крайней мере человек пять». Уже позднее мы, работники секретариата Хрущева, восхищались, как Громыко удавалось в окончательном тексте того или иного документа сгладить различные, нередко противоречивые, поправки, сохраняя при этом его основную направленность.
Хуже то, что со временем у многих других членов руководства появлялось все меньше желания спорить с Хрущевым, особенно же в тех случаях, когда те или иные идеи и предложения исходили от него самого. Да и он начал к этому привыкать и становился все менее терпимым к чужим мнениям.
Так или иначе, в данном случае я не заметил, чтобы у кого-то из нового руководства возникли какие-либо возражения или колебания, несмотря на то что речь шла о коренном изменении внешнеполитического курса, повороте к более жесткой политике, к тому же чреватой немалым риском.
На мой взгляд, Хрущев выдвинул убедительный набор аргументов в обоснование нового курса. Он говорил, что западные державы, по-видимому, не ценят умеренности и отказываются понимать ту очевидную истину, что конструктивные шаги с одной стороны требуют соответствующей положительной реакции с другой. И обратил внимание на то, что наши западные партнеры или оппоненты не сделали ни одного сколько-нибудь существенного шага навстречу Советскому Союзу или его союзникам. Напротив, они продолжают идти по проторенной дороге укрепления своих военных блоков, вооружения Западной Германии, окружения Советского Союза военными базами. В этой обстановке он не видел иной возможности, кроме как предложить, чтобы Советский Союз перехватил инициативу в холодной войне. Ахиллесовой пятой Запада, по убеждению Хрущева, да и по общему мнению, был Западный Берлин. Поэтому, считал он, если мы хотим перехватить инициативу, то и давление должно быть оказано именно в этом слабом пункте.
Не исключаю, что при этом Никита Сергеевич хотел поднять и свой собственный рейтинг внутри страны, укрепить свои позиции в кремлевской иерархии после отстранения от власти Молотова, Маленкова, Кагановича и других оппозиционеров.
Весь этот план давления на Западный Берлин выглядел достаточно убедительным с точки зрения национальных интересов Советского Союза, как они трактовались в годы холодной войны. Слабость его заключалась в том, что в нем не было ясности ни относительно конкретных шагов в его осуществлении, ни относительно того, к чему все это может привести. Однажды я отважился обратить внимание моего шефа на эту сторону дела. Употребляю слово «отважился» потому, что в тот момент был еще зеленым новичком в секретариате и, мягко выражаясь, мог получить от ворот поворот. Однако Хрущев воспринял мой вопрос серьезно и сослался на слова Ленина в 1917 году накануне Октябрьской революции, когда тот сказал, что сначала надо ввязаться в бой, а там будет видно. Это был русский вариант известного наполеоновского афоризма.
В первой декаде января 1959 года, в развитие своей инициативы, Советский Союз направил трем западным державам проект мирного договора с Германией и предложил созвать в марте 1959 года мирную конференцию. И затем продолжал нажимать на США, Великобританию и Францию, угрожая заключить сепаратный мирный договор с ГДР. В этом случае западные державы вынуждены были бы иметь дело непосредственно с правительством Восточной Германии, которое они не признавали, по всем вопросам, касающимся Западного Берлина.
Было очевидным, что Хрущев решил использовать берлинский рычаг по максимуму и потому действовал весьма решительно. Еще в конце 1958 года в беседе с американским сенатором Хубертом Хэмфри, будущим кандидатом в президенты, он откровенно дал понять, что хотел бы побыстрее узнать о реакции Белого дома на советские инициативы, и несколько раз спрашивал сенатора: «Что думают президент и государственный секретарь? Где же их контрпредложения?» В целом встреча прошла в типично хрущевском стиле с добавкой черного юмора с обеих сторон. Советский руководитель говорил о своем стремлении к миру и в то же время не удержался от некоторого бахвальства, стал уверять собеседника в том, что новые советские ракеты с ядерными боеголовками способны ударить по любому месту на планете, и затем спросил с лукавой улыбкой: «А где ваш родной город, господин сенатор?» Когда Хэмфри назвал Миннеаполис, Хрущев подошел к большой карте, висевшей на стене его кабинета, и с той же улыбкой, обведя Миннеаполис толстым синим карандашом, добавил: «Это чтобы не забыть дать указание не трогать этот город, когда полетят ракеты». В ответ сенатор, удостоверившись, что Хрущев постоянно живет в Москве, сказал: «Прошу извинить, господин председатель, но я не могу ответить такой же любезностью». Это вызвало общий смех.
С началом нового года стало казаться, что наш руководитель оказался как бы на перепутье: ему было неясно, что же делать дальше. В духе прорицательницы Кассандры он продолжал предсказывать беды, которые наступят, если западные державы не примут советские требования относительно Западного Берлина. Но в отсутствие каких-либо контрпредложений с противоположной стороны возникала перспектива девальвации этих угроз, если они не будут подкреплены какими-нибудь конкретными действиями. А этого советскому лидеру делать не хотелось из опасения, что он может вступить на зыбкую почву с непредсказуемыми последствиями.
1959 год был очень беспокойным. За угрозами одной стороны следовали контругрозы, за зондажем – контрзондаж, за туманными намеками о том, что одна из сторон готова вступить в серьезные переговоры, следовали опровержения. В начале этого года состоялась поездка Анастаса Ивановича Микояна в США. Ему было поручено дать понять президенту и государственному секретарю, что Москва по-прежнему занимает жесткую позицию, но готова вести переговоры, а объявленный ранее крайний срок на самом деле не является ультимативным. Это была деликатная миссия, которая была по плечу, пожалуй, только Микояну. Вообще Хрущев часто посылал именно его туда, где требовался особенно тонкий подход, как, например, впоследствии на Кубу для успокоения уязвленного самолюбия кубинских руководителей после Карибского кризиса 1962 года. Или годом позже на похороны Джона Кеннеди для установления контактов с новым президентом Линдоном Джонсоном.
Я сопровождал Анастаса Ивановича в этой памятной поездке в роли советника и переводчика. Не знаю, была ли это инициатива Хрущева или самого Микояна, который прекрасно справился со своей нелегкой миссией. Американцы его воспринимали как альтер эго советского премьер-министра. Были встречи с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и государственным секретарем Джоном Фостером Даллесом, который вскоре скончался от рака. Был обед, на котором присутствовали вице-президент Никсон, Джон Фостер Даллес и его брат Аллен Даллес, руководитель ЦРУ. Думаю, что благодаря именно этим беседам берлинский вопрос начал наконец сдвигаться с мертвой точки.
Помимо официального дипломатического аспекта визита в США, состоялось большое турне по стране с выступлениями в ряде городов: перед представителями деловых кругов в Нью-Йорке и Детройте, перед адвокатами в Чикаго, студентами – в Лос-Анджелесе, киноактерами – в Голливуде – и повсюду многочисленные пресс-конференции. Обстановка тогда, после венгерских событий, была для нас малоприятной. Может быть, хуже, чем когда-либо. В Чикаго в нас бросали яйца, в Лос-Анджелесе при выходе Микояна из самолета пронесли открытый гроб с надписью «Для Микояна». Да и вопросы на пресс-конференциях и после выступлений были отнюдь не благожелательные. Представляю себе, как реагировал бы на это Хрущев! Но у Микояна был свой стиль – ирония, сарказм, юмор или спокойное опровержение.
В Вашингтоне Микояну предложили выступить в известной программе «Встреча с прессой», где Анастас Иванович должен был отвечать на вопросы пяти ведущих американских журналистов. Наш тогдашний посол в США Михаил Меншиков стал уговаривать его отказаться от приглашения, говоря, что дело кончится скандалом. Микоян отвел аргументы посла, сказав: «Послушайте, если я, член политбюро, не смогу справиться с каким-то журналистом или несколькими журналистами, то куда мы все годимся?»
Он действительно справился со всей этой компанией. Приведу только один отклик из такой солидной газеты, как «Вашингтон пост»: «…Рискуя подвергнуться нападкам всех бешеных собак из правой печати, осмеливаюсь высказать мнение, что Микоян проявил себя чрезвычайно хорошо в поединке с некоторыми из наших самых крутых журналистов, вроде Маркиза Чайлдса из газеты «Сент-Луис пост-диспэтч», Сесиля Брауна из «Нейшнл бродкастинг корпорейшн», Гарри Шварца, специалиста по русским делам газеты «Нью-Йорк таймс» и Лоренса Спивака, который проявил себя как последний осел. Микоян выказал обаяние, разумность и быстрый ум, гораздо более быстрый, чем у Спивака, который в одном случае потерпел полный провал в обмене репликами с Микояном…» И далее в таком же духе.
Но, пожалуй, самой драматичной частью поездки был наш полет через Атлантический океан самолетом скандинавской авиакомпании SAS. Где-то над океаном через пару часов после вылета из Нью-Йорка загорелся один из двигателей. Когда команде с трудом удалось его потушить, загорелся другой. Далее мы летели на двух двигателях, постепенно снижая высоту. Команда стала готовиться к посадке на воду: переводили женщин и детей в хвост самолета, снабдили всех нас подушками, чтобы прикрыть голову при ударе. Помню, Анастас Иванович сказал тогда: «Хорошо, что это случилось на обратном пути. Во всяком случае, мы выполнили свою миссию».
К счастью, все обошлось благополучно: удалось сесть на какую-то американскую военно-морскую базу. При этом Микоян полушутя-полусерьезно заметил: «Если бы это была наша база, могли бы и сбить самолет».
Вскоре после нашего возвращения домой в том же январе 1959 года последовал визит премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. С ним Хрущев вел себя довольно агрессивно, а временами даже вызывающе. Я был удивлен, однако прочитал впоследствии в опубликованных дневниках Макмиллана, что он вернулся из Москвы с положительными впечатлениями, с чувством, что стал лучше понимать советского руководителя: «Он был мне интересен потому, что больше похож на тех русских, о которых мы читали в романах, чем большинство русских технократов. Кажется, что все они сделаны в Германии – какие-то жесткие, с ними нельзя было по-настоящему беседовать. А с Хрущевым можно».
В конце концов, после поездок вице-президента Ричарда Никсона и Аверелла Гарримана в Москву и заместителя премьер-министра Фрола Козлова в Соединенные Штаты, Хрущев получил официальное приглашение от президента Эйзенхауэра посетить США с официальным визитом. Это было не без основания воспринято в Москве как своего рода прорыв, конкретный результат давления по вопросу о Западном Берлине, которое оказывалось на западные державы. Полученное приглашение, а также то, что перспектива оснащения Западной Германии ядерным оружием отошла на задний план, подкрепили мнение Хрущева, что он избрал правильную тактику в отношениях с западными державами.
Результаты визита в Соединенные Штаты не были однозначными. Безусловно, между двумя лидерами появились ростки взаимопонимания. Тогда это называли «духом Кэмп-Дэвида». Хрущев был воодушевлен оказанным ему торжественным приемом, который воспринимался как вторичное признание коммунистической России первой державой капиталистического мира. Учитывая сохранившийся у него комплекс неполноценности, в его глазах это имело немаловажное значение. Но если судить более прозаическими мерками, то счет был в лучшем случае равный, а может быть, даже с некоторым преимуществом на стороне американцев.
Коренной вопрос, вопрос о Германии, два руководителя обсуждали один на один в присутствии только переводчиков. Похоже было, что как та, так и другая сторона предпочитала, чтобы никто не сидел за спиной собеседника. Хрущев постоянно подозревал, что Эйзенхауэр находился под влиянием различных экстремистов. Что касается президента и его окружения, то у них, насколько я мог судить, создалось впечатление, что советский лидер играл на публику и что сторонники жесткой линии в лице Громыко оказывали на него отрицательное влияние.
Однако даже в отсутствие наблюдателей или подсказчиков переговоры шли чрезвычайно туго. Время от времени казалось, что они вообще зашли в тупик, хотя беседа все время велась в спокойном и уважительном тоне. На второй день стало просматриваться нечто осязаемое. Советский лидер пошел на уступку, признав, что переговоры по Берлину не должны быть ограничены какими-либо сроками. Таким образом была снята угроза, что Советский Союз предпримет односторонние действия, которая висела дамокловым мечом над западными державами. В свою очередь, президент Эйзенхауэр согласился, что переговоры не должны затягиваться на неопределенный срок, что представляло собой гораздо менее определенное обязательство. Была также достигнута договоренность, при условии согласия других непосредственно заинтересованных сторон, о созыве нового совещания глав четырех держав. Кроме того, Хрущев пригласил президента США посетить Советский Союз с официальным визитом следующей весной.
Видимо, Эйзенхауэра беспокоило, как пройдет заключительная пресс-конференция Хрущева в Вашингтоне, не сорвется ли он и не поставит ли под вопрос достигнутые договоренности. Но пресс-конференция прошла гладко, с использованием только парламентских выражений. Поэтому сразу после ее окончания президент позвонил мне в резиденцию, где мы жили, и попросил передать Хрущеву, что он прослушал всю пресс-конференцию и находит, что она прошла отлично.
Хрущев вернулся из США в хорошем настроении, с чувством уверенности в том, что он достиг существенных политических результатов. Будучи человеком эмоциональным, увлекающимся, он стал воспринимать свою поездку за океан как начало новой эры в советско-американских отношениях. В частности, уверовал в то, что западные державы пойдут на уступки по германской проблеме. Советская пропаганда, прославлявшая «дух Кэмп-Дэвида», раздувала эти иллюзорные ожидания. Должен признаться, что этим недостатком страдала и книга «Лицом к лицу с Америкой», в которой в бравурных тонах описывалось пребывание советского лидера в Соединенных Штатах. Книга была написана группой авторов (в том числе и мною), сопровождавших Хрущева в его поездке.
Под влиянием этой эйфории советский лидер в январе 1960 года выступил в Верховном Совете с предложением сократить вооруженные силы на 1,2 миллиона человек, или на одну треть, в течение двух лет. Он говорил о том, что военные тучи рассеиваются, что в ядерный век многочисленные армии, надводные флоты и бомбардировочная авиация становятся устаревшими. Производить ракеты с ядерными боеголовками, по его словам, стало дешевле, чем содержать сухопутные войска. А сокращение военных расходов привело бы к повышению жизненного уровня населения.
Генералы и адмиралы не были в восторге от этих идей и не стеснялись высказывать свое мнение. На одном из заседаний Совета обороны некоторые из известных маршалов, в том числе Тимошенко, высказали сомнения относительно предложения Хрущева. Я не присутствовал на этом заседании, и мне не известно, какова была реакция моего шефа. Позднее, однако, я слышал, как он иногда говорил, что генералы обычно готовятся к прошлой войне.
Примерно в это же время Хрущев отправился в небольшое путешествие по стране с короткими остановками в различных населенных пунктах, что давало возможность прозондировать настроения населения. Как потом рассказывал Г. Т. Шуйский, который сопровождал нашего шефа в этой поездке, почти повсюду настроение было приподнятое, высказывались надежды на мир, на улучшение международных отношений. Были слышны слова благодарности руководству за успехи во внешней политике. Можно было полагать, что такой прием воодушевит Хрущева. На самом деле он был обеспокоен. По словам Шуйского, после одной из таких встреч он начал как бы рассуждать вслух: «Не внушаем ли мы несбыточные надежды всем этим людям? А что, если мы не сможем реализовать то, что они воспринимают как наши обещания – добиться такой разрядки, которая позволит значительно поднять жизненный уровень народа?»
По-видимому, происходила смена настроений, довольно типичная для Никиты Сергеевича, когда эйфория постепенно уступала место более трезвому взгляду на вещи. Для этого были не только эмоциональные, но и реальные причины. К весне 1960 года в отношениях между Востоком и Западом, казалось, вновь наступил спад. Опять возникла перспектива передачи ядерного оружия бундесверу. На своей пресс-конференции в феврале президент Эйзенхауэр произнес слова, которые в Кремле отдались тревожным набатом. Он сказал, что США не должны отказывать своим союзникам в том, что имеют враги, здесь он поправился: потенциальные враги. Он далее заявил, что интересам Соединенных Штатов отвечала бы «либерализация» законодательства относительно ядерных секретов. Можно представить себе, какое впечатление в Советском Союзе произвела перспектива наличия ядерного оружия у Западной Германии, когда в умах людей все еще свежи были воспоминания о недавней войне.
Из различных источников, в том числе разведывательных, поступало все больше информации, свидетельствующей о том, что у западных держав не было намерений сколько-нибудь смягчить свою позицию по германскому вопросу. Максимум, на что можно было надеяться, так это на соглашение о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. В этой ситуации Хрущев оказался бы на мели, имея перед собой только две альтернативы: либо возобновить свои угрозы относительно Западного Берлина, либо на какое-то время игнорировать весь этот вопрос. Ни одна из них не могла рассматриваться как удовлетворительная.
К тому же остро стоял на повестке дня вопрос о Китае. Почти немедленно по возвращении из Вашингтона Хрущев полетел в Пекин, где отмечалась десятая годовщина образования Китайской Народной Республики. Сам этот факт как бы символизировал необходимость сохранять баланс между двумя международными гигантами. Визит в Китай был для Хрущева последним.
К тому времени похолодание в отношениях между ним и Мао стало очевидным. Китайские руководители перестали делать секрет из их отрицательного отношения к Хрущеву, который, как они считали, заискивал перед американскими империалистами. А в Москве нельзя было не почувствовать, что среди определенных кругов общества возникало недовольство обострением отношений с Китаем. Помню, что примерно в этот период мне было несколько звонков от людей, чье мнение я привык ценить, с просьбой сделать все возможное, чтобы предотвратить разрыв с государством, добрые отношения с которым имеют такое большое значение для нашей страны.
Чем ближе было 16 мая, дата начала конференции глав четырех держав, тем более проблематичными выглядели ее перспективы с точки зрения специалистов, готовивших материалы для нашей делегации. Было очевидно также, что наш шеф был серьезно обеспокоен тем, что конференция не оправдает ранее возлагавшихся на нее ожиданий.
Именно в это время как гром среди ясного неба возник инцидент с американским самолетом-разведчиком У-2. Полеты этих самолетов начались еще в июле 1956 года и регулярно продолжались все это время. В течение нескольких лет советская система зенитной обороны была не в состоянии сбить американские самолеты ввиду их исключительно высокого потолка. Когда Хрущеву докладывали об очередном нарушении нашего воздушного пространства, он каждый раз возражал против того, чтобы публично объявлять об этом или заявлять протест американцам. Его доводы сводились тому, что нам ни к чему рекламировать свою беспомощность или протестовать против действий, которые мы не можем пресечь. «Это только подчеркнет наше унижение», – говорил он. И нажимал на наших специалистов, требуя, чтобы они поскорее освоили зенитную ракету нового типа, способную сбить У-2.
Каждый новый полет У-2 был не только унижением. Он давал дополнительные аргументы тем, кто вновь и вновь утверждал, что верх простодушия верить в добрые намерения Вашингтона. В самом деле было трудно понять логику, которой руководствовался Вашингтон, особенно в свете того, что нам известно теперь, а именно что президент осознавал всю рискованность своих действий. Генерал Эндрю Гудпастер, его адъютант, характеризовал эти полеты как «нечто, граничащее с провокацией, с началом военных действий, поскольку это было нарушение их территории».
Рано или поздно, но мина замедленного действия должна была прийти в действие, и она в конце концов взорвалась 1 мая 1960 года. Вечером этого дня, вскоре после того как я вернулся с традиционного парада и демонстрации на Красной площади, мне позвонил дежурный из приемной Хрущева и сообщил, что Никита Сергеевич просил позвонить ему домой.
Когда я связался с ним, он спросил, слышал ли я, что в районе Свердловска сбит американский самолет и что летчик находится в наших руках. Когда я подтвердил, что об этом слышал, Хрущев сказал, что это может послужить причиной срыва конференции в верхах в Париже. Затем он поручил мне вызвать «кого надо», как он выразился, на следующее утро на 11 часов для подготовки речи, с которой он намерен выступить на сессии Верховного Совета СССР.
В течение следующих нескольких дней мы помогали нашему шефу подготовить своего рода ловушку для Белого дома. Надо сказать, что Хрущев делал это с большим удовольствием. Мы все не сомневались, что наших оппонентов следует хорошенько проучить.
Был момент, когда весь план чуть не сорвался. На одном из приемов Яков Малик, который тогда работал заместителем министра иностранных дел, проговорился в беседе со шведским послом, сообщил ему, что летчик жив и находится в наших руках. Трудно понять, как мог опытный дипломат совершить такую оплошность. Карьера Малика повисла на волоске. Он, естественно, сильно забеспокоился и принялся звонить по всем телефонам в поисках защиты. Звонил и мне с просьбой убедить Хрущева принять его. Никита Сергеевич отмахнулся и сказал, что принимать провинившегося он не будет. Но в то же время дал понять, что ничего страшного с Маликом не произойдет. Видимо, мягкость реакции объяснялась тем, что проступок заместителя министра не имел серьезных последствий: либо шведский посол не передал услышанную им информацию дальше, либо – и это более вероятно – она была воспринята как дезинформация.
Хрущев произнес две или три речи на сессии Верховного Совета, провоцируя Вашингтон на все новые опровержения, каждое из которых противоречило предыдущему. И все же казалось, что конференция в Париже находилась вне опасности, пока президент США оставался как бы не замешанным лично в этом деле. Сам Хрущев старался не выдвигать никаких обвинений, направленных непосредственно против Эйзенхауэра. Однако, в конце концов, Государственный департамент признал 9 мая, что полеты над советской территорией были санкционированы президентом. Было также дано понять, что они будут продолжены. Через пару дней Эйзенхауэр сам подтвердил на пресс-конференции, что он лично несет ответственность за полеты, и заявил, что они необходимы для обеспечения национальной безопасности и поэтому будут продолжены.
В те дни английский премьер-министр Гарольд Макмиллан писал в своем дневнике: «Хрущев произнес пару очень занятных и эффектных речей с нападками на американцев за то, что они некомпетентно шпионили и так же некомпетентно лгали. Он может отменить конференцию на высшем уровне. Или это могут сделать американцы под влиянием его укусов».
После того как сам президент признал личную ответственность за полеты самолетов У-2 и публично заявил, что они будут продолжены, многие наблюдатели выражали уверенность, что в этих условиях непосредственное столкновение между ним и Хрущевым стало неизбежным. Должен сказать, что и у нас было такое предчувствие. Не только сам Хрущев был поставлен в тяжелое положение, но и его страна была унижена и оскорблена. Можно было не сомневаться, что если бы он не реагировал достаточно жестко, ястребы в Москве и Пекине использовали бы этот инцидент – и не без основания – как доказательство того, что во главе Советского Союза стоит лидер, готовый снести любое оскорбление со стороны Вашингтона.
11 мая, когда Хрущев появился в Парке культуры имени Горького, где были выставлены обломки сбитого самолета У-2, он прозрачно намекнул, что в Советском Союзе не будут приветствовать приезд президента Эйзенхауэра и что намеченный визит придется отменить. Однако что касается перспектив саммита, то позиция СССР оставалась неясной. Создавалось впечатление, что сам Хрущев не мог определиться в этом вопросе.
Согласно его опубликованным воспоминаниям, он принял решение занять жесткую позицию на конференции, только когда самолет поднялся в воздух, направляясь в Париж. В этом случае, как и в некоторых других, память подвела его. Впрочем, это и неудивительно, поскольку он диктовал свои мемуары через много лет после происшедших событий, да к тому же не имея возможности проверить все факты.
На самом деле окончательное решение было принято в аэропорту непосредственно перед вылетом в Париж. Все мы уже заняли свои места в самолете председателя Совета министров, в то время как он, Громыко и министр обороны маршал Малиновский оставались в павильоне, который обычно использовался для церемонии при встрече и проводах высоких гостей. Там шел последний обмен мнениями с членами Президиума Центрального комитета. Вскоре после того как самолет поднялся в воздух, Хрущев пригласил тех из нас, кто составлял его непосредственное окружение, в свой отсек, чтобы информировать об окончательном решении.
Он сообщил, что намерен потребовать от президента Эйзенхауэра, чтобы тот дал обязательство никогда вновь не нарушать воздушное пространство Советского Союза, выразил сожаление по поводу имевших место нарушений и наказал тех, кто несет за них непосредственную ответственность. Хрущев добавил, что считает практически невероятным, чтобы Эйзенхауэр принял эти требования. Поэтому, по его мнению, представляется весьма вероятным, что конференция закончится провалом, не успев начаться. «Это достойно сожаления, – сказал Хрущев, – но у нас нет выбора. Полеты У-2 – это не только циничное нарушение международного права, но и грубое оскорбление Советского Союза».
Все это было встречено полным молчанием. Я сомневаюсь, чтобы у кого-либо из присутствовавших возникли сомнения относительно правомерности этого решения. Но большинство, если не все, были обескуражены тем, что перед нами открывалась перспектива возврата к худшим временам холодной войны. В советском посольстве в Париже на рю де Гренель царила атмосфера подавленности. Помню, что заместитель министра иностранных дел Валериан Зорин, который обычно не склонен был поддаваться эмоциям, ходил по посольству, повторяя: «Ну и ситуэйшен».
Пожалуй, единственный человек, которому ход событий пришелся явно по душе, был маршал Родион Малиновский. В некоторых публикациях о деле с У-2 утверждается, будто бы московские «ястребы» поручили ему следить за советским лидером, чтобы тот не отклонялся от жесткой линии. Это нонсенс. Хрущев настроился на жесткий курс и не нуждался в контроле или подталкивании. Если он в чем-то и нуждался, так это в сдерживании, чтобы он не переигрывал роль человека, возмущенного нанесенным ему оскорблением. В какой-то момент, когда мы с нашим министром иностранных дел находились у него в кабинете, он вспомнил, что государственный секретарь США Гертер был калекой, передвигался на костылях. И вдруг Хрущеву пришла в голову фантастическая мысль: «А что, если при случае сказать: Бог шельму метит?» Не знаю, говорил он это всерьез или нет, но мы с Громыко в один голос воскликнули, что такое говорить совершенно невозможно. Уговаривать нам Никиту Сергеевича не пришлось.
Тем не менее он все-таки переигрывал, в особенности на пресс-конференции, состоявшейся непосредственно после провала саммита. Он действительно вышел из себя, когда его начали освистывать, мешая говорить.
Пожалуй, наиболее достойно во всей этой истории вел себя генерал де Голль. Он поддерживал американцев, но при этом намекал, что вся эта история лишь частный случай, который не может коренным образом изменить общий ход событий. Хрущеву он говорил, что советский спутник каждый день пролетает над Францией, однако французы воспринимают это спокойно, не поднимают шума.
Возникшую ситуацию болезненно воспринимал Гарольд Макмиллан. Хотя, может быть, это тоже была только игра. Помнится, он как-то довольно поздно вечером приехал в наше посольство, чтобы еще раз встретиться с Хрущевым и в последний раз попытаться отговорить его от решительных действий, которые привели бы к срыву конференции. Хрущев был непреклонен, требуя извинения от Эйзенхауэра и наказания виновных. Впрочем, как и с де Голлем, он вел беседу с Макмилланом в самых мягких и вежливых тонах, адресуя все свое возмущение американскому президенту.
При всем своем огорчении Макмиллан все же не утратил чувства юмора. В конце беседы произошел не относящийся к делу, но довольно занятный обмен мнениями. Хрущев спросил, англичанин ли премьер-министр, Макмиллан ответил отрицательно, сказав, что он шотландец. На аналогичный вопрос министр иностранных дел Селвин Ллойд ответил, что он не англичанин, а уэльсец. Посол в СССР Райли оказался ирландцем. Тогда на удивленную реплику Хрущева: «Так выходит, среди вас нет ни одного англичанина» Макмиллан ответил: «Да, все мы украинцы или грузины». Это вызвало дружный смех и несколько разрядило общую гнетущую атмосферу.
После того как Эйзенхауэр, как и следовало ожидать, отверг все требования Хрущева и конференция была провалена, мы возвращались в Москву не в лучшем настроении. Если судить по уровню полемики, то 1960 год был одним из худших за все время холодной войны. Хрущев превзошел самого себя, призывая Божий гнев на голову президента Эйзенхауэра. В конечном итоге получилось так, что не Белый дом вынужден был оправдываться, а постоянные вспышки советского лидера стали вызывать отрицательную реакцию в мировом общественном мнении.
Должен признаться, что те из нас, кто мог бы в тактичной форме предостерегать нашего начальника в тех случаях, когда он заходил слишком далеко, редко пользовались этой возможностью. Поэтому мы несем свою долю ответственности за некоторые его погрешности. Помню случай, когда Нина Петровна Хрущева, услышав, что ее муж неправильно произнес какое-то слово, сказала моему коллеге Владимиру Лебедеву и мне: «Почему вы не поправляете его? Если вы не будете обращать внимание на его оплошности, кто же тогда будет?»
В то время Хрущев имел в виду еще одну цель: он уверился, что его тактика нападок на республиканскую администрацию в связи с У-2 повредит Ричарду Никсону в его предвыборной кампании и поможет Джону Кеннеди. Хрущев по-прежнему воспринимал Никсона как исчадие ада, а кандидат демократической партии, который выразил в несколько туманной форме свое сожаление по поводу инцидента с У-2, стал представляться ему если не как ангел небесный, то, во всяком случае, как политический деятель, не запятнанный советско-американскими стычками последних восьми лет. Мне казалось, что это была очень сомнительная гипотеза. Как правило, любое иностранное вмешательство во внутренние дела другого государства наносит вред и тому, кто вмешивается, и тому, за кого ратует. Правда, на встрече в Вене в 1961 году, когда Хрущев сказал Кеннеди: «Мы голосовали за вас», президент ответил, что он чувствовал это. Но в действительности любое воздействие советской пропаганды на ход выборов вряд ли приносило пользу кандидату демократов, скорее наоборот.
В сентябре 1960 года в обстановке острой мировой напряженности мы отправились на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Как только стало известно, что в Нью-Йорк едет сам Хрущев, рутинная сессия быстро превратилась в событие. В Нью-Йорк потянулись ведущие государственные деятели со всех концов света – Макмиллан и Неру, Насер и Кастро, Тито и Сукарно и многие другие президенты и премьер-министры, не говоря уже о руководителях восточноевропейских стран. Хрущев не без основания расценивал это как признак того, что Советский Союз пользовался высокой степенью влияния в мире.
Это было время, когда распадались старые колониальные империи. Четырнадцать новых государств из Африки и Азии должны были занять места в зале Генеральной Ассамблеи. Но многие другие продолжали пребывать под иностранным господством. В ходе обсуждения в Кремле перед отъездом в Нью-Йорк было решено, что советская делегация в качестве своей главной инициативы выдвинет проект резолюции с призывом немедленно предоставить независимость всем колониальным территориям. Это было расценено как весьма своевременное предложение, которое, несомненно, покажется привлекательным развивающимся странам и продемонстрирует, что советское руководство настроено не менее антиимпериалистически, чем китайцы.
В характере Хрущева всегда было что-то озорное. Судя по некоторым его высказываниям, у него появилось непреодолимое желание появиться непрошеным гостем при дворе «князя тьмы», каким он стал представлять себе Эйзенхауэра, и тем самым унизить его.
Президент Эйзенхауэр выступил на заседании Генеральной Ассамблеи в первый день общей дискуссии. Как писал лондонский журнал «Экономист», он позволил манипулировать собой, как реквизитом на вращающейся сцене, лишь бы не входить в прямой контакт с Хрущевым.
Мы провели в Нью-Йорке целый месяц. В выступлениях Хрущева в ООН, в его высказываниях на пресс-конференциях и интервью постоянно присутствовали три темы: критика правительства США, угроза ядерной войны и требование предоставить свободу колониальным странам. Он использовал каждую возможность, чтобы привлечь внимание публики к темам, которые ему представлялись наиболее важными. Он выступал и с балкона представительства СССР при ООН, и с трибуны ООН, и в Гарлеме, куда отправился, чтобы посетить Фиделя Кастро. Беседовал он с журналистами и у въезда на территорию загородного дома советского представительства под Нью-Йорком.
Хрущев с уважением относился к западным, особенно американским, журналистам за их активность и трудолюбие. Он восхищался Маргарет Хиггинс из газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», видя, как она, будучи на седьмом месяце беременности, протискивалась через толпу журналистов. Он высоко ценил Гаррисона Солсбери из «Нью-Йорк таймс» не только за его глубокие комментарии, но и за то, что тот, став уже известным писателем, готов был спать ночью в своей машине у советского представительства, лишь бы не пропустить какое-нибудь непредвиденное происшествие. Это чувство уважения, по-видимому, было взаимным, поскольку Солсбери посвятил Хрущеву целую главу в своей последней книге «Герои моего времени».
На XV сессии Генеральной Ассамблеи было немало запоминающихся моментов. Но, пожалуй, она навсегда войдет в историю ООН из-за того момента, когда Никита Хрущев, желая выразить свое возмущение по поводу каких-то высказываний одного из ораторов, начал стучать кулаками по пюпитру, а затем, решив, что этого недостаточно, снял с ноги ботинок и пустил его в ход.
В тот памятный день я не поехал на заседание Генеральной Ассамблеи. Но когда Хрущев вернулся в представительство, я оказался недалеко от входа. Было видно, что он пребывал в веселом настроении. Увидев меня, спросил, был ли я на заседании, и, услышав отрицательный ответ, воскликнул: «Вы очень много потеряли! Это была такая умора! Ведь ООН – это своего рода международный парламент, где меньшинство должно подавать голос разными путями. Пока что мы в меньшинстве. Но ненадолго».
В тот вечер у нас на ужине был венгерский лидер Янош Кадар, человек, обладавший острым умом и чувством юмора. Видимо, Кадар считал необходимым каким-то образом выразить свое отношение по поводу случившегося, а оно не было особенно благоприятным. «Товарищ Хрущев, – сказал он, – помните, вскоре после того, как вы стучали ботинком по столу, вам пришлось выйти к трибуне, чтобы выступить по процедурному вопросу. Так в этот момент наш министр иностранных дел товарищ Шик повернулся ко мне и спросил: «Как вы думаете, он успел надеть обратно ботинок или же пошел босиком?» Многие из сидевших за столом начали хихикать. У меня было чувство, что в тот момент наш лидер, может быть, понял, что зашел слишком далеко.
Когда мы вернулись в Москву, Леонид Ильичев, который тогда был секретарем ЦК по вопросам идеологии и мог быть причислен к ортодоксам, принялся выражать нам свое недоумение. Он сказал, что, когда из Нью-Йорка начали поступать сообщения об инциденте с ботинком, первая реакция в Москве сводилась к тому, что это какая-то провокация западной пропаганды, и даже подумывали, не стоит ли глушить радиопередачи на эту тему.
Сразу после Генеральной Ассамблеи Хрущев снова столкнулся с китайской дилеммой, которая постоянно была у него на уме. Выработалось уже нечто вроде условного рефлекса – обращение взора с Востока на Запад и снова на Восток. После первой поездки в Соединенные Штаты, как я уже говорил, он сразу же направился в Пекин. Теперь, после второй поездки через океан, в ноябре в Москве должно было состояться международное Совещание представителей коммунистических партий, на котором в качестве центрального вопроса стояли отношения между КПСС и китайской компартией. К тому времени отношения между Москвой и Вашингтоном достигли точки замерзания, и, казалось, настало подходящее время для новой попытки наладить дела с Пекином. Уже в течение некоторого времени действовала советско-китайская редакционная группа во главе с Михаилом Сусловым и Дэн Сяопином. После длительного перетягивания каната ей в конечном итоге удалось если не преодолеть, то, во всяком случае, пригладить имеющиеся разногласия. Хотя Хрущев на всякий случай пожурил Суслова за то, что тот пошел на слишком большие уступки «под бичами китайцев», он тем не менее был доволен. Разрыв с Китаем тяготил его, и теперь, казалось, солидарность могла восторжествовать. Вскоре, однако, выяснилось, что эта солидарность существовала лишь на бумаге: она рассыпалась в прах при первом соприкосновении с суровой реальностью.
Вскоре после этого в Белом доме появился новый президент, и кремлевские деятели вновь обратили свои взоры на Запад.
На грани…
Отношение Хрущева к новому президенту США Джону Кеннеди со временем претерпевало серьезные изменения. А вместе с этим менялся и советский внешнеполитический курс. Вначале у Хрущева были немалые надежды на то, что вновь избранный президент поведет дело к улучшению советско-американских отношений, хотя эти надежды не подкреплялись чем-либо конкретным, разве что заявлением Кеннеди о том, что, будь он президентом во время истории с У-2, то выразил бы сожаление советскому правительству. Хрущев был склонен принять желаемое за действительное, игнорируя при этом такой факт, как постоянные призывы Кеннеди вкладывать больше средств в производство ракетно-ядерного оружия, чтобы превзойти в этой области Советский Союз, который якобы во многом опередил США в этой области (в действительности дело обстояло как раз наоборот).
Вскоре после того как Кеннеди стал президентом, надежды Хрущева стали быстро улетучиваться. Начали поступать сведения о возможном нападении американцев на Кубу. Хрущев, однако, не торопился с ответными акциями, он занял выжидательную позицию, пытаясь выяснить, что в действиях и заявлениях Кеннеди относится к риторике, а что к реальной политике. Именно поэтому он не торопился с ответом на полученное от американского президента предложение провести встречу между ними в конце февраля 1961 года.
В середине апреля силами оппозиционной эмиграции состоялось вторжение на Кубу. Организованное и поддержанное США, оно окончилось позорным провалом. А в Кремле пришли к выводу, что хрен редьки не слаще: президент-демократ стоит президента-республиканца. И решили, что время для советско-американской встречи в верхах назрело и что Кеннеди, потерпев унизительное поражение, изначально окажется на этой встрече в невыгодном положении. Как в политическом, так и психологическом плане. В Вашингтон пошло предложение организовать саммит в начале июня. К удивлению Хрущева, Кеннеди не заставил себя ждать с ответом и принял предложение. Встреча была назначена на 3–4 июня в Вене.
Я хорошо помню тот день, когда Хрущев вернулся в свою резиденцию после первой встречи с Кеннеди, которая состоялась в доме посла США в Австрии. Это была встреча с ограниченным составом участников (с нашей стороны были Хрущев, Громыко, Анатолий Добрынин, в то время заведующий отделом США в МИДе, и Виктор Суходрев, который за пару лет до этого сменил меня в качестве нашего главного переводчика и прекрасно справлялся с этой обязанностью). Остальные из нашей команды с нетерпением ожидали возвращения Хрущева, чтобы узнать о результатах. Как только наш шеф вышел из машины, мы окружили его с вопросами, какое впечатление произвел на него новый президент. Его ответ был однозначным: «Ну, что вам сказать. Это очень неопытный, может быть, даже незрелый человек. По сравнению с ним Эйзенхауэр – это глубоко мыслящий деятель, с широкими взглядами на действительность». И далее в том же духе.
В некоторых случаях я присутствовал на заседаниях или на протокольных мероприятиях, где шел обмен мнениями между Кеннеди и Хрущевым. У меня сложилось впечатление, что американский президент был не в лучшей форме. Может быть, это был результат плохого самочувствия. В начале одной из бесед, несмотря на советы некоторых людей из его окружения, в частности посла Люэллина Томпсона, он затеял дискуссию на идеологические темы. Разговор, разумеется, был бесперспективен, он лишь занял время и испортил настроение обоим собеседникам. Кроме того, Кеннеди был несколько обескуражен энергичным нажимом, который Хрущев оказал на него при обсуждении проблемы Берлина. Советский лидер рисовал картины пагубных последствий, которые будут иметь место, если западные державы не проявят готовность к сотрудничеству в поисках взаимно приемлемого урегулирования.
Кеннеди покинул Вену в плохом настроении, ожидая наступления, как он выразился, «холодной зимы». С тяжелым сердцем вернулся в Москву и Хрущев. К тому времени прошло почти три года, как Москва впервые предъявила ультиматум по Западному Берлину. Однако западная позиция оставалась практически неизменной. Более того, если в последние месяцы 1958 года и в 1959 году можно было надеяться хоть на какую-то видимость прогресса, теперь, после встречи с Кеннеди, эти надежды растаяли. Советское руководство оказалось перед дилеммой: либо продолжать словесное давление, расписываясь в своем бессилии, либо предпринять те или иные практические шаги, чтобы продемонстрировать слабость западных позиций в Западном Берлине, но тут существовал риск вооруженного конфликта.
Между тем лидеры Восточной Германии все более настойчиво били тревогу по поводу утечки людей из ГДР на Запад. Была и другая причина растущего беспокойства: тысячи путешественников из Западного Берлина, ФРГ и различных других стран имели возможность свободно обменивать западные марки на восточные по выгодному курсу 1:4 и скупать дешевое продовольствие и ширпотреб в ГДР.
Насколько можно судить, именно в это время у восточногерманских руководителей возникла идея Берлинской стены. Для Хрущева это было настоящей панацеей, даром богов, спасением лица. Однако, не желая взваливать всю ответственность на советскую сторону, он предложил обсудить идею возведения стены, разделявшей восточную и западную части Берлина, на встрече лидеров стран Варшавского договора.
Такая встреча состоялась в Москве с 3 по 5 августа. Если судить по протоколам совещания, то вопрос о Берлинской стене на нем не дискутировался, кроме нескольких косвенных упоминаний. Но это и понятно: решение о возведении стены должно было сохраняться в большой тайне до самого последнего момента. Любое упоминание на бумаге о принятом решении могло сделать тайное явным. Так или иначе, секрет хранился за семью печатями. Когда президента Кеннеди впервые информировали о том, что происходит разделение Берлина, он воскликнул: «Как это могло случиться, что нам об этом не было ничего известно?»
Архивы ГДР, которые теперь оказались общедоступными, свидетельствуют о том, что Вальтер Ульбрихт рассматривал стену лишь как промежуточный шаг на пути к мирному договору и решению проблемы Западного Берлина в пользу ГДР. Постоянно в течение всего того периода Москва вынуждена была удерживать восточногерманское руководство от шагов, которые могли из искры раздуть настоящий пожар.
Для Хрущева возведение стены означало формальное разрешение берлинского кризиса и молчаливое признание того, что ему не удалось достичь своей основной цели – заставить западные державы пойти на выгодный для ГДР компромисс. Любопытно, что Кеннеди дал этой истории такую же оценку: «К чему Хрущеву возводить стену, если бы он намеревался захватить Западный Берлин? Стена была бы излишней, если бы он оккупировал весь город. Это для него выход из затруднительного положения, в котором он оказался. Это не очень приятное решение, но стена все же гораздо лучше, чем война».
Разумеется, американская администрация не преминула поиграть на публику, демонстрируя жителям Западного Берлина и общественному мнению Федеративной республики, что они могут целиком рассчитывать на поддержку США. Использовалась стена на все сто процентов и в качестве пропаганды против Советского Союза. Сначала в Берлин был направлен вице-президент Линдон Джонсон, а позднее отправился туда сам президент, провозгласивший перед охваченными энтузиазмом стотысячными толпами знаменитую фразу: «Ich bin ein Berliner».
Разумеется, что и в дальнейшем возникали трудности на подъездных путях к городу, происходил обмен дипломатическими нотами, публиковались жесткие заявления с обеих сторон, но так или иначе, это были утихающие волны после бури, хотя случались инциденты, которые, возникни они в предыдущий, кризисный, период, могли бы привести к трагическим последствиям.
Особенно острой была конфронтация в конце октября 1961 года у проходного пункта, который американцы называли «Чекпойнт Чарли». После того как восточногерманские пограничники стали задерживать некоторых западных граждан, направлявшихся в Восточный Берлин, генерал Люшиус Клей приказал, чтобы три бронетранспортера и десять американских танков заняли позиции у разграничительной линии. Вскоре после этого десять советских танков выстроились напротив. И так они продолжали стоять друг против друга в течение нескольких дней. Этот инцидент очень четко зафиксировался в моей памяти, поскольку он произошел во время XXII съезда КПСС. Маршал Иван Конев, который в то время командовал советскими оккупационными войсками в Германии, постоянно докладывал Хрущеву о ситуации, причем в его голосе временами звучали очень тревожные ноты. Хрущев время от времени покидал президиум съезда и уходил в небольшой кабинет за кулисами, где просматривал различные материалы. Никакого особого беспокойства я у него не замечал, создавалось впечатление, что он не придавал большого значения этому инциденту. После двух-трех дней такого противостояния создалось своего рода патовое положение. Американцы, по-видимому, не могли решить, что делать дальше, опасаясь, что если они отведут свои танки и бронетранспортеры первыми, то их обвинят в малодушии. Поэтому Хрущев, как он выразился, решил помочь им и дал указание отвести наши танки. И действительно, как только это произошло, американцы последовали нашему примеру – их танки и бронетранспортеры также отошли.
Но не успела окончательно утихнуть буря в Берлине, как на политическом горизонте проступили очертания еще одного кризиса, самого зловещего и опасного из всех, возникавших за весь период холодной войны. У нас его называли Карибским кризисом, на западе – Кубинским, а на самой Кубе – Октябрьским.
В свое время, в разгар холодной войны государственный секретарь США Джон Фостер Даллес высказал афоризм, суть которого в том, что для успеха внешней политики надо не бояться подойти к самому краю бездны и заглянуть в нее. Отсюда в английский язык даже вошло слово brinkmanship, что означает искусство ходить по краю. Но когда в том памятном октябре 1962 года политические лидеры СССР и США по-настоящему заглянули в бездну, они в ужасе отшатнулись.
Идея разместить на Кубе советские баллистические ракеты с ядерными боеголовками с самого начала держалась в строгом секрете. И хотя я был в курсе более или менее всех наших внешнеполитических дел, об этом намерении я узнал далеко не сразу. Помню, где-то в конце мая мне позвонил со Старой площади мой коллега В. С. Лебедев и сказал: «Олег Александрович, если вы стоите, лучше вам сесть, потому что то, что вы сейчас услышите, ошеломит вас». И после небольшой паузы добавил: «Обсуждается вопрос о размещении наших баллистических ракет на Кубе». Я действительно был ошеломлен. Тем, кто сочувствовал поиску путей разрядки международной напряженности, такое могло присниться только в кошмарном сне.
Как впоследствии выяснилось, идея разместить ракеты на Кубе принадлежала самому Хрущеву. По словам Громыко, Хрущев впервые заговорил об этом в последней декаде мая. К тому времени, когда мне позвонил Лебедев, эта идея уже получила одобрение членов президиума ЦК. Вскоре должна была состояться поездка на Кубу делегации в составе тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рашидова, маршала Бирюзова и нового посла СССР на Кубе Алексеева для согласования вопроса с кубинским руководством.
Естественно, возникает вопрос: что побудило советского лидера пойти на столь рискованный шаг? Считается, что главным побудительным мотивом было стремление предотвратить новое, после провалившейся высадки в заливе Кочинос в 1961 году, нападение на Кубу. Сам Хрущев в своих воспоминаниях изображал это как, по сути, единственную причину предпринятого Советским Союзом шага. Надо сказать, что в то время действительно поступало много официальной и неофициальной информации о том, что в Вашингтоне зреют планы повторной агрессии для свержения установившегося на Кубе революционного режима.
Люди, имевшие прямое касательство к определению американской политики того периода, вроде Роберта Макнамары, теперь отрицают, что такие намерения существовали. Тем не менее у советского руководства были основания полагать, что над Кубой нависла серьезная угроза. К тому же было известно, что американцы вынашивают планы и физического устранения Фиделя Кастро, причем ЦРУ не гнушалось в этих целях контактов с мафией.
Вряд ли есть основания сомневаться в том, что защита Кубы была действительно одной из главных причин размещения на острове ракет с ядерными боеголовками. Думаю, что над Хрущевым постоянно довлело опасение, как бы США и их союзники не вынудили СССР и его друзей отступить в каком-нибудь пункте земного шара. Он не без оснований считал, что ответственность за это падет на него. Не раз он вспоминал слова, сказанные Сталиным незадолго до смерти: «Когда меня не будет, вас передушат, как котят». В последние годы это чувство обострилось под влиянием постоянных нападок Пекина, обвинявшего советского лидера в капитулянтстве перед империализмом. Поэтому его беспокойство за судьбу Кубы имело под собой серьезную почву.
Но было и другое. Хрущев усмотрел возможность, разместив ракеты в непосредственной близости к США, скорректировать в пользу Советского Союза соотношение сил в области ракетно-ядерного оружия, где большой перевес в то время был на стороне Соединенных Штатов. А поскольку обе державы пребывали во власти психологии, а точнее, психоза холодной войны, это американское преимущество в глазах многих представлялось серьезной угрозой для безопасности нашей страны. Могу сослаться на состоявшуюся в тот период беседу между Хрущевым и Андроповым, на которой мне случилось присутствовать. Юрий Андропов был тогда секретарем ЦК КПСС и курировал проблематику социалистических стран. Поэтому все, что касалось Кубы, входило в круг его ведения. В данном случае речь шла о предстоящей установке на острове советских ракет. Андропов сказал в этой связи: «Тогда мы сможем держать под прицелом мягкое подбрюшье американцев».
Мне хорошо запомнились эти слова, потому что они перекликались с высказыванием Черчилля во время войны, когда он настаивал на наступлении западных союзников через Балканы, назвав это направление мягким подбрюшьем Германии. Да и Фидель Кастро утверждал, что кубинское руководство согласилось на размещение ракет исходя из стратегических соображений, относящихся ко всему социалистическому лагерю. Что касается непосредственно защиты Кубы, то, как заявлял Кастро, он и его товарищи считали, что это дело самого кубинского народа. Об этом он говорил и на советско-американско-кубинской встрече в Гаване 9–12 января 1992 года, посвященной тридцатой годовщине Карибского кризиса.
Некоторые исследователи на Западе утверждают, будто предложение Хрущева вызвало несогласие у членов Президиума ЦК КПСС. Это не соответствует действительности, за исключением определенных предостережений и сомнений, высказанных А. И. Микояном и, кажется, А. А. Громыко, никто, насколько мне известно, не решился возражать против плана Хрущева, хотя он не торопил своих коллег, давая им время подумать и посоветоваться. Впрочем, впоследствии, после смещения Хрущева, было много разговоров о его авантюризме и о том, что он вовлек страну в ситуацию, которая закончилась для нее унизительным финалом.
Для меня лично авантюризм с ракетами был очевиден с самого начала. Я знал хорошо две вещи: во-первых, то, что американцы с размещением советских ракет на Кубе никогда не примирятся и в своей решимости не допустить этого способны будут пойти на крайние меры. И во-вторых, что военный конфликт в планы Хрущева не входит, а потому в критический момент ему придется отступить. Такого же мнения были и мои коллеги по секретариату Шуйский и Лебедев. Мы серьезно обсуждали это дело и даже думали поговорить со своим шефом. Однако к согласию на этот счет не пришли. Помню, Лебедев сказал тогда, что Никите Сергеевичу очень дорого это, пожалуй, самое серьезное в его жизни внешнеполитическое решение и отговаривать его бесполезно, он не уступит. Так же как не уступил, когда многие советовали ему не выступать с критикой Сталина на XX съезде партии.
И все же я собрался с духом и, улучив момент, когда не было посторонних, высказал шефу свои доводы против размещения ракет. Этот разговор, состоявшийся где-то в самом начале июня, большой храбрости от меня не требовал, так как Никита Сергеевич, в отличие от ряда других высоких сановников, со своими непосредственными подчиненными был всегда корректен и свое дурное настроение на них не разряжал. Кроме того, у меня с ним установились хорошие отношения – он мне доверял, и я, со своей стороны, никогда этим не злоупотреблял.
И в данном случае он выслушал мои доводы вполне спокойно и в ответ лишь сказал, что не видит, почему мы должны воздерживаться от действий, не идущих дальше тех, которые предприняли сами американцы, окружив Советский Союз ядерным оружием фактически по всему его периметру. Он добавил, что они теперь утратили право ссылаться даже на доктрину Монро, поскольку США сами уже давно нарушили эту доктрину, ведь она предусматривает не только невмешательство европейских держав в дела Западного полушария, но и отказ США вмешиваться в европейские дела.
Против такой аргументации трудно было возразить, потому что она была совершенно справедлива, во всяком случае теоретически. Хотя совершенно не учитывала реальные настроения в США и возможную американскую реакцию. Однако я не стал продолжать этот разговор. Откровенно говоря, я затеял его даже не в расчете переубедить своего начальника, а скорее для успокоения собственной совести.
Между тем в течение всего лета 1962 года продолжались активные приготовления к транспортировке и установке ракет на Кубе. Причем масштабы этой операции постепенно разрастались, ракеты требовали охраны не только с земли, но и с воздуха, и с моря. В конечном итоге операция вылилась в переброску на Кубу примерно 45 тысяч военнослужащих и большого количества техники, в том числе тактических ракет с ядерными боеголовками, зенитных ракет и самолетов. А это, в свою очередь, потребовало задействовать множество транспортных судов, нашему Министерству морского флота пришлось снимать корабли даже с регулярных рейсов и фрахтовать на их место суда иностранных компаний.
Совершенно непонятно, как при таких колоссальных масштабах операции можно было всерьез рассчитывать на сохранение ее в тайне. А ведь успех полностью зависел именно от внезапности. Имелось в виду, что когда американцам станет известно о ракетах, то они уже будут стоять на месте, заряженные и направленные на США. И тогда нашим противникам ничего другого не останется, как смириться с неожиданно возникшей новой ситуацией.
Удивительно только, что американская разведка узнала об этом так поздно – фактически только в середине октября. В начале 90-х годов мне пришлось читать лекцию о Кубинском кризисе в Вашингтоне. Как потом выяснилось, добрая половина слушателей состояла из ветеранов американской разведки. После того как я закончил, некоторые из них подошли ко мне и стали оправдываться. Они говорили, что ЦРУ и военной разведке было известно о переброске на Кубу большого количества советского персонала и вооружения. Но президент не верил в то, что там могут быть баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Поэтому, мол, разведывательные органы не особенно тревожились по поводу этой стороны дела. Не очень убедительное объяснение.
У меня состоялся еще один краткий разговор с Хрущевым на тему о ракетах, уже незадолго до развязки – где-то в конце сентября. Получив очередную информацию от военных о ходе операции, Хрушев сказал (мы были вдвоем в его кабинете): «Скоро разразится буря». В ответ я заметил: «Как бы лодка не перевернулась, Никита Сергеевич». Хрущев немного задумался, а потом вымолвил: «Теперь уже поздно что-нибудь менять». У меня тогда сложилось впечатление, что к тому времени он осознал всю рискованность затеянной операции. Но думать о ее отмене действительно было уже поздно.
События развивались с роковой неизбежностью, словно в греческой трагедии. У меня было чувство, будто мы находимся в автомобиле, который потерял управление и, набирая скорость, мчится неизвестно куда. Признаюсь, эти мысли испортили мне весь летний отпуск, часть которого я провел в ГДР. Тем более что нельзя было с кем-либо поделиться своими тревогами! Один октябрьский день сменялся другим, и по различным признакам становилось все более очевидным, что в Вашингтоне нарастало беспокойство – можно был предположить, что тайное становилось там явным.
Наконец наступило 22 октября, и стали поступать сообщения, что в этот день состоится выступление президента Кеннеди по какому-то весьма важному вопросу. Не вызывало сомнения, что это был за вопрос. Хрущев назначил заседание Президиума ЦК КПСС на поздний вечер. Как обычно, это было в Кремле, в зале, который находился через две комнаты от кабинета председателя Совета министров СССР. Помимо членов президиума, в заседании участвовали кандидаты в члены Президиума и секретари ЦК, а также некоторые начальники из силовых ведомств. Поскольку Громыко все еще находился на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, МИД СССР временно возглавлял первый заместитель министра В. В. Кузнецов, который тоже присутствовал на заседании.
Примерно за час до того, как Кеннеди начал свое выступление, советник-посланник посольства США в Москве Ричард Дэвис передал в Министерство иностранных дел текст послания президента Хрущеву на английском языке. Работники МИДа продиктовали мне текст послания по телефону еще до того, как он был переведен, и я по своим заметкам изложил его участникам заседания. Несколько позже был получен текст самого выступления Кеннеди, которое я перевел уже с листа.
Помнится, что первое ознакомление Хрущева и других с содержанием выступления президента вызвало скорее облегчение, чем тревогу. Морская блокада Кубы, которую решило объявить американское руководство, поначалу была воспринята как нечто неопределенное.
Тем более что президент назвал блокаду карантином, а это создавало иллюзию еще большей неопределенности. Во всяком случае, речь как будто не шла об ультиматуме или прямой угрозе удара по Кубе. Хрущев даже воскликнул тогда: «Ну что ж, видимо, можно считать, что мы спасли Кубу!» Не ясно, на чем основывался этот преждевременный вывод. Более вдумчивый подход должен был подсказать, что обнаружение строительства ракетных баз еще до того, как ракеты были установлены, заряжены и нацелены, с самого начала ставило советско-кубинскую сторону в невыгодное положение.
При еще более дотошном анализе ситуации уже тогда можно было прийти к выводу, что советское руководство в конечном итоге будет вынуждено отказаться от размещения на Кубе ядерных ракет и дело сведется к тому, что именно удастся выторговать взамен. Конечно, легко судить задним числом. Тогда же на высочайшем нервном накале многие важные нюансы просто исчезали.
На заседании Президиума ЦК, уже практически ночью, Хрущев сформулировал основные положения ответа на выступление Кеннеди, которые должны были принять форму заявления советского правительства. МИДу поручили представить на следующий день окончательный вариант. Помнится, в конце заседания Хрущев рекомендовал участникам не разъезжаться по домам, а переночевать в своих кабинетах, чтобы у иностранных корреспондентов, которые, безусловно, следят за реакцией Москвы на выступление Кеннеди, не сложилось впечатление о ночных бдениях советских руководителей. Думаю, что эта рекомендация мало чего дала, так как у доброй половины участников заседания вообще не было кабинетов в Кремле. Сам Хрущев провел ту ночь на диване в небольшой комнате отдыха рядом со своим кабинетом. Я кое-как поспал на сдвинутых креслах у себя в кабинете. Вечером следующего дня Хрущев с несколькими членами Президиума посетил Большой театр, давали «Бориса Годунова» с американским певцом в главной роли. Это тоже должно было продемонстрировать, что в Кремле все спокойно.
На следующий день послание Хрущева Кеннеди, подготовленное работниками МИДа на основе его надиктовки, было утверждено на заседании Президиума и передано в печать. Оно было составлено в весьма резких выражениях и начисто отвергало все требования американского президента.
Была также опубликована информация о том, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора маршал А. А. Гречко 23 октября созвал представителей армий-участниц пакта и дал указание провести ряд мер по повышению боевой готовности войск, входящих в состав Объединенных вооруженных сил. Можно себе представить, какую реакцию все это вызвало у руководителей и общественности соответствующих государств, когда они задним числом узнали, что их страны без согласования с ними оказались втянутыми в конфликтную ситуацию, грозившую ни больше ни меньше как ядерной войной. Впрочем, в те времена подобные экспромты Большого брата не выглядели чем-то экстраординарным.
В последующие дни продолжался почти ежедневный обмен посланиями между Хрущевым и Кеннеди. Причем восьмичасовая разница во времени создавала определенные удобства для обеих сторон: пока в Москве спали, в Вашингтоне сочиняли очередное послание, и наоборот. Основой для большинства посланий служили задиктовки Хрущева. Он диктовал их стенографистке прямо на заседании президиума ЦК или в присутствии своих помощников, а иногда и кое-кого из работников ЦК или МИДа. Бывало, что присутствовали также главные редакторы «Правды» и «Известий» Павел Сатюков и Алексей Аджубей.
После соответствующей обработки тексты утверждались на заседании или путем рассылки членам президиума. Как правило, если какие-то поправки и предлагались, то они были минимальными. Эти надиктовки, достаточно точно передававшие мысль автора, были весьма сырыми по форме и потому требовали серьезной обработки. Впрочем, те, кто над ними обычно работал, набили себе руку настолько, что я не помню ни одного случая, когда Никита Сергеевич остался бы недоволен конечным результатом.
В течение той тревожной недели обстановка постепенно все больше накалялась. И несмотря на сохранявшийся резкий тон наших посланий, стало все более явно проявляться стремление Хрущева найти какой-то выход из создавшегося положения.
Запомнился его разговор с Кузнецовым, который выдвинул, правда в осторожной форме, предложение противопоставить американскому нажиму на СССР на кубинском направлении давление на Западный Берлин. Хотя Кузнецов и не уточнял, какой вид давления он имеет в виду, тем не менее это вызвало резкую, я бы даже сказал, бурную реакцию Хрущева. Он в повышенных тонах заявил, что обойдется без такого рода советов: «Мы только начинаем выпутываться из одной авантюры, а вы предлагаете нам влезть в другую».
Важный момент наступил в среду 24 октября. Советские суда, подошедшие к линии «карантина» и оказавшиеся перед лицом военных кораблей США, остановились по приказу из Москвы, а часть из них даже повернула обратно. Это воспринималось как сигнал, что Советский Союз не намерен идти на конфронтацию с Соединенными Штатами. К тому же нельзя было допустить, чтобы военная техника, которая находилась на некоторых судах, попала в руки американцев.
Несколько изменилось и содержание посланий Хрущева Кеннеди. В них все отчетливее проскальзывали намеки на возможность политического выхода из создавшегося положения. В послании от 26 октября говорилось, что если правительство США заявит, что оно не станет нападать на Кубу и будет удерживать других от таких действий, а американский флот снимет блокаду, то это изменит ситуацию. В таких условиях Советский Союз, со своей стороны, будет готов дать заверение, что советские суда не будут доставлять на Кубу какое-либо оружие. В послании было также сказано, что в этом случае отпадет необходимость пребывания советских военных специалистов на Кубе.
Хотя в Белом доме это предложение было воспринято как недостаточное, поскольку оно прямо не предусматривало вывод советских ракет с Кубы, по мнению Кеннеди и его окружения, оно открывало возможность для серьезного разговора о политическом урегулировании: кризиса.
Между тем не успели американцы сформулировать свой ответ, как в субботу 27 октября московское радио передало новое послание Хрущева, в котором его предыдущие соображения о путях выхода из кризиса были, с одной стороны, конкретизированы, а с другой – в них был включен новый элемент – упоминание о базах США в Турции. Было заявлено, что Советский Союз готов вывести свои ракеты с Кубы (точнее говоря, было сказано о выводе «того оружия, которое Вы рассматриваете как наступательное»), а Соединенные Штаты заявят о выводе аналогичного оружия из Турции. Причем и то и другое должно осуществляться под контролем представителей ООН. Со своей стороны, США и СССР дадут обязательство о ненападении соответственно на Кубу и Турцию.
В Белом доме это новое послание восприняли с большим раздражением, американское руководство к тому времени уже решило для себя, что следует убрать ракеты «Юпитер» из Турции ввиду их устарелости. Тем не менее оно считало неприемлемым публично вести переговоры с Советским Союзом по вопросу, затрагивающему интересы своего союзника.
Неожиданное появление второго послания Хрущева объяснялось рядом причин. Советское руководство понимало, что его предложение от 26 октября не удовлетворит Соединенные Штаты, оно и было выдвинуто в расчете на дальнейший торг. Однако сгущавшаяся обстановка не оставляла времени для дальнейшего торга, надо было срочно выдвигать предложение, приемлемое для американцев, – вывод ракет в обмен на обязательство не нападать на Кубу.
Вместе с тем достигнутая договоренность выглядела бы менее болезненно для Советского Союза, если бы в нее был включен пункт о выводе американских ракет из Турции, а из американских источников поступали сигналы о возможности договориться на такой основе. Среди прочих эту идею высказал известный комментатор Уолтер Липпман в статье, опубликованной 25 октября. С учетом всего этого и было решено направить в Вашингтон еще одно послание, а для быстроты – сразу передать его по радио. Но при этом никому не пришло в голову, что придание гласности турецкого аспекта сделки создаст дополнительные трудности для Белого дома.
К субботе, 27 октября, напряжение в обеих столицах приблизилось к точке взрыва. «Напряжение стало невыносимым», – вспоминала впоследствии Эвелин Линкольн, секретарь Кеннеди. Из нашего посольства в Вашингтоне, со ссылками на высказывания американских корреспондентов и даже на бармена пресс-клуба, стали поступать сообщения о том, что Кеннеди якобы уже принял принципиальное решение о прямом вторжении на Кубу.
Вдобавок ко всему в этот же день, 27 октября, над Кубой был сбит американский разведывательный самолет У-2. Хрущева не на шутку встревожило сообщение о том, что зенитную ракету выпустили по приказу советского командира среднего ранга. Он, да и все мы особенно остро осознали, что в создавшейся ситуации, когда нервы натянуты до предела, одна искра может вызвать взрыв.
Сбитым самолетом этот день не кончился. В начале ночи поступила телеграмма от нашего посла в Гаване с текстом послания Фиделя Кастро советскому лидеру. Телеграмму эту получил я, так как последние ночи проводил в здании ЦК рядом с кабинетом генерального секретаря ЦК, куда все сообщения поступали в первую очередь. Я позвонил Хрущеву домой и зачитал текст послания. Он несколько раз останавливал меня и просил повторить некоторые места. Хрущева больше всего встревожила уверенность Кастро в том, что в ближайшие трое суток американцы нанесут по Кубе удар с воздуха или решатся на прямое вторжение, что кубинский лидер считал менее вероятным.
На следующее утро, в воскресенье 28 октября, было назначено заседание Президиума ЦК КПСС, которое состоялось под Москвой, в государственном особняке в Ново-Огареве. Помимо членов и кандидатов в члены Президиума и секретарей ЦК присутствовали Громыко, кажется, Смирновский, который тогда ведал отделом США в МИДе, министр обороны маршал Малиновский, секретарь Совета обороны генерал армии Иванов и еще кто-то из военных.
Участники совещания с самого начала находились в состоянии достаточно высокой наэлектризованности. Высказывался практически один Хрущев, отдельные реплики подавали Микоян и Громыко. Другие предпочитали помалкивать, как бы давая понять: сам нас втянул в эту историю, сам теперь и расхлебывай.
К началу заседания пришло новое послание от Кеннеди, в котором предлагалось решение на следующей основе: СССР вывозит с Кубы все виды оружия, «которые могут быть использованы в наступательных целях», в ответ президент отменит карантин и даст обязательство не нападать на остров. Далее говорилось о готовности обсудить возможность разрядки между НАТО и Варшавским пактом. Это было воспринято как намек на вывоз американских ракет из Турции, поскольку незадолго до того брат президента Роберт Кеннеди в беседе с послом Добрыниным дал понять, что это можно будет сделать через несколько месяцев, но в отрыве от Кубинского кризиса. Другими словами, это не должно было выглядеть как часть общей сделки.
Во время заседания меня вызвали к телефону, звонил старший помощник министра иностранных дел Владимир Суслов, который сказал, что пришла шифровка от Добрынина о новой беседе с Робертом Кеннеди. Суслов продиктовал мне ее содержание по телефону. Хотя слова младшего Кеннеди нельзя было назвать ультиматумом в прямом смысле, тем не менее он четко давал понять, что правительство США полно решимости избавиться от ракетных баз – вплоть до нанесения по ним бомбового удара. Президент, по его словам, дольше ждать не может. Было также сказано, что промедление с поиском выхода чревато большим риском. В Вашингтоне много неразумных голов среди генералов, да и не только среди них, которые рвутся в бой. Ситуация может выйти из-под контроля. А потому, по словам Роберта Кеннеди, президент просит прекратить словесную дискуссию и дать ясный ответ в течение завтрашнего дня. И хотя в заключение он заявил, что это именно просьба, а не какой-то ультимативный срок, тем не менее весь тон высказываний брата президента в передаче Добрынина наводил на мысль, что «час расплаты» наступил.
Я вернулся в зал заседания и по своим заметкам зачитал сообщение Добрынина. Меня попросили повторить его еще раз. После чего собравшиеся довольно быстро пришли к согласию о том, что условия президента Кеннеди следует принять. В конечном счете и мы, и Куба получают то, к чему мы стремились, – гарантию ненападения на остров.
В этот момент к телефону неожиданно вызвали секретаря Совета обороны СССР генерала Иванова, полного и несколько неповоротливого человека. Вернувшись, он попросил слова и заявил, что получено срочное сообщение из США: там объявлено, что в 17:00 по московскому времени состоится новое выступление президента Кеннеди. Уже потом выяснилось, что речь шла о повторной передаче выступления президента от 22 октября. Но это было потом, а в тот момент участники заседания поверили в худшее, решили, что Кеннеди объявит о нападении на Кубу или – что выглядело более вероятным – о бомбовом ударе по ракетным установкам. Тут же постановили срочно составить ответное послание в Вашингтон с согласием принять последнее предложение американского президента и передать его по радио еще до предполагаемого выступления Кеннеди и, таким образом, предотвратить его возможные действия.
Хрущев, как обычно, надиктовал основную часть послания. Я не помню сейчас, кто отшлифовывал его или, как мы тогда говорили, доводил до кондиции. Скорее всего, это были работники МИДа. Время поджимало. Утвержденное послание вручили Леониду Ильичеву, секретарю ЦК по идеологии, под началом которого находились все средства массовой информации. Ему было поручено лично доставить текст послания в Радиокомитет и обеспечить передачу его не позже пяти часов вечера.
Ильичев рассказывал, что он мчался на полной скорости, нарушая все правила уличного движения и рискуя сломать себе шею, не достигнув цели. Но все обошлось: в 17:00 по московскому времени или в 9:00 по вашингтонскому диктор московского радио начал читать текст послания Хрущева Кеннеди.
Незадолго до этого была составлена и отправлена телеграмма Добрынину с указанием немедленно сообщить Роберту Кеннеди, что соображения, которые он высказал по поручению президента, находят понимание в Москве. И что по радио будет дан положительный ответ на послание от 27 октября. Было подчеркнуто, что главное условие, которое беспокоит президента, – демонтаж ракетных баз, – не встречает возражений.
В Белом доме достигнутая договоренность была воспринята как крупная победа. И не без оснований. Рассказывают, будто в этот день, 28 октября, Джон Кеннеди вспомнил, что президент Линкольн был убит в театре вскоре после крупнейшей победы в его жизни. И сказал своему брату: «Сегодня вечером мне бы тоже следовало пойти в театр». Высказывая эту мрачную шутку, он, конечно, не предполагал, что для него роковой день наступит год спустя.
О Кубинском кризисе мы вспоминали на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Хрущева, которая была организована в Соединенных Штатах в декабре 1994 года. Об интересной детали того времени нам поведал бывший помощник Кеннеди по вопросам печати и информации Пьер Сэлинджер. Он рассказал, что по окончании кризиса его вызвал президент и поручил связаться с главными редакторами основных американских газет с тем, чтобы порекомендовать им изображать происшедшее не как победу США, а как выход из кризисной ситуации в результате усилий обеих сторон. Безусловно, это было проявлением государственной мудрости. Однако в Америке даже рекомендации президентов не являются указом для руководителей газет и телевидения. И в этом случае американские средства массовой информации дали собственную интерпретацию исходу кризиса, изобразив его как безусловную победу Соединенных Штатов. И пожалуй, это было близко к истине.
В Советском Союзе тревожные настроения из-за угрозы ядерной войны не достигли таких масштабов, как в США, просто потому, что наша общественность была в меньшей степени посвящена в курс событий. Что же касается информированных людей, то у них было такое чувство, будто гора свалилась с плеч.
В течение той судьбоносной недели с 22 по 28 октября 1962 года я потерял свыше двух килограммов веса. Когда я сказал об этом жене, она порекомендовала: «Если можно, то в следующий раз найди более безопасные способы худения».
Спешка, с которой было составлено и опубликовано послание Хрущева Кеннеди от 28 октября, имела ряд отрицательных последствий. Главное из них то, что решение эвакуировать ракеты и ликвидировать ракетные базы не было предварительно согласовано с кубинским руководством. Из-за недостатка времени пришлось ограничиться кратким посланием, отправленным Фиделю Кастро в тот же день – 28 октября, но, увы, уже после ответа Вашингтону.
Надо ли говорить, что кубинцы были глубоко оскорблены, и их можно было понять: вопросы, касавшиеся их суверенных прав, решались между Москвой и Вашингтоном без их ведома. Чтобы сгладить конфликт, в Гавану был направлен Микоян. Я присутствовал на заседании Президиума ЦК, когда Микоян вернулся и докладывал о результатах поездки. Хрущев тогда дал самую высокую оценку его дипломатическим способностям. То, что было сделано, чтобы восстановить доверие между двумя странами, сказал он, мог сделать только Анастас Иванович. И это можно назвать подвигом, поскольку во время пребывания Микояна в Гаване умерла его любимая жена Ашхен, к которой он был искренне привязан. Для него стоило больших усилий решить, как быть – возвращаться в Москву на похороны или остаться на Кубе, чтобы завершить возложенную на него миссию. Из чувства долга он избрал последнее. Так или иначе, весь этот эпизод переговоров с Соединенными Штатами через голову кубинцев оставил горький осадок.
Еще один серьезный просчет заключался в том, что в своих посланиях, как я уже говорил, Кеннеди все время вел речь о «наступательном оружии», не называя конкретно ракет с ядерными боеголовками, и потому, когда Хрущев в своем послании от 28 октября заявил о готовности вывести из Кубы «оружие, которое вы характеризуете как наступательное», американцы начали требовать вывода не только ракет, но и некоторой другой военной техники. Серьезные споры возникли вокруг бомбардировщиков Ил-28, которые в конечном итоге также пришлось эвакуировать.
Разумеется, в этих заметках описано то, что, на мой взгляд, было самым существенным во время Карибского кризиса. Я обошел стороной некоторые побочные, хотя и важные моменты, такие, например, как роль генерального секретаря ООН У Тана, и другие.
Хочу только добавить еще вот что: на круглом столе по Кубинскому кризису, проведенном в Москве в 1989 году, Громыко утверждал, что во время кризиса прямой угрозы термоядерной войны не было, что Хрущев заранее взвесил все позитивные и негативные варианты и оценил их правильно. С этим не могу согласиться. Во-первых, даже если исходить из того, что ни советское, ни американское правительства не хотели ядерной войны, даже в этом случае они могли оказаться втянутыми в нее помимо собственной воли из-за какой-нибудь случайности или несчастного случая. А эпизод со сбитым над Кубой самолетом У-2 подтверждает, что непредвиденные обстоятельства могли возникнуть. Во-вторых, Хрущев никак не мог предусмотреть все возможные варианты. Начать с того, что он даже недооценил масштабы американской ответной реакции на размещение ракет. А что, если бы в ответ Кеннеди не объявил «карантин», а сразу приказал нанести бомбовый удар по ракетным базам на территории Кубы? Мог ли в этом случае Советский Союз ограничиться словесными протестами? Думаю, что вряд ли. Даже при том, в общем, благополучном исходе, благодаря которому мы вышли из кризиса не с пустыми руками, даже в этом случае Хрущев впоследствии подвергся критике если не публично, то закулисно, за «капитуляцию перед империалистами».
Важнее другое: когда колесо закрутилось и в воздухе запахло порохом, оба лидера проявили мудрость и выдержку. Они не стремились загнать противника в угол, наоборот, оставляли друг другу пусть узкий, но все же выход из положения. В конечном итоге, если попытаться вынести за скобки огромный риск, с которым все это было связано, то получится, что результат для советско-кубинской стороны был не таким уж плохим. От США было получено обязательство не нападать на Кубу. И это обязательство, несмотря на многочисленные попытки свергнуть режим Кастро путем различных диверсий экономического нажима, все же остается в силе по сей день.
И в заключение хочу добавить, что Кубинский кризис имел огромное воспитательное значение для обеих сторон и обоих лидеров. Он, пожалуй, впервые дал почувствовать не в теории и не в ходе пропагандистской полемики, а на практике, что угроза ядерной войны и ядерного уничтожения – это реальная вещь, а следовательно, надо всерьез, а не на словах искать пути к мирному сосуществованию.
Это в полной мере относится к Хрущеву. После этого кризиса его взгляд на мир, на отношения с западными странами заметно изменился. Отошла на задний план та задиристость, которая характеризовала его поведение во время Берлинского кризиса и истории с У-2. Свою роль сыграло и то, что Хрущев стал иными глазами смотреть на Кеннеди. Некоторый скептицизм в отношении волевых и интеллектуальных качеств американского президента, который он испытывал после встречи с ним в Вене в предыдущем году, полностью испарился.
Отрезок времени, оставшийся до убийства Кеннеди и смещения Хрущева, был отмечен ощутимым продвижением вперед в советско-американских отношениях. 10 июня 1963 года Кеннеди произнес свою известную речь в Американском университете в Вашингтоне. Многие считают, что это была лучшая речь за всю его политическую карьеру. Президент говорил о катастрофических последствиях ядерной войны, о необходимости пересмотреть отношение США к Советскому Союзу, который пострадал от войны больше какого-либо другого государства. Он подчеркивал большие достижения СССР в различных областях искусства и человеческих знаний. В речи содержался четкий призыв к поиску путей прекращения холодной войны. Это выступление произвело большое впечатление в нашей стране. В секретариат Хрущева обратились некоторые ученые, работники Министерства иностранных дел, журналисты. Лейтмотив этих обращений был примерно один и тот же: надо, чтобы Никита Сергеевич поддержал новую тональность, прежде отсутствовавшую в выступлениях президентов США. Со своей стороны, мы, работники секретариата Хрущева, тоже обратили внимание своего шефа на конструктивный характер выступления Кеннеди. Впрочем, Хрущев и сам достаточно хорошо это понимал.
В последующий период Восток и Запад предприняли ряд шагов навстречу друг другу. 20 июня в Женеве было подписано соглашение об установлении специальной радиотелефонной связи между Кремлем и Белым домом. 5 августа впервые после многих лет холодной войны в Москве было заключено важное соглашение о прекращении ядерных испытаний в трех сферах, положившее начало процессу торможения гонки вооружений. Имели место и некоторые другие, пусть символические, но все же заметные политические шаги, которые тоже вели к некоторому улучшению атмосферы. К ним относится и публикация в «Известиях» полного текста интервью главного редактора Алексея Аджубея с Кеннеди. Некоторые у нас ворчали по поводу того, что аргументация президента выглядела более убедительно, чем доводы главного редактора. Но мне казалось, что если уж газета (а в данном случае, разумеется, было принято соответствующее решение ЦК) идет на такой шаг, как интервью с главой государства, то надо дать последнему возможность высказаться в полном объеме.
И хотя еще долго оставались неурегулированными крупнейшие послевоенные проблемы, прежде всего германская, в отношениях между руководителями Советского Союза и Соединенных Штатов появились и постепенно стали набирать силу ростки доверия. Создавалось впечатление, что приоткрылось окно в будущее. К сожалению, оно вскоре захлопнулось в результате последующих драматических событий.
Смена лидеров
В Соединенных Штатах говорят, что каждый американец хорошо помнит, где он находился, когда его настигла весть об убийстве Кеннеди. Думаю, что это можно сказать и о многих русских. Я, во всяком случае, хорошо помню, что в тот день, 22 ноября 1963 года, я до позднего часа задержался на работе и узнал о случившемся, находясь в своем кабинете в Кремле. Некоторые авторы утверждают, что Хрущев был в этот момент в Киеве и, изменив свои планы, срочно отправился ночным поездом в Москву, чтобы быть в столице на случай, если смерть американского президента вызовет какие-нибудь непредсказуемые политические последствия. На самом деле он находился у себя на даче под Москвой, и ему стало известно о выстрелах в Далласе из звонка Громыко.
При этом произошло небольшое недоразумение. Министру было поручено перепроверить через посла правильность сообщений о смерти Кеннеди. Громыко решил, что речь идет о нашем после в Вашингтоне, и направил туда запрос. Хрущев же имел в виду посла США в Москве и примерно через час поинтересовался результатами запроса. Только тогда недоразумение прояснилось, но к тому времени по другим каналам поступили подтверждения о покушении на президента.
На следующее утро министр иностранных дел и один из его заместителей, Семенов, прибыли в Кремль с проектами соболезнований от Хрущева, адресованных новому президенту Линдону Джонсону и вдове Жаклин Кеннеди. Все мы ждали в приемной приезда Никиты Сергеевича. Нам сообщили, что он решил заехать к врачу. Тем временем продолжали поступать сообщения информационных агентств о реакции на убийство в Соединенных Штатах в других странах, об обстоятельствах ареста Ли Харви Освальда, подозреваемого в убийстве, и, наконец, информация, что Освальд пару лет прожил в Минске и что у него русская жена. От этого последнего сообщения у меня пошли мурашки по телу. Было видно, что и Громыко, который умел хорошо скрывать свои эмоции даже в экстремальных ситуациях, не мог оставаться бесстрастным. Конечно, невозможно было представить себе какое-либо даже отдаленное участие советских спецслужб в покушении на президента США. Но нельзя было исключить, что пребывание Освальда в Советском Союзе будет использовано в провокационных целях против интересов Советского Союза.
Чтобы подготовиться к возможным вопросам Хрущева, я позвонил председателю КГБ Владимиру Семичастному и поинтересовался, какими сведениями его ведомство располагает об Освальде. Казалось, что Семичастный ожидал этот вопрос. Он сразу же ответил, что читал сообщения об аресте Освальда и уже дал поручение собрать о нем сведения. Вскоре он позвонил мне и заявил, что, по имеющейся у него информации, КГБ никогда не имел никаких контактов с Освальдом. На всякий случай я сказал, что эта информация нужна не для моего личного сведения, а для доклада Никите Сергеевичу, и выразил надежду, что Семичастный тоже это понимает. Он ответил, что это само собой разумеется.
Вскоре приехал Хрущев, который выглядел уставшим и несколько взволнованным. Один из его первых вопросов, естественно, касался Освальда и его возможной роли в убийстве президента. Я доложил то, что мне было известно, и это, как показалось, несколько успокоило его. Потом были утверждены тексты соболезнований и определено время, когда Хрущев и Громыко посетят посольство США, чтобы сделать запись в траурной книге. Несколько больше времени занял вопрос о том, кого направить в Вашингтон на похороны. Упоминался и вариант о поездке туда Хрущева. Однако решили, что более подходящим будет участие в прощальной церемонии Анастаса Ивановича Микояна, который в то время был председателем Президиума Верховного Совета СССР и, следовательно, формально считался главой государства.
Последнюю точку в истории взаимоотношений между Хрущевым и Кеннеди поставила вдова президента. Через несколько дней после похорон от нее пришло письмо на имя советского руководителя, где говорилось, что в одну из последних ночей, которые она проводит в Белом доме, и в одном из последних писем, которые она пишет там, она обращается к Никите Хрущеву, потому что знает, как много ее муж думал о сохранении мира и как высоко ценил он отношения с советским руководителем. Далее в письме говорилось: «В некоторых своих выступлениях он повторял Ваши слова: «После следующей войны те, кто останутся в живых, будут завидовать погибшим». Вы и он были противниками, но вы были и союзниками в решимости не допустить взрыва, который уничтожит весь мир. Вы уважали друг друга и могли сотрудничать друг с другом».
Заканчивалось письмо следующими словами: «Я посылаю это письмо, потому что мне хорошо известно, какое большое значение имели отношения, существовавшие между Вами и моим мужем, а также потому, что Вы и госпожа Хрущева были так добры ко мне в Вене. Я читала, что у нее были слезы на глазах, когда она выходила из американского посольства в Москве после подписания траурной книги. Пожалуйста, поблагодарите ее за это».
На пост президента США вступил Линдон Джонсон. Недолго осталось руководить своей страной и Никите Сергеевичу, хотя заметных признаков близкой его отставки не наблюдалось. Не могу сказать, что у меня были какие-либо предчувствия приближающегося конфликта в руководстве страны. Скорее наоборот. Семидесятилетие Хрущева в апреле 1964 года прошло в торжественной обстановке в Георгиевском зале Кремля. Вечер вел Анастас Иванович Микоян. Один тост сменялся другим, произносились хвалебные речи, лился поток приторных слов. Казалось, что звезда советского лидера находится в зените. И все же при более тщательном анализе ситуации можно было обнаружить признаки заморозков, предвещавших конец эпохи оттепели, как ее метко назвал Илья Эренбург.
В то время в Советском Союзе не проводились ставшие ныне модными опросы общественного мнения. Но не требовалось большой прозорливости, чтобы определить падение рейтинга Хрущева, он явно пошел вниз после взлета во второй половине 50-х годов. Общественная память имеет короткий срок. Довольно быстро люди стали забывать о тех многих хороших делах, которые были совершены в начальный период пребывания Никиты Сергеевича у власти: разоблачение культа личности Сталина и реабилитация сотен тысяч жертв репрессий сталинской эпохи; повышение жизненного уровня населения; попытки, хотя и не очень успешные, улучшить состояние дел в сельском хозяйстве; создание первой настоящей пенсионной системы; отмена закона, запрещавшего рабочим по своей воле менять место работы; право крестьян иметь паспорта и немало других полезных начинаний. К 1964 году, однако, Хрущев успел испортить свои отношения с целыми пластами населения. Крестьяне были возмущены наступлением на их приусадебные участки, которые позволяли им пополнять те скупые заработки, которые они получали в колхозах и совхозах. Городские жители жаловались на перебои в снабжении магазинов и на повышение цен, хотя оно и было весьма незначительным, не идущим ни в какое сравнение с тем, что произошло в 90-х годах.
С интеллигенцией, особенно с творческой, Хрущев испортил отношения в результате своих некомпетентных нападок на многих ее представителей. Я присутствовал на его встрече с молодыми художниками в Манеже и могу засвидетельствовать, что это было весьма неприятное зрелище. Говорят, что тот показ работ молодых советских авангардистов был специально подстроен, чтобы вызвать гнев Хрущева. Скорее всего, так и было. Но это не снимает с него вины за вмешательство в творческую сферу, где он мало что понимал, и особенно за безобразные по форме нападки, оскорбляющие человеческое достоинство молодых художников. Помнится, что почти все они пребывали в состоянии полной растерянности и только Эрнст Неизвестный пытался как-то парировать его наскоки.
Недовольство Хрущевым стали проявлять и представители самой номенклатуры. Особенно им пришлось не по душе его стремление ограничить пребывание ответственных партийных работников на своих постах определенным сроком. Хрущев нутром своим чувствовал необходимость преодоления усиливавшегося застоя, но, вероятно, его политический потенциал был на исходе. Будучи реалистом, он это понимал. Как-то он сказал мне: «Все-таки я во многом остаюсь человеком прошлого». Говорил он не раз и о том, что ему пора уходить, что он не справляется с множеством навалившихся на него проблем. Я верю Микояну, который рассказал, что, когда они летели, прервав отпуск, из Пицунды в Москву по звонку Брежнева, он сказал Хрущеву: «Дело не в каких-то срочных хозяйственных вопросах – они хотят тебя снимать». На это последовал ответ: «Ну что же, я не буду сопротивляться».
Честно говоря, я никак не предполагал, что вскоре лишусь своего шефа. Мы так привыкли, что наши руководители, я имею в виду самых высоких, могли уйти с политической сцены только в мир иной, но уж никак не подвергнуться – еще одно модное ныне словечко – импичменту. А Хрущев пребывал в приличном состоянии здоровья. И потому я не принимал всерьез различных намеков на этот счет. А они были. Уже задним числом я вспомнил о нескольких звонках Юрия Андропова, который, зная о моих хороших отношениях с Хрущевым, советовал мне подсказать Никите Сергеевичу, что он должен дать возможность «выговориться» другим. Намек на авторитарное поведение генерального секретаря был очевиден, и оно действительно к этому времени стало проявляться довольно сильно.
…Прилетев из Пицунды, Хрущев с Микояном сразу отправились на заседание Президиума ЦК. Но даже когда во время перерыва стало очевидным, что речь идет об отставке Хрущева, первой моей мыслью было то, что такой вариант вряд ли возможен: уж если в 1957 году Хрущев смог одолеть таких китов, как Молотов, Маленков и Каганович, то что ему стоит взять верх над новоявленными противниками, у которых, как казалось, и труба была ниже, и дым – пожиже. Но вскоре из зала заседания стали проникать слухи, говорящие о том, что игра фактически шла в одни ворота, только Микоян в какой-то мере защищал Хрущева, другие же единодушно нападали на него.
Когда заседание кончилось, Никита Сергеевич сразу вернулся в свой кабинет и через несколько минут вызвал меня. Когда я зашел в кабинет, то увидел его сидящим за длинным столом, за которым он обычно работал и принимал людей. Меня поразил его усталый, подавленный вид. Первыми его словами были: «Моя политическая карьера закончилась, теперь главное – с достоинством пройти через все это». Я спросил: «Никита Сергеевич, а вы не думаете, что на Пленуме ЦК обстановка может измениться в вашу пользу, как это произошло в 1957 году?». Он быстро ответил: «Нет, нет, это исключено. К тому же вы ведь знаете, что я не цеплялся за это кресло». И потом как-то неожиданно для меня сказал: «Когда-то Каганович советовал мне каждую неделю встречаться с двумя-тремя секретарями обкомов и крайкомов. Я этого не делал, и, видимо, в этом одна из моих ошибок». Потом я его спросил: «А как вы расстались, по-доброму ли?» И про себя невольно подумал о собственном будущем, о том, как отнесутся ко мне новые руководители. Никита Сергеевич немного задумался и потом ответил: «Да, пожалуй, по-доброму, во всяком случае, я считаю это моим достижением, что все прошло более или менее цивилизованно». Потом, по-видимому, почувствовав подоплеку моего вопроса, он добавил: «Что касается вас, то мне трудно сказать, как сложатся ваши дела. Скорее всего, вы вернетесь обратно в МИД». Затем мы обнялись и на этом расстались.
В последний раз я видел Никиту Сергеевича в Кремле перед Пленумом ЦК. Он ходил быстрыми шагами по маленькому скверу перед зданием Совета министров… Без шапки, хотя погода была по-октябрьски прохладная.
Сейчас смещение Хрущева нередко воспринимают как результат заговора или даже переворота. Я не могу согласиться с этим. По сути дела, не было совершено ничего противозаконного. Я бы пошел еще дальше и сравнил смещение Хрущева со смещением Маргарет Тэтчер в Великобритании. Там, точь-в-точь как у нас, наиболее влиятельные деятели консервативной партии собрались и пришли к выводу, что сохранение Тэтчер на посту премьер-министра более не отвечает интересам консервативной партии и страны в целом. Тэтчер предъявили своего рода ультиматум, после чего она вынуждена была уйти в отставку. Между тем в Великобритании никто всерьез не называет историю со смещением Маргарет Тэтчер заговором или переворотом.
После октябрьского Пленума ЦК КПСС я оказался как бы подвешенным в безвоздушном пространстве, хотя это длилось всего несколько дней. Сначала мне звонили некоторые коллеги из Министерства иностранных дел, советуя обратиться к Громыко с просьбой о возвращении в МИД. Но я решил выждать и посмотреть, что будет дальше. Примерно на третий день мне позвонил Андропов и сказал, что в ходе заседания Президиума ЦК возник вопрос о дальнейшем использовании помощников Хрущева. «К вам, – сказал он, – отношение самое положительное. В ходе обсуждения я, в частности, напомнил, что первый человек, от которого я услышал, что размещение ракет на Кубе – это авантюра, были вы. Что касается вашего будущего, то, как я понимаю, Алексей Николаевич Косыгин хотел бы, чтобы вы согласились стать помощником у него. Видимо, он с вами свяжется сам».
Был еще звонок от Андрея Александрова-Агентова, помощника Брежнева по внешнеполитическим делам и моего старого хорошего знакомого еще по МИДу. Он сказал, что Леонид Ильич поручил передать мне, что если я беспокоюсь за свое будущее, то для такого беспокойства нет оснований, так как меня, по его словам, ценят и уважают.
После этого прошло несколько дней, а от Косыгина никаких сигналов не поступало. Я позвонил Андропову и поинтересовался, не произошли ли какие-нибудь изменения в намерениях Косыгина. Юрий Владимирович ответил, что если это так, то он готов предложить мне должность консультанта в ЦК, в его отделе по связям с социалистическими странами. Эта должность была для меня, пожалуй, более привлекательна, так как работа в секретариатах к тому времени мне порядком надоела. Однако, когда на следующий день меня пригласил к себе Косыгин и предложил работать у него, я согласился.
К тому времени я был достаточно хорошо знаком с Алексеем Николаевичем. Он был первым заместителем председателя Совета министров СССР, другими словами, правой рукой Хрущева. Фактически он и руководил всей повседневной работой правительственного аппарата, так как Никита Сергеевич занимался только наиболее важными вопросами экономики, а более всего – проблемами сельского хозяйства. Алексей Николаевич был человеком большого государственного опыта, он прошел почти все ступени советской иерархической лестницы. Вероятно, не было другого советского деятеля, который занимал бы так много высоких постов – нарком текстильной промышленности, министр финансов, министр легкой промышленности, министр легкой и пищевой промышленности, министр товаров широкого потребления, председатель Госплана, первый заместитель председателя Совета министров СССР, председатель Совета министров СССР в течение 16 лет – это дольше, чем кто-либо другой в истории СССР. Но главное даже не в количестве постов, хотя это, конечно, впечатляет. Главное то, что Косыгин знал экономику, как никто другой. А еще важнее то, что это был умный и интеллигентный человек. Хотя далеко не такой спокойный, как это выглядело внешне. За его сухим и даже флегматичным обликом таилась весьма эмоциональная натура, и, когда время от времени страсть вырывалась наружу, это напоминало небольшое извержение вулкана.
Была у него и определенная доля наивности. После отставки Хрущева он поверил, что на сей раз пришла пора настоящего коллективного руководства, когда на политической вершине все будут равны. И потому, как глава правительства, он сможет полностью проявить личную инициативу в решении важнейших для государства проблем.
Он с большим энтузиазмом взялся за экономическую реформу. Я не имел к этому прямого отношения, поэтому мог только со стороны наблюдать за развитием событий. Вначале эта работа набрала большие обороты, и дело стало быстро продвигаться вперед. Затем темп начал постепенно замедляться. Другие помощники, которые занимались экономическими делами, стали жаловаться на все большее вмешательство со стороны работников Центрального комитета партии. К комиссии Косыгина был подключен член политбюро Кириленко, человек, близкий Брежневу, который, очевидно, должен был выполнять роль наблюдателя и контролера. В конечном итоге результаты работы оказались весьма скромными. Во всяком случае, были далеки от того, на что первоначально рассчитывал Косыгин и в чем нуждалась экономика страны.
В первые годы правления новой команды Косыгин также развернул активную деятельность на внешнеполитическом поприще. Ему первоначально казалось, что именно глава правительства, а не Генеральный секретарь является тем лицом, которое должно представлять государство во внешнем мире… В тот период, примерно с 1964 по 1967 год, он был очень на виду за границей. Создавалось впечатление, что и иностранные государственные деятели стали воспринимать его как первое лицо в государстве, во всяком случае, в области внешней политики. Куда мы только ни ездили в те годы: в Китай, Вьетнам и КНДР в начале 1965 года, в Египет позднее в том же году; в начале 1966 года Косыгин организовал индо-пакистанскую встречу в Ташкенте, потом состоялись визиты во Францию и Турцию, а в начале 1967 года – в Великобританию. Он принимал участие в чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванной в связи с войной между Израилем и арабскими государствами, встречался с президентом Джонсоном в местечке Глассборо между Нью-Йорком и Вашингтоном. В этих двух последних мероприятиях я его уже не сопровождал, так как к тому времени был назначен послом в Японию.
Но и внешнеполитическая активность Косыгина стала постепенно затухать, а точнее, его стали все больше переключать на страны далеко не первостепенной важности. Как я понимаю, дело тут было в том, что на первые роли все больше выдвигался Брежнев, про коллективное руководство стали говорить все меньше, а потом и вовсе замолкли. А поскольку важнейшие международные вопросы всегда обсуждаются реальными первыми лицами государства, такие страны, как США, Франция, Великобритания, Западная Германия и Индия, стали компетенцией Брежнева, как, впрочем, и внешняя политика в целом. Естественно, что он был первым и при встречах с иностранными президентами и премьер-министрами, главенствовал на различных торжественных приемах, которые, кстати, любил.
Поначалу хорошие отношения между Брежневым и Косыгиным постепенно становились все более прохладными, а затем – и напряженными, о чем стали открыто говорить в высших партийных и правительственных кругах. Леониду Ильичу явно приходилось не по душе, когда председатель Совета министров открыто высказывал свое мнение, вступал с ним, генеральным секретарем, в споры.
Приведу один эпизод, свидетелем которого я был. В октябре 1973 года состоялся официальный визит в СССР премьер-министра Японии Какуэя Танаки. За несколько дней до визита Брежнев пригласил к себе для обсуждения вопросов, которые могли возникнуть, Громыко, своего помощника Александрова-Агентова и меня, бывшего уже в то время послом в Японии. Насколько помнится, дело было в субботу, так что нам никто не мешал. Однако часа через полтора Брежневу позвонил по прямому проводу наш посол в Египте Виноградов и сообщил, что президент Египта Садат начал военные действия против Израиля. Разумеется, это было чрезвычайное событие, которое заслонило подготовку к визиту Танаки. Брежнев и Громыко тут же начали обсуждать ближневосточный конфликт. Александров-Агентов временами что-то вставлял. Я при сем присутствовал. Разговор продолжался примерно в течение часа, пока не был прерван очередным телефонным звонком. Звонил Косыгин. В несколько повышенных тонах он высказывал свое недовольство тем, что ближневосточная проблема обсуждается «неизвестно с кем», а не с членами политбюро. Брежнев, не повышая голоса, ответил, что он как раз имел в виду созвать заседание политбюро, и предложил Косыгину зайти через полчаса. Потом сказал: «Нужно иметь канаты, а не нервы, чтобы спокойно воспринимать все это, – и, обращаясь ко мне, добавил: – Впрочем, ты ведь у него работал, знаешь, что это такое».
Мне представляется, что Брежнев с удовольствием избавился бы от Косыгина, как он это сделал с Подгорным, Шелепиным и некоторыми другими, кто по той или иной причине был ему неприятен. Однако популярность главы правительства в стране была велика, и Брежнев это знал. Косыгин оставался на посту председателя правительства вплоть до своей кончины в 1980 году.
Алексей Николаевич был мне симпатичен, и, по-моему, я довольно быстро вписался в его коллектив. Аппарат Косыгина был не намного больше хрущевского. Его возглавлял Горчаков, который много лет работал с Алексеем Николаевичем. Это был человек внушительного и несколько устрашающего вида, но добрый и порядочный по натуре. Когда через несколько лет он погиб в автомобильной катастрофе, Алексей Николаевич переживал эту потерю, как будто он потерял члена семьи. Когда я приехал в отпуск из Японии и как-то зашел к нему, он сказал: «Знаете, когда кто-то заходит в этот кабинет, мне до сих пор кажется, что это Горчаков».
Особенно близко мне пришлось сотрудничать с Юрием Фирсовым, человеком, прекрасно разбиравшимся в экономике и внешнеторговых делах. В то же время он часто подключался и к вопросам внешней политики, и здесь мы работали как слаженный дуэт.
Не стану подробно останавливаться на всех заграничных поездках с Алексеем Николаевичем или рассказывать о внешнеполитических перипетиях того периода. Тем более что он не был насыщен крупными международными событиями. Исключение, пожалуй, составляют попытки нового советского руководства наладить отношения с Китаем, но об этом я расскажу в одной из последующих глав. В целом Москва стремилась тогда, после бурь хрущевской эпохи, направить внешнеполитические события в более спокойное русло. Поэтому поведаю о нескольких наиболее интересных эпизодах моей работы с Косыгиным.
Прежде всего – о встрече в Ташкенте в начале 1966 года. Инициатива этой встречи, имевшей целью примирить Индию и Пакистан, принадлежала лично Косыгину. Он ее продвигал через политбюро не без труда. Некоторые члены этого руководящего органа сомневались в успехе подобного мероприятия. Оно и в самом деле было связано с определенным риском, учитывая глубокие разногласия, разделявшие обе эти страны. Косыгин все же настоял на своем, и мы отправились в Ташкент, куда одновременно прибыли премьер-министр Индии Шастри и президент Пакистана Айюб Хан вместе с министром иностранных дел Зулфикаром Бхутто.
Переговоры шли трудно. В какие-то моменты они были даже на грани срыва. Особенно непримиримую позицию, доходившую до абсурда, занимал Бхутто, хотя не исключаю, что такая роль ему была предписана самим Айюб Ханом. Однако Косыгин проявил большую настойчивость и дипломатическую гибкость. В конечном итоге удалось разработать совместный документ, который в основном удовлетворил обе стороны. В Ташкентской декларации главы правительств Индии и Пакистана выразили глубокую признательность руководителям Советского Союза и лично Косыгину за конструктивную, дружественную и благородную роль в организации встречи. Как вскоре выяснилось, декларация эта лишь несколько пригладила, но отнюдь не устранила глубокие противоречия, существовавшие (и до сих пор существующие) между двумя странами. Тем не менее ташкентская встреча подняла престиж Советского Союза. Она показала, что два таких больших и влиятельных государства готовы прибегнуть если не к арбитражу, то, во всяком случае, к посредничеству СССР в урегулировании вопросов, по сути дела касавшихся только их одних.
Самым драматическим этапом встречи в Ташкенте оказался его эпилог. После подписания заключительного документа состоялся большой банкет. Затем делегации разошлись по отведенным им резиденциям, чтобы утром на следующий день отправиться в свои столицы. Но потом произошло непредвиденное. Ночью меня разбудил кто-то из охраны Косыгина и сообщил, что час назад неожиданно скончался премьер-министр Шастри и что Алексей Николаевич просит срочно прийти к нему. Шастри был совсем небольшого роста и хрупкого телосложения, он производил впечатление нездорового человека. Но, разумеется, никто не думал, что он стоит на краю могилы.
Косыгин решил лететь на похороны в Дели. Это означало, что надо было подготовить еще одно выступление – на траурном митинге в столице Индии. Алексей Николаевич не без горечи шутил, что он становится специалистом по похоронам в Индии. До этого он представлял Советский Союз на похоронах Джавахарлала Неру. В Дели была одна любопытная встреча – с лордом Маунтбаттеном, бывшим вице-королем Индии в период, когда она добилась независимости. Он представлял на похоронах английскую королеву, родственником которой являлся. В беседе с Косыгиным лорд Маунтбаттен рассказывал, что побывал в России в детстве, еще до революции. Он с увлечением живописал, как в Петербурге играл с царскими детьми, и выражал желание снова поехать в нашу страну. Косыгин не без иронии отвечал, что хотя сам он родом из Петербурга, но с царскими детьми ему поиграть так и не довелось.
Интересен, мне кажется, и другой случай. Однажды (это было в конце 1966 года) Косыгин вызвал нас с Фирсовым и сказал, что хочет проверить на нас некоторые свои мысли. Он считает, что надо принимать какие-то меры, чтобы положить конец войне во Вьетнаме, которая отравляет всю международную обстановку, ставит преграды на пути развития отношений Советского Союза с США и другими западными странами. И сказал, что хочет поставить на политбюро вопрос о необходимости серьезно поговорить с вьетнамским руководством, чтобы подтолкнуть его к поиску примирения с американцами на приемлемых условиях.
Мы с Фирсовым в один голос сказали, что нам эта идея кажется сомнительной, поскольку на политбюро такие предложения почти наверняка положительного отклика не встретят. К тому же и решительно настроенные вьетнамцы вряд ли склонны принимать от нас подобные советы.
Алексей Николаевич был явно не удовлетворен нашими доводами. Почему не попробовать, сказал он. Даже при Сталине постоянно выдвигались те или иные идеи, которые подвергались творческому обсуждению и только после этого принимались или отвергались. Если же этого нет, то наступает застой мысли, а потом и дела.
Видимо, Косыгин не преувеличивал. Маршал Жуков, например, рассказывал в «Военно-историческом журнале», что он «имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым; порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения».
К согласию мы так и не пришли. Не знаю, решился ли Косыгин выступить со своей идеей на политбюро, но думаю, что он все же внял нашему совету и воздержался от этого. Однако эта идея вновь обрела жизнь, когда мы в начале 1967 года отправились с визитом в Лондон.
Премьер-министром Великобритании в то время был Гарольд Вильсон. С ним Косыгин познакомился еще в 40-х годах, когда тот приезжал в Москву в качестве министра торговли и вел переговоры о торговом соглашении. О нем в Москве уже тогда сложилось благоприятное мнение, как об энергичном и гибком политике. Хотя он и принадлежал к ненавистным социал-демократам, к тому же правого толка.
Теперь, в 60-х годах, лейбористское правительство изрядно тяготилось своей ролью пристяжной в американской упряжке. И не могло оставаться глухим к голосам рядовых лейбористов и членов тред-юнионов, требовавших заставить американцев прекратить войну во Вьетнаме. Поэтому я предполагаю, что Алексей Николаевич заручился-таки формальным либо неформальным согласием, чтобы попытаться вместе с Вильсоном найти формулу, приемлемую как для Ханоя, так и для Вашингтона, которая позволила бы им вступить в мирные переговоры.
Сразу же после нашего приезда в Лондон английский премьер действительно завел разговор на эту тему. Он не пытался скрыть своего удовлетворения, когда нашел в лице Косыгина партнера, готового искать выход из тупиковой ситуации. Дело было не из легких. Белый дом два или три раза давал согласие на формулировки, которые обоим премьер-министрам казались многообещающими, а затем отказывался от них и выдвигал более жесткие условия.
В последний раз это произошло накануне нашего отъезда из Лондона. В тот вечер Вильсон пригласил своего гостя и сопровождающих его лиц на обед в свою загородную резиденцию в Чекерсе. Было не совсем понятно, почему обед затянулся до позднего часа, а после обеда непомерно долгое время заняло согласование заключительного коммюнике. Англичане предлагали различные малозначительные поправки, которые не несли особой смысловой нагрузки. Как потом выяснилось, они ждали согласия Белого дома на последнюю формулировку по вьетнамскому вопросу, причем на мансарде у прямого провода с Вашингтоном сидел американский представитель, который должен был моментально передать Вильсону ответ президента Джонсона. Ответ пришел уже после нашего отъезда из Чекерса в Лондон, и Вильсону пришлось сообщить о нем советскому премьеру в его резиденции поздно ночью. Впрочем, все эти усилия оказались тщетными: ответ Вашингтона был еще более неприемлемым, чем предыдущие.
Вильсон не скрывал своего раздражения маневрами Белого дома, которые ставили его и Косыгина в неловкое положение, он относил это на счет ястребов в окружении Джонсона. Однажды в сердцах он сказал, что в сравнении с этими советниками президента Распутин выглядит как несправедливо оклеветанный деятель. Во время визита в Великобританию возник один досадный казус, который потом причинил Косыгину довольно серьезные неприятности. Неожиданно для всех нас, сопровождавших его, в том числе и заместителя министра иностранных дел Солдатова, Косыгин предложил Вильсону включить в заключительный документ ссылку на готовность сторон заключить пакт дружбы, ненападения и мирного развития. Вильсон, разумеется, уклонился от этого предложения, оно заведомо было неприемлемым для англичан, хотя бы в силу их членства в НАТО и особых отношений с США. После возвращения в Москву Косыгин подвергся за эту не согласованную с руководством инициативу критике на заседании политбюро.
В заключение этой главы хочу сказать, что, несмотря на некоторые просчеты Косыгина, я всегда был высокого мнения о нем как о государственном деятеле. Думаю даже, что если бы он, а не Брежнев стал первым человеком в государстве, то страна могла пойти не по пути застоя, а по пути реформ, причем реформ продуманных и хорошо обоснованных. С Алексеем Николаевичем работалось легко, ну и конечно же я признателен ему за то, что он предложил мне работать с ним.
Но шел 1966 год, и мне стукнуло 47 лет. Я начал опасаться, что еще немного – и превращусь в вечного чиновника секретариата. Поэтому, набравшись решимости, я завел с Косыгиным разговор о моем желании перейти на самостоятельную дипломатическую работу. С облегчением почувствовал в нем понимание и готовность оказать мне содействие в этом. Видимо, Алексей Николаевич переговорил с Громыко, а возможно, и с Брежневым, потому что через пару месяцев я получил от МИДа предложение поехать послом в Японию. Если честно, то я рассчитывал на менее значительную должность, поэтому был несколько удивлен такому предложению, но, разумеется, сразу согласился.
Итак, с женой и дочерью в апреле 1967 года мы отправились в Токио, где еще в детстве я провел пять с лишним лет. Начался новый этап в моей жизни.
Путь на восток
Хотя перед отъездом я побывал у Брежнева, Подгорного, Андропова и Громыко, никто из них никаких особых наставлений мне не давал. С Косыгиным я попрощался только по телефону, так как у него за несколько дней до моего отъезда скончалась жена, с которой они прожили долгую жизнь, и ему было не до напутствий.
Наиболее ценные советы я получил от моего предшественника Владимира Михайловича Виноградова, который, вернувшись из Токио, стал в качестве заместителя министра иностранных дел опекать советско-японские отношения. Его главный постулат заключался в том, что наши отношения с Японией еще не доросли до каких-либо крупных совместных политических шагов. Поэтому на данном этапе внимание посольства, как, разумеется, и торгпредства, должно быть сосредоточено на развитии торгово-экономических связей. А в этой области, по мнению Виноградова, перспективы были весьма благоприятные.
Вскоре после прибытия в Японию я убедился, что Владимир Михайлович был прав. В политической области наши возможности действительно были весьма ограничены. После войны Соединенные Штаты, которые упорно сопротивлялись включению, скажем, Польши в сферу интересов Советского Союза, превратили Японию если не в свою вотчину, то, во всяком случае, в страну, где их влияние было превалирующим. Они расположили здесь свои военные базы, в результате чего страна стала своего рода американским непотопляемым авианосцем. Они написали для японцев новую конституцию, стали их главным торговым партнером. Только в последние годы, особенно после окончания холодной войны, в японо-американских отношениях появились серьезные трещины.
К этому всему можно добавить, что советская дипломатия совершила в 1951 году крупную ошибку, покинув конференцию в Сан-Франциско и отказавшись подписать разработанный там мирный договор с Японией. Это впоследствии дало японцам дополнительные возможности претендовать на четыре острова Курильской гряды. А проблема этих островов, как я убедился вскоре после прибытия в Японию, висит как дамоклов меч над российско-японскими отношениями. Хотя во время пребывания в Токио меня нередко посещала мысль о том, что некоторые – и весьма влиятельные – японские политики больше заинтересованы не в урегулировании вопроса об островах, а в том, чтобы этот дамоклов меч оставался в подвешенном состоянии, очень уж им не по душе было улучшение отношений между нашими двумя странами.
После этого небольшого политического экскурса расскажу о своих первых впечатлениях от послевоенного Токио, столицы Японии, многострадального города, дважды возродившегося из пепла. Первый раз он был почти полностью уничтожен стихийным бедствием – грандиозным землетрясением 1923 года. Кстати говоря, мое первое воспоминание детства относится к сентябрю 1923 года. Мы сидим за обеденным столом, и отец говорит: «Какое страшное землетрясение произошло в Японии». Во второй раз Токио был практически сровнен с землей американскими бомбардировщиками во Вторую мировую войну. К 1967 году, когда я прибыл туда во второй раз уже в качестве посла, то нашел город практически возродившимся из руин. Это был огромный мегаполис, один из крупнейших в мире. Тут и там сталкивался с остатками старого города, каким я знал его в детстве.
Уцелело и здание посольства, построенное в начале 30-х годов в стиле, который тогда считался ультрасовременным, теперь оно выглядело устаревшим и потрепанным. Через шесть лет мы его разрушили и начали строить новый комплекс на той же территории.
Вскоре я убедился, что и в социально-политическом плане это не Япония моего детства. Тогда это была страна, совершившая гигантский прыжок из феодализма в империализм, чудовищная амальгама из все еще очень сильных пережитков феодальных традиций, милитаристской психологии, крестьянства, влачившего в своем большинстве жалкое существование, и в то же время – из крупных концернов, современных социальных отношений. Одновременно с этим в стране быстро набирали силу фашистские тенденции. Это была гремучая смесь, которая вскоре привела к гигантскому взрыву, охватившему большую часть Азии и Тихого океана.
Приехав сюда во второй раз, я нашел более или менее добропорядочную страну с достаточно прочной парламентской системой и гигантскими монополиями, прочно сросшимися с правительственными учреждениями, и довольно сильными коммунистической и социалистической партиями. В этой обстановке мне и предстояло работать.
Я вскоре убедился в том, что дипломатический состав посольства не оставлял желать лучшего, а точнее, это был весьма сильный состав. Советником-посланником работал Розанов, который впоследствии стал послом в Таиланде и, к сожалению, рано ушел из жизни. На более низких должностях находились люди, которые впоследствии достигли солидного положения в нашем Министерстве иностранных дел и которые уже в те далекие годы проявили себя как перспективные дипломаты. Соловьев, тогда первый секретарь, со временем стал послом в Японии, затем сменил меня в качестве посла в Китае. Чижов, тогда тоже первый секретарь, в последние годы был послом в Токио. Панов, при мне начинающий дипломат-стажер, до недавнего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел, а сейчас поехал послом в Японию. Торгпредом был Спандарьян, выдающийся коммерсант, пользовавшийся большим уважением у японских деловых людей.
Как бывает во всех странах при приезде нового посла, моим первым официальным актом было вручение верительных грамот императору Хирохито. Это было до предела театрализованное представление, где каждый шаг и каждое слово заранее обговаривались с церемониймейстерами императорского двора. Мне заранее сообщили, какие три вопроса задаст мне император, и прозрачно намекнули, какие ответы будут ждать от меня. Благодаря этому все прошло как по маслу.
К тому времени император уже утратил свою прежнюю власть. Он стал «символом нации», как говорилось в послевоенной японской конституции. Тем не менее в японском обществе – причем я бы не сказал, что это касалось только его верхушки, – сохранился известный пиетет в отношении императора. Для некоторых это было чисто сентиментальное чувство по отношению к человеку, с которым страна прошла через трагедию проигранной войны со всеми ее ужасами, лишениями и жертвами. Для верхней прослойки общества – дополнительная гарантия социальной стабильности.
После нескольких лет пребывания в Японии я стал старшиной дипломатического корпуса. Как известно, старшиной, или дуайеном, становится посол, находившийся дольше других в данной стране. Это налагало некоторые дополнительные обязанности и в то же время предоставляло определенные дополнительные привилегии по сравнению с другими послами. Привилегии заключались в том, что при прибытии в Японию с официальным визитом глав иностранных государств старшина и его супруга приглашались на официальные банкеты и на некоторые другие мероприятия, что давало возможность установить дополнительные контакты как с японскими деятелями, так и с окружением прибывшего высокого гостя.
Что же касается дополнительных обязанностей, то они в основном сводились к тому, что дуайен должен был два раза в год – в день рождения императора и в Новый год на приеме в императорском дворце – произнести поздравительную речь, обращенную к императору, и провозгласить тост в его честь. Как меняются времена! Мой отец, будучи старшиной дипкорпуса в Японии в начале 30-х годов, сомневался, стоит ли ему выполнять упомянутые функции, и даже запрашивал Москву, не лучше ли ему под каким-нибудь предлогом временно покинуть Японию. У меня и мысли такой не возникало, хотя я понимал, что у некоторых послов, особенно тех стран, которые серьезно пострадали от японской агрессии, слишком благожелательная речь могла вызвать недовольство. Много лет спустя министр иностранных дел КНР Цянь Цичень говорил мне, что, когда его назначили представлять Китай на похоронах императора Хирохито, он получил тысячи писем от китайских граждан, выражавших возмущение тем, что Китай будет представлен на этих похоронах. Я старался составлять речь в уважительных, но отнюдь не подобострастных тонах, говорил о высоких качествах японского народа. Текст заблаговременно показывал церемониймейстерам, которые, как правило, не высказывали никаких замечаний. Упреков после всего этого я ни от кого не слышал.
Неплохие отношения у моей жены и у меня сложились и с другими членами императорской семьи, особенно с кронпринцем и кронпринцессой, которые впоследствии стали императором и императрицей. Сблизились мы с ними через теннис. Случилось так, что через пару лет после приезда в Токио я был избран президентом Токийского теннисного клуба, весьма престижного заведения, в который входили многие известные деятели. Почетными членами клуба были наследный принц и его супруга принцесса Мичико. Принцесса вышла из состоятельной, но не аристократической семьи, к тому же была весьма обаятельной женщиной. По-видимому, одна из причин этого неравного брака заключалась в том, чтобы избежать вырождения императорской семьи. Оба они были заядлыми теннисистами и часто приезжали поиграть в клубе, в атмосфере, свободной от какого-либо чинопочитания. Иногда и нам с женой приходилось играть с этими венценосными особами.
Другой нашей хорошей знакомой из императорской семьи была принцесса Чичибу, вдова одного из братьев императора. В данном случае путь к сближению был иной. Дело в том, что отец принцессы, как и мой отец, оба когда-то были послами своих стран в Соединенных Штатах. Более того, принцесса училась в той же вашингтонской школе, что и я, воспоминания о годах учебы способствовали приятельским отношениям.
Говоря об этих контактах с членами императорской семьи, я не хочу утверждать, что они оказывали какое-то особо благотворное влияние на советско-японские отношения. Но было другое. Слухи об этих знакомствах открывали двери в другие влиятельные японские дома. Я не могу согласиться с теми, кто утверждает, будто японцы закрыты и чураются контактов с иностранцами. Помню прощальный обед у норвежского посла, который с чувством обиды говорил в своем тосте, что он пробыл в Японии больше четырех лет и ни разу не был в частном японском доме. Но это зависело больше от него, чем от японцев. Мы с женой таких трудностей не испытывали. Скорее наоборот – из-за недостатка времени приходилось уклоняться от некоторых приглашений. Впрочем, для этого потребовалось, конечно, время и собственная открытость в завязывании знакомств.
Должен сказать, что большую помощь в этом мне оказывала жена, которая привлекала людей своим внешним видом, общительностью и тактичностью. Я иногда подозревал, что некоторые японцы шли на контакты не столько ради посла, сколько ради его жены. Помню один забавный случай во время приезда в Токио делегации Верховного Совета СССР. Выступая на банкете в честь делегации, председатель верхней палаты японского парламента Кендзо Коно в своей речи обратился в шутливой форме к нашим парламентариям с просьбой: «Если вы будете менять своего посла, просим не менять жену посла». Как видно, японцы не лишены чувства юмора!
Как-то на одном из совещаний в посольстве я высказал весьма спорную мысль, что при подборе кадров следует принимать во внимание возможности и жены кандидата. Это мое замечание было воспринято в штыки, и я не стал настаивать на нем. Однако я и сейчас убежден, что было бы полезно, чтобы перед командировкой за границу жены дипломатов проходили кое-какую подготовку (знание иностранных языков, вопросы протокола, хотя бы минимальные знания о стране).
Как бы там ни было, но через несколько лет нашего пребывания в Японии у нас образовался весьма обширный круг знакомств в самых различных слоях японского общества. Например, в доме депутата парламента Фукусимы мы регулярно встречались с Такэо Фукудой, одним из виднейших политических деятелей Японии, занимавшим посты и премьер-министра, и министра иностранных дел, и ряд других министерских постов. Постоянные контакты поддерживались нами с председателем верхней палаты парламента уже упомянутым Кендзо Коно, с Дзентаро Косакой, министром иностранных дел в ряде правительств, с бывшим министром иностранных дел Сииной, с будущим премьер-министром Накасонэ и со многими другими. О представителях делового мира речь пойдет отдельно.
Посол должен иметь хорошие контакты в стране пребывания. Это правило, не терпящее исключений. Конечно, вопрос не только в их наличии, но и в возможности их использовать в интересах своей страны. А между первым и вторым немалая дистанция. Иногда у меня возникало впечатление, что я увлекаюсь контактами ради контактов. Тогда я заставлял себя лучше готовиться к той или иной встрече. Иногда это давало эффект, иногда – нет. О некоторых случаях, когда эффект был налицо, я еще расскажу. Но в общем и целом считаю, что хорошие личные отношения необходимо поддерживать при любых условиях. Никогда не знаешь, как изменится ситуация или какой стороной обернется та или иная проблема. Я придерживался этой точки зрения и в Японии, и впоследствии в ООН, и в Китае.
Другой областью, в которой посольство старалось культивировать знакомства, была журналистика. У нас наладились периодические встречи с главными редакторами крупных газет – «Асахи», «Майнити» и «Иомиури», а с главным редактором первой из них г-ном Хираокой они стали регулярными. Япония – читающая страна, и тут японцы сродни нам. Достаточно проехать в токийском метро, чтобы убедиться в этом, наблюдая, как почти весь вагон погружен в чтение. Поэтому и тиражи японских газет огромные. У основных трех газет, упомянутых выше, они достигали 9–10 миллионов экземпляров. Это больше, чем где-либо в мире, и может сравниться только с тиражами русских газет, правда, во времена не столь отдаленные.
Помимо этого, особенно к концу моего пребывания в Японии, сотрудники основных газет, специализирующиеся на Советском Союзе, выразили пожелание, чтобы посол встречался с ними каждые две-три недели. Обычно это была группа из 20–25 человек. Многие из них раньше работали корреспондентами в Москве, многие знали русский язык. Я им рассказывал о последних новостях, они задавали вопросы. Иногда, чтобы заинтересовать их и проверить, насколько на них можно было положиться, я сообщал какую-нибудь сравнительно невинную информацию с предупреждением, что это для их личного сведения, а не для публикации. Должен сказать, что не было случая, когда кто-либо из них нарушил это эмбарго.
Когда я прибыл в Японию, премьер-министром был Эйсаку Сато. Он занимал этот пост в течение восьми лет – срок необычно долгий для Японии. Сато считался представителем правого крыла правящей Либерально-демократической партии. Но это разделение на правых и левых было весьма относительным. Тем более что кардинальные вопросы внутренней и внешней политики страны в Японии решаются консенсусом с участием основных политических деятелей и лидеров делового мира. Во всяком случае, так обстояло дело в годы моего пребывания в Японии. Полагаю, что и сейчас немногое в этом плане изменилось. Недаром американские бизнесмены, которых бесила непробиваемость японского рынка, называли всю Японию одним большим акционерным обществом.
У читателя может, естественно, возникнуть вопрос: не мешало ли установлению знакомств с японцами незнание японского языка. Да, мешало. Вопреки распространенному мнению, знание английского языка в Японии – удел лишь сравнительно узких групп населения. Это работники Министерства иностранных дел, сотрудники внешнеторговых организаций, представители интеллигенции, учившиеся за границей.
Японский язык нелегок, и потому отсутствие его знания у иностранцев здесь мало кого удивляет. Послы, как правило, работают с переводчиками. Однако обширный круг знакомств позволял мне работать и с английским языком. Через какое-то время я стал ходить в Министерство иностранных дел один, без сопровождения. Поначалу подобное шокировало некоторых сотрудников нашего посольства, преимущественно старой закваски. Они предостерегали меня, что это может плохо кончиться, что японцы устроят мне какую-нибудь провокацию. Но я продолжал ходить один (за исключением особо важных дел), и ничего плохого за девять лет со мной так и не случилось.
При Сато особо острых моментов в наших отношениях не возникало. Это был период грандиозной ссоры между Советским Союзом и Китаем, а японский премьер-министр, следуя в фарватере США, в свою очередь ориентировался на Тайвань. Кроме того, одна из основных задач японского правительства в то время заключалась в том, чтобы добиться возвращения Окинавы, которая с 1945 года находилась под управлением Соединенных Штатов. Поэтому Сато меньше внимания обращал на проблему Курил, видимо считая, что после решения вопроса об Окинаве у Японии появятся дополнительные аргументы в территориальном споре с Советским Союзом.
Временами он прямо-таки удивлял меня. Помнится, в 1968 году, когда советские войска были введены в Чехословакию, я получил из Москвы указание изложить премьеру наши доводы по этому вопросу. Доводы были неубедительные. Да они и не могли быть убедительными. Мне казалось тогда и кажется сейчас, что это была одна из крупных ошибок брежневского периода. Тем не менее я исполнил имевшееся поручение, «предвкушая» неприятный разговор. К моему удивлению, Сато ограничился примерно следующей сентенцией: советское правительство не могло не предвидеть все неприятные для него последствия этой акции. Тем не менее оно сочло возможным ее осуществить. Из этого можно сделать вывод, что оно не видело иного выхода из создавшегося положения. На этом, к моему удивлению, наш разговор на чехословацкую тему закончился.
Хорошее впечатление от Сато осталось у Громыко после визита в Японию в 1972 году. Этот визит прошел в благожелательной атмосфере прежде всего потому, что наш министр иностранных дел прибыл с небольшим подарком – заявлением о готовности Советского Союза передать два из четырех островов, на которые претендовала Япония. Для японской стороны это было недостаточным, но в тот момент им показалось, что лед тронулся.
Сато обладал чувством юмора. Да и Громыко, когда обстановка этого требовала, мог удачно сострить. Помнится, на обеде в резиденции японского премьера Сато сказал, что на следующий день он должен принять испанского министра иностранных дел, который, как он слышал, является то ли правой, то ли левой рукой генералиссимуса Франко. На это министр не моргнув глазом сказал: «Вот как, а я думал, у Франко обе руки правые».
После того как Сато ушел с поста премьер-министра, он был награжден Нобелевской премией мира, что немало удивило многих японцев, которые иронизировали по этому поводу и строили различные догадки, каким образом была получена столь высокая награда.
Однажды, уже находясь в отставке, Сато в разговоре со мной завел речь о том, что теперь он хотел бы заняться улучшением отношений Японии с Советским Союзом. Упомянул он о возможности создания какого-нибудь общественного комитета или группы, которую он был бы готов возглавить. Я поддержал его в этом начинании и думаю, что он мог бы кое-что сделать в этом плане. Однако этому не суждено было осуществиться: Сато вскоре скоропостижно скончался во время какого-то банкета в одном из японских ресторанов.
После отставки Сато пост премьера занял Какуэй Танака. Это был человек совсем иного склада. Выходец из бедной семьи, человек, сделавший себя сам, как говорят американцы, сколотил большое состояние и создал самую многочисленную в Либерально-демократической партии фракцию.
Со временем я близко познакомился с Танакой, а его дочь с мужем даже посещала нас позже в Пекине, когда я работал там. Танака был чрезвычайно энергичный, можно сказать, пробивной человек, не брезговавший средствами для достижения цели, что его в конечном итоге и погубило. Его познания во внешней политике, как и общеобразовательный уровень, были ограничены. Посол Польши жаловался мне, что во время их первой беседы японский премьер неожиданно встал, подошел к висевшей на стене карте и попросил посла показать ему, где находится «эта ваша Польша». Посол, естественно, был оскорблен до глубины души.
Запомнился мне еще такой случай. Вскоре после назначения премьером Танака явился на прием, устроенный президентом Торгово-промышленной палаты Японии Сигео Нагано, одним из наиболее влиятельных и уважаемых руководителей делового мира. Одновременно он был сопредседателем советско-японского комитета экономического сотрудничества. На этом приеме в основном присутствовали представители тех компаний, которые вели торговлю с Советским Союзом. В своем выступлении новый премьер-министр, говоря о заинтересованности Японии в развитии отношений с нашей страной, заявил полушутя-полусерьезно, что правительство будет действовать так, как того хочет господин Нагано. Эта фраза показалась мне многообещающей, поскольку Нагано был сторонником развития всесторонних отношений с нашей страной. Однако, как вскоре выяснилось, слова Танаки были применимы только к торгово-экономической сфере.
Что касается наших политических отношений с Японией, то здесь особого улучшения не замечалось – скорее наоборот. Особенно после решения вопроса об Окинаве в пользу Японии территориальный вопрос стал все чаще возникать во многих беседах, официальных и неофициальных, дружественных и напряженных. Особенно жесткую позицию занимали чиновники японского министерства иностранных дел. Многие из них, по-видимому, считали, что сама судьба назначила их хранителями и защитниками национальных интересов Японии. На каком-то этапе я даже предложил пронумеровать их и наши аргументы, чтобы не повторять каждый раз одни и те же слова.
Был и такой случай. Пришло предписание из Москвы срочно посетить министра иностранных дел (тогда это был Аити), информировать его о вооруженном столкновении между советскими и китайскими частями на острове Даманский и подчеркнуть, что инициатором была китайская сторона. Я встретился с министром в здании парламента и изложил ему обстоятельства дела.
Аити вкратце выразил сожаление по поводу случившегося и сразу же, без какого-либо логического перехода заговорил о японских претензиях на «северные территории», как в Японии обычно называли четыре острова. Я понял это как намек на то, что при наличии территориального спора с Советским Союзом Япония не намерена занимать чью-либо сторону в советско-китайском конфликте. После краткого обмена обычными аргументами по этому вопросу Аити сказал, что намерен передать в печать сообщение о нашей беседе, в том числе и о «северных территориях». Тут я запротестовал, заявив, что не вижу, какое отношение второе имеет к первому. После дискуссии Аити с явной неохотой согласился снять абзац, относящийся к разговору о пресловутых островах.
В тот период советская дипломатия пыталась маневрировать, чтобы найти выход из создавшегося полутупикового положения в политических отношениях с Японией. Когда в 1972 году в Токио прибыл Громыко, гвоздем его визита, как я уже упомянул, было заявление о готовности советского правительства рассмотреть вопрос о передаче Японии двух из четырех островов, на которые она претендовала. Это означало возврат к позиции, которую Москва заняла в 1956 году, когда были восстановлены советско-японские отношения. Японцы восприняли это с большим удовлетворением. Выступая на банкете в честь советского гостя, тогдашний министр иностранных дел Японии Такэо Фукуда даже заявил, что если раньше Андрей Громыко был известен в Японии как «мистер Ньет», то отныне его можно будет называть «мистером Да». Однако позднее в частной беседе со мной Фукуда вполне определенно заявил, что два острова – недостаточно. Эти слова можно было понять так, что Япония, отталкиваясь от заявления о двух островах, была намерена усилить давление по территориальному спору.
В октябре следующего, 1973 года Танака и новый министр иностранных дел Охира отправились с официальным визитом в Москву. Согласование заключительного совместного документа началось еще в Токио между посольством и министерством иностранных дел Японии. Не требовалось особой прозорливости, чтобы понять, что главная цель поездки японского премьера – добиться каких-нибудь дополнительных сдвигов в территориальном вопросе. Поэтому, как и следовало ожидать, в проекте заключительного документа оставалось несколько белых пятен по существенным вопросам советско-японских отношений, которые предстояло заполнить уже в Москве.
Не совсем удачным оказалось и время визита, так как буквально накануне приезда японских руководителей и их первой встречи с Брежневым, Косыгиным и Громыко началась очередная война между Египтом и Израилем. Внимание советских руководителей раздвоилось. Были моменты, когда во время переговоров им передавали новые сообщения из Каира, требовавшие срочного ответа. Наша тройка начинала перешептываться между собой в то самое время, когда Танака высказывался по тому или иному вопросу. Это, разумеется, раздражало японцев, у них создавалось впечатление, что они говорят впустую, что их слова проходят мимо ушей сидящих напротив них кремлевских руководителей. В конце концов Танака, повысив голос, заявил, что просит внимательно выслушать и записать на бумаге то, что он скажет. После чего, отчеканивая каждое слово, он повторил известное японское требование о передаче Японии четырех островов.
Несколько развязная манера, в которой это было сказано, возмутила Брежнева. Он предложил прервать заседание и, вставая из-за стола, довольно громко сказал: «Ничего мы им не дадим». Вскоре для обеих сторон стало ясно то, что должно было быть ясно с самого начала: никакого реального продвижения вперед в территориальном вопросе на данном этапе не будет. Тем не менее ни Танака, ни советские руководители не были заинтересованы в полном провале. Начались поиски душеспасительной формулы, приемлемой для обеих сторон. После того как различные варианты были обсуждены, испробованы на запах и на вкус и отвергнуты одной или другой делегацией, японцы предложили формулировку, которая показалась заманчивой. Ключевая фраза этой формулировки гласила: «Сознавая, что урегулирование нерешенных вопросов, оставшихся со времен Второй мировой войны, и заключение мирного договора внесет вклад в установление подлинно добрососедских и дружественных отношений между обеими странами, стороны провели переговоры по вопросам, касающимся содержания мирного договора. Обе стороны договорились продолжить переговоры о заключении мирного договора между обеими странами в соответствующий период 1974 года».
При обсуждении этой формулировки уже в своем кругу, с участием Брежнева, Косыгина, Громыко и моим, выяснилось, что глава нашего правительства считал, и не без основания, что эти слова будут интерпретироваться японцами как обязательство Советского Союза продолжить обсуждение территориального вопроса. Косыгина убеждали, что эти слова не исключали и иную интерпретацию, а именно что после войны остался нерешенным не вопрос о четырех островах, а совсем другие вопросы. В итоге Косыгин не стал возражать, хотя было видно, что он остался при своих сомнениях.
В конце визита перед пресс-конференцией Танаки я посоветовал послу Ниидзеки рекомендовать премьер-министру не пытаться публично интерпретировать заключительный документ в свою пользу, чтобы не вызвать негативной реакции с советской стороны. Видимо, он так и сделал, потому что прояпонские интерпретации документа начались уже после возвращения японских руководителей домой.
Какуэй Танака плохо кончил. Он был осужден по шумному делу о получении рядом японских деятелей крупных взяток от известной американской корпорации «Локхид» и провел часть своей последующей жизни в тюрьме. Тем не менее ему удалось, благодаря крупным суммам денег, которые он тратил на политическую игру, держать под контролем свою фракцию депутатов практически до самой смерти.
Впоследствии советско-японские отношения поразил новый недуг, связанный с китайским фактором. После того как Ричард Никсон отправился в Пекин и нормализовал отношения с Китайской Народной Республикой, к великому удивлению и раздражению японских политиков, которые не были заблаговременно об этом информированы (в Токио это называли никсонским шоком), возник вопрос о переориентации японской политики. Это было совершено Танакой и Охирой, которые, в свою очередь, отправились на поклон в Пекин.
Нормализация японо-китайских отношений не вызвала в Москве какой-либо отрицательной реакции. Для общественного мнения было бы странно и непонятно, если бы кто-то стал возражать против установления дипломатических отношений между двумя соседними государствами. Однако дело пошло дальше. Пекин стал активно нажимать на Токио, предлагая заключить Договор о мире и дружбе. Это уже начало брать Москву за живое. Еще хуже было то, что китайская сторона стала добиваться включения в текст договора статьи о противостоянии гегемонизму какой-либо державы. Поскольку китайские руководители не делали секрета из того, что, с их точки зрения, носителем гегемонизма является Советский Союз, это не на шутку задело советское руководство, если не сказать больше.
Да и сам я считал, что заключение договора с такой формулировкой выглядело бы как недружественный жест в отношении нашей страны. Помимо частных бесед с различными японскими деятелями по этому поводу мною был предпринят шаг, который получил весьма широкую огласку. В начале февраля 1975 года я отправился к вице-президенту правящей Либерально-демократической партии, бывшему министру иностранных дел Сиине, который, как мне было известно, опасался, как бы Япония не пошла на поводу у Китая. Придя к нему, я обнаружил, что в приемной находилось несколько журналистов. Более того, Сиина вроде бы невзначай оставил приоткрытой дверь из приемной в кабинет. В беседе я в довольно резких тонах заявил, что если Япония заключит с Китаем договор, содержащий статью о гегемонизме, то это может нанести серьезный ущерб ее отношениям с Советским Союзом.
Сообщения о сделанном мною неофициальном представлении появились в печати. Хотя первые публикации газет были выдержаны в спокойных тонах, постепенно шум вокруг моего неофициального представления нарастал. Сторонники сближения с Пекином выражали недовольство вмешательством советского посла в дела, касающиеся отношений Японии с третьим государством. Дело дошло до запросов в парламенте.
Тем временем посольство продолжало свою разъяснительную работу. Требовалась, однако, известная осторожность. Дело в том, что мы волей судеб оказались, как говорится, в одной лодке с Сейранкай, как называли ту группировку Либерально-демократической партии, которая ориентировалась на Тайвань. Депутаты парламента, в недавнем прошлом сторонившиеся нас, а мы их, вдруг стали находить общий язык друг с другом. Как тут не вспомнить слова лорда Пальмерстона о том, что Англия не имеет постоянных друзей или постоянных врагов, она имеет только постоянные интересы. Можно к этому добавить, что при определенных обстоятельствах и интересы могут меняться.
Многочисленные публикации по поводу деятельности посла в тот период были выдержаны примерно в одном тоне. Приведу выдержку из одной из них, появившейся в газете «Санкэй самбун» 14 февраля 1975 года: «Хотя японское правительство внешне делает вид, что воспринимает эти активные действия Советского Союза по отношению к Японии нарочито спокойно, заявляя, что эта деятельность посла на посту, который он занимает, выглядит естественной в соответствии с дипломатическим курсом его страны, тем не менее японское правительство выражает свое удивление и замешательство перед энергичными действиями посла Трояновского, считая, что эти действия посла, когда он сам занимается открытой политической деятельностью, являются слишком откровенными и слишком смелыми».
Один из представителей руководства МИДа Японии так охарактеризовал эту мою деятельность: «Совершенно очевидно, что эти действия основаны на инструкциях, полученных от высшего руководства Советского Союза. И их главная цель заключается в том, чтобы поколебать позиции сторон на переговорах по японо-китайскому договору о мире и дружбе и постараться возможно дольше задержать его заключение».
На самом деле посольство не получало никаких указаний относительно того, как действовать в создавшейся обстановке. Впрочем, несколько позже я получил телеграмму от Громыко, в которой говорилось, что Брежнев просил передать мне благодарность за действия, которые помогают ему принимать правильные решения по вопросам советско-японских отношений. Для меня так и осталось неизвестным, имела ли эта не совсем обычная телеграмма какое-либо отношение к моим действиям в связи с намерениями Японии и Китая заключить договор о мире и дружбе или к чему-то другому.
В начале 1977 года в Токио прибыл Громыко. Как мне впоследствии говорил помощник Брежнева Александров-Агентов, Андрею Андреевичу очень не хотелось ехать в Японию в сложившейся обстановке. Он, несомненно, понимал, что это будет менее приятный визит, чем предыдущий. Он даже договорился с Брежневым, что ему нет смысла туда ехать на данном этапе. Однако вскоре после его ухода Александров и другой помощник, Блатов, уговорили Леонида Ильича изменить свое решение. Их аргументация состояла в том, что если мы намерены бороться за Японию, а не мириться с ее сближением с Пекином против СССР, то не должны упускать ни одной возможности оказать влияние на японских руководителей.
Громыко прибыл в Токио в феврале 1976 года. К тому времени в кресле премьер-министра Танаку, находившегося под следствием, сменил Такэо Мики, который считался честным человеком и, видимо, таким и был. Советский министр преподнес ему сюрприз, заявив, что, если с Китаем будет подписан договор с включением статьи о гегемонизме, СССР не сможет продолжать какие-либо переговоры о заключении мирного договора. После этого заявления Мики заметно помрачнел и, как мне показалось, несколько растерялся. Не думаю, что японских политиков обеспокоила перспектива остаться без мирного договора. Но они понимали, что это означало отказ Москвы от обсуждения территориального вопроса.
В августе 1978 года Япония все же подписала с КНР Договор о мире и дружбе. Включенная все же в текст договора статья о «гегемонизме», несмотря на сделанные японцами оговорки, была явно направлена против Советского Союза. Впрочем, это произошло уже после моего отъезда из Токио.
Забегу немного вперед, чтобы закончить с этой темой. В моей дипломатической практике мне еще дважды приходилось сталкиваться с проблемой «гегемонизма». Сначала это произошло на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда я был постоянным представителем СССР при Организации Объединенных Наций. Кому-то в Москве (я так и не выяснил, кому именно) пришла в голову хитрая идея выступить на сессии Генеральной Ассамблеи с проектом резолюции, осуждающей гегемонизм в любых его формах. Ход этот произвел сильное впечатление на многих делегатов: одни восхищались ловкостью «этих русских», которые ухитрились свалить свою проблему с больной головы на здоровую, другие с иронической улыбкой интересовались у китайских представителей, какую позицию они намерены занять, третьи ломали голову, каким именно образом можно было бы повернуть внесенный проект резолюции против ее авторов. В итоге наши недруги решили накидать побольше неугодных нам поправок, чтобы таким образом заставить советскую делегацию снять свой проект. Сначала мы забеспокоились и начали размышлять, как отделаться от внесенных поправок. Потом, поостыв, решили, что в конечном счете ни в Москве, ни в других столицах не будут придирчиво вчитываться в окончательный текст резолюции. Придя к этому выводу, мы не стали затевать больших схваток вокруг представленных различными делегациями поправок и рапортовали о том, что советский проект резолюции принят с учетом ряда поправок. В конце концов все это было не дипломатией, а, скорее, игрой в дипломатию.
Как быстро меняется обстановка в мире! Не прошло и нескольких лет, как мне снова пришлось столкнуться с гегемонизмом, на сей раз находясь в Пекине, когда там готовилось совместное заявление, которое должно было увенчать собой визит Горбачева в КНР и ознаменовать нормализацию советско-китайских отношений. Тут уже мы и китайцы были как бы на одной стороне баррикад и выступали совместно против неназванной державы, стремящейся к установлению своей гегемонии в мире.
Нельзя сказать, что за годы моего пребывания в Японии мы существенно продвинулись вперед в политической области. Но в торгово-экономической сфере прогресс был налицо. Руководители японского делового мира, такие как Нагано, Уэмура, Каваи, Имадзато, Доко или Андзаи, выступали активными сторонниками развития торгово-экономических связей с нашей страной. И много сделали для этого.
Как я уже отметил, годы моей работы в Японии пришлись на время, когда эта страна совершила огромный скачок в своем экономическом развитии. За сравнительно короткий период она преодолела послевоенную разруху, перестроила свою экономику и вышла на третье после США и СССР место в мире по валовому национальному продукту. А по некоторым показателям японская промышленность уже поджимала Соединенные Штаты. В те годы японцы любили приводить высказывание Генри Форда-младшего о том, что при слове «Япония» его кровяное давление поднимается на 10 пунктов.
Между тем в Москве многие специалисты все еще представляли себе Японию как производителя дешевых низкокачественных товаров, не пригодных для рынка развитых стран. Посольство старалось побыстрее ликвидировать подобное отставание от реальной жизни. Другими словами, происходило то же, что в настоящее время происходит с Китаем, когда многие экономисты не замечают, как эта страна движется вперед семимильными шагами.
Прежде чем переходить к конкретным экономическим делам в наших отношениях с Японией, несколько слов о роли большого бизнеса в японской политической и экономической жизни. Огромное, если не сказать решающее, влияние на экономическую политику страны, а отсюда и на ее внешнеполитический курс имеют четыре ведущие организации крупного капитала: Федерация экономических организаций, Торгово-промышленная палата Японии, Федерация ассоциаций предпринимателей и Комитет экономического развития Японии. Влияние на правительство и правящую партию эти четыре организации оказывали и, видимо, сейчас оказывают путем предварительных согласований политических решений. Это делается по-разному: от участия в различных комиссиях и советах, которые правительство создает для подготовки и рассмотрения тех или иных решений, до регулярных завтраков, обедов или иных неофициальных встреч. При определении внешней политики Японии ее экономические интересы имели, пожалуй, решающее значение. В одном разговоре с С. Нагано я с оттенком сожаления или недовольства упомянул об одностороннем крене японской политики в сторону США. На это мой собеседник ответил: «Ну что же, если бы ваша страна могла заменить собой тот неисчерпаемый рынок, который представляют собой Соединенные Штаты, мы, пожалуй, могли бы переориентироваться в вашу сторону».
Посольство и торгпредство имели особенно тесные связи с Федерацией экономических организаций и Торгово-промышленной палатой и их руководителями Уэмурой и Нагано. Можно сказать, что в 60-х и 70-х годах удалось заметно продвинуться вперед в наших торгово-экономических отношениях с Японией. В 1965 году были созданы Советско-японский и Японо-советский комитеты по экономическому сотрудничеству. Была разработана конкретная схема экономического сотрудничества между советскими организациями и японскими фирмами, а именно: Советский Союз шел на развитие той или иной отрасли народного хозяйства, руководствуясь не только своими экономическими планами, но и импортными потребностями Японии. Японская сторона брала на себя содействие в развитии данной отрасли путем предоставления кредитов для приобретения необходимых машин, оборудования и прочих товаров. Оплата кредитов и процентов по ним производилась поставками из СССР части продукции развиваемой отрасли.
Эта схема действовала достаточно эффективно. Были заключены соглашение о сотрудничестве в строительстве морского порта в бухте Врангеля; три соглашения о сотрудничестве в разработке лесных ресурсов СССР и два о сотрудничестве в производстве сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. Кроме того, были заключены соглашения о сотрудничестве в разработке Южно-Якутского угольного месторождения, два контракта о проведении геолого-разведочных работ на якутских газовых месторождениях, а также – в области разведки, обустройства и добычи нефти и газа на шельфе острова Сахалин.
На подходе был еще один, особенно крупный, проект – строительство нефтепровода из Сибири для подачи нефти в Японию. Однако неожиданно для посольства, да и для японцев, в Москве приняли решение вместо нефтепровода проложить на Дальний Восток вторую железную дорогу, которая впоследствии получила название Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Японцам было предложено частично кредитовать ее строительство, за что советская сторона расплатится нефтью.
В беседе, состоявшейся в Москве, Брежнев довольно красочно расписывал, какие широкие перспективы развития Сибири и Дальнего Востока откроет эта магистраль. Возможно, в отдаленном будущем так оно и будет, однако у меня были серьезные сомнения насчет согласия Японии в кредитовании этого проекта, поскольку, во-первых, железная дорога – это отживающий свой век способ доставки нефти и газа, а во-вторых – и это, может быть, главное, – японцы сразу восприняли эту магистраль как стратегическую, которая укрепит позиции Советского Союза на Дальнем Востоке и в районе Тихого океана не только против Китая, но и против Японии. Мои сомнения подтвердились, когда я услышал то же самое от Громыко, а именно что произойдет настоящее чудо, если японцы согласятся кредитовать строительство БАМа. По возвращении в Японию мне довелось вести тяжелые беседы с соответствующими деятелями. Я даже организовал пресс-конференцию по этому вопросу, но чуда не свершилось.
Впечатляющий в целом прогресс в экономических отношениях с Японией кое-кто ставил нам не в заслугу, а в упрек, утверждая, что, продавая Японии сырье, мы-де превращаем Россию в сырьевой придаток. Однажды, будучи у Косыгина, я спросил его мнение на этот счет. Алексей Николаевич высказался вполне определенно. Он сказал, что с таким же успехом можно назвать сырьевым придатком Японии и Соединенные Штаты, ведь значительная, если не большая часть японского импорта из США состоит из сырья (лес, руда, уголь и т. д.), в то время как японцы поставляют американцам в основном, если не исключительно, оборудование, технику, автомобили. Да иначе и не может быть, так как у Японии практически нет сырья, которое она могла бы вывозить в другие страны. Иначе, добавил он с усмешкой, Японию пришлось бы просто закрыть. Продолжая разговор на эту тему, Косыгин посетовал на то, что дело не в вывозимом сырье, а в том, что соответствующие советские организации рационально не используют полученные от Японии взамен большие суммы для развития и реконструкции тех или иных отраслей народного хозяйства.
Работать в Токио было и легко и трудно. Легко, потому что круг людей с решающим голосом по крупным вопросам политики и экономики был довольно узок. Достаточно было знать и иметь доступ примерно к нескольким десяткам деятелей в политической и экономической областях, и вы были более или менее застрахованы от каких-либо крупных неожиданностей. В этом отношении Япония значительно отличается, скажем, от Соединенных Штатов, где решение в области политики и экономики зависит от множества различных сил, которые тянут в разные стороны. Это бывает менее ощутимо при сильном президенте и гораздо острее чувствуется при слабой администрации. И не только в США.
Но, с другой стороны, работать в Токио было тяжело по другой причине: японцы крайне упорные дискутанты. Они готовы спорить до последнего вздоха. Хотя бывали изредка случаи, когда согласовать спорные вопросы удавалось неожиданно быстро. И тогда наши японские оппоненты просили нас сделать вид, что переговоры еще продолжаются, иначе, мол, в Токио могут подумать, что с их стороны не было проявлено достаточного упорства.
И это не только в экономике или политике. Это в самом характере народа. Как-то в Японию приехала хоккейная команда ЦСКА во главе с Анатолием Тарасовым. Хоккей не был сильной стороной японцев, в то время они только начинали в него играть. Поэтому неудивительно, что к концу матча счет был 20:0 в пользу советской команды. Как потом говорил Тарасов, он был поражен: в эти последние минуты японская команда играла так, будто результат всей встречи зависел от их последних усилий.
Еще один пример несколько иного свойства. Борис Подцероб, бывший старший помощник министра иностранных дел СССР, рассказывал, что однажды он слышал, как Сталин поинтересовался у Молотова, кого из иностранных дипломатов, с которыми ему приходилось иметь дело, он назвал бы самым выдающимся. К удивлению всех присутствовавших, Молотов назвал Того, бывшего в конце 30-х годов послом в Москве, а затем ставшего в конце войны министром иностранных дел Японии. Он объяснил, что Того очень упорен в переговорах и всегда до деталей знал предмет дискуссии. Впрочем, оценку Молотова можно понять: дипломат такого типа импонировал нашему тогдашнему министру иностранных дел, поскольку он сам в упорстве не уступал японцам.
Не могу не коснуться еще одной специфики работы в Японии – это отношения с японской коммунистической партией. Они были в те годы очень натянутыми. Может быть, то, что я скажу, покажется парадоксом, но я, будучи послом в Токио, считал (хотя особенно не распространялся на этот счет), что такая натянутость шла на пользу обеим сторонам. Во всяком случае, это было лучше, чем так называемые «братские отношения», которые в какой-то степени компрометировали бы как нас, так и их.
У меня сложилось впечатление, что руководство КПЯ умышленно сторонилось КПСС и ее представителей. Расчет заключался в том, что, занимая по ряду проблем позицию, отличную от советской, оно многое выигрывало и мало что проигрывало. К этим проблемам относился, прежде всего, советско-японский территориальный спор, а также позиция СССР в венгерских событиях 1956 года и в чехословацких – в 1968 году. Придерживаясь критической линии и демонстрируя свою независимость от Советского Союза и КПСС, японские коммунисты не противопоставляли себя общественности, а потому и сохраняли неплохие позиции в стране и в парламенте. Их газета «Акахата» («Красное знамя») имела весьма солидный тираж и приносила партии немалый доход. Идеологией партии был еврокоммунизм в его азиатском варианте, причем руководство Коммунистической партии Японии стало придерживаться такой линии значительно раньше, чем ее европейские собратья.
Еще до моего назначения в Токио руководство КПСС предприняло попытку создать в Японии альтернативную компартию, ориентирующуюся на Советский Союз. Был инспирирован отход от КПЯ группы коммунистов во главе с Иосио Сигой. Эта попытка с негодными средствами была заранее обречена на провал. Через некоторое время – и это уже при мне – стало очевидным, что группа Сиги не в состоянии соперничать с КПЯ. Тогда в начале 1968 года в Токио прибыла делегация во главе с Михаилом Сусловым и Борисом Пономаревым с целью попытаться нормализовать отношения с КПЯ.
За день или два до этого на платформе вокзала в Нагое было совершено нападение на Николая Байбакова, заместителя председателя Совета министров СССР и председателя Госплана СССР, прибывшего в Японию с визитом. Молодой японец ультраправых воззрений набросился на него и на глазах у большого отряда полицейских в форме и штатском нанес Байбакову несколько ударов бамбуковым мечом. Такие мечи используются в Японии для фехтования. Удары были сильные, но плотное драповое пальто того фасона, который был тогда распространен среди советских ответственных работников, предохранило гостя от каких-либо увечий. Японцы принесли свои извинения, а премьер-министр даже незапланированно пришел на прием, который был устроен в посольстве в честь Байбакова. Мы могли бы, конечно, раздуть дело вокруг случившегося. Но мне казалось, что в этом инциденте было что-то унизительное для одного из руководящих деятелей нашей страны. Поэтому мы обошлись без слишком громких протестов, которые только дали бы пищу для его широкого обнародования.
Тем временем Суслов и компания вели нелегкие переговоры с руководством КПЯ, в которых я не участвовал. В ходе переговоров делегация КПСС демонстративно отмежевалась от группы Сиги, что с этической точки зрения, если не сказать больше, выглядело весьма неприглядно. В конечном итоге согласие с КПЯ было достигнуто, во всяком случае, так казалось Суслову и Пономареву, которые покинули Токио в хорошем расположении духа.
В совместном заключительном коммюнике о переговорах делегаций двух партий ключевой (во всяком случае для японских коммунистов) была фраза о «строгом соблюдении принципов независимости, равноправия и взаимного невмешательства во внутренние дела друг друга». Прошло всего несколько месяцев, и после вторжения советских войск в Чехословакию все или почти все вернулось на круги своя. В последующем посольство поддерживало кое-какие формальные связи с КПЯ, изредка я встречался с кем-нибудь из руководства, главным образом чтобы передать информацию из Москвы о тех или иных инициативах Советского Союза на международной арене.
Сейчас, как можно полагать, вопрос о взаимоотношениях с КПЯ вообще мало актуален, и, думаю, это к лучшему.
В заключение я хотел бы остановиться еще на одной области наших отношений с Японией, в которой мы преуспели и которая сильно скрашивала наше пребывание в этой стране. Я имею в виду культурные связи в широком понимании этого слова.
Одно из ярких воспоминаний – Всемирная выставка в Осаке в 1970 году. Точнее сказать, не вся выставка, а прежде всего советский павильон, который, без всякого преувеличения, имел ошеломляющий успех. Известно, что японцы очень любознательный народ, и все же меня поразил их интерес к нашему павильону. С раннего утра к нему выстраивалась очередь протяженностью свыше километра. И так изо дня в день. Секрет успеха, как мне кажется, заключался в том, что павильон не был насыщен техническими новшествами, за исключением космических, и поэтому не напоминал рекламную выставку тех или иных фирм. В нем был представлен широкий диапазон экспонатов: от рояля Чайковского из Клина до огромного экрана с изображением народной артистки Екатерины Максимовой, делающей 32 фуэте в балете «Дон Кихот».
Посетили наш павильон и император с императрицей, и наследный принц с принцессой, и премьер-министр Сато, и множество других почетных гостей. Сато, осмотрев павильон, сказал мне, что, будучи союзником Соединенных Штатов, он хотел бы похвалить американский павильон, но должен признать, что советский на голову выше.
Работа в токийском посольстве была хороша еще тем, что перед нашими глазами прошел целый парад звезд отечественного музыкального и театрального искусства. Кто только не побывал у нас в те годы! Оперная и балетная труппы Большого театра, балетная труппа Кировского театра, труппа МХАТа, Майя Плисецкая с «Кармен-сюитой», Ойстрах, Гилельс, Рихтер, Коган, Ростропович, оркестр Ленинградской филармонии под руководством Мравинского и многие другие. Нужно ли говорить, что большие меломаны японцы заполняли до отказа залы, чтобы посмотреть и послушать всемирно известных звезд.
Для иллюстрации расскажу об одном небольшом, но характерном эпизоде. После одного из концертов Эмиля Гилельса мы с ним вдвоем пошли поужинать в небольшой ресторан. Подошла официантка, чтобы принять заказ. Взглянув на Гилельса, она остолбенела и с возгласом «Гирерс-сан» (японцы вместо звука «л» употребляют «р») куда-то убежала и потом появилась с программой его концерта и с просьбой дать автограф. Тут уже Гирерс-сан остолбенел. Он, конечно, дал автограф, но при этом сказал, что не знает другой страны, где можно найти официанток, посещающих концерты симфонической музыки. С Эмилем Григорьевичем мы стали близкими друзьями. Иногда он жаловался на политику Госконцерта, на то, что ему указывают, где и когда давать концерты. Приходилось слышать жалобы и от других наших корифеев. Леонид Борисович Коган в свойственной ему мягкой манере возмущался по поводу разноса, учиненного Ждановым Прокофьеву и Шостаковичу. «Неужели он не знал, на что он руку поднимал», – говорил он. И тут я не мог с ним не согласиться. Действительно, было нелепо давать указания, как сочинять музыку Шостаковичу или Прокофьеву.
Приезжали в Токио и наши видные режиссеры и актеры, в основном на премьеры советских фильмов. Особой популярностью пользовались фильмы по классическим произведениям русской литературы – «Идиот», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Война и мир», «Анна Каренина» и другие.
В связи с приездом наших киноделегаций я познакомился с выдающимся режиссером Японии и одним из гигантов мирового кино Акирой Куросавой. Велико было мое удивление, когда однажды он пришел ко мне и завел разговор о своем преклонении перед русской культурой и особенно перед русской литературой и кинематографом. Он говорил о Толстом и более подробно о Достоевском, на которого, по его словам, он смотрел как на полубога. Как известно, Куросава сделал японский вариант «Преступления и наказания» – фильм, который пользовался большим успехом. Он также дал высокую оценку советскому кино, особенно Эйзенштейну, сказав, что тот оказал на него большое влияние. К моему удивлению, Куросава еще сказал, что ему трудно работать в Японии, что здесь слишком много бюрократов и что он хотел бы поехать в Советский Союз, чтобы поработать там. Что давно испытывает желание сделать фильм по книге Арсеньева «Дерсу Узала», которой он увлекся еще в 20-х годах. Я ответил, что постараюсь ему помочь, но предупредил, что и у нас в стране бюрократов хватает. Преодолев некоторые трудности, удалось договориться с нашими киноруководителями о приезде Куросавы в Москву. Как известно, фильм был сделан, имел хороший кассовый сбор и получил в Голливуде Оскара как лучший иностранный фильм 1976 года. Позднее Куросава получил еще одного Оскара как один из самых выдающихся кинорежиссеров нашего времени.
Совершенно неожиданно для многих, в том числе и для посольства, прокитайские организации в Японии подняли скандал, утверждая, будто бы «Дерсу Узала» – антикитайский фильм. По сути дела эти обвинения возводились на пустом месте. Утверждалось, например, что Приморский край, где разворачивается действие фильма, – это китайская территория, что изображенные в виде бандитов хунхузы – это китайцы и т. д.
Однако особого резонанса эта критика не имела. Как писала газета «Токио таймс», «Куросава – слишком крупная фигура, и критиковать его – почти табу. Кроме того, никто не хочет позволить втянуть себя в бурю китайско-советской конфронтации».
Еще хочу рассказать об одной японке, имевшей отношение к кино и театру. Ее имя, Ёсико Окада, мало кто знает в нашей стране, но оно очень хорошо известно в Японии. Ее история напоминает современный триллер. Красавица Ёсико Окада была звездой номер один довоенного японского театра и кино, ей поклонялась вся страна. У Ёсико был любимый человек – Рекити Сугимото, театральный режиссер и переводчик русской литературы, человек, известный своими левыми взглядами, член компартии Японии.
То было тяжелое для Японии время. В 30-х годах к власти пришли милитаристы и крайние реакционеры. Начались массовые репрессии. Рекити Сугимото дважды арестовывают, его публикации оказываются под запретом, театр, в котором они работают вместе с Ёсико Окадой, закрывают. В этой обстановке он уговаривает ее бежать в Советский Союз. С риском для жизни это им удается: в начале 1938 года они пересекают границу на Сахалине, который в то время был разделен пополам между СССР и Японией.
И попадают из огня да в полымя. Их арестовывают и по окончании мучительного следствия Рекити Сугимото приговаривают к расстрелу, Ёсико – к 10 годам заключения. После длительного скитания по лагерям и тюрьмам в декабре 1947 года ее освобождают. Ёсико Окада не была сломлена. Она встала на ноги, выучила русский язык, стала работать в театре имени Маяковского и в возрасте 50 лет даже окончила Государственный институт театрального искусства.
В начале 70-х годов в Токио стало известно, что Ёсико Окада намерена вернуться в Японию. Это вызвало огромный ажиотаж. Помнится, ее встречали толпы журналистов, фоторепортеров, представителей телевидения. О своих злоключениях она не рассказывала. Она говорила другое. В одном из первых своих высказываний она заявила, что у нее две родины – Япония, которая ее родила, и Советский Союз, который ее воспитал. Чем очень удивила японскую общественность. Тем не менее ее принимали почти как королеву. Пригласил ее в свою резиденцию премьер-министр Эйсаку Сато, который сказал журналистам, что в свои более молодые годы он, как и многие в Японии, восхищался Ёсико Окадой. Посетила она и советское посольство, где мы постарались принять ее как можно более гостеприимно, как близкого нам человека. Потом она несколько раз ездила в Москву и возвращалась в Токио, где ставила Островского и других русских классиков. Она скончалась в феврале 1992 года.
Я рассказал об этой феноменальной истории не только потому, что ее героиня была уникальной женщиной, но и потому, что своей настойчивостью, своей готовностью преодолеть даже самые невероятные трудности и лишения она в какой-то степени отражала черты своей нации – трудолюбивой, целеустремленной, не пасующей перед, казалось бы, непреодолимыми препятствиями.
Мое пребывание в Японии затянулось, приближаясь к девяти годам. Еще в 1972 году, когда Громыко приезжал в Токио, я поставил перед ним вопрос о том, что мне пора изменить место жительства. Он ответил, что я смогу это сделать, когда мы подпишем мирный договор с Японией. Не знаю, было ли это сказано в шутку или всерьез, но я изобразил удивление и сказал, что он, видимо, хочет, чтобы я окончил в Токио свое бренное существование.
В следующий приезд, в 1976 году, он тоже мне ничего не обещал. Поэтому я был несколько удивлен, когда в марте того же года, вскоре после XXV съезда КПСС, я получил сообщение, что моя просьба о переводе на работу в Москву удовлетворяется. Вместо меня послом в Японию был назначен бывший член политбюро ЦК КПСС Дмитрий Полянский.
Мне было приятно, что на мой прощальный прием в посольство пришло много видных деятелей – министров, парламентариев, руководящих партийных деятелей, главных редакторов ведущих газет. Как сострила одна из газет, здесь было достаточно видных политиков, чтобы прямо в посольстве провести заседание правительства.
Прибыв в Москву, я вскоре узнал, что награжден орденом Ленина. Это было, конечно, весьма приятно. И в то же время мне все больше казалось, что щедрая раздача наград, особенно в брежневские времена, приводила к своего рода инфляции в этой области. Особенно когда ордена и медали стали выдавать почти автоматически по случаю различных круглых дат и юбилеев. Я искренне считаю, что не заслужил тех двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, трех орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак почета» и многочисленных медалей, которые я получил.
Девять лет на Ист-Ривер
По возвращении в апреле 1976 года из Японии я был назначен членом коллегии МИД СССР и заведующим Вторым дальневосточным отделом. Однако через несколько месяцев меня пригласил к себе Громыко и предложил пост постоянного представителя Советского Союза при Организации Объединенных Наций. Он пояснил, что Яков Малик, который занимал эту должность последние несколько лет, тяжело болен и не сможет продолжать работу в Нью-Йорке. Яков Александрович скончался через несколько месяцев.
То, что мне предложил министр, выглядело весьма заманчиво, и я согласился. В самом деле пост в ООН считался, да и сейчас считается одной из самых высоких ступеней иерархической лестницы в дипломатии. Я только оговорился, что после десятилетия специализации по Дальнему Востоку мне потребуется какое-то время, может быть два-три месяца, чтобы приобщиться к гораздо более обширной ооновской тематике.
Вскоре мне позвонили из секретариата Брежнева и сообщили, что Леонид Ильич хотел бы меня видеть. Шел 1976 год, Брежнев находился еще в достаточно хорошей физической форме. Но разговор у нас не получался, создавалось впечатление, что ему просто нечего сказать мне. Так что беседу обо всем и ни о чем пришлось взять на себя. Впрочем, настроен Леонид Ильич был по-доброму, пожелал успехов и произнес другие полагающиеся в таких случаях слова.
Побывал я и у председателя КГБ Андропова в его кабинете на Лубянке. У меня с ним сложились давние почти дружеские отношения, еще с тех пор, когда он возглавлял отдел по связям с социалистическими странами в ЦК КПСС, а я был помощником Н. С. Хрущева.
В те годы мы часто звонили друг другу, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу или поделиться той или иной новостью. Хотя, насколько я знаю, Юрий Владимирович помимо Высшей партийной школы имел только заочное или вечернее образование, он был высокообразованный человек, и по всем показателям его можно было причислить к настоящим интеллектуалам.
Мне кажется, он понимал, что любое общество начнет загнивать, если на каком-то этапе не станет трансформироваться, реформироваться, преобразовываться.
Однажды я рассказал ему о своем разговоре с Ильей Эренбургом, который в аллегорической форме говорил о нашей действительности. Когда, по его словам, город находится в осадном положении, военные власти руководят всей его жизнью: они распределяют продовольствие, обеспечивают водоснабжение, контролируют идеологическую работу среди населения и т. д. Они делают это плохо, но все понимают, что их руководство необходимо, чтобы город выжил. Но когда осада снята, а власть пытается сохранить режим военного времени, вот тогда она оказывается в трудном положении.
На что Андропов несколько неожиданно для меня сказал: «Между прочим, кажется, кто-то из французских просветителей XVIII века высказал мысль о том, что плохое правительство тогда попадает в опасное положение, когда оно пытается сделаться лучше». Дальше он эту тему развивать не стал. Но я прекрасно понял, что он имел в виду, ибо «сделаться» можно только для себя самого, а вот «делать» надо для других. Он понимал, что советское общество нуждается в реформах. Однако я убежден, что он никогда не пошел бы на обвальную перестройку, как это сделал Горбачев. Думаю, что это были бы осторожные, дозированные шаги. Он в течение ряда лет жил под впечатлением венгерских событий 1956 года, когда он был послом в Будапеште. Как-то он сказал: «Вы не представляете себе, что это такое, когда улицы и площади заполняются толпами людей, вышедшими из-под контроля и готовыми рушить все, что попало. Я это испытал и не хочу, чтобы такое произошло в нашей стране».
Андропов любил мыслить аллегориями и обладал чувством юмора. Он почти наизусть знал Ильфа и Петрова. Любил цитировать их, а иногда и сам не прочь был подшутить. Вскоре после того как его назначили председателем КГБ, он позвонил мне и говорит: «Олег Александрович, куда вы исчезли? Приезжайте к нам, посадим вас (на слове «посадим» он сделал многозначительную паузу)… напоим чаем».
Вскоре после назначения Андропова председателем КГБ был у меня с ним и такой разговор. Он позвонил мне и спрашивает:
– Олег Александрович, что же вы меня не поздравляете?
– С чем, Юрий Владимирович?
– Ну как же? С тем, что мне присвоили звание генерала армии.
Я набрался духу и говорю:
– А мне кажется, что тут нет предмета для поздравления, вы ведь политический деятель, а не военный. Зачем вам генеральские чины?
Он задумался, а потом сказал:
– Пожалуй, вы правы, Олег Александрович, предмета действительно нет.
У него были широкие интересы и в области внешней политики, причем далеко не дилетантские. Прежде всего это касалось восточноевропейских стран и Китая. О Китае он размышлял много и глубоко. Он понимал, что в годы культурной революции, когда проблема отношений с СССР стала предметом внутриполитической борьбы в КНР, думать о нормализации советско-китайских отношений нереалистично. Но он не сомневался, что со временем обстановка изменится, и тогда важно будет не упустить момент для восстановления отношений добрососедства и дружбы.
Одного только я не могу понять и объяснить: как Андропов мог дать согласие на ввод советских войск в Афганистан, когда на более ранних этапах обсуждения этого вопроса, как показывают опубликованные протоколы заседания политбюро, он категорически выступал против этой акции.
Когда я посетил Андропова перед отъездом в Нью-Йорк, он сразу перешел на откровенный тон. Пожелав мне удачи в моей нелегкой миссии, сказал, что не сомневается насчет моих способностей по части общительности, установления контактов и дипломатичности. «Однако, – продолжал он, – пост представителя СССР в ООН, особенно в период холодной войны, потребует и публичной полемики, иногда в достаточно напористых выражениях. Это не в вашем характере, и здесь вы вступите в область, которая вам ранее была неведома. Поэтому я посоветовал бы вам как следует подготовиться к такому повороту в предстоящей работе».
Андропов также коснулся вопроса безопасности. Заметив, что США в целом и Нью-Йорк в частности – места далеко не безопасные, он предложил выделить мне телохранителя. Я сразу отказался, заявив, что не вижу в этом большого смысла, так как даже несколько человек все равно не смогут предотвратить покушение, если кто-то всерьез замыслит это сделать. Он не стал настаивать, и эта тема больше не возникала во время наших последующих встреч.
Конечно, я хорошо знал, что Соединенные Штаты – страна с давними традициями насилия. Пожалуй, нет другой страны в мире, где убивали бы столько глав государств – Линкольна, Гарфильда, Маккинли, Кеннеди, где стреляли в Рузвельта и Рейгана, серьезно ранив последнего, где убили таких крупных деятелей, как Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Уже находясь в Нью-Йорке, я не раз вспоминал об этом разговоре с Андроповым, в частности, когда от взрыва бомбы, подложенной кубинскими террористами, было сильно повреждено здание нашего представительства при ООН. Или когда обстреляли дачу представительства под Нью-Йорком, когда подкладывали взрывные устройства под машины некоторых наших сотрудников.
Был еще и такой случай, когда в зале Совета Безопасности два экстремиста, принадлежавших к какой-то маоистской группировке, перед началом заседания облили меня и заместителя постоянного представителя США Ван ден Хювеля красной краской. Когда я, переодевшись, появился перед ожидавшими меня журналистами, то, отвечая на их вопросы, сказал: «Better red than dead» («Лучше быть красным, чем мертвым»). Эта фраза имела большой успех, так как в то время крайне правые в США провозгласили своим лозунгом слова «Better dead than red», то есть «Лучше быть мертвым, чем красным».
Случались хулиганские выходки и против советских артистов, гастролировавших в США. Во время концерта Владимира Спивакова в Карнеги-Холл в него был брошен пакет с краской. Едва не был сорван концерт Елены Образцовой в одном из городов Флориды, когда на сцену подбросили мышей. Памятуя о подобных случаях, Эмиль Гилельс на первой же пресс-конференции, предшествующей его выступлениям, заявил, что, если хоть на одном из его концертов кто-нибудь позволит себе хулиганскую выходку, он немедленно прервет гастроли и больше никогда в Соединенные Штаты не приедет. Все его концерты прошли спокойно. А мне он сказал: «Разве можно себе представить, чтобы у нас в Союзе даже в момент самых напряженных отношений с Соединенными Штатами кто-либо попытался сорвать концерт американского музыканта».
…В конечном итоге наша беседа с Андроповым перешла к проблеме советско-китайских отношений, которыми Юрий Владимирович постоянно интересовался. И хотя на том этапе он не питал иллюзий насчет возможности улучшения и нормализации наших отношений с Китаем, он всегда считал, что во внешней политике нашей страны нет более важной проблемы, чем эта. В данном случае он высказал мысль, что, быть может, мне удастся наладить какие-то полезные контакты с китайскими представителями в ООН. Я, разумеется, ответил, что попытаюсь это сделать.
Уже к концу декабря, ближе к моему отъезду, состоялась беседа с Громыко, отдыхавшим в то время в санатории «Барвиха». Андрей Андреевич всегда с особым интересом следил за всеми делами, относящимися к ООН. И это неудивительно. Именно он еще во время войны вел предварительные переговоры с американцами и англичанами в Думбартон-Оксе относительно Устава ООН, а затем, после отъезда Молотова, возглавлял советскую делегацию на конференции в Сан-Франциско и от имени Советского Союза подписывал там устав в 1945 году. Так что он знал все тонкости деятельности этой организации, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой.
Главная рекомендация, которую Андрей Андреевич с определенной настойчивостью проводил в этой беседе, заключалась в том, что мне не следовало бы увлекаться полемикой с представителями других, особенно малых, стран во время дебатов в Совете Безопасности или на заседаниях Генеральной Ассамблеи. Советский Союз, говорил он, великая держава, и голос великой державы, ее слова должны звучать увесисто и не размениваться на мелкие препирательства.
Я воспринял эти высказывания не только как рекомендацию для себя, но и как завуалированную критику моего предшественника, который любил полемизировать и временами перегибал палку. Сам Громыко, несмотря на репутацию «мистер нет», которую ему присвоили западные журналисты, постоянно старался в своих выступлениях и беседах соблюдать меру. Понюхав ооновского пороха, я вскоре убедился в правильности его советов. Действительно, постоянные пререкания между израильскими представителями и арабами или между греками и киприотами, с одной стороны, и турками, с другой – по вопросу о Кипре навевали тоску и были, по сути, контрпродуктивными. Конечно, случалось, не без того, когда и мы оказывались вовлеченными в что-то близкое к перебранке. Но хочется думать, что это были редкие и нетипичные эпизоды.
Прибыли мы с женой в Нью-Йорк 31 декабря 1976 года. А с 1 января Советский Союз заступал на пост председателя Совета Безопасности (каждый из его членов занимал этот пост по очереди в течение одного месяца). К счастью, в январе 1977 года никаких крупных вопросов, заслуживавших внимания Совета, не предвиделось, и я имел время осмотреться и освоиться.
Я и раньше бывал в ООН – в 1946, 1949, 1950, 1955, 1956 и 1960 годах. Но это было наездами и далеко не на главных ролях. Теперь все это выглядело совсем по-иному. Очень скоро я на практике понял, что работа в ООН имеет мало общего с обычной посольской дипломатической деятельностью. Прежде всего масштабы работы отличались как небо от земли. Чем ближе я знакомился со своей новой епархией, тем больше ужасался ее беспредельности. Передо мной возвышался какой-то Кавказский хребет в виде множества так называемых специализированных учреждений, комитетов, подкомитетов, комиссий и подкомиссий. Прошло какое-то время, прежде чем я понял, что необъятное объять невозможно, что нужно сосредоточиться на главных направлениях и на вопросах, которые представляют реальный интерес для нашей страны. Но и это, в конечном счете, не облегчало положения. Во-первых, потому что нельзя было просто отмахнуться от множества малоинтересных для нас вопросов: кто-то должен был ходить на эти сессии комитетов и подкомитетов, кто-то должен был занимать ту или иную позицию по обсуждаемым там вопросам и в некоторых случаях согласовывать эту позицию с постоянным представителем, и, наконец, кто-то должен был отчитываться перед Москвой. Поэтому мне приходилось подписывать, а следовательно, и читать множество проектов телеграмм. Помнится, был случай, когда в один вечер и часть ночи мне пришлось подписать 26 телеграмм.
К счастью, у меня в основном были хорошие помощники, настоящие профессионалы, которые снимали с меня значительную часть повседневных тягот. Могу назвать, например, Макеева, который занимался экономическими вопросами, Овинникова, Шустова, Лозинского, Орджоникидзе и других. Сейчас постоянным представителем работает Лавров, прекрасный специалист, много лет занимавшийся международными организациями.
Моральным подспорьем в работе для меня было то, что наше посольство в Вашингтоне возглавлял мой давнишний друг Анатолий Добрынин. И хотя задачи, стоявшие перед посольством и представительством при ООН, совпадали нечасто, уже само сознание, что рядом есть человек, с которым всегда можно посоветоваться и на поддержку которого можно было положиться, вселяло чувство надежности и уверенности.
Аппарат, прямо или косвенно находившийся в ведении постоянного представителя, был поистине необъятен. Сюда входили не только работники представительства, но и советские граждане, работавшие в Секретариате ООН. И не только сотрудники МИДа, но и из многих других ведомств. В том числе из политической и военной разведок. Недоразумения с ними у меня возникали крайне редко, наши интересы, как правило, не пересекались, их больше занимали проблемы страны, а не ООН. Сотрудничать доводилось в тех случаях, когда кого-то из наших работников арестовывали или кто-то становился «невозвращенцем», как тогда было принято говорить. Что касается последних, то сам я не склонен был драматизировать подобные случаи.
Однако иногда возникали ситуации, которые попортили нам немало крови. Одна из них – с Аркадием Шевченко. Этот человек занимал высокий пост заместителя Генерального секретаря ООН, а до того работал в аппарате представительства при ООН. В начале 1978 года мне поступили сигналы от наших спецслужб о том, что с Шевченко происходит что-то неладное, а несколько позднее это «неладное» уже интерпретировалось как его возможная связь с американской разведкой.
Должен признаться, что я поначалу игнорировал эти подозрения, которые к тому же не подкреплялись конкретными доказательствами. Видимо, представители нашего соответствующего ведомства направляли имевшуюся у них информацию в Москву, но при отсутствии поддержки со стороны постоянного представителя из Москвы вряд ли могли поступить указания о каких-либо конкретных действиях.
Но постепенно я стал убеждаться, что с Шевченко действительно творится неладное. Он начал крепко выпивать, приходил в пьяном виде на совещания в представительство. На него начали жаловаться сотрудники Секретариата ООН из других стран, говорили, что с ним стало невозможно работать. Сейчас-то ясно, что уже тогда он по рукам и по ногам был повязан американской разведкой, отсюда, вероятно, и пьянство, которым он пытался заглушить раздиравшие его противоречивые чувства. Иначе зачем ему было вызывать излишние подозрения своими непотребными выходками.
В конце концов я отправил в МИД предложение вызвать Шевченко в Москву и на месте разобраться, в чем дело. Вскоре пришла ответная телеграмма с указанием, чтобы он выехал в Москву «для консультаций». Ознакомившись с телеграммой, Шевченко явно растерялся и ушел от меня в состоянии прострации.
На следующее утро мне позвонила жена Шевченко, Лина, и попросила срочно приехать к ней. Она показала мне письмо от мужа, которое часом раньше ей передали два молодых американца. В нем Шевченко сообщил, что решил остаться в США. Я предложил Лине немедленно перебраться в представительство, чтобы избежать провокаций, что она и сделала.
Как положено, я обратился к американским властям с требованием устроить мне встречу с Шевченко, хотя, по опыту аналогичных случаев, понимал, что это будет пустой разговор. Встреча состоялась поздно вечером в опустевшей деловой части Нью-Йорка. С Шевченко пришел его адвокат, мы были с Анатолием Добрыниным, который приехал из Вашингтона. Наши уговоры ни к чему не привели, Шевченко понимал, что зашел слишком далеко и обратного пути у него уже не было. Ничего не дала и вторая беседа с ним, которую я провел один, взяв с собой во избежание провокации миниатюрное записывающее устройство.
Тем временем жена Шевченко благополучно отбыла в Москву к сыну и дочери. В аэропорту чиновник Госдепартамента поинтересовался у нее, уезжает ли она по собственной воле, или ее вынудили к этому. Узнав, что это ее личное желание, никаких препятствий к отъезду чинить не стал. Через некоторое время мы узнали, что Лина покончила самоубийством в своей московской квартире.
Естественно, мы не могли допустить, чтобы Шевченко продолжал работать в Секретариате ООН, после того как он предал государство, направившее его на эту работу. Шевченко же, давая интервью американским журналистам, отстаивал свое право на работу в ООН, с которой у него оставался долгосрочный контракт. У меня по этому поводу состоялся разговор с Генеральным секретарем Куртом Вальдхаймом, который отнесся к нашему требованию с полным пониманием. Контракт с Шевченко был расторгнут, хотя и ценой большой компенсации, выплаченной ему.
Прошло еще какое-то время, и появилась книга Шевченко. В ней он набивал себе цену, хвастаясь близкими отношениями с людьми, занимавшими высокие посты в СССР. А потом появилась еще одна книга, автором которой была проститутка, сожительствовавшая с Шевченко. Она дала уничтожающие характеристики своему сожителю по всем статьям, включая и чисто профессиональную.
Стоит ли говорить, что вся эта история с предателем вызвала в нашем коллективе немалые переживания. Однако время берет свое, и постепенно жизнь входит в привычную колею. А работы у нас было предостаточно. Особенно же во время сессий Генеральной Ассамблеи ООН. В течение моего девятилетнего представительства в ООН советскую делегацию на этих ежегодных сессиях возглавлял Андрей Громыко. И только однажды он в виде протеста пропустил одну из них, когда правительство США запретило его самолету совершить посадку в Нью-Йорке. В тот год выступить с основной речью от имени Советского Союза пришлось мне.
Андрей Андреевич не проводил время в ООН даром, встречался с множеством министров из разных частей света. Можно сказать, что он не отказывал никому, понимая, что для представителей многих государств это единственная возможность обменяться мнениями с советским министром иностранных дел. Поэтому его рабочий день был заполнен до отказа – с утра до вечера. Не могу сказать, что Громыко определял внешнюю политику страны, точнее, он претворял в жизнь, иногда вопреки собственным желаниям, тот курс, который устанавливался политическим руководством. Но исполнителем, надо отдать ему должное, он был первоклассным.
Я имел возможность присутствовать на многих его встречах и могу утверждать, что даже в ходе напряженных бесед, когда требовалось выразить недовольство теми или иными действиями противоположной стороны, он сохранял выдержку и спокойствие. Запомнились, в частности, две беседы с тогдашним министром иностранных дел Израиля Шамиром. Громыко предъявил претензии к политике этого государства, которые и требовалось высказать, но сделал это в форме вполне тактичной. Он даже поднял свою правую руку, сказав при этом: «Этой самой рукой я голосовал в ООН за создание государства Израиль. Я и сейчас считаю тогдашнюю нашу позицию абсолютно правильной».
Не раз я восхищался его находчивостью, подсказанной многолетним опытом. Бывали случаи, когда представитель той или иной страны, не первой для нас значимости, поднимал в беседе вопрос, который был явно незнаком нашему министру, да он и не мог все знать. Тем не менее он, руководствуясь своим богатым опытом, неизменно находил правильный ответ.
Особо важными были встречи Громыко с государственным секретарем США, которые проходили попеременно в нашем представительстве или в представительстве Соединенных Штатов. После этого наш министр отправлялся в Вашингтон на встречу с президентом. Помню, уезжая в Вашингтон на беседу с Рональдом Рейганом, Андрей Андреевич сказал слова, которые произвели на меня впечатление: «Это будет мой девятый президент». Я начал перечислять в уме их имена: Рузвельт, Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон, Никсон, Форд, Картер, Рейган – и убедился, что он был прав.
Иногда во время пребывания Громыко в Нью-Йорке возникали неловкие ситуации. На одной из сессий к мне обратился посол Иордании, сообщивший, что король Хусейн приглашает советского министра на беседу к себе в гостиницу «Уолдорф-Астория», где он остановился. Андрею Андреевичу почему-то очень не хотелось ехать к королю. Он начал придумывать различные варианты, чтобы организовать встречу, так сказать, на нашей территории. Один из вариантов заключался в том, чтобы пригласить Хусейна на чай в наше представительство. Когда я передал это приглашение иорданскому послу, тот взмолился: «Это невозможно. Конечно, наша страна маленькая, но он все-таки король и ехать к министру просто не может». На следующий день, беседуя с нашим министром, я как бы невзначай завел разговор о Тегеранской конференции и сказал: «Между прочим, Рузвельт и Черчилль принимали шаха Ирана в своей резиденции, а вот Сталин поступил иначе, он сам поехал к шаху». Тут Андрей Андреевич задумался, а потом спросил: «Вы уверены, что дело обстояло именно так?» И когда я подтвердил это, сказал: «Ну ладно, поедем к королю. Вы будете меня сопровождать». Пиетет в отношении Сталина у него сохранялся до конца.
На одной из сессий Генеральной Ассамблеи произошел неприятный инцидент. Во время выступления с нашим министром случился обморок. Мы с ужасом стали замечать, что сначала у него начал заплетаться язык, а потом он вдруг склонился влево и был на грани того, чтобы рухнуть на пол. К счастью, охранники успели среагировать и почти унесли его в кабинет Генерального секретаря ООН, который находился в двух шагах от трибуны. Через какое-то время Андрей Андреевич пришел в себя и сказал, что ему надо вернуться в зал, чтобы закончить выступление. Несмотря на наши возражения, он настоял на своем, чувство долга у него всегда было высоко развито. Представители других стран оценили это. Когда он вновь появился на трибуне, ему устроили бурную овацию.
Важным направлением нашей работы в Нью-Йорке были контакты с Секретариатом ООН, и прежде всего с Генеральным секретарем. За время существования Организации пост Генерального секретаря последовательно занимали семь человек. Первые двое, норвежец Трюгве Ли и швед Даг Хаммаршельд, ориентировались главным образом на США и другие западные державы и проводили курс, который, с точки зрения Москвы, был односторонним и не соответствовал тем требованиям, которые Устав ООН предписывал главному административному должностному лицу организации. По мере того как соотношение сил в ООН стало меняться в пользу Советского Союза и развивающихся стран, последующие Генеральные секретари: У Тан, Вальдхайм и Перес де Куэльяр – стали проводить более сбалансированную линию, с учетом интересов всех основных сил на мировой арене.
Не могу сказать, что за время моего пребывания в Нью-Йорке у нас возникали сколько-нибудь серьезные конфликты с Вальдхаймом или Пересом де Куэльяром. Как правило, оба они были готовы прислушиваться к нашим доводам, хотя порою и не соглашались с некоторыми из них.
Вальдхайм пробыл на своем посту два срока начиная с 1971 года. У него было большое желание остаться и на третий срок, но тут возникли осложнения, неожиданные для многих, в том числе и для самого Вальдхайма. Как известно, Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности, а затем утверждается Генеральной Ассамблеей. Вскоре выяснилось, что, если из пяти постоянных членов Совета четверо: СССР, США, Великобритания и Франция – были готовы поддержать Вальдхайма на третий срок, пятый член, Китай, решил солидаризироваться с развивающимися странами и поддержать их кандидата – министра иностранных дел Танзании Салим Салима.
Образовалась тупиковая ситуация: Советский Союз и США поддерживали Вальдхайма и ветировали кандидатуру Салима, в то время как Китай поддерживал Салима и ветировал кандидатуру Вальдхайма. Такая картина неизменно повторялась в течение многих туров голосования. Это была весьма необычная для тех времен ситуация, когда США и СССР оказались в одной упряжке.
На каком-то этапе я направил в Москву телеграмму с предложением не ветировать кандидатуру Салима, а воздержаться. Я исходил из того, что американцы все равно не допустят избрания Салима, а мы, воздержавшись при голосовании по его кандидатуре, сделаем хоть символический жест в сторону развивающихся стран. Однако это был один из весьма редких случаев, когда Москва не согласилась с нашим предложением.
Выход из тупика нашел очередной председатель Совета, представитель Уганды Олара Оттуну. Он предложил систему неофициального опроса членов Совета, чтобы выяснить, имеется ли кандидат, который может рассчитывать на голоса всех. Тут забеспокоился Вальдхайм, почувствовав, что такой кандидат может найтись. Он срочно пригласил меня к себе и попросил дать своего рода обязательство, что Советский Союз будет готов наложить вето на любую кандидатуру, кроме него, Вальдхайма. Я ответил, что такого обещания дать не могу и не думаю, чтобы мое правительство было бы готово на это согласиться.
Вскоре выяснилось, что кандидат, приемлемый для большинства членов Совета Безопасности и, прежде всего, для его постоянных членов, нашелся. Это был Хавьер Перес де Куэльяр, до недавнего времени занимавший пост заместителя Генерального секретаря ООН, а до этого – посла Перу в Советском Союзе. Он и был избран Генеральным секретарем ООН.
ООН имеет еще и ту специфику по сравнению с посольской деятельностью, что здесь основная и наиболее важная часть работы ведется с делегациями других стран, чего нельзя сказать о работе в посольстве, где контакты с дипломатическим корпусом являются хотя и важным направлением, но по значительности далеко уступают работе с правительством, политическими партиями и общественными организациями страны пребывания. А в мое время уже примерно сто пятьдесят государств были членами ООН. Разумеется, при обсуждении того или иного вопроса охватить представителей всех этих стран, чтобы изложить точку зрения СССР и повлиять на их позицию, было и физически невозможно, и вряд ли необходимо. Поэтому после консультации с нашими тогдашними союзниками, странами Варшавского договора, важно было установить контакт с представителями наиболее влиятельных стран. К их числу, разумеется, прежде всего относились постоянные члены Совета Безопасности, а также некоторые государства, влияние которых в соответствующих регионах не вызывало сомнений, такие как Индия, Германия, Испания, Югославия, Мексика, Египет и некоторые другие.
Но своеобразность ситуации заключается еще и том, что нередко политический вес той или иной страны в реальном мире может быть незначительным, тогда как в ООН он многократно возрастает благодаря активности и авторитету представителей данной страны. Бывает и наоборот, когда то или иное государство в реальном мире обладает существенным влиянием, в то время как в ООН в результате пассивности ее представителей это влияние оказывается мизерным. Вспоминается, например, Олара Оттуну, представитель Уганды – страны, политический вес которой в мире был в то время близким к нулю. Однако Оттуну благодаря своему интеллекту и знаниям завоевал среди коллег авторитет, с которым другие не могли не считаться.
Другим примером, во всяком случае в те годы, могли служить такие представители Кубы, как Рикард Аларкон или Рауль Роа. Они отличались высоким профессионализмом, активностью, умением ладить с делегациями развивающихся стран различных направлений. Посол США Джин Кирпатрик, которая отличалась свей нелюбовью к Кубе, и та признавала это. На одно из заседаний Совета Безопасности она удивила аудиторию, заявив, что Куба – это политический гигант, покоящийся на спине экономического пигмея. Большинству стран – членов Движения неприсоединения импонировало, что такая маленькая страна, как Куба, смело бросала вызов Соединенным Штатам, невзирая на их военную и экономическую мощь. На моей памяти, пожалуй, никого на Генеральной Ассамблее не провожали такой овацией, как Фиделя Кастро, когда он выступал там в качестве председателя Движения неприсоединения.
Надо сказать, что в те годы Движение неприсоединения, основанное такими крупными фигурами, как Неру, Тито, Насер, Сукарно, играло важную роль в международных делах, а в Организации Объединенных Наций, вероятно, даже большую, чем в мире. Оно было создано в разгар холодной войны в качестве своего рода третьей силы между СССР и США. Но в большинстве случаев интересы этого движения совпадали с интересами СССР и его союзников. Это касалось таких проблем, как ближневосточная, режима апартеида в Южной Африке, Намибии, положения в Никарагуа и некоторых других, а они периодически появлялись в повестке дня как Совета Безопасности, так и Генеральной Ассамблеи. Поэтому, работая в ООН, мы во многих случаях полагались на наши тесные связи с развивающимися странами. Впрочем, в отдельных, правда, редких случаях, как, например, при обсуждении афганского вопроса, наши пути с подавляющим большинством стран – участниц Движения неприсоединения расходились.
Впоследствии влияние развивающихся стран в ООН пошло на убыль. Для этого был ряд причин. Во-первых, сошли со сцены государственные деятели, которые заложили основы Движения неприсоединения и пользовались большим авторитетом в мире. Многие из развивающихся стран, которые, впрочем, никогда не отличались экономической мощью, серьезно подорвали свою экономическую основу. Другие, как, например, Югославия, вообще оказались расколоты на части. Индия и Пакистан были вовлечены в непрекращающуюся конфронтацию друг с другом. Да и у российской внешней политики после распада Советского Союза заметно снизился интерес к сотрудничеству с государствами третьего мира.
Думаю, что отрицательные последствия этого процесса более или менее очевидны. Сильные стали сильнее, а слабые стали еще слабее. В результате военная, политическая и экономическая мощь в еще большей степени сосредоточилась в руках горстки держав, что привело к серьезному дисбалансу в мире, а следовательно, и в ООН.
Разумеется, определяющим явлением в то десятилетие – с 1977 по 1986 годы, когда я работал в ООН, как и во всем мире, была холодная война. Она имела свои приливы и отливы, но ее тень в той или иной степени постоянно омрачала обстановку в здании на Ист-Ривер в Нью-Йорке. Страдала от этого прежде всего и главным образом работа Совета Безопасности, ведущего органа ООН, который по уставу и по идее создателей организации должен был следить за порядком на нашей планете и пресекать любую угрозу миру. На деле получалось, что позиции постоянных членов Совета далеко не часто совпадали. Скорее наоборот. Как правило, это происходило в результате реального несовпадения интересов, а порою просто из-за аллергического нежелания западных держав занимать ту же позицию, что и Советский Союз.
Запомнился, например, такой случай. В 1981 году израильские войска вторглись в Ливан. Арабские страны обратились в Совет Безопасности. Проект резолюции, как обычно, сначала обсуждался и согласовывался на закрытом заседании Совета. Представитель Организации освобождения Палестины настойчиво просил меня добиться включения в проект требования «немедленного и безусловного» вывода войск Израиля из Ливана. Однако все мои усилия наталкивались на категорический отказ представителя США.
Это была та же Джин Кирпатрик, о которой я уже упоминал. Работа Совета Безопасности, казалось, зашла в тупик. Был объявлен перерыв. В это время ко мне подошел посол Дорр, представлявший Ирландию, которая в то время была непостоянным членом Совета, и сказал, что хочет попробовать предложить ту самую формулировку, которая безуспешно предлагалась мною. На мое замечание, что я не вижу в этом большого смысла, так как представитель США уже отверг ее, Дорр ответил: «Одно дело СССР, а другое дело Ирландия». После возобновления заседания он от своего имени выдвинул мою старую формулу. Тогда взгляды всех устремились на Джин Кирпатрик, которая не моргнув глазом сказала, что она согласна.
Правда, хотя и реже, но бывало и наоборот, когда мы не поддержали американцев, хотя могли бы это сделать. Мне, например, казалось, что нам следовало активно поддержать США в их конфронтации с Ираном, когда в ноябре 1979 года было захвачено американское посольство в Тегеране, а его сотрудники в течение долгого времени содержались в качестве заложников. Полагаю также, что в октябре 1977 года можно было не воздерживаться, а голосовать за англо-американскую резолюцию по Южной Родезии, которая обозначила конец господства там белого меньшинства и содействовала образованию нового государства Зимбабве. Даже представители освободительного движения в Родезии выражали тогда некоторое удивление по поводу нашей позиции.
Вообще соперничество между США и СССР создавало массу любопытнейших ситуаций в мире. Особенно это касалось третьего мира. Некоторые развивающиеся страны умело играли на противоречиях двух сверхдержав. Стоило какому-нибудь африканскому диктатору объявить себя приверженцем коммунизма, как тут же он получал экономическую и военную помощь от Советского Союза. И наоборот, стоило какому-нибудь полковнику или генералу захватить власть и провозгласить себя борцом против коммунизма, как он начинал получать экономическую и военную помощь от США.
Помню, на каком-то заседании Коллегии МИД посол, отчитывавшийся о своей работе в одной из арабских стран, заявил, что в ней начато строительство социализма. Однако, когда его попросили уточнить, в чем конкретно это выражается, он ничего толком ответить не смог, ссылался только на высказывания лидеров этой страны.
Приведу пример, когда я сам столкнулся с такой проблемой. О намерении пойти по социалистическому пути заявил тогдашний правитель Сомали Сиад Барре. И конечно, он попросил Москву поддержать его. Вскоре, однако, выяснилось, что военная поддержка ему понадобилась не для защиты «завоеваний социализма», а для захвата эфиопской провинции Огаден. Когда отговорить его от этой авантюры не удалось, Москва отказала ему в дальнейшей помощи. Зато тут же начал поставки оружия в Сомали Вашингтон, что привело к войне. Первоначально сомалийцам удалось серьезно потеснить эфиопов, но когда, в свою очередь, Советский Союз организовал помощь Эфиопии оружием и специалистами, положение резко изменилось и крупные поражения стали терпеть сомалийцы.
Именно тогда ко мне обратился американский представитель в ООН Эндрю Янг, сказав, что США хотят поставить в Совете Безопасности вопрос о военных действиях в Эфиопии. Я его спросил, почему американцы не вспомнили о Совете Безопасности, когда сомалийцы первыми вторглись на территорию Эфиопии? Янг, разумеется, понял, что Соединенные Штаты окажутся в весьма незавидном положении, если вопрос будет обсуждаться в Совете Безопасности, и больше к разговору об «агрессии» Эфиопии не возвращался.
Но были два мучительных вопроса, которые активно дискутировались и в Совете Безопасности, и на Генеральной Ассамблее и серьезно отражались на репутации Советского Союза. Я имею в виду прежде всего Афганистан, а также историю с гибелью южнокорейского пассажирского самолета.
Что касается Афганистана, то проблема эта возникла для меня лично, да, думаю, и для всех наших дипломатов в Нью-Йорке, совершенно неожиданно. Летом, когда я был в Москве в отпуске, слышал много разговоров о тяжелом положении, в котором находится режим Тараки-Амина, о том, что этот режим взял слишком жесткий, левацкий курс без учета реальной обстановки в Афганистане. Мне самому пришлось побывать там за несколько лет до этого, и тогда казалось, что уровень развития афганского общества можно было, весьма условно конечно, сравнить со средневековой Европой примерно XIII века. Помощник Брежнева по внешнеполитическим вопросам Александров-Агентов сказал мне тогда, что вопрос о возможности и целесообразности ввода советских войск в Афганистан обсуждался на политбюро ЦК и эта идея была категорически отвергнута. Совсем недавно была опубликована стенограмма тех обсуждений, в результате которых члены политбюро практически единогласно пришли к этому выводу. Так что мне и сейчас остается непонятным, что впоследствии, уже, видимо, где-то в декабре, заставило советское руководство столь роковым образом изменить свою точку зрения.
И вот где-то к концу декабря 1979 года я получил конфиденциальную телеграмму от Громыко, в которой говорилось, что если ввод советского воинского контингента в Афганистан станет предметом обсуждения в Совете Безопасности, то следует защищать нашу позицию, ссылаясь на статью 51 устава, в которой говорится о неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Разумеется, эта аргументация не выдерживала никакой критики, тем более что согласно той же статье 51 какие-либо меры, предпринятые для индивидуальной или коллективной самообороны, «не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности… в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимым для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». Эта телеграмма пришла еще до фактического ввода войск, но, получив ее, можно было, не напрягая воображения, почувствовать, что для советских представителей в ООН настали невеселые дни.
Не буду описывать всех перипетий этой неблаговидной для нас истории, сошлюсь лишь на два-три момента.
Прежде всего, стоило немалых усилий уговорить постоянного представителя Афганистана при ООН Бисмиллаха Сахака не занимать неприемлемую для нас позицию. Сахак был из фракции свергнутого нами Амина, и приход, или, точнее, «привод», к власти вместо него Бабрака Кармаля, руководителя иной фракции, стал для него большим потрясением. Сам он был женат на русской женщине, и это помогло убедить его сохранить более или менее лояльную для нас позицию. К тому же ему было дано обещание, что он сможет поселиться с семьей в Советском Союзе. Это обещание было впоследствии выполнено.
Несколько облегчило наше положение и то, что накануне дискуссии в Совете Безопасности в Нью-Йорк прибыл новый министр иностранных дел Афганистана Мухаммед Дост, профессиональный дипломат, человек рассудительный и спокойный. Но и он, как и мы, мало что мог сделать, чтобы изменить ход дебатов, которые напоминали игру в одни ворота. Мы были очень слабо вооружены фактами. Между тем представитель США Дональд Макгенри в своем выступлении в деталях рассказал, что происходило в Кабуле в ту ночь, когда там был убит Амин и произошла смена власти. Оказалось, что ЦРУ располагало в Афганистане хорошими источниками информации. А нам, представителям при ООН, приходилось довольствоваться скудными сведениями из московских газет и радиопередач. Когда через несколько месяцев я снова оказался в Москве и был у нашего министра, то пожаловался ему на недостаток информации, которой мы располагаем в Нью-Йорке, и в целом на слабое пропагандистское обеспечение всей афганской операции. Было видно, что Андрею Андреевичу эта тема была не по душе. Он отделался какими-то общими словами.
Как и следовало ожидать, за выдвинутый группой стран – членов Совета Безопасности проект резолюции проголосовало двенадцать стран, Замбия воздержалась, а СССР и ГДР проголосовали против. Американцы очень рассердились на замбийцев и имели с ними суровый разговор. Благодаря вето Советского Союза резолюция не была принята. Но это было только начало. Ожидали обсуждения афганского вопроса на Генеральной Ассамблее.
Однако время шло, а признаков переноса вопроса на Генеральную Ассамблею все не было. Через несколько дней я случайно встретился в кулуарах с послом Канады Бэртоном и спросил его, что происходит. Канадец ответил притчей о том, как мыши собрались на совет, чтобы решить, какие меры можно принять, дабы обезопасить себя от кота, который не давал им спокойно жить. Обсудили и единогласно постановили: навесить коту на шею колокольчик, который предупреждал бы о его приближении. Но тут возникло неожиданное препятствие: не нашлось волонтеров, готовых исполнить это решение. «Сейчас продолжаются поиски волонтеров», – закончил канадский посол.
Волонтеры, конечно, были найдены, и обсуждение на Генеральной Ассамблее состоялось. Ее резолюции не имели обязательной силы, однако они не могли быть заблокированы, как в Совете Безопасности, отрицательным голосом какой-либо великой державы. Поэтому здесь открывался большой простор для пропагандистских упражнений. Мы отбивались как могли, но все это было достаточно неприятно. В заключение была принята резолюция, поддержанная сотней с лишним стран. С трудом набралось тридцать с небольшим голосов против или воздержавшихся.
Американцы при активной поддержке Пакистана и нескольких других стран делали все, чтобы афганский вопрос оставался в центре внимания. Это было не сложно, так как пожар войны в Афганистане не только не утихал, но все больше разгорался. На каждой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, как своего рода ритуал, ставился и обсуждался этот вопрос, и каждый раз принималась соответствующая резолюция, направленная против Советского Союза.
В 1985 году, когда Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК, я как-то был у него и на вопрос, как дела в ООН, ответил, что холодная война препятствует тому, чтобы ООН выполняла те функции, которые возложены на нее уставом. Что касается позиций Советского Союза в этой международной организации, то они вполне благоприятные. Впрочем, добавил я, есть один вопрос, который висит, как гиря, у нас на ногах, – это афганский вопрос. Горбачев ответил, что и внутри страны война в Афганистане порождает серьезное недовольство. Надо, добавил он, искать выход из положения политическими средствами. Сдвиги в нашей позиции произошли позже, когда я уже находился в Китае, хотя и там афганский вопрос преследовал нас, как тень Банко в шекспировском «Макбете».
Другой неприятный для нас эпизод произошел в ночь на 1 сентября 1983 года, когда над Японским морем советский истребитель сбил южнокорейский гражданский авиалайнер «Боинг-747». При этом погибло 269 человек – все пассажиры и экипаж самолета. И в данном случае советская пропаганда действовала самым неуклюжим образом. В течение нескольких дней официальные средства массовой информации публиковали различные уклончивые сообщения, не решаясь признать, что самолет был сбит советским истребителем. Пожалуй, это обстоятельство не в меньшей степени, чем сам факт уничтожения авиалайнера средствами ПВО, использовалось в западных странах для разжигания антисоветской кампании. Впрочем, первый заместитель министра иностранных дел Корниенко сообщил мне тогда, что Громыко, как и он сам, предлагал не наводить тень на плетень, а использовать в нашей пропаганде ряд сомнительных обстоятельств полета корейского самолета, которые давали основания подозревать его в сборе разведывательной информации. Это было сделано только на пресс-конференции 9 сентября. А к тому времени инициатива в пропагандистской баталии была уже упущена.
Надо сказать, что за прошедшие с тех пор десять лет, несмотря на гласность, свободу печати и всяческие реформы, в нашей стране достигнут небольшой прогресс в пропагандистском обеспечении тех или иных акций. Между тем пропаганда (пусть вместо этого слова используют такие эвфемизмы, как «отношения с общественностью») должна базироваться на научной основе. Ни один мало-мальски важный политический ход, если рассчитывать на успех, не должен быть сделан без предварительной серьезной психологической проработки с целью его пропагандистского обеспечения. Надо признать, что в этой области американцы достигли значительно более высокой квалификации, чем мы. Достаточно сравнить тот пропагандистский эффект, которого они добились в истории с корейским самолетом, с приглушенной реакцией в мире, когда через несколько лет американской ракетой был уничтожен иранский гражданский лайнер и погибли многие десятки пассажиров.
Но вернемся к трагической гибели корейского самолета. В это время я находился в Москве в отпуске. Уже вечером 1 сентября меня вызвал министр и, сообщив о случившемся, высказал предположение, что дело не обойдется без новой акции в Совете Безопасности. При этом его лицо приняло извиняющееся выражение, а это бывало с ним очень редко. Он сказал, что мне придется прервать отпуск и срочно вылететь в Нью-Йорк. После чего извиняющееся выражение с его лица исчезло и он добавил, что под «срочно» он имеет в виду – завтра.
Заседание Совета действительно состоялось через несколько дней по инициативе Соединенных Штатов. К тому времени, в отличие от Афганистана, мы были более или менее удовлетворительно вооружены фактическим материалом. Поэтому требуемое большинство в девять голосов авторы соответствующей резолюции, осуждающей действия Советского Союза, сумели набрать лишь с большим трудом. Казалось бы, это не имело большого значения, так как заранее было очевидно, что Советский Союз наложит вето на проект резолюции и он при любом соотношении голосов не будет принят. Тем не менее если бы американцы не смогли набрать большинства голосов и проект резолюции провалился бы и без использования нами права вето, то это рассматривалось бы как крупное поражение Соединенных Штатов.
В конечном итоге все свелось к тому, согласится ли Мальта, которая в то время входила в Совет в качестве непостоянного члена, голосовать за проект резолюции, представленный США, или же она воздержится. После длительной обработки американцами мальтийский представитель все же поддержал резолюцию, которая тут же была заветирована нами. В американской печати появилось сообщение о том, что США купили голос Мальты, обещав ей значительную финансовую помощь на развитие гражданской авиации. При случае я спросил посла Мальты, соответствуют ли эти сведения действительности. Он, разумеется, сказал, что нет.
Значительно позже, в октябре 1996 года, в газете «Вашингтон пост» появилась статья Алвина Снайдера, бывшего директора Информационного агентства США, который признал, что озвученная американской делегацией на заседании Совета Безопасности запись разговора по радио между пилотом истребителя, сбившего южнокорейский самолет, и контролером на земле была сфальсифицирована. Некоторые реплики этой записи были просто опушены, чтобы доказать, что русские заведомо знали, что уничтожают пассажирский самолет. На самом деле, как вытекает из полной записи радиоразговора, пилот истребителя был убежден, что имеет дело с американским разведывательным самолетом RC-135. Причем, прежде чем открыть огонь, советский летчик давал предупредительные сигналы, требуя от корейского самолета совершить посадку.
Иногда, уже в наше время, мне задают вопрос в связи с Афганистаном: не чувствовал ли я угрызений совести или желания уйти в отставку, когда защищал неправедную советскую позицию. Отвечаю, что желания уйти в отставку у меня не было, чувство же неловкости наличествовало. Но дипломат на то и дипломат, чтобы защищать позицию своей страны, даже когда у него появляются сомнения в ее праведности. У американцев даже есть нечто вроде афоризма: «Я за свою страну – права она или нет».
Случаи, когда дипломаты подавали бы в отставку ввиду несогласия с политикой своего правительства, крайне редки. Я о таких случаях просто не слышал. В то же время ворчание по поводу того, какую линию ведет собственное правительство, приходилось слышать довольно часто. Послам западных держав в ООН – США, Англии, Франции, естественно, не доставляло удовольствия много раз применять свое право вето или угрожать его применением, когда развивающиеся страны обращались в Совет Безопасности с жалобами на те или иные действия Южной Африки или Израиля. Некоторые из наших западных коллег пытались скрыть свою неудовлетворенность остротами. Английский посол однажды сказал мне: «Знаете, применять право вето – это все равно что совершать прелюбодеяние. Первый раз ты чувствуешь какие-то угрызения совести, но зато потом – сплошное удовольствие». Поскольку я за девять лет использовал право вето только три раза, то мне так и не пришлось испытать удовольствия, о котором иронически говорил мой английский коллега.
Если говорить о профессионализме дипломатов различных стран в ООН, то, на мой взгляд, высокий рейтинг заслужили представители Великобритании. Сказывались как многолетние традиции английской дипломатии, так и строгие требования, предъявляемые при приеме на государственную службу в этой стране. Конечно, в наше время Великобритания уже не играет той лидирующей роли в международных делах, которая ей принадлежала на протяжении нескольких веков, вплоть до окончания Второй мировой войны. Сейчас ориентация на США значительно ограничивает ее международные инициативы, в том числе и в ООН. Тем не менее такие дипломаты, как Энтони Парсонс или Джон Томсон, которые были моими коллегами в 70-х и 80-х годах, играли заметную роль в этой международной организации. Их можно отнести к лучшим представителям английской дипломатической школы.
Гораздо более пестрым был список постоянных представителей США. За девять лет моей работы в ООН сменилось пять американских послов. Это были совсем разные люди, профессиональный уровень которых колебался от весьма высокого до посредственного. Такая высокая амплитуда объясняется самой системой назначения послов в США, когда каждый новый президент сменяет половину всех американских послов и назначает новых с учетом их партийной принадлежности, лояльности, а часто и сумм, внесенных ими в избирательный фонд. Что касается назначения постоянных представителей при ООН, то здесь в большей степени учитывалась квалификация кандидатов, поскольку работа в Нью-Йорке все время была на виду у публики и средств массовой информации. Те или иные неосторожные высказывания или ошибки американского представителя могли нанести серьезный политический ущерб администрации, тем более что некоторые послы США при ООН одновременно назначались членами кабинета министров и для участия в его заседаниях периодически выезжали в Вашингтон.
Пожалуй, наиболее яркой фигурой среди американских послов был Эндрю Янг, близкий сподвижник Мартина Лютера Кинга во время массового движения негров, или афроамериканцев, как теперь принято говорить в США, за свои права. Он был назначен послом при ООН президентом Картером, который искал пути улучшения отношений со странами Африканского континента и в целом с Движением неприсоединения и, видимо, считал, что либерально настроенный американец с африканскими корнями будет наиболее подходящей фигурой для этих целей. За время пребывания в ООН Янг действительно во многом преуспел на этом поприще. Я бы добавил, что в отличие от многих американцев он не драматизировал сближение Советского Союза с рядом стран Африки, таких как Эфиопия, Ангола, Мозамбик. Не без основания, на мой взгляд, он говорил, что, пока эти страны отстаивают свою независимость, им нужно оружие, и они обращаются к СССР. Когда же их положение укрепится, им нужна будет экономическая помощь, и тогда они повернутся лицом к западным странам, прежде всего к США.
Эндрю Янг вел себя довольно свободно в ООН. Иногда он выходил за рамки присущей профессиональным дипломатам осторожности. Помню случай на обеде у посла Нидерландов. Тогда у президента Картера возникли серьезные разногласия с американскими нефтяными монополиями. Беседуя с группой послов, Янг сказал: «Если так будет продолжаться, президента могут и убить». На восклицание одного из присутствующих: «Что вы говорите, господин посол!» – Янг ничтоже сумняшеся ответил: «Что вы хотите, такова моя страна». Подобная свобода мыслей и действий в конечном итоге привела к тому, что дипломатическая карьера Янга преждевременно прервалась. Однажды он в неофициальной обстановке встретился с представителем Организации освобождения Палестины. Видимо, это было сделано без согласования с государственным департаментом. Произраильские организации США и средства массовой информации подняли по этому поводу большой шум: как это представитель Соединенных Штатов при ООН встречается с террористами! Хотя через несколько лет само правительство Израиля вступило в переговоры с этими самыми «террористами». Президент Картер предложил Янгу подать в отставку, что он и сделал.
Его сменил Дональд Макгенри, тоже афроамериканец. Это был вдумчивый, осторожный работник высокой квалификации, который добросовестно защищал интересы США. Впрочем, его пребывание на посту посла при ООН продолжалось сравнительно недолго. В ноябре 1980 года он пригласил нас с женой к себе домой, чтобы вместе следить за поступавшей по телевидению информацией о результатах президентских выборов. В тот вечер почти сразу стало очевидно, что Картер потерпел сокрушительное поражение от Рейгана.
На этом закончилась и дипломатическая карьера Макгенри, которого сменила назначенная Рейганом Джин Кирпатрик, о ней я уже упоминал. Это была весьма самоуверенная, идеологизированная, но не очень хорошо разбиравшаяся в международной политике дама. Впрочем, она пользовалась большой популярностью в крайне правых кругах американского истеблишмента. Президент Рейган однажды даже назвал ее «нашей Жанной д’Арк».
Ее сменил генерал Уолтерс, полиглот, бывший военный разведчик, специализировавшийся на Латинской Америке. Мы с ним познакомились еще в 1955 году на Женевском совещании глав государств четырех держав, где он переводил президента Эйзенхауэра на французский, а я Хрущева, Булганина, Молотова и Жукова – на английский. Как и многие другие разведчики, это был неглупый человек и вполне приятный собеседник. К тому же он появился в ООН в середине 80-х годов, когда холодная война начала смягчаться и у обеих сторон появились ростки понимания необходимости поиска путей к сближению позиций.
Некоторые представители США в неофициальных разговорах иногда жаловались на то, что Нью-Йорк слишком близко расположен к Вашингтону. Они постоянно находились под неусыпным оком Белого дома и государственного департамента. А это, по их словам, высвечивало их малейшую оплошность и сковывало инициативу.
Был даже такой случай. В Совете Безопасности рассматривался один из острых аспектов ближневосточной ситуации. Наш американский коллега Дональд Макгенри получил из Вашингтона (видимо, из государственного департамента) указание не возражать против проекта резолюции, что он и сделал. Однако в конце того же дня поступили более строгие инструкции (как я понял, уже из Белого дома) потребовать исключить из текста резолюции одно или два прямых упоминания Израиля. Бедному Макгенри пришлось немало попотеть, чтобы задним числом добиться изменения уже согласованной резолюции. Потом он в сердцах говорил, что в следующий раз пусть те люди в Вашингтоне, которые сочиняют эти указания, сами и добиваются их выполнения.
Работа в ООН – это работа на виду. Там, конечно, тоже ведется закулисная дипломатия, но ее результаты проявляются на официальных открытых заседаниях, где каждое неосторожное слово может иметь неприятные последствия. Многочисленные журналисты из различных стран мира, которые освещали заседания Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН, часто фиксировали не только их итоги, но и различные оплошности.
В отличие от американцев наши представители имели большую свободу маневра. Как правило, мы могли действовать по своему разумению. В важных случаях (в основном при голосовании в Совете Безопасности) мы информировали Москву о ситуации и о позиции различных государств – членов Совета, сообщали, что намерены голосовать так-то и так-то, если не получим иных указаний. Москва нас поправляла только в очень редких, можно сказать, единичных случаях.
В течение всего срока моего пребывания в Нью-Йорке я не забывал пожелания Андропова попытаться установить полезные контакты с китайскими представителями. Оказалось, что желать этого было значительно легче, чем осуществить. В первые несколько лет мы постоянно встречали с их стороны полную немоту. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как именно в те годы произошло новое обострение советско-китайских отношений в результате вторжения вьетнамских войск в Камбоджу и последующих военных действий на китайско-вьетнамской границе. Однако постепенно и очень медленно контакты между советскими и китайскими представителями в ООН стали налаживаться.
В Нью-Йорке мы существовали в трех разных измерениях: жили жизнью своей Родины – ее достижениями и неудачами; жизнью Организации Объединенных Наций, этого островка в американском океане, куда мы были направлены, чтобы защищать интересы Родины; и, наконец, жизнью Нью-Йорка – второй столицы Соединенных Штатов и главного делового, культурного и информационного центра. Вот об этой третьей жизни я хотел бы коротко рассказать в заключение настоящей главы.
К сожалению, работа в ООН оставляла мало времени для города. Но кое-что все-таки удавалось сделать. У нас установились неплохие контакты с газетой «Нью-Йорк таймс», а также, но в меньшей степени, с журналом «Тайм». С тогдашним главным редактором газеты Максом Франкелем мы были в приятельских отношениях. Он в конце 50-х годов работал корреспондентом газеты в Москве и с удовольствием вспоминал о своем пребывании там. В конце 1994 года, когда в Университете Браун проходила большая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева, он выступал там и забавно рассказывал о своих встречах с нашим тогдашним лидером. Приходилось нам с женой бывать и у него дома, играть с ним в теннис.
Поддерживали мы контакты и с издателем и владельцем «Нью-Йорк таймс» Сульцбергером… А когда в Нью-Йорк из Вашингтона приезжал их главный обозреватель Джеймс Рестон, он частенько навещал меня для неофициальных бесед.
Не стану утверждать, что эти встречи как-то влияли на политическую направленность газеты. Если бы я и стал это утверждать, мне вряд ли кто-либо поверил. Тем не менее некоторые высказанные мною соображения время от времени попадали на страницы газеты. И не скрою, мне было лестно увидеть перед отъездом на родину статью в «Нью-Йорк таймс», где в заголовке я был назван «дипломатическим виртуозом».
Были интересные встречи и с самым известным американским ведущим телевидения Уолтером Кронкайтом. Однажды среди населения был проведен опрос общественного мнения о том, кому американцы больше всего доверяют. Выяснилось, что наиболее высокий рейтинг – выше, чем у президента, вице-президента или какой-либо кинозвезды, – был именно у Кронкайта. Внешность у него была фотогеничная, а лицо – внушающее доверие. Во время войны Кронкайт провел некоторое время в Москве. Во время бесед со мной он часто вспоминал о тех годах, восхищался героизмом советских людей. Однажды Кронкайт сказал мне, что за все многие годы его работы на телевидении ему ни разу никто не давал указаний, что и как ему говорить. «Но это и неудивительно, – добавил он, – когда руководители компании Си-би-эс поручали мне эту работу, они знали, что имеют дело с человеком, которому можно доверять. Вероятно, и в вашей стране дело обстоит таким же образом». Я не стал его разуверять в этом.
Что касается журналистов, аккредитованных при штаб-квартире ООН, то с ними мы общались почти повседневно.
Среди наших знакомых, с которыми мы встречались более или менее регулярно, были бывший государственный секретарь США Сайрус Вэнс, Теодор Соренсен, который в годы президентства Джона Кеннеди работал его помощником и писал его речи, раввин Артур Шнайер, влиятельный глава общественной организации «Призыв к совести».
Вообще говоря, особых трудностей в установлении знакомств с американцами у нас не было. Они народ общительный. К тому же средства информации США создали у населения страны определенный стереотип советского дипломата: неотесанного, застегнутого на все пуговицы, говорящего заранее заученными фразами. И когда они встречали советских дипломатов, которые вели себя вполне свободно, иногда даже допускали иронические высказывания по поводу порядков в своей стране, свободно говорили по-английски, – это сразу создавало благоприятную атмосферу для общения. На обеде в доме заместителя издателя газеты «Нью-Йорк таймс» Сиднея Грюсона я познакомился с Генри Киссинджером. Киссинджер говорил по-английски с сильным немецким акцентом, и поэтому он с удивлением воскликнул: «Что же это получается: русский посол говорит по-английски лучше, чем бывший государственный секретарь США!»
Регулярные контакты были у нас с Дэвидом Рокфеллером – младшим из пяти братьев этой знаменитой семьи. В первые годы моего пребывания в Нью-Йорке он был президентом «Чейз Манхэттен банка» и, разумеется, имел интересы в ряде других компаний. Каждые два-три месяца я приглашал его на завтрак или он приглашал меня. Обычно он приводил с собой каких-нибудь видных людей из финансового или политического мира. За столом, как правило, велись интересные разговоры.
Об одном из них хочу рассказать специально. Дэвид (читатель, может быть, не знает, что у американцев, особенно в послевоенное время, утвердилась манера обращаться к собеседнику по имени практически с первого же знакомства) упрекнул меня по поводу того, что в Советском Союзе существуют жесткие каноны в области, искусства – любое произведение, отклоняющееся от некой генеральной линии, обречено в лучшем случае оказаться на полке или в запаснике.
Я не стал спорить, заметив, что, к сожалению, он в известной степени прав. Но, продолжая эту тему, я сказал, что в Соединенных Штатах ведь существуют не менее жесткие порядки. Тут я напомнил Дэвиду о скандальном случае, который произошел в начале 30-х годов, когда в Нью-Йорке строился комплекс зданий «Рокфеллер-центр». Тогда его отец заказал всемирно известному мексиканскому художнику Диего Ривере панно для главного входа в центральное здание комплекса. Когда же обнаружилось, что среди других персонажей на панно был изображен и Ленин, последовало указание уничтожить это произведение искусства, что и было сделано.
Мой собеседник признал, что мой рассказ в основном соответствует действительности. Он только добавил, что, помимо изображения Ленина, Диего Ривера показал на панно его отца, играющего в карты с обнаженной проституткой, что папе уже совсем не понравилось. Одного Ленина отец, может быть, и вытерпел бы.
Я мог бы сослаться и на другие примеры. Например, на случай с панно не менее знаменитого мексиканского художника Альфаро Сикейроса, на котором был изображен индеец, распятый на кресте белыми людьми. Это панно было уничтожено властями города Лос-Анджелеса, по заказу которых оно было создано. Однако я не стал углублять этот спор, да и Дэвид не был расположен его продолжать.
Как правило, наши беседы были интересны и поучительны для меня и, я надеюсь, для него тоже.
Здесь напрашивается небольшой постскриптум. Находясь в Гаване в начале 90-х годов на конференции, посвященной Карибскому кризису 1962 года, я познакомился с дочерью Дэвида Рокфеллера, которая была там по какой-то другой линии. Оказалось, что она большая почитательница Фиделя Кастро и часто бывает на Кубе. При следующей встрече с Дэвидом я рассказал ему об этом. Печально улыбнувшись, он сказал, что, к сожалению, политические взгляды его и его дочери не совпадают.
Сейчас, когда Организация Объединенных Наций отметила свою полувековую годовщину, мы можем, как мне кажется, объективно проанализировать ее достижения и недостатки. Очевидно, что она не превратилась в ту международную полицейскую силу, которая по идее ее создателей и, прежде всего, президента Рузвельта должна была усилиями пяти великих держав поддерживать мир на земном шаре. По-видимому, это была иллюзия, которой не суждено было стать реальностью. Более того, пять великих держав после капитуляции Германии и Японии разошлись своими путями, которые привели их к холодной войне.
Но есть основания утверждать, что даже в те тревожные годы противоборства и конфронтации ООН продолжала играть определенную позитивную роль, содействуя тому, чтобы холодная война не переросла в войну ядерную с катастрофическими последствиями для всего человечества. К чему сводилась эта роль? Во-первых, трибуна ООН – а более высокой трибуны в мире пока нет – давала государствам возможность излагать свою точку зрения на события в международной жизни и тем самым ослаблять напряженность в их отношениях. Во-вторых, это позволяло общественному мнению в различных странах сопоставлять позиции основных противоборствующих сторон. В результате такого сопоставления та или иная держава подвергалась определенному международному давлению, с которым она не могла не считаться. Так было во время войны во Вьетнаме, так было во время войны в Афганистане, так было и в некоторых других случаях. И наконец, были все же международные конфликты, пусть не самые острые, которые удавалось решать непосредственно в ООН.
Ныне ситуация в ООН претерпевает серьезные изменения, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Казалось бы, окончание холодной войны должно было способствовать большей согласованности в отношениях между государствами. Однако нарушение прежнего баланса противоборствующих сил, который обеспечивал определенную, пусть и не очень устойчивую, стабильность в мире, вызвало к жизни множество локальных этнических и даже религиозных конфликтов.
Разрешение их в лоне ООН затруднено тем, что Соединенные Штаты, став наиболее мощной державой в современном мире, пытаются приспособить эту международную организацию исключительно к своим интересам. Это проявляется и в кадровых перестановках, происходящих в ООН, и в финансовом диктате американцев, использующих свои взносы в бюджет ООН в качестве политического рычага. Не содействуют гармонии международных отношений и планы распространения НАТО на Восток.
Все это говорит за то, что в недалеком будущем можно ожидать роста противоречий при определении курса, которому должна следовать ООН.
А вообще-то нашим нынешним дипломатам можно посочувствовать. За нами стояла великая держава, обладавшая колоссальным экономическим, военным и созидательным потенциалом. Сегодня у дипломатов этого нет, и, чтобы хоть как-то компенсировать невосполнимую утрату, им необходимо обладать филигранной техникой ведения дискуссий, удвоенной энергией и находчивостью. А главное – твердой убежденностью в том, что страна наша сумеет преодолеть нынешние трудности и вернет себе былое величие и силу. Ради этого стоит работать.
Последний аккорд
По возвращении из Нью-Йорка в начале 1986 года я посетил министра иностранных дел Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе. Это было время больших перемен, которые затронули и наше внешнеполитическое ведомство. Новое руководство стремилось продемонстрировать, что оно намерено проводить новую политику не только внутри страны, но и вне ее. Это требовало среди прочего и перестановки фигур на дипломатической доске. Одних послов передвигали в новые столицы, другим предлагали уйти на пенсию. Известно, что Громыко не любил менять послов, особенно в ведущих странах мира. Так, Добрынин пробыл послом в США 23 года, достаточный срок, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, Луньков – семь лет в качестве посла в Италии, а я – по девять лет в Японии и в Организации Объединенных Наций.
Поэтому у меня не было особых сомнений в том, что новый министр предложит мне новый пост. Собственно говоря, мне на это намекали его помощники, называя Лондон. В начале беседы об этом сказал и сам министр. Да, предполагалось предложить мне пост посла в Великобритании, но пару дней назад ему позвонил Горбачев, который сказал, что есть нечто более важное, а именно что нам нужен новый посол в Китайской Народной Республике, причем им должен быть видный профессиональный дипломат, а не партийный деятель. К тому же дипломат, который в прошлом не имел никакого отношения к Китаю. «Таким образом, – сказал в заключение Шеварднадзе, – выбор падает на вас. Естественно, – добавил он, – учитывая значение Китая, на предстоящем съезде партии необходимо будет перевести вас из членов Ревизионной комиссии в кандидаты в члены Центрального комитета».
После короткого раздумья – все же предложение было для меня неожиданным – я дал согласие на это новое назначение. Не вызывало сомнения, что стремление нормализовать отношения с Китаем станет одним из приоритетных направлений во внешней политике нового руководства.
Я представлял себе, конечно, что в бытовом плане жизнь в Лондоне была бы более комфортабельной, чем в Пекине. А работа в посольстве, расположенном в доме № 13 по Кенсингтон-Палас-Гарденс, не потребовала бы больших усилий, поскольку отношения Советского Союза с Великобританией в значительной степени зависели от состояния дел между СССР и США.
Что касается Китая, то это действительно была задача первостепенной важности и большой сложности. По правде говоря, я не очень вписывался в параметры, намеченные Горбачевым для кандидата на этот пост. Верно то, что я никогда не был на первых ролях в наших отношениях с Китаем. Однако в качестве помощника Хрущева, а затем и Косыгина я имел касательство к формулированию политики Советского Союза в отношении нашего соседа на востоке. Более того, я сопровождал как того, так и другого в их поездках в Пекин в 1958 и 1965 годах. Таким образом, у меня была возможность не только следить за развитием нашей восточной политики, но и оказывать кое-какое влияние на ее направленность.
Должен признаться, что в конце 50-х и 60-х годах я не принадлежал к числу тех, кто видел пользу в идеологических или политических уступках тогдашнему левацкому курсу Китая. В то время китайское руководство занимало крайне радикальную позицию по всем вопросам, относящимся к «антиимпериалистической борьбе». Оно осуждало советское руководство в весьма резких выражениях за каждый шаг, направленный на разрядку международной напряженности. Создавалось впечатление, может быть ошибочное, что в Пекине рассчитывали на столкновение двух сверхдержав, в результате которого можно будет, как тогда говорили, сидеть на вершине горы и наблюдать за схваткой двух тигров. Кроме того, делались попытки повлиять на внутреннюю ситуацию в Советском Союзе с целью возрождения в той или иной форме сталинизма.
Однако к тому времени, когда состоялась моя беседа с Э. А. Шеварднадзе, многое изменилось. Политика Китая, как внутренняя, так и внешняя, подверглась радикальной, можно сказать, сенсационной трансформации. Китайское руководство на деле приступило к реформам, о которых мы еще только теоретизировали, не зная, с чего начинать. Изменилось и мое отношение к Китайской Народной Республике. Можно сказать, что я был обращен в новую веру. А потому истина для меня теперь заключалась в необходимости сближения наших стран или, как стало принято выражаться, в «нормализации» наших отношений.
Готовясь к миссии в Пекин, я восстанавливал в памяти различные стадии наших связей с этой великой страной, особенно тех, к которым я имел отношение в качестве свидетеля или участника. Китайский фактор всегда играл большую роль в политических расчетах советского, а теперь и российского руководства. В течение ряда лет после образования КНР отношения между двумя странами были дружественными и стабильными во всех областях. В то время Китай испытывал острую, если не сказать отчаянную, нужду в советской помощи с целью модернизации своей экономики и вооруженных сил. И такая помощь с нашей стороны ему была оказана. Постепенно, однако, эти отношения начали давать сбой. Даже сейчас, много лет спустя, нелегко конкретно определить истоки того, что в конечном счете привело к драматическому расколу и острейшему конфликту между двумя партиями, двумя великими державами. В качестве помощника Никиты Хрущева, а затем Алексея Косыгина я имел возможность наблюдать за тем, как постепенно разворачивался этот печальный свиток взаимных обид и нелепых оскорблений.
Специалисты-международники по-разному объясняют причины разрыва: осуждение Хрущевым Сталина; нежелание Советского Союза передать китайским ученым секреты ядерной технологии; критика Китая Москвой во время индийско-китайского пограничного конфликта.
Однако, как мне представляется, для происшедшего раскола имелась более глубокая причина: Китай, который по праву считал себя великой державой, не мог в течение долгого времени оставаться на вторых ролях в каком-либо ансамбле. Между тем в союзе с СССР он был обречен именно на такую роль. Не случайно во время последующего сближения с Вашингтоном китайские руководители неоднократно подчеркивали, что они не намерены вступать в стратегические, то есть союзнические отношения с какой бы то ни было державой. Кроме того, после смерти Сталина возник и чисто личностный момент: председатель Мао полагал, что теперь ему принадлежит роль лидера мирового коммунистического движения. Даже термин «большой брат» в применении к советским людям начал резать китайцам слух, хотя в свое время они сами были его авторами. Таким образом, как мне представляется, разрыв был рано или поздно практически неизбежен.
Разлад между двумя державами и партиями в принципе мог бы принять и более цивилизованные формы. Если бы не тот самый личностный фактор, о котором я сказал. Каждый хотел показать себя истинным марксистом, более истинным, чем другой. И начатая более или менее спокойно полемика в центральных органах печати «Правде» и «Жэньминь жибао» вскоре вылилась в кухонную склоку. В глазах Москвы китайские руководители стали отпетыми догматиками и схоластами, в то время как кремлевские деятели обзывались Пекином ревизионистами и пособниками американских империалистов. Через какое-то время советские лидеры превратились в «новых царей», а для советской пропаганды Китайская Народная Республика стала «военной диктатурой». Когда, покидая Пекин в 1990 году, я нанес прощальный визит бывшему министру иностранных дел КНР У Сюэцяню, он, вспоминая о прошлом, сказал: «Когда теперь читаешь послания, которыми наши страны обменивались во времена не столь отдаленные, не знаешь, смеяться или плакать».
До какого-то момента Хрущев старался принять меры, чтобы притушить искры конфликта. В августе 1958 года, когда китайское руководство выразило недовольство по поводу намерения Москвы создать военно-морскую базу и центр связи на китайской территории, он в срочном порядке отправился в Пекин, чтобы сгладить возникшие шероховатости. Мне эта поездка хорошо запомнилась, так как я впервые сопровождал Хрущева в качестве его помощника. Это была любопытная встреча, хотя бы потому, что некоторые беседы проходили в бассейне для плавания в правительственном квартале Пекина. Это была незабываемая картина: представьте себе двух упитанных вождей в трусиках, обсуждавших под плеск воды вопросы большой политики. В конечном счете все спорные вопросы были как будто улажены, и Хрущев отправился домой, вполне удовлетворенный итогами визита. Но, как вскоре выяснилось, это было скорее начало, чем конец всех тех неприятностей, которым суждено было отравлять советско-китайские отношения в предстоящие годы.
Впрочем, время от времени все же, казалось, появлялись кое-какие проблески. Один такой обнадеживающий момент возник в 1961 году, когда в Москве состоялась международная Конференция коммунистических и рабочих партий. После длительных и мучительных усилий советско-китайской редакционной группе во главе с Михаилом Сусловым и Дэн Сяопином в конце концов удалось согласовать взаимоприемлемый текст заключительной декларации конференции.
Однако достигнут был лишь бумажный компромисс, а реальные расхождения как были, так и остались. Более того, они продолжали углубляться. Председатель Мао упорно продолжал дистанцироваться от КПСС и СССР, а Хрущев демонстрировал отсутствие выдержки и терпения. Достаточно сослаться на такой неудачный шаг, как поспешный отзыв на родину всех советских специалистов, работавших в Китае.
Такая импульсивность, вообще характерная для Хрущева, объяснялась в значительной мере еще и тем, что китайский радикализм нашел определенный отзвук в самом Советском Союзе. Я имею в виду, прежде всего в тех кругах, где считалось, что Никита Сергеевич зашел слишком далеко в своем антисталинизме. А кое-кто полагал даже, что следует принести в жертву отношения с Соединенными Штатами ради восстановления дружественных отношений с Китаем. Как бы то ни было, но разрыв с КНР, несомненно, сыграл свою роль в отстранении Хрущева от власти.
К концу 1963 года Хрущев в основном примирился с тем, что урегулирование отношений с Пекином на приемлемых для Москвы условиях стало невозможным. И фактически перестал добиваться этого.
Наследники Хрущева старались – во всяком случае в течение первых нескольких лет – наладить отношения с Китаем. Я хорошо помню то чувство эйфории, которое охватило руководителей нашей страны, когда стало известно, что Чжоу Эньлай прибудет в Москву на празднества, посвященные 47-й годовщине Октябрьской революции. Многие воспринимали предстоящее прибытие китайского премьера как признак того, что Пекин намерен оказать поддержку постхрущевскому руководству. Я был в кабинете Косыгина, когда он, после встречи Чжоу в аэропорту, делился с Брежневым своими впечатлениями, в восторженных тонах говорил о том, что китайский гость был в превосходном настроении. И хотя они не обсуждали какие-либо существенные вопросы, Косыгин был уверен, что все пойдет на лад.
Однако скоро стало ясно, что Алексей Николаевич принимал желаемое за действительное. В переговорах с советскими руководителями (если я не ошибаюсь, с нашей стороны участие в переговорах приняли Брежнев, Подгорный, Косыгин, Микоян и Андропов) Чжоу Эньлай утверждал, что КПСС следовала ошибочной, ревизионистской линии и что, если советские товарищи искренне желают преодолеть разногласия с китайским руководством, они должны внести серьезные поправки в свой политический курс. Хотя Брежнев и другие были искренне заинтересованы в нормализации своих отношений с Пекином, они не могли пойти на уступки, которые выглядели бы как безоговорочная капитуляция.
Однако окончательно погубил переговоры инцидент, происшедший на большом приеме в Кремле, устроенном для иностранных гостей. Случилось так, что я стоял недалеко от делегации КНР, когда заметил, что министр обороны маршал Родион Малиновский подошел к китайским гостям и сказал что-то Чжоу Эньлаю. Тот вспыхнул, сказал несколько слов на повышенных тонах и вскоре покинул прием. Оказалось, что Малиновский не нашел ничего лучшего, как выпалить: «Товарищ Чжоу Эньлай, мы отделались от Хрущева, теперь ваша очередь отделаться от Мао». Трудно объяснить, что побудило маршала подать эту из ряда вон выходящую реплику: то ли лишняя рюмка водки, то ли полное отсутствие политического чутья. Во всяком случае, оставшаяся часть переговоров была во многом посвящена безуспешным попыткам советской делегации загладить бестактную реплику министра обороны. В конечном итоге встреча закончилась ничем.
Предпринимались и другие попытки повернуть советско-китайские отношения на нормальные рельсы. Такую настойчивость можно было понять. Успех в этом деле существенно поднял бы рейтинг нового руководства. К сожалению, многократные усилия добиться расположения Пекина вели лишь к тому, что председатель Мао становился все более неприступным и непримиримым.
Особое упорство проявлял Косыгин. Хотя человек он был незаурядный, время наложило отпечаток на его мышление, отнюдь не свободное от расхожих стереотипов. Ему, например, казалось иррациональным, что одна коммунистическая партия не могла преодолеть свои расхождения с другой. Мысль о том, что коммунисты не должны жить в ссоре, оставалась для него аксиомой. К тому же, как уже было сказано выше, ему хотелось проявить активность, чтобы повысить свой политический статус.
В феврале 1965 года во главе с Косыгиным мы отправились во Вьетнам, хотя основной целью поездки был Пекин, где мы должны были останавливаться на пути в Ханой и по пути из Ханоя. В нашу группу входили Юрий Андропов, который в то время занимал пост секретаря Центрального комитета КПСС, ведая отношениями с социалистическими странами, и Василий Кузнецов, первый заместитель министра иностранных дел.
Беседы Косыгина с Чжоу Эньлаем, состоявшиеся во время остановки на пути в Ханой, как будто давали основание надеяться, что отношения могут быть улучшены. Условия, выдвинутые Чжоу, выглядели умеренными, и, казалось, он оставлял некоторые двери приоткрытыми. Во время остановки в Пекине по возвращении из Вьетнама мы ожидали встречи с Мао Цзэдуном. Однако до последнего момента нас держали на этот счет в неведении. И только утром в день, назначенный для отъезда, нам сообщили, что председатель Мао готов через час принять Косыгина и сопровождающих его лиц.
В 11 часов утра нас доставили в правительственный квартал Пекина, который расположен рядом со старым императорским дворцом. Мао Цзэдун принял нас в большой комнате с зашторенными окнами, весьма скупо поприветствовал, никакого признака сердечности мы в нем не обнаружили. На беседе присутствовали и другие члены китайского руководства, однако никакой активности они не проявили, вещал вождь. У меня невольно возникло сопоставление со Сталиным и его окружением. К тому же оно усиливалось тем, что Мао, как и Сталин, был не чужд актерству. После каждой своей значительной ремарки он оглядывался вокруг, чтобы убедиться, что произвел должный эффект. Речь его была подчеркнуто саркастической, порою граничившей с оскорблением. Стало очевидно, что наш председатель Совета министров был удостоен высокой аудиенции с одной целью – показать новому советскому руководству, кто есть кто.
В ходе беседы он, например, иронизировал: «Не следует отчаиваться: раньше или позже наши отношения обязательно улучшатся. Через десять тысяч лет они нормализуются. Может быть, даже раньше – через девять тысяч». Или вот еще: «Есть люди, которые считают, что я не люблю Советский Союз, но это неверно. Недавно английский поверенный в делах обратился с просьбой о приеме. Его я не принял, а вас принял».
На это Косыгин не сдержался и сказал в сердцах: «Если бы вы приехали в Москву, товарищ Мао, мы бы не стали с вами так разговаривать». А Мао, не обращая на это никакого внимания, походя «лягнул» ненавистного ему Хрущева: «Пришлите его к нам. Мы дали бы ему трибуну для выступлений. Он был бы прекрасным учителем».
Вся эта беседа произвела крайне неприятное впечатление, которое не сгладил и прощальный банкет, устроенный Чжоу Эньлаем. Я сидел рядом с Андроповым, который был мало знаком с китайской кухней. Когда подали какое-то блюдо, которое ему показалось особенно экзотичным, он улыбнулся мне и сказал: «Мне кажется, они хотят доказать, что эти ревизионисты все проглотят».
По пути домой, пролетая над покрытыми снегом просторами Сибири, мы с Юрием Фирсовым продиктовали стенографистке запись беседы с председателем Мао. Прочтя ее, Косыгин сказал, что, может быть, стоит кое-что смягчить. «А то в Москве могут решить, что все наши усилия бессмысленны». Насколько я помню, речь шла о высказывании Мао Цзэдуна о том, что какое-то примирение, может быть, и было бы возможно, если бы Советский Союз полностью изменил свою политику. Я ответил, что мы, разумеется, могли бы внести такую поправку, но это ничего не изменит, так как все, что говорил Мао, было рассчитано на то, чтобы подчеркнуть невозможность какого-либо примирения. Косыгин махнул рукой в знак согласия, и мы сохранили прежнюю формулировку.
С течением времени отношения между Советским Союзом и Китаем не улучшались. Напротив, полемика между ними становилась все более резкой. Но дело было не только в словах. По мере того как конфликт обострялся, укоренялась и враждебность между двумя странами. Китай стал воспринимать наличие советских войск в Монголии, а затем и в Афганистане как угрозу своей безопасности. Москва же рассматривала китайско-американское сближение как серьезную стратегическую угрозу.
Масла в огонь подливала разворачивающаяся «культурная революция», многих противников Мао Цзэдуна стали обвинять в просоветских симпатиях или даже в том, что они прямые агенты Москвы. Некоторых называли «китайскими Хрущевыми», что в то время звучало как самая оскорбительная кличка. Опыт истории свидетельствует о том, что, когда вопросы внешней политики становятся оружием во внутренней борьбе, узлы конфронтации затягиваются особенно туго.
После смерти председателя Мао или, как он любил шутить, после того как он отправился на встречу с Карлом Марксом, в Китае были начаты далеко идущие реформы, и в полемике между нашими странами произошла удивительная метаморфоза. Теперь, с точки зрения Пекина, уже кремлевские руководители превратились в догматиков и начетчиков, в то время как московская пропаганда предавала анафеме «ревизионистов» Китая. И хотя какие-то робкие шаги навстречу друг другу были предприняты – я имею в виду ежегодные встречи министров иностранных дел двух стран на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или ритуальные приезды в Москву высокопоставленных китайских представителей КНР на похороны Брежнева, Андропова и Черненко, – но они не внесли сколько-нибудь существенных изменений в положение вещей: межпартийные контакты фактически отсутствовали, а межгосударственные отношения по-прежнему были весьма напряжены.
Во время моих периодических поездок из Нью-Йорка в Москву я обратил внимание на то, что некоторые наши руководящие деятели, которые еще недавно активно выступали против каких-либо серьезных инициатив, нацеленных на улучшение отношений с Китаем, теперь видели пользу в новых усилиях если не с целью примирения, то, во всяком случае, с целью частичного улучшения отношений с КНР.
Среди них был и Андропов, который к тому времени стал членом политбюро и председателем КГБ. От него я услышал, что нам следовало бы попытаться предотвратить ситуацию, при которой американцы могли бы стать основными партнерами Китая. И он мне, как я уже говорил, неоднократно советовал поддерживать контакты с китайскими представителями в ООН. Думаю, что на посту генерального секретаря ЦК КПСС, проживи Юрий Владимирович подольше, он предпринял бы самые серьезные шаги для сближения двух наших стран. Горбачев, конечно, знал об этом и, придя на смену Андропову, сделал нормализацию отношений с Китаем одной из основных целей внешней политики Советского Союза.
Советы, которыми напутствовал меня Шеварднадзе перед моим отъездом в Китай, сводились к тому, что информация, которая будет поступать от посольства из Пекина, должна быть объективной. Как я понял, это означало, что следует в большей степени подчеркивать положительные моменты в китайской внутренней и внешней политике. Нашему тогдашнему министру иностранных дел казалось – и, видимо, не без основания, – что мой предшественник чрезмерный акцент делал на негативных аспектах политики КНР. Он также посоветовал внимательно следить за развитием китайских экономических реформ, особенно тех, которые могут представлять интерес и для Советского Союза. В заключение он сказал, что наша цель – нормализация советско-китайских отношений. Эти советы полностью совпадали с моим собственным пониманием того, как должно было работать посольство, и целей, к которым необходимо стремиться.
К сожалению, моя встреча с Михаилом Горбачевым не состоялась. Позвонив его секретарю утром того дня, когда он должен был принять меня, я почувствовал, что произошло что-то непредвиденное. Было очевидно, что секретарь находится в состоянии стресса. «Думаю, что Михаил Сергеевич не сможет вас принять, – сказал он. – Здесь творится что-то невообразимое, произошел страшный несчастный случай». Как вскоре выяснилось, он имел в виду чернобыльскую катастрофу, которая произошла накануне. Я улетел из Москвы на следующий день.
Но вскоре должен был вернуться в Москву, чтобы принять участие в совещании, состоявшемся в Министерстве иностранных дел. На нем выступил Михаил Горбачев, который говорил о «новом мышлении» во внешней политике и об основных направлениях работы министерства. Он сделал акцент на связи внешней политики с внутренними задачами, стоявшими перед страной, сказал, что цель дипломатии – содействовать таким тенденциям в мире, которые сделали бы возможным сокращение расходов на оборону, не ставя при этом под удар безопасность государства. Подчеркнул, что это в значительной степени зависит от того, как будут складываться наши отношения с Соединенными Штатами, не преуменьшая при этом и роль европейских государств. Мне хотелось услышать его мнение об Азиатско-Тихоокеанском регионе, и я был доволен, когда он особо выделил значение Китая в нашей внешней политике.
Эдуард Шеварднадзе, который председательствовал на совещании, заранее предупредил меня, что после выступления генерального секретаря он намерен первому предоставить слово мне. Разумеется, я основное внимание уделил Китаю и тем конкретным шагам, которые, как мне представлялось, должны быть предприняты, чтобы добиться улучшения отношений, а затем и примирения с этой страной. Но затронул и некоторые другие проблемы, которые были мне близки по недавней работе в ООН. В частности – по разоружению. Сказал, что нам пора преодолеть сложившееся негативное отношение к вопросам инспекции и контроля, поскольку строгий контроль нам выгоден не меньше, если не больше, чем нашим оппонентам. И обратил внимание на несуразность некоторых публикуемых у нас статистических данных, что ставит иногда дипломатов в нелепое положение. Так, например, попробуйте ответить на ехидные вопросы западных коллег о том, каким образом Советскому Союзу удалось добиться паритета с США в области ядерного оружия, в то время как его военные расходы, по официальным данным, остаются в течение многих лет неизменными. Судя по оживлению в зале, я понял, что многие согласны со мной: пора подкреплять слова о новом мышлении конкретными делами.
Возвращался я после совещания в Китай с весьма оптимистическим настроением, полагая, что мои рабочие планы найдут поддержку Москвы. Хотя и не во всех высоких кабинетах. Так, Андрей Андреевич Громыко, ставший председателем Президиума Верховного Совета, не скрывал скептического отношения к возможности нормализации отношений с Китаем. В беседе, которая была у меня с ним незадолго до моего отъезда, он сказал, что какое-либо существенное улучшение отношений ему представляется весьма маловероятным ввиду тесных связей, существующих между Пекином и Вашингтоном. Его слова меня не особенно удивили, но я понял, что в своей новой работе могу столкнуться с препятствиями не только с китайской стороны. Надо признать, что в первое время после моего приезда в Пекин и среди сотрудников посольства нашлись скептики, которые сомневались в возможности примирения с Китаем.
Прибыв в качестве посла в Пекин, я нашел, что столица сильно изменилась с 1965 года, когда я был там с Косыгиным. В тот приезд она была похожа на средневековый город – бесконечные стены вдоль узких улиц, за ними одноэтажные домики, в основном в китайском стиле. Теперь, 20 лет спустя, я увидел большой современный город с широкими проспектами, метро, высокими зданиями гостиниц и жилых домов, магазинами с богатым выбором товаров. И все это в живописном сочетании со старинными храмами. Что не изменилось, так это огромное количество велосипедов, сохранивших свое первенствующее положение среди городского транспорта.
Одной из достопримечательностей Пекина служит и советское посольство с его огромным парком, прудом и каналами с рыбой. Говорят, что по территории наше посольство самое большое в мире. Несколько слов об истории этого парка. Во второй половине XVIII века группа казаков, захваченных в плен китайским войском на границе между Россией и Китаем, была привезена в Пекин. Их поселили в северной части китайской столицы, где еще в начале XVIII века была основана миссия Русской православной церкви. В течение многих лет оно оставалось единственным постоянным европейским поселением в городе. Несколько красивых зданий в классическом китайском стиле сохранилось на территории посольства с той поры. Не так давно они были реставрированы при помощи китайских специалистов. Церковная миссия прекратила свое существование в 1955 году. Последний глава миссии, отец Виктор, вернулся на Родину, где получил высокий пост в церковной иерархии. Территория миссии перешла в собственность советского правительства, и на ней возвели несколько современных зданий.
Меня хорошо приняли в Пекине. Пост постоянного представителя при ООН, который я занимал до этого, – далеко не последний в международной дипломатической иерархии. Тот факт, что после Нью-Йорка я был назначен послом в Китайскую Народную Республику, в Пекине восприняли как сигнал, что Москва была настроена на серьезный разговор.
В течение первых двух недель я не только вручил свои верительные грамоты главе государства, председателю КНР Ли Сяньняню, но имел возможность нанести визиты многим китайским руководителям, в том числе премьер-министру Чжао Цзыяну, вскоре ставшему генеральным секретарем китайской компартии, Ли Пэну, который заменил его на посту главы правительства, министру иностранных дел У Сюэцяню, заместителю министра Цянь Циченю, занимавшемуся вопросами отношений с СССР (через некоторое время он стал министром).
Джордж Кеннан пишет в своих мемуарах, что он считает китайцев «в индивидуальном плане, вероятно, самыми умными людьми среди всех народов мира». Я не хотел бы спорить с Кеннаном по этому поводу, хотя считаю весьма рискованным делать такие обобщения в преломлении к целым народам. Но я могу сказать, на основе личного опыта, что считаю китайских руководителей по их профессионализму на уровне, а в ряде случаев и выше уровня руководителей любой другой страны мира.
Многие мои китайские знакомые учились или работали в нашей стране. Собственно говоря, из людей, занимающих более или менее высокое положение, трудно назвать кого-либо, кто не работал или не учился в СССР. Так, в первый состав кабинета Ли Пэна вошли одиннадцать министров, которые учились в Советском Союзе, в том числе и сам глава правительства. И хотя это не значит, что они стали «просоветскими», большинство из них сохранили добрые впечатления о нашей стране и ее народе.
Кстати, когда на пресс-конференции иностранные корреспонденты спросили Ли Пэна, не следует ли делать из этого какие-то особые выводы, он ответил вполне логично, что в 50-х годах СССР был чуть не единственной страной, где молодые китайцы могли получить хорошее образование. Но это не означает, что они становились «просоветскими». Он добавил, что, если сегодня многие китайцы едут учиться в Соединенные Штаты, это не означает, что они становятся «проамериканцами».
Проведя несколько лет в Пекине, я был приятно удивлен, обнаружив, как глубоко интерес к русской культуре, особенно литературе, проник в общественное сознание китайцев. Даже 60-е и 70-е годы, годы вражды, не уничтожили этот интерес. Уже то, что в Шанхае стоит памятник Пушкину, говорит о многом. Во время «культурной революции» он был разрушен хунвейбинами, потом восстановлен. Не знаю, в каких еще странах есть подобные памятники, думаю, что в очень немногих. Приходилось встречать людей, которые наизусть знали большие пассажи из «Как закалялась сталь», и это, может быть, не так удивительно. Но то, что массажист из китайской больницы мог рассуждать о Белинском и Добролюбове, – это, согласитесь, многого стоит. Да и самые новые русские произведения издавались сразу в нескольких переводах.
В течение 1986 и 1987 годов посольство активно работало, стараясь растопить лед недоверия, образовавшийся в наших отношениях. В своих беседах с китайцами я говорил, что из всех постов, которые я занимал в прошлом, считаю пост в КНР самым важным и ответственным. Обращал внимание на близость позиций наших стран по многим международным вопросам. В Организации Объединенных Наций позиции СССР и Китая совпадали примерно в 85 процентах всех случаев. В области экономических реформ мы также двигались примерно в одном и том же направлении. Я также подчеркивал, что Советский Союз отнюдь не стремится вовлечь Китай в какой-либо военно-политический союз или препятствовать развитию его отношений с какой-либо третьей страной, будь то США или Япония, хотя улучшение советско-китайских связей, несомненно, укрепило бы позиции обоих наших государств на международной арене.
Мои китайские собеседники выслушивали все это с известным пониманием, но потом неизменно говорили, что все это хорошо, однако на пути нормализации наших отношений стоят три препятствия: советские войска в Монголии и высокий уровень советского военного присутствия на границе с Китаем; вторжение советских войск в Афганистан; наличие вьетнамских воинских частей в Камбодже. Некоторые высказывали эту мысль достаточно прямолинейно, иные более мягко, но это дела не меняло.
Среди тех, кто был склонен ставить эти три условия ребром, был тогдашний глава правительства Чжао Цзыян, который, как считалось, возглавлял либеральное направление в китайском руководстве. В 1986 году, принимая председателя Госплана СССР Николая Талызина, он говорил о трех препятствиях в крайне резкой форме. Настолько, что Талызин, как он сказал мне, был просто ошарашен. Весьма отрицательно Чжао воспринял приглашение посетить Советский Союз, сказал, что не представляет себе, когда сможет совершить это путешествие.
И все же лед неприязни постепенно начал таять. Важным моментом на пути нормализации отношений с Китаем стало выступление Михаила Горбачева во Владивостоке 28 июля 1986 года, в котором он затронул широкий круг вопросов, относящихся к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Что касается непосредственно Китая, то было заявлено, что Советский Союз готов рассматривать главный проток Амура в качестве пограничной линии между двумя странами. Это важное уточнение привело к началу пограничных переговоров с КНР. Но даже независимо от этих переговоров Советский Союз объявил о своем намерении сократить свои войска в Азии на 200 тысяч человек. Горбачев выдвинул также предложение начать переговоры о понижении уровня военного противостояния вдоль советско-китайской границы. Эти переговоры начались несколько позже пограничных. Советский руководитель объявил, что СССР обсуждает с Монголией вопрос о выводе части своих войск. И о том, что к концу 1986 года предстоит вывод шести полков из Афганистана.
В действительности вывод войск из этих двух стран начался не столько из-за стремления нормализовать отношения с КНР, сколько по другим причинам. Уже ни для кого не было секретом, что в Афганистане мы попали в тупиковое положение в военном плане и несли колоссальные потери в плане политическом.
Что касается Монголии, то наше посольство в Улан-Баторе давно уже информировало Москву, что присутствие советских войск было причиной многочисленных неприятных инцидентов. В своих сообщениях из Пекина мы, в свою очередь, указывали, что в свете новой ситуации, которая возникала на Дальнем Востоке, представлялось весьма маловероятным, чтобы Пекин испытывал какие-либо агрессивные намерения в отношении Монголии.
Было очевидно, что все это произвело впечатление на Пекин. Когда через три года Дэн Сяопин встретился с Горбачевым, он заметил, что, ознакомившись с владивостокской речью, китайское руководство пришло к выводу о начале существенных перемен в политике Москвы. И в самом деле, постепенный вывод войск из Монголии и Афганистана означал, что процесс устранения двух из трех так называемых препятствий начался.
Отмечая положительный характер владивостокской речи, китайские представители были, конечно, далеки от того, чтобы броситься нам в объятия. Министр иностранных дел У Сюэцянь тут же выразил озабоченность по поводу того, что советский руководитель фактически обошел вопрос о Камбодже. И заявил, что китайская сторона заинтересована прежде всего в справедливом и разумном урегулировании камбоджийского вопроса.
В свою очередь, Дэн Сяопин в сентябре 1986 года в интервью американскому телевидению говорил о готовности встретиться с Горбачевым, если Советский Союз предпримет «конкретные шаги с целью вывода вьетнамских войск из Камбоджи». Если СССР, сказал он, сможет содействовать этому, то основное препятствие на пути восстановления китайско-советских отношений отпадет.
Камбоджа действительно представляла главную трудность, ибо решение о присутствии там вьетнамских солдат зависело не от Советского Союза. К весне 1988 года начали появляться кое-какие признаки прогресса. В мае было объявлено, что Ханой выведет 50 тысяч, или примерно четвертую часть, своих войск к концу 1988 года и остальные – к концу 1990 года. Еще один шаг вперед был сделан в июле 1988 года, когда Советский Союз дал согласие начать двусторонние переговоры с Китаем по камбоджийской проблеме. Наконец несколько позже удалось убедить китайцев вступить в прямые переговоры с Вьетнамом. И была достигнута договоренность начать многосторонние переговоры в рамках ООН.
Было бы ошибкой полагать, что советско-китайские отношения улучшились лишь потому, что это отвечало интересам Кремля. Верно лишь то, что в течение всего периода с 1986 по 1989 год инициатива находилась на стороне Москвы. Но можно не сомневаться, что к середине 80-х годов китайские руководители начали осознавать, что международное положение КНР становилось менее благоприятным, особенно в результате разрядки напряженности между СССР и США. По мере того как холодная война подходила к концу, так называемая «китайская карта» становилась менее важным фактором на международной арене. Кроме того, китайские руководители, видимо, пришли к выводу, что быть орудием в чьих-то руках не самая выгодная, да и не самая достойная позиция, особенно когда в Вашингтоне открыто говорили об использовании «китайской карты». Не случайно Дэн Сяопин заявил, что отныне Китай не будет картой в чьих-либо руках и если кто-либо будет играть в «китайскую карту», то только сам Китай. Собственно говоря, сама основа американо-китайских взаимоотношений требовала пересмотра и перестройки. Эти взаимоотношения были сконструированы исходя из того, что США и КНР имели общую заинтересованность в противостоянии «советской военной угрозе». Теперь это уже не отвечало новым реалиям жизни.
Сближение Китая с Советским Союзом диктовалось и процессами внутренней политики, которые были созвучны в обеих странах. Правда, во многих отношениях Китай пошел значительно дальше по пути к рыночной экономике, и это давало нам возможность почерпнуть много полезного из нововведений, которые осуществлялись там. К сожалению, сведения, которые черпали многочисленные визитеры, приезжавшие из СССР, чтобы ознакомиться с китайским опытом, и информация, поступавшая из посольства, не изучались должным образом теми, кто определял политическую линию в Москве. Разумеется, было бы неразумно копировать китайский опыт подобно тому, как в 50-х годах китайцы копировали советский опыт, что в конечном итоге приводило к пагубным последствиям. Но если бы мы использовали те элементы китайских экономических реформ, которые можно было бы адаптировать к нашим условиям, то это, несомненно, помогло бы избежать многих ошибок и подводных камней. Остается только сожалеть, что имевшиеся возможности не были использованы должным образом.
Некоторые из этих соображений я высказывал в китайских аудиториях, и это льстило слушателям. Еще бы: Москва уже не претендовала на роль носительницы высшей истины и признавала, что многому может поучиться у Пекина. Все это, вместе взятое, не говоря уже о богатейших перспективах экономического сотрудничества между двумя странами, создавало настроение и политический климат, благоприятствовавший примирению между двумя великими державами.
Решающий прорыв произошел в конце 1988 года, когда Москву посетил министр иностранных дел Цянь Цичень. Здесь я хочу посвятить несколько строк этому видному китайскому дипломату, который позднее стал членом политбюро и заместителем премьер-министра, сохранив за собой пост министра. Впервые я познакомился с ним в 1985 году в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 40-летию ООН. Он сопровождал прибывшего туда главу китайского правительства. Мы мирно поговорили с ним под перекрестными взглядами дипломатов западных стран, для которых не было тогда сюжета более захватывающего, чем советско-китайские отношения.
После моего приезда в Пекин у нас с Цянь Циченем установились ровные, можно сказать, доброжелательные отношения. Разумеется, каждый защищал позицию своей страны, но это делалось в спокойных, выдержанных тонах: Цянь Цичень – глубокий знаток советско-китайских отношений. Это естественно, учитывая, что он практически всю свою жизнь занимался именно этой сферой внешней политики Китая. Это была его вотчина, и он, мне кажется, получал удовлетворение от этого. Впрочем, его познания в других областях международных отношений были не менее обширными. Мне нравился Цянь Цичень, и с самого первого знакомства я стал относиться к нему с уважением.
Время от времени даже напряженные беседы между нами оживлялись юмором. Помню первый обед, который Цянь Цичень дал в мою честь вскоре после моего приезда в Пекин в 1986 году. Во время беседы он высказал недоумение по поводу того, что уже в течение нескольких лет в Китай с официальным визитом не приезжал ни один высокопоставленный гость из Москвы, в то время как только за последние четыре года он три раза посетил советскую столицу. В ответ я позволил себе несколько рискованную шутку. Сказал, что это понятно: в Китае за это время было гораздо меньше похорон, чем в СССР. Эти слова вызвали веселую реакцию у китайских собеседников, которые быстро сообразили, что все три раза Цянь Цичень ездил в Москву на похороны – сначала Брежнева, а потом Андропова и Черненко.
В конце 1988 года министр иностранных дел Китая посетил Москву и при встрече с Горбачевым передал советскому руководителю приглашение посетить Пекин в следующем, то есть 1989 году. Чтобы предотвратить дискуссию о том, кто должен был совершить визит первым, Цянь Цичень сказал, что если китайский руководитель посетит Москву первым, то Горбачев сможет встретиться и обменяться мнениями только с одним лицом, в то время как посещение Пекина даст ему возможность встретиться со всеми руководящими деятелями Китая. Он подчеркнул при этом, что формальный акт нормализации отношений между двумя странами произойдет, когда Горбачев встретится с Дэн Сяопином.
Такой план был вполне приемлем для советской стороны. Полагаю, что Горбачев с самого начала предвкушал поездку в Пекин, так как это было бы значительно более эффектным событием, чем прием в Москве даже самого высокопоставленного китайского лидера. Кроме того, нам было очевидно, что Дэн, учитывая его возраст, вряд ли смог бы совершить поездку в Москву. А Горбачев к тому времени, возможно, уже решил для себя играть роль более молодого деятеля, прибывшего, чтобы отдать долг уважения патриарху. Уже в Пекине, непосредственно перед встречей с Дэн Сяопином, он сказал нам, сопровождавшим его: «Мы будем вести себя как более молодые деятели в присутствии старшего. Это производит хорошее впечатление на Востоке».
Но это случилось позднее. А пока, в феврале 1990 года, Пекин посетил Эдуард Шеварднадзе. К тому времени стало очевидным, что поездка Михаила Горбачева в Китай состоится, и отношения между двумя странами будут нормализованы. Поэтому было ясно, что цель визита Шеварднадзе состояла в том, чтобы подготовить предстоящее примирение. В целом пребывание нашего министра в Китае прошло достаточно гладко. Он беседовал с премьер-министром Ли Пэном и Цянь Циченом, а заместитель министра Рогачев, потомственный китаист, работал с китайскими коллегами над текстом совместного заявления. Через несколько лет он займет пост посла в Китае.
Затем мы отправились в Шанхай для встречи с Дэн Сяопином. По-видимому, он предпочитал проводить зимние месяцы подальше от довольно тяжелого пекинского климата. Мы убедились, что Дэн для человека его возраста находится в хорошей физической форме. Нас поразило, например, что он узнал Рогачева, который много лет назад переводил беседы советских руководителей с китайскими деятелями. Он помнил имена и других русских китаистов, переводивших ему в далеком прошлом. Я заметил только одну старческую слабость – Дэн плохо слышал правым ухом. Из-за этого гости, вопреки обычной практике, располагались слева от него. Кроме того, он по-прежнему много курил, хотя вскоре отказался от этой привычки.
Когда я смотрел на этого человека, совсем небольшого роста и хрупкого, уже ставшего живой легендой, невольно задавался вопросом: как у него хватило сил пережить столько взлетов и падений, какими жизненными силами надо было обладать, чтобы пережить жизнь подпольщика при гоминьдановском режиме и японской оккупации, тяготы Большого похода, войну против японских агрессоров и гражданскую войну, затем период тяжких репрессий в годы «культурной революции». А вернувшись на вершину власти, найти силу воли, чтобы вытащить страну из омута «культурной революции» и начать сложнейшие реформы, которые в корне преобразили весь Китай. У него к тому же достало мудрости не ворошить прошлую историю и не рушить памятников даже тем, от кого он сам пострадал. Из песни слова не выкинешь. К этим достижениям я бы добавил соглашение с Великобританией о возвращении процветающего Гонконга под суверенитет КНР.
Конечно, успехами своими Китай обязан не одному человеку, а всей команде руководителей, которую Дэн Сяопин сумел создать. Этот командный механизм прекрасно функционирует и обновляет себя без потрясений для страны. Мне, правда, показалось, что процесс принятия решений в Китае чрезмерно длительный и сложный. Прежде чем принимается важное решение, оно проходит через постоянный комитет политбюро, через политбюро полного состава, иногда через Центральный комитет КПК. Кроме того, при этом учитывается и мнение ветеранов революции, которые пользуются немалым влиянием за политическими кулисами. Не следует забывать и о важной роли Государственного совета. А над всей этой пирамидой – Дэн Сяопин, который, во всяком случае во время моего пребывания в Пекине, играл роль последней инстанции, от него зависела судьба наиболее важных решений. Правда, в памятном 1989 году нам пришлось наблюдать, как этот механизм стал давать сбои, что привело к трагическим последствиям. О них я еще скажу. А сейчас хочу вернуться к встрече Дэн Сяопина с Эдуардом Шеварднадзе.
Дэн изложил нашему министру иностранных дел основные этапы во внешнеполитической деятельности Китая за последние 15 лет. Он рассказал в деталях, как Китайская Народная Республика нормализовала свои отношения по очереди с каждой из великих держав.
Теперь, сказал Дэн, пришло время нормализовать наши отношения с Советским Союзом; положить конец прошлому и открыть будущее – такова стоящая перед Китаем задача. Это весьма сложная задача, потому что она затрагивает ряд трудных вопросов. Многие из них связаны с прошлым. Но знать прошлое не значит возрождать его. Мы должны знать прошлое, помнить о нем и учитывать его уроки для того, чтобы двигаться вперед. Главное же состоит в том, чтобы открыть будущее. Дэн Сяопин сказал далее, что он рассматривает полную нормализацию китайско-советских отношений как неотъемлемую часть стратегической задачи Китая – внести свой вклад в укрепление мира, установление нового международного политического порядка и модернизацию китайского общества.
Нам всем показалось, что беседа прошла даже лучше, чем можно было ожидать. Личность Дэн Сяопина, как и то, что он говорил, как держался, – все это произвело большое впечатление.
Однако переговоры двух заместителей министра относительно Камбоджи наталкивались на одно препятствие за другим. Конечно, были очевидные объективные трудности. Обе стороны вели переговоры по вопросам, к которым сами они не имели прямого отношения, а скорее от имени других, кто не был их клиентами. Тем не менее было ясно, что наши китайские партнеры умышленно вели переговоры с крайне жестких позиций по камбоджийской проблеме, стремясь выжать из нас все, что только можно, на финишной прямой перед встречей на высшем уровне. Я невольно вспомнил Уинстона Черчилля, который, доведенный до крайности, однажды заявил в палате общин: «Я прожил 78 лет и никогда не слышал о такой проклятой стране, как Камбоджа».
Все это привело к тому, что визит Шеварднадзе закончился на несколько кислой ноте. На пресс-конференции, состоявшейся в последний день пребывания в Пекине, наш министр взял на себя смелость объявить, что советский лидер прибудет в КНР в середине мая. Это привело к тому, что китайцы, в свою очередь, заявили прессе, что середина мая – это лишь советское предложение, на которое китайская сторона еще не дала ответа. И Шеварднадзе улетел в Пакистан не в лучшем настроении, так и не зная, чем же все-таки завершился его визит. Впрочем, некоторые члены его группы остались в Пекине и продолжали переговоры. В довольно короткий срок они достигли договоренности, наши китайские партнеры убедились, что никаких дополнительных уступок от нас они добиться не смогут. Уже через день после отъезда Шеварднадзе из Пекина мы смогли сообщить ему по телефону в Пакистан, что переговоры завершились успешно.
После этого посольство вступило в последнюю стадию подготовки к предстоящему визиту Горбачева. Наши коллеги из американского посольства, которые имели опыт подготовки к визитам главы своего государства, предупреждали нас, что страшен не столько сам визит, сколько подготовка к нему. В самом деле вскоре передовые группы стали прибывать одна за другой. Сначала появилась группа во главе с заместителем министра Игорем Рогачевым. Она работала с соответствующими китайскими представителями над текстом заключительного совместного коммюнике. И хотя эта работа длилась начиная с марта и апреля, осталось несколько несогласованных пассажей, которые предстояло заполнить министрам уже в ходе визита. Китайские представители высказывались за короткий заключительный документ, и, вероятно, они были правы. Мне всегда казалось, что длинные коммюнике, которые появлялись после визитов в брежневские времена, никакой пользы не приносили, потому что мало кто мог их прочитать, помимо ограниченной группы специалистов. В данном случае коммюнике получилось сравнительно коротким и вполне содержательным.
Затем появились работники протокольного отдела. Их дело было составить программу визита для главного гостя и его супруги. Они работали рука об руку с китайскими протокольщиками, которые в обстановке, сложившейся в то время в Пекине, проявили чудеса изобретательности и организованности, поскольку многие пункты программы пришлось менять уже по ходу визита.
Протокольщики должны были тесно сотрудничать с представителями службы безопасности, как китайской, так и советской. Мне пришлось наблюдать, как постепенно в годы Хрущева, Брежнева и Горбачева охрана раздувалась в размерах. Этот процесс продолжается и в настоящее время, причем не только в нашей стране. Должно быть, кто-то считает, что количество охранников отражает величие государства. На самом деле, в реальной жизни служба безопасности гостя вряд ли в состоянии эффективно охранять своего подопечного без серьезной помощи принимающей стороны.
Вслед за охраной и протокольщиками прибыла группа связистов, которые сообщили, что их задача – обеспечить главе государства моментальную связь, независимо от того, где бы он ни находился – у Великой Китайской стены или при осмотре императорского дворца, в советском посольстве или на обеде у Дэн Сяопина.
Кроме того, приехали медики. Их задача состояла в том, чтобы проверить еду, воду и все другое, до чего президент мог бы дотронуться. Одним словом, это было настоящее вторжение.
К счастью, Михаил Сергеевич разместился в официальной китайской резиденции, а не в посольстве, как это бывает в некоторых других странах. Тем не менее меня уведомили, что особняк, в котором мы жили на территории посольства, рассматривается как резервная резиденция. Мы должны быть готовы освободить ее в течение трех часов в случае чрезвычайных обстоятельств.
Но и это еще не все. Во времена Горбачева вошло в практику брать с собой в зарубежные поездки группу представителей интеллигенции. С тем чтобы писатели или артисты могли участвовать в пресс-конференциях, популяризируя те или иные стороны культурной жизни Советского Союза, его внутренней и внешней политики. В действительности эта идея себя не оправдала. Хотя группа сопровождения включала ряд весьма видных, заслуженных людей, большинство из них бесцельно бродили вокруг, не зная, что от них требовалось. А некоторые не скрывали, что тяготятся ролью придворных. Думаю, это была не лучшая из идей нашего тогдашнего лидера.
К счастью, аппарат посольства оказался эффективным организмом и смог справиться со всей неразберихой, путаницей и всякими непредвиденными обстоятельствами.
А главное непредвиденное обстоятельство заключалось в том, что еще 16 апреля, то есть за месяц до визита высокого советского гостя, в столице Китая начались студенческие демонстрации, размах которых в апреле и начале мая постепенно возрастал по мере того, как к студентам стали присоединяться другие группы населения. Днем и ночью мимо посольства проходили колонны демонстрантов, направляясь к центру города, многие с пением «Интернационала». К моменту прибытия Горбачева вся центральная площадь Тяньаньмэнь была запружена народом. Более двух тысяч человек, объявивших голодовку, расположились вокруг памятника народным героям. Поступали сообщения о беспорядках в некоторых других крупных городах. Стало очевидным, что страну, или по крайней мере ее городские районы, охватил настоящий кризис.
Мне задавали вопрос: не намерен ли я был на каком-то этапе рекомендовать отмену визита. Мой ответ всегда был отрицательным. Для этого имелся ряд причин. Во-первых, как наше руководство, так и посольство приложили так много усилий, чтобы визит состоялся и произошла нормализация отношений, что у меня была полная уверенность: Москва не захочет откладывать его. Во-вторых, масштабы волнений нарастали постепенно, и поэтому было бы трудно определить, когда именно они могли стать препятствием для визита. Кроме того, я был уверен, что власти сумеют совладать с ситуацией тем или иным путем. И наконец, я считал, что не мы, а китайское руководство должно было решать, откладывать визит или нет. Если бы визит был отменен или отложен по нашей инициативе, китайское руководство имело основание воспринять это как оскорбление с последующей отсрочкой визита на неопределенный срок.
Оказавшись в Пекине, Горбачев воспринял ситуацию без особых эмоций. Я не услышал от него ни одной жалобы, ни одного слова недовольства. Напротив, он все время находился в хорошем настроении. Огромные толпы, заполнившие улицы, встречали его с энтузиазмом. Время от времени он останавливал машину и погружался в толпу, которая встречала его приветствиями. Сомневаюсь, чтобы эти сцены могли понравиться нашим хозяевам, но они, видимо, понимали, что лучше не вмешиваться. Среди тех, кто сопровождал Горбачева, были один или два радикала, которые предлагали ему отправиться на площадь Тяньаньмэнь, чтобы там обратиться с речью к демонстрантам, но такие экстремистские советы были отвергнуты.
В своих выступлениях Горбачев придерживался спокойного тона. На пресс-конференции в конце визита он подчеркнул, что не намерен брать на себя роль судьи и давать оценки всему тому, что происходило в Китае. Он отметил, что между руководством, молодежью и общественностью идет сложный диалог, и выразил надежду, что будут найдены решения, которые дадут возможность Китаю и его народу успешно двигаться вперед по тому пути, который они избрали.
Демонстрации достигли своей кульминации, и кровавые эксцессы произошли уже позднее, через две-три недели после отъезда советских гостей.
В беседах с китайскими руководителями вопрос о ситуации в Пекине не возникал. Было очевидно, однако, что наши хозяева чувствовали себя не в своей тарелке. Они несколько раз обращались к демонстрантам с призывами разойтись и проявить вежливость к высокому гостю. Но призывы не успокоили разгулявшиеся страсти.
Официальная нормализация советско-китайских отношений произошла, как это и предполагалось, когда Михаил Горбачев встретился с Дэн Сяопином. Мне показалось, что Дэн был не в такой хорошей форме, как за несколько месяцев до этого, когда он принимал Шеварднадзе. Но вероятно, в таком возрасте каждый человек вправе иметь хорошие и не столь хорошие дни. И в этот раз Дэн заявил, что необходимо положить конец прошлому и открыть дверь в будущее, хотя больше времени уделил все же прошлому. Некоторые из его утверждений вызывали сомнение. Горбачев, однако, предпочел – и я думаю, сделал правильно – не вступать в дискуссию, а сосредоточиться на позитивных моментах. Перед беседой он даже сказал нам, сопровождавшим его, что намерен вести беседу как младший со старшим. «Это ценится на Востоке», – добавил он. В результате беседа прошла гладко, и обе стороны остались удовлетворены. После чего Дэн Сяопин пригласил всех на обед, который прошел в весьма оживленной обстановке. Трудно было поверить, что Дэну уже за восемьдесят пять, видя, как он выпил пару стопок китайской водки.
Более детальная, деловая беседа состоялась у Горбачева с премьер-министром Ли Пэном. Был затронут обширный круг вопросов: экономическое сотрудничество, переговоры о границе, а также о сокращении войск в пограничном районе, международное положение и другие. В течение всего визита советский руководитель подчеркивал, что примирение между СССР и КНР не должно произойти за счет какой-либо третьей страны. Он также настаивал на том, что безопасность того или иного государства может быть достигнута только благодаря обеспечению безопасности других.
Ли Пэн имел репутацию сторонника жесткой линии в политике, во всяком случае так его представляли западные средства информации. Я нахожу подобные ярлыки надуманными. Часто тот или иной политик может занять либеральную или гибкую позицию по одному вопросу и консервативную или жесткую по другому. Или же его взгляды могут эволюционировать с течением времени. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что считаю Ли Пэна государственным деятелем высокой квалификации, хорошо разбирающимся как в экономических проблемах, так и в международных делах, высококвалифицированным администратором и человеком, с которым мне, во всяком случае, было легко иметь дело.
Из всех китайских руководителей, с которыми Михаил Горбачев встречался в Пекине, Чжао Цзыян, можно сказать, представлял собой особый случай. К тому времени, когда начался визит, появились признаки, что не все было идеально в китайском руководстве. В частности, точка зрения Чжао относительно того, как справиться с острейшей ситуацией в городе, расходилась с позицией его коллег. Вскоре выяснилось, что дело обстояло именно так. Чжао выступал за то, чтобы продолжать диалог с демонстрантами, не применяя силовых методов.
В ходе беседы Горбачева с Чжао произошел эпизод, на который мы не обратили внимания, но который был использован против генерального секретаря ЦК КПК. Смотря прямо в объектив телевизионной камеры, Чжао сказал, что, хотя на III съезде партии в 1987 году Дэн Сяопина освободили от обязанностей члена политбюро ЦК КПК и постоянного комитета политбюро по его просьбе, вся партия хорошо знает, что Китай не может обойтись без его мудрости и опыта. Он затем заявил, что на пленуме Центрального комитета было принято решение о том, что руководство товарища Дэна все еще необходимо при решении наиболее важных вопросов. Видимо, проступок Чжао заключался в том, что он предал гласности секретное решение партии, хотя ни для кого не представляло секрета, что Дэн продолжал оставаться верховным руководителем.
Что касается существа беседы Чжао с Горбачевым, то она прошла в спокойных тонах. Тем более неожиданным для нас было поведение Чжао Цзыяна на неофициальном ужине, который он устроил в тот же день для Горбачева и сопровождающих его лиц. За столом он вновь и вновь возвращался к вопросу о Камбодже, как бы стараясь втянуть Горбачева в длительный спор, хотя тот явно уклонялся от этого. У меня создалось впечатление, что поведение Чжао объяснялось стрессовым состоянием, в котором он находился. К тому же было похоже, что он выпил лишнего. Во всяком случае, находившиеся за столом китайцы были смущены его поведением, они виновато улыбались, давая понять, что не стоит придавать всему этому большое значение. Мы могли только предполагать, что в китайском руководстве разгорались жаркие споры по поводу того, какую тактику следует предпринять в отношении бушевавших в городе демонстраций. Мы, разумеется, не знали, что не пройдет и месяца, как Чжао Цзыян потеряет пост генерального секретаря ЦК КПК и исчезнет с политической арены, хотя и не подвергнется каким-либо репрессиям.
В Шанхае, куда Михаил Горбачев нанес однодневный визит, демонстрации на улицах были такими же, как и в Пекине, хотя ситуация казалась менее взрывоопасной. Наиболее интересной в Шанхае была встреча советского гостя с секретарем шанхайского комитета партии Цзян Цзэминем, который через несколько недель стал генеральным секретарем ЦК КПК, а немного позже и главой государства. До приезда Горбачева я мало знал Цзян Цзэминя. Мы встречались только однажды, когда он был еще мэром Шанхая. Он производил впечатление разумного, сбалансированного человека. С удовольствием вспоминал о своей жизни в Москве, где работал на ЗИЛе. Помимо русского, Цзян Цзэмин мог с разной степенью успеха изъясняться на некоторых других иностранных языках и любил демонстрировать эти знания. Позднее, в Пекине, у меня состоялось несколько бесед с ним, которые подтвердили мое первоначальное впечатление о нем.
Перед отъездом советского руководителя совместное коммюнике было окончательно согласовано и опубликовано. Оно представляло собой содержательный и развернутый документ, который в равной степени удовлетворил как советскую, так и китайскую стороны.
18 мая, после четырехдневного пребывания в Китайской Народной Республике, Горбачев отправился домой. Мы, как и китайские представители, вздохнули с облегчением, дело было сделано; несмотря на сложную обстановку, визит прошел без сколько-нибудь серьезных накладок; отношения между двумя великими державами были нормализованы. В последние годы стало модным критиковать Горбачева и Шеварднадзе за то, что в переговорах с американцами и немцами они допустили ряд существенных уступок, получив взамен ничтожно мало. Думаю, что с этим можно согласиться.
Но вот то, что касается восточной политики нашего тогдашнего президента и его министра иностранных дел, то, как мне представляется, они не допустили каких-либо серьезных промахов, а успех, безусловно, налицо. Примирение и восстановление отношений России с Китаем, пусть это не военно-политический союз, как прежде, – это несомненное достижение, которое во многом изменило ситуацию в Азии, да и не только там.
Однако вернусь к событиям тех дней. После отъезда Горбачева массовые демонстрации в Пекине достигли своего апогея. А китайское руководство продолжало пребывать в состоянии какой-то непонятной апатии. Пока Горбачев находился в Китае, такое поведение еще можно было понять, ибо предпринимать решительные шаги в присутствии гостя было неловко. Но теперь пассивность можно было объяснить продолжающимися принципиальными расхождениями внутри руководства.
20 мая в Пекине было введено военное положение и были предприняты кое-какие, опять же нерешительные попытки ввести войска в центр столицы. Это не дало никаких результатов. Напротив, толпа стала еще более необузданной. Как часто бывает в таких ситуациях, среди демонстрантов появились уголовные элементы. Многочисленные случаи нападения и убийства солдат и офицеров прошли почему-то незамеченными как на Западе, так и у нас в стране. Столице грозил полный хаос.
Наконец, в ночь на 3 июня власти прибегли к крайним мерам, чтобы очистить площадь Тяньаньмэнь и ведущие к ней улицы от демонстрантов. Количество жертв было значительным. Было очевидно, что китайское руководство расплачивалось за свою политическую пассивность, проявленную в течение двух с лишним месяцев, когда улицы столицы ежедневно заполнялись демонстрантами, и полную безучастность к их требованиям. Неудивительно, что в результате правительство утратило контроль над ситуацией.
В течение последующих нескольких дней Пекин напоминал бесхозный город. Жизнь была дезорганизована, в различных районах столицы слышалась стрельба. Многие иностранцы поспешили покинуть страну, хотя я убежден в том, что жизнь иностранцев ни в Пекине, ни в других больших городах никогда не была в опасности.
Естественно, возник вопрос о советской официальной реакции на события в Пекине. На Съезде народных депутатов СССР президиуму удалось довольно ловко заблокировать весьма резкий проект с осуждением китайских властей и провести сравнительно умеренную резолюцию, в которой говорилось о драматических событиях в Пекине, о столкновениях между войсками и демонстрациями молодежи, о применении оружия и о жертвах среди гражданского населения. И вместе с тем в резолюции подчеркивалось, что события в Китае – внутреннее дело китайского народа, что любое давление извне было бы неуместным. Выражалась надежда, что великий китайский народ вскоре перевернет эту трагическую страницу своей истории и пойдет дальше по пути экономических и политических реформ. Считаю, что это был правильный подход к происшедшим событиям. Большинство сотрудников посольства, хотя и не все, придерживалось такого же мнения.
Пекинские события вызвали большой шум в западных, особенно американских, средствах массовой информации и немало гневных слов из уст деятелей разного ранга. Гораздо больше, чем во время подавления студенческих демонстраций в Южной Корее, тогда погибли сотни и сотни людей. Наверное, тут в немалой степени причиной было и недовольство по поводу улучшения советско-китайских отношений.
Мы в посольстве весь этот всплеск возмущения всерьез не принимали, относя его к разряду чисто пропагандистской установки. Китай для Запада был слишком важен, чтобы ставить под угрозу отношения с ним. И в своей оценке не ошиблись. Прошло немного времени, и президент Буш направил в Пекин с секретной миссией своего помощника по вопросам национальной безопасности Скоукрофта. Затем в столице КНР побывали бывший государственный секретарь Хэйг, бывший президент США Никсон и бывший государственный секретарь Киссинджер. Известно, что все эти бывшие, как правило, выполняли за рубежом поручение действующего президента. И на этот раз мы были убеждены в том, что поездки свои в Пекин они предприняли не для того, чтобы браниться с китайскими лидерами и обвинять их в нарушении прав человека.
После визита Горбачева наши отношения с Китаем продолжали развиваться в нормальном направлении. Пограничные переговоры привели к соглашению относительно всей протяженности восточной части границы, за исключением двух или трех островов, вопрос о которых решено пока отложить. Что касается западной части границы, то переговоры о ней завершились несколько лет спустя исторической встречей в Шанхае президентов Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Важные переговоры о сокращении вооруженных сил в районе советско-китайской границы также продвинулись к успешному завершению, несмотря на ряд технических трудностей.
Памятным событием был визит премьер-министра Ли Пэна в Советский Союз в апреле 1990 года. Его переговоры с Михаилом Горбачевым и Николаем Рыжковым стали важным продолжением поездки советского президента в Китай.
Однако вскоре после визита Ли Пэна, когда я вернулся в Пекин, меня охватило некоторое беспокойство. Нам стало известно, что на страницах китайских изданий, предназначенных для служебного пользования, стали появляться публикации с критикой гласности и некоторых других явлений политической жизни нашей страны. Премьер-министр Ли Пэн выразил эти настроения очень тактично и даже элегантно, когда он сказал мне на прощальном обеде, устроенном перед моим возвращением домой: «Взгляды товарища Горбачева эволюционируют так быстро, что мы не поспеваем за ним».
У меня появились опасения, как бы такого рода критика не переросла в очередной раунд взаимных упреков и обвинений в догматизме, ревизионизме и прочих печально известных ярлыках. Восток, как известно, дело тонкое, и потому, сообщая в Москву о критических стрелах Пекина, я настоятельно рекомендовал не принимать это слишком близко к сердцу. И одновременно провел целую серию бесед с ответственными персонами Китая, предупреждая их, что, начнись в наших отношениях очередной круг распрей, и мы и они станем посмешищем в глазах всего мира. Я давно заметил, что для китайцев нет более серьезного оскорбления, чем насмешка над ними.
В последние месяцы своего пребывания в Китае я считал подобные беседы своим главным делом. И по-видимому, моя аргументация дошла до тех, кому она предназначалась. Через некоторое время я услышал собственные аргументы уже от самих китайцев. Как бы то ни было, но опасности новой волны публичной полемики удалось избежать.
Поскольку в конце 1989 года мне стукнуло семьдесят лет, я обратил внимание Шеварднадзе на то, что пришла моя пора уходить в отставку. Я высказал ему свое твердое убеждение в том, что, даже если дипломат, достигнув 65 или 70 лет, сохраняет живой ум и хорошую память, даже тогда ему следует уступить место более молодым и динамичным кадрам.
Министр выказал некоторое удивление, наверное, ему нечасто приходилось слышать такое от своих подчиненных, но в душе, очевидно, согласился со мной.
И полгода спустя дал добро. Я покинул Пекин во второй половине сентября 1990 года. Благодарный судьбе за то, что она дала мне возможность завершить свою карьеру на высокой ноте. С чувством удовлетворения от того, что мне удалось сделать что-то доброе для наших двух стран, отношения которых будут во многом определять облик нового XXI столетия.
Создается впечатление, что в России сложился достаточно широкий и прочный консенсус в поддержку курса на дальнейшее развитие связей с Пекином. Конечно, раздаются и будут раздаваться голоса тех, кто опасается, что это может повредить нашим отношениям с США. Но мне представляется, что дело обстоит как раз наоборот: чем глубже и прочнее станут корни российско-китайских связей, тем стабильнее станут отношения с Вашингтоном, который должен будет в большей мере считаться с интересами нашей страны.
А еще я вынес из работы в Китае, который буквально возродился из пепла «культурной революции» и продвигается ныне по пути прогресса, убеждение в том, что и нынешнее кризисное состояние России не вечно, что придет праздник и на нашу улицу.
И немалую роль в приближении этого праздника обязана сыграть наша российская дипломатия.
Ветеранам советской дипломатической службы, бывало, приходилось защищать неправедные позиции, которые определялись сугубо идеологическими соображениями, а не национальными интересами. В этих случаях мы порою оказывались в неловком положении. Но это скорее были не правила, а исключения. Главное же заключалось в том, что у нашей дипломатии были крепкие тылы – сильная держава, с которой волей-неволей считались даже самые мощные противники.
Потом произошли потрясения, которые мало кто предвидел, а если и предвидел, то не ожидал, что события могут развернуться столь быстрыми темпами и зайти так далеко. Советская сверхдержава распалась, ее экономику охватил глубокий кризис, ее вооруженные силы утратили значительную часть своей боевой мощи, а бывшие союзники разбежались по сторонам.
Возникла совершенно новая ситуация. Но перед российской внешней политикой сохранились – пусть в видоизмененном виде – задачи обеспечения национальных интересов своего государства. Между тем инструментарий, которым она теперь располагает, оказался уменьшенным в объеме и эффективности. Это означает, что российская дипломатия должна компенсировать недостаток средств возросшим мастерством, энергией и находчивостью.
Бросив взгляд в прошлое, мы убедимся, что Россия не первая и далеко не единственная страна, на которую обрушился катаклизм таких масштабов. Мы убедимся также, что некоторые страны благополучно преодолевали постигшие их катастрофы, другие же оказывались менее удачливыми.
Наиболее яркий пример – Китайская Народная Республика, которая довольно быстро преодолела безумства «культурной революции» и заняла одно из первых мест среди великих держав современного мира.
В беседе с премьер-министром Китая Ли Пэном в апреле 1990 года Михаил Горбачев, оправдывая трудности, с которыми уже тогда столкнулось советское общество, сослался на пример Китая. Ли Пэн ответил на это, что его собеседник, может быть, и прав, но он не советовал бы создавать для себя трудности только для того, чтобы потом героически преодолевать их.
К этому мудрому совету не грех прислушаться новому поколению, идущему нам на смену.
Эпилог
Я начал эту книгу с эпиграфа из Тютчева. И закончить ее хочу тоже Тютчевым:
Когда дряхлеющие силы Нам начинают изменять И мы должны, как старожилы, Пришельцам новым место дать, — Спаси тогда нас, добрый гений, От малодушных укоризн, От клеветы, от озлоблений На изменяющую жизнь; От чувства затаенной злости На обновляющийся мир, Где новые садятся гости За уготованный им пир…Я желаю нынешнему поколению россиян, которые тоже пришли в этот мир в его минуты роковые, счастья и успехов в созидании новой великой России.
И пусть им в этом помогут и наши свершения, и наши ошибки.



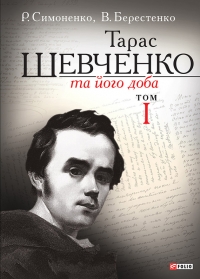
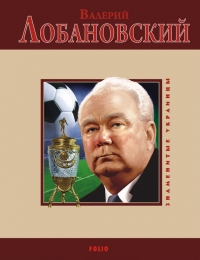

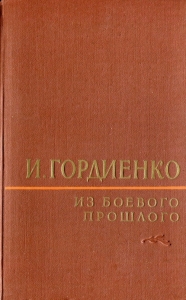



Комментарии к книге «Через годы и расстояния. История одной семьи», Олег Александрович Трояновский
Всего 0 комментариев