Гавриил Константинович Романов В мраморном дворце
От автора
В нелегкой борьбе за существование, вдали от Родины, нам остались лишь воспоминания – о том, что дорого нам было там; мне – о жизни нашей семьи, в ряде долгих и долгих лет неразрывно связанной с жизнью нашей великой родины, с ее постепенным ростом, с ее историческими судьбами.
Мне было дано видеть, знать эту жизнь близко, ближе, чем многим другим, знающим ее только со стороны, понаслышке, по рассказам, далеко не всегда беспристрастным.
И я сочту свой долг исполненным, если мои краткие, непритязательные, но протокольно точные записи-воспоминания внесут в установившиеся уже образы хоть некоторые новые, исторически верные, жизненно правильные черты.
Привожу справку, почему я, получивший при рождении титул князя крови императорской с титулованием высочеством, теперь именуюсь великим князем и титулуюсь императорским высочеством.
Ввиду быстрого роста числа членов императорской фамилии, император Александр III счел необходимым ввести изменение в “Учреждение об Императорской Фамилии”. 2 июля 1886 года был издан новый закон, по которому уже правнуки императора признавались не великими князьями, а князьями крови императорской и должны были титуловаться не императорскими высочествами, а просто высочествами.
Первыми подпали под этот закон мой старший брат князь Иоанн Константинович (род. 23 июня 1886 г.) и я (род. 3 июля 1887 г.).
В 1886 г., когда этот закон был издан, насчитывалось двадцать два члена императорской фамилии мужеского поколения и все имели великокняжеский титул.
В 1937 году было здравствующих пять великих князей и девять князей крови императорской. На это обстоятельство обратил внимание глава династии великий князь Кирилл Владимирович, и возник вопрос о своевременности отмены закона 1886 года. Но эта отмена в обстановке нахождения главы династии вне России встретила серьезные возражения: ею был бы поколеблен принцип незыблемости “Учреждения об Императорской Фамилии”, что могло бы отразиться на ясности вопроса о престолонаследии. Поэтому глава династии отверг мысль об отмене означенного закона и, в соответствии с духом ст. 219 “Учреждения об Императорской Фамилии”, решил в 1937 году давать великокняжеский титул князьям крови императорской в личном порядке, считаясь с возрастным старшинством.
В связи с этим решением возник в первую очередь вопрос о даровании великокняжеского титула мне, как старейшему князю крови императорской.
Возбуждение означенного вопроса совпало с началом тяжкой болезни главы династии великого князя Кирилла Владимировича, и потому, хотя этот вопрос в принципе и был решен, но его оформление задержалось, а последовавшая вскоре кончина Кирилла Владимировича вовсе помешала его осуществлению. Новый глава династии великий князь Владимир Кириллович довершил осуществление мысли, возникшей у его отца, и даровал мне в 1939 году великокняжеский титул с правом титуловаться императорским высочеством.
Глава I. Мой отец
Целовал, но руки не подавал – Куинджи не дает ему взять в плавание свою “Ночь на Днепре” – Запрет вставлять иностранные слова в русскую речь – Молитвы. Музыка. Книги. Дневник – Командир Преображенского полка – Генерал-инспектор военно-учебных заведений – Председатель Русского музыкального общества – Основатель женского пединститута в Петербурге – Президент Академии наук – Нелицемерно признанный всеми поэт К.Р.
Светлый образ отца стоит перед моими глазами: большого роста, с русой бородкой и очень красивыми руками, с длинными пальцами, покрытыми кольцами.
Здороваясь с нами, детьми, он нас целовал, беря за лицо, но руки не подавал. Когда же здоровался с нами в день причастия, перед тем, как идти в церковь, он нас не целовал: до причастия целоваться не положено. И тогда подавал руку.
По утрам, в восемь часов, когда отец выходил в столовую пить кофе, он посылал за нами своего камердинера. Наши няни, Вава и Атя, приводили нас. Отец обычно бывал одет в серую тужурку и сидел в углу, на диване, за небольшим, на возвышении, столом.
В столовой висела громадная картина, изображавшая убитого шведского короля Карла XII, несомого на носилках своей гвардией, кисти Седерстрема. Отец любил живопись. В его приемном кабинете в Мраморном дворце, среди других, висела картина Куинджи “Ночь на Днепре”; отец купил ее, будучи молодым морским офицером. Картина ему понравилась, и он решил ее приобрести. Куинджи ответил, что “она не для вас, молодой человек”: он не узнал отца. Картину отец все-таки приобрел и, уходя в плавание, решил взять с собою. Узнав об этом, Куинджи собирался возбудить процесс, считая, что его знаменитая картина в плавании испортится. Но отец картину все-таки взял, и никакого процесса не было.
По вечерам, когда мы, лети, ложились спать, отец с матушкой приходили к нам, чтобы присутствовать при нашей молитве. Сперва мой старший брат, Иоанчик, а за ним и я становились на колени перед киотом с образами в нашей спальне и читали положенные молитвы, между прочим, и молитву Ангелу-Хранителю, которую, по семейному преданию, читал ребенком император Александр II. Отец требовал, чтобы мы знали наизусть тропари двунадесятых праздников и читали их в положенные дни. Часто и дяденька (младший брат отца, великий князь Дмитрий Константинович) присутствовал при нашей вечерней молитве; когда мы ошибались, родители или дяденька нас поправляли.
Отец был с нами очень строг, и мы его боялись, “не могу” или “не хочу” не должны были для нас существовать. Но отец развивал в нас и самостоятельность: мы должны были делать все сами, игрушки держать в порядке, сами их класть на место. Отец терпеть не мог, когда в русскую речь вставляли иностранные слова, он желал, чтобы первым нашим языком был русский. Поэтому и няни у нас были русские, и все у нас было по-русски.
В молельной у отца, в Мраморном дворце, между кабинетом и коридором висело много образов и всегда теплилась лампадка. Каждый день приносили в молельню из нашей домовой церкви икону того святого, чей был день. Эти иконы, все в одном и том же стиле, дарили отцу мои дяди Сергей Александрович и Павел Александрович.
Позднее, когда мы подросли и уже самостоятельно приходили к отцу здороваться, дежурный камердинер нам говорил, что нельзя войти, потому что “папа молится”. Помолившись, отец здоровался с нами и шел в столовую. Напившись кофе, он тут же, за столом, просматривал газету, которая клалась подле его прибора.
В Петербурге, Павловске или Стрельне, если отец бывал свободен, мы ходили с ним гулять пешком. Прогулки с отцом, в которых часто принимала участие и матушка, мы очень любили.
Дома отец иногда садился за рояль, – он отлично играл и был прекрасно музыкально образован. Учил его Рудольф Васильевич Кюндингер, отец называл его “Руди”. Он приходил раз в неделю, и отец под его руководством играл в “готической” комнате, после чего Руди всегда оставался завтракать. У отца было дивное туше, и он особенно хорошо играл прелюды Шопена, и я очень любил его слушать и смотреть на его красивые пальцы, бегавшие по клавишам.
Отец много читал и писал. Он внимательно следил как за русской, так и за иностранной литературой и прочитывал по возможности все новые книги. Всю свою жизнь он вел дневник, который писал в тетрадях в желтых кожаных переплетах, и завещал напечатать его через девяносто лет после своей смерти.
По вечерам, после обеда, отец с сигарой во рту вновь садился за письменный стол. В его маленьком, уютном кабинете всегда так хорошо пахло сигарами… В семейном кругу он не любил говорить о своих делах, а тем более – тревогах. Когда у него бывали неприятности, он переживал их молча, “носил их в своем сердце”, – потому оно и не выдержало долго.
Такой я видел жизнь отца в течение длинного ряда лет, но – надо сказать прямо – жизнь его выходила далеко за пределы семьи, основное в его жизни было вне ее. Он принадлежал России.
Строевой начальник, отечески заботившийся до мелочей о своих солдатах, знавший всех унтер-офицеров сперва Измайловского, а затем Преображенского полка по фамилиям; главный начальник, а затем генерал-инспектор военно-учебных заведений, много раз исколесивший Россию в поездках по корпусам и военным училищам; энергичный работник в Комитете трезвости, старавшийся оздоровить Россию; видный деятель и преобразователь Комитета грамотности, мечтавший всю Россию сделать грамотной и боровшийся с Победоносцевым за народную школу; основатель и фактический руководитель Женского педагогического института в Петербурге; враг неразумных преследований учащейся молодежи; долголетний президент Академии наук, связавший свое имя со многими важными в ней начинаниями; создатель при ней Разряда изящной словесности и сам первый свободно избранный почетный академик; организатор известных в свое время “Измайловских досугов”; председатель Русского музыкального общества, поддерживавший со многими, в частности с Чайковским, деятельную переписку; наконец, видный литературный деятель, нелицемерно признанный всеми поэт К.Р., оставивший, кроме богатого литературного наследства в виде оригинальных произведений, переводы Гётевской “Ифигении в Тавриде”, Шиллеровской “Мессинской невесты”, Шекспировского “Гамлета”, сам воплощавший на сцене их великие образы; оставивший ценнейшие комментарии к этим мировым сокровищам и в конце жизни создавший “Царя Иудейского”, в котором, по общему признанию, глубочайшее религиозное чувство соединилось с утонченным изобразительным даром. И во всей этой многосторонней деятельности – кипучая энергия, желание всегда довести до конца начатое.
Второй сын генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича, отец родился в 1858 г. и с малолетства готовился к морской службе. Но морская служба отца не увлекла, да и здоровье не позволило ему в ней оставаться. Он перешел в сухопутные войска.
Перейдя в пехоту, отец хотел поступить в лейб-гвардии Павловский полк, но мой дед потребовал, чтобы он поступил в Измайловский по той причине, что отец мой числился в этом полку со дня своего рождения. Таким образом, 15 декабря 1883 г. он стал измайловцем. Будучи поэтом и большим любителем драматического искусства, отец организовал в Измайловском полку так называемые “Досуги”, – литературные собрания, на которых устраивались также и любительские спектакли. В феврале 1900 года в Эрмитажном театре был поставлен “Гамлет”, и я помню, как в вечер спектакля, когда отец уехал в театр (он играл самого Гамлета), лакей Крюков с большим трудом внес в гостиную родителей мраморный бюст Офелии: это был подарок матушки – отцу. Он должен был увидеть его, вернувшись со спектакля.
В офицерском собрании Измайловского полка театральные представления происходили на складной сцене – подарок знаменитого актера Александринского театра В.Н. Давыдова. Давыдов почти всегда режиссировал спектакли “Досугов”.
22 апреля 1891 г. отец был назначен командующим лейб-гвардии Преображенским полком, во главе которого он оставался до марта 1900 г. При нем одно время, до вступления на престол, командиром первого батальона был наследник цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II). По общим отзывам, это был усердный и исполнительный офицер.
Вступив в командование полком, отец старался улучшить условия жизни солдат с первого дня прибытия их в полк. Офицеров он нередко приглашал к завтраку и обеду, причем иногда и с женами. Помню, как после одного из таких обедов одна из Преображенских дам учила матушку в большой гостиной танцевать падекатр, который тогда был в большой моде.
Я очень любил видеть отца верхом, перед полком. В строю он был очень элегантен и красиво сидел на лошади. Весной полк уходил в Красное Село и оставался там с апреля по август. Отец всю неделю проводил в лагере и приезжал в Павловск или Стрельну только по субботам, к вечеру, и оставался до вечера воскресенья; он приезжал в коляске тройкой, которой неизменно правил ямщик Филипп, возивший отца со дней коронации императора Александра Ш.
Мы очень любили ездить в Красное Село, к отцу, в лагерь. Будучи командиром Преображенского полка, отец жил в лагере в большом доме, который был построен для императора Николая II, когда тот был еще наследником. В доме было очень уютно, а в саду, в траве, лежала большая, голубая майоликовая лягушка.
Мы приезжали в Красное в собственных ландо на почтовых четверках и в тот же день возвращались обратно. Пили у отца чай, ходили по лагерю, заходили в конюшню и садились на его серую кобылу Маруську, а конюх Петр Заздравный водил ее под уздцы. Однажды мы приехали к отцу в лагерь, когда полк возвращался с маневров. Полк выстроился перед передней линейкой, отец на лошади скомандовал: “Под знамя, слушай на-кра-ул”, – музыка заиграла полковой марш, и знамя унесли. Это было торжественно и преисполнило меня восторгом.
Однажды приехала с нами в лагерь тетя Оля (королева эллинов, Ольга Константиновна). Я помню, что мы куда-то шли и вышли на Красносельское шоссе. В это время проезжал на тройке великий князь Владимир Александрович с командиром Гвардейского корпуса князем Оболенским. Увидев тетю Олю, Владимир Александрович вышел из экипажа, стал перед ней на одно колено и поцеловал ей руку. Он любил такие шутки.
В 1900 году мой отец был назначен главным начальником военно-учебных заведений. Начался новый плодотворный период его жизни. Вступая на новое и крайне ответственное поприще, отец, следуя указаниям своего ума и сердца, поставил себе ясное задание: в военно-учащихся, решивших отдать свои силы на служение престолу и Родине, видеть прежде всего детей, нуждающихся не только в строгости, но и в моральной поддержке, в отечески благожелательных советах и указаниях. Надо было отбросить строго формальные с ними отношения, стать ближе к ним. Так отец и поступал. За свое пятнадцатилетнее пребывание во главе военно-учебных заведений он побывал во всех кадетских корпусах и училищах, разбросанных по разным углам России.
Благодаря своей исключительной памяти, отец легко запоминал фамилии кадет и юнкеров. Когда, гуляя, отец встречал кадета или юнкера, он или прямо называл его по фамилии, или клал ему на лоб руку и приказывал назвать первую букву своей фамилии. После этого он его называл, редко при этом ошибаясь. Юнкера и кадеты очень любили отца и до сих пор с благоговением чтут его память. В Париже, уже в эмиграции, один бывший кадет, магометанин, показал мне Коран, который подарил ему мой отец после того, как узнал, что он не читает Корана. “Какой же ты магометанин, – сказал мой отец, – если ты не читаешь Корана!” Этот кадет так ценил подарок отца, что захватил его с собою, покидая родную землю.
Многое из поэтического наследства отца осталось еще в рукописях, неопубликованным, и обширные указания на это мы находим в переписке отца с его сестрой, где он откровенно говорит о “муках творчества” и где целый ряд страниц заполнен или стихами, еще не увидевшими света, или вариантами уже опубликованного.
Он не говорил с нами, детьми, о своих литературных работах. С нами он вообще мало говорил и никогда не делился своими литературными впечатлениями. Конечно, в этом была наша вина, так как никто из нас, кроме павшего смертью храбрых в 1914 году брата Олега, литературой не интересовался. С ним отец был, пожалуй, более близок, они больше понимали друг друга.
Когда на отца находило поэтическое настроение, он думал только о стихах и забывал об окружающем. Бывало, приедет в Академию наук, президентом которой он был, или в Главное управление военно-учебных заведений и, подъехав, не выходит из экипажа. Мысли его витают вне окружающего, в мире поэзии. Кучер Фома говорит ему: “Ваше императорское высочество, приехали!” Отец возвратится к действительности и выйдет из экипажа.
Венцом всего творчества отца была драма “Царь Иудейский” из земной жизни Иисуса Христа. Святейший Синод был против постановки этой возвышенной драмы, в которой сам Христос ни разу не появляется на сцене. Есть основание думать, что идея драмы подсказана была отцу Чайковским. В октябре 1889 г. Петр Ильич писал отцу об этой евангельской теме.
Такие светлые личности, какой был мой отец, встречаются не часто в жизни. Прошло почти сорок лет со дня его смерти, а его незабвенный образ стоит передо мной, как живой. Я чувствую, как мне не хватает его, и временами так хотелось бы пойти к нему и поговорить с ним “по душам”…
Глава II. 1887–1895. Ранние годы
Я родился в Павловском дворцe, которым владел мой дед – Почему я не получил имя Андрей – Мой восприемник на крестинах Александр III – Караул шел не в ногу, чтобы не провалился пол – “Все те же лица, все те же рыла, а на подушке князь Гаврила” – Старшая няня Вава, Варвара Петровна Михайлова, “в должности англичанки” – Мой дядя показывает хвостик – “Русский немца побиль”: я ударяю эрцгерцога по лицу – В Швейцарии после брюшного тифа – Братья Иоанн и Игорь – Сандро и Ксения в канаве.
В тридцати верстах к юго-западу от Петербурга, примыкая своим парком к Царскому Селу, стоит город Павловск. Он был известен дивным парком, вокзалом, в залах которого давались летом симфонические концерты, и великолепным дворцом. В этом дворце я и родился 3/15 июля 1887 г.
Дворец был построен в конце XVIII столетия великим князем, впоследствии императором Павлом Петровичем и его супругой Марией Федоровной. Архитекторами были: Камерон, Кваренги, Данилов и Козлов. Устройство парка было поручено итальянскому декоратору Гонзаго.
В течение нескольких лет Гонзаго жил в Павловске. Каждое утро обходил он парк вместе со своим учеником Степаном Кувшинниковым, который нес по ведру белой и черной краски. Первой Гонзаго отмечал те деревья, которые нужно сохранить, а второй – которые нужно уничтожить. В результате получились те изумительные перспективы, которыми, как нигде, можно было любоваться в Павловске. Я никогда не видел такого великолепного парка и такого красивого по внутренней отделке дворца, как Павловский дворец. Это был настоящий музей – собрание картин, гобеленов, бронзы и вообще художественных вещей. Большевики переименовали Павловск в Слуцк.
По завещанию императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла Петровича, Павловск перешел к ее младшему сыну, великому князю Михаилу Павловичу. Так как он не имел сыновей, то после его смерти, в 1849 году, Павловск перешел к моему деду, великому князю Константину Николаевичу, и его мужскому потомству и оставался в нашем роде до революции, во время которой мы потеряли все наше движимое и недвижимое имущество. Когда я родился, владельцем Павловска был мой дед.
Отец хотел назвать меня Андреем и, как полагалось в императорской фамилии, должен был испросить на это разрешение императора Александра III. Но государь ответил, что в императорском семействе есть уже Андрей – великий князь Андрей Владимирович. Тогда меня назвали Гавриилом и дали уменьшительно – Гаврилушка.
Я впервые увидел свет в большой спальне моей прапрабабки императрицы Марии Федоровны, жены императора Павла. Комната была в первом этаже, окна ее выходили в детский садик. Сразу же после рождения я попал на руки нянюшке Ате, Анне Александровне Беляевой, по профессии акушерке. Отец ее был когда-то богатым купцом, а мать – дворянкой. Двоюродный брат Ати, Ф.Н. Есаулов, был офицером лейб-гвардии Измайловского полка, контуженным в русско-турецкую войну.
Няня Атя много рассказывала мне про мое детство. Кое-что из ее рассказов я записал, кое-что помню сам.
Меня крестили 27 июля в день св. Великомученика и Целителя Пантелеймона. По обычаю того времени, крестины были торжественные в присутствии государя Александра III, государыни, всей императорской фамилии и двора. Моими восприемниками у купели были император Александр III и моя бабушка, великая княгиня Александра Иосифовна, кроме того были записаны крестными: дядя великий князь Дмитрий Константинович, тетя великая княгиня Вера Константиновна герцогиня Виртембергская, моя прабабушка, вдовствующая герцогиня Мария Саксен-Мейнингенская, бабушка принцесса Августа Саксен-Альтенбургская, ее брат герцог Георгий Саксен-Мейнингенский и принц Георгий Шаумбург-Липпе. Несли меня в церковь в торжественном шествии с государем и государыней во главе. Я – как рассказывала няня Атя – лежал на парчовой подушке, покрытый золотым покрывалом, отороченным горностаем, на руках гофмейстерины моей бабушки – Анны Егоровны Комаровской. По бокам подушки шли два ассистента: состоявший при моем отце флигель-адъютант капитан 1-го ранга Илья Александрович Зеленой и состоявший в должности шталмейстера двора моего деда – Иван Алексеевич Грейг.
В Греческом зале дворца, по которому проходило шествие, стоял почетный караул от государевой роты лейб-гвардии Измайловского полка, командиром которой в то время был мой отец.
Когда караул строился в зале, ему было приказано идти не в ногу, так как боялись, что провалится пол. В его прочности настолько сомневались, что даже колонны зала поддерживались особыми крюками, укрепленными на чердаке, и только казалось, что они опираются в пол.
После погружения в купель меня положили на пеленальный стол, который был поставлен тут же, в церкви, за ширмами. Там на меня надели серебряное платье “декольте”, со шлейфом и кружевами, и серебряный чепчик, также с кружевами и голубыми лентами. Государю подали кружевную подушку и положили меня на нее. Певчие придворной капеллы пели все время вполголоса, чтобы не испугать меня. Но когда, за молебном после крестин, они запели “Тебе Бога хвалим” Бортнянского, то дали волю своим голосам. Такова была традиция при дворе.
После крестин меня причащал митрополит Петербургский и Ладожский Исидор. К причастию меня поднесли бабушка и дяденька великий князь Дмитрий Константинович.
И.А. Грейг писал юмористические стихи на разные случаи. Описал он в стихах и крестины моего старшего брата, и мои, и нашего двоюродного брата Христофора Греческого. Я помню несколько строк из описания моих крестин: “Все те же лица, те же рыла, а на подушке – князь Гаврила”. “Все те же лица” – потому что за год до моих крестин были крестины моего старшего брата Иоанна, на которых были те же лица, как и на моих. Графиня А.Е. Комаровская приняла выражение “те же рыла” на свой счет (она была очень некрасива) и обиделась.
Старшей няней была у нас Вава – как мы звали Варвару Петровну Михайлову. В свое время она нянчила отца и моих дядей, затем жила на пенсии в Мраморном дворце. Вся семья наша ее очень любила. Когда родился Иоанчик, так звали моего старшего брата, отец просил Ваву быть при нем. Вава была дочерью камердинера моего деда и воспитывалась в Смольном институте, на Александровской половине. Когда Вава поступила к отцу, она числилась “в должности англичанки”, так как по штату занимала место, предназначавшееся английской няне. У Вавы было много сестер и, как это ни странно, две из них носили одно и то же имя Марии.
Няня Вава помнила императора Николая I, моего прадеда, на смертном одре. Он лежал в своей небольшой и скромно обставленной комнате на антресолях Зимнего дворца, на походной постели, покрытый офицерской серой шинелью, которая ему служила вместо одеяла. Ваву водили к нему прощаться. Она мне рассказывала, что и на смертном одре у императора Николая I “грудь была колесом”, как и при жизни.
В годы моего раннего детства наша семья проводила зиму в Петербурге, в Мраморном дворце, а лето – в Павловске или Стрельне. Из Петербурга мы уезжали в мае и возвращались поздней осенью.
В Мраморном дворце мы с братом Иоанчиком помещались в одной и той же детской, устроенной и украшенной в русском стиле. Все наши комнаты носили тоже русские названия: опочивальня, гуляльня, мыльная (ванна). В гуляльне окна располагались ниже пола и между окнами и полом были устроены решетки, перед которыми стояли растения.
В углу гуляльни висел большой образ Владимирской Божьей Матери, а на нем полотенце, расшитое разноцветными шелками и золотом, на концах обшитое старинными кружевами. Перед образом всегда теплилась большая лампада.
Часов в восемь утра нянюшки водили нас здороваться с отцом, а в десять часов мы ходили здороваться с матушкой. В это время она пила кофе у себя в уборной, одетая в свой неизменный красный халатик. Мне всегда приятно было смотреть, как она аппетитно ест яйца. Запомнил я также и ее красивый кофейный сервиз, серебряный, но темно-бронзового цвета.
Нас с Иоанчиком водили гулять в Таврический сад. Мы проходили через Таврический дворец, когда-то дворец Потемкина, предоставленный впоследствии Государственной Думе. Когда я еще был слишком мал, чтобы ходить, меня возили в коляске в виде серебряного лебедя, в которой возили еще отца, его сестер и братьев. Наш лакей Рябинин вез коляску, Атя шла рядом, а Иоанчика вела за руку Вава. Так торжественно пригуливались мы по аллеям, по которым когда-то гуляла Екатерина Великая с Потемкиным.
Нашего кучера звали Яковлев. Он был с русой бородой. Каждый день, садясь в экипаж, мы громко здоровались с ним. Старший брат говорил: “Здравствуй, Якуку, как ты поживаешь, как здоровье твоей жены и твоих детей?”
На вопрос Яковлева, куда везти, Иоанчик неизменно отвечал: “В Таврический сад!” А я любил ездить мимо памятника императору Николаю I, на Мариинской площади, и называл его “Каляй Палич”. Много лет спустя, в Стрельне, к нам как-то вошел лакей Анисимов и доложил, что Яковлев “приказал долго жить”. Анисимов именно так и сказал: “долго жить”. Это нас очень опечалило.
Зимой мы носили бархатные пальто, похожие на боярские кафтаны, отороченные соболем, собольи шапки с бархатным верхом, гамаши и варежки на резинке, малинового цвета. Наши пальто были очень красивы и передавались от старших – младшим.
Каждый день перед тем, как нас укладывали спать, к нам приходил дядя Дмитрий Константинович, младший брат отца. Он тоже жил в Мраморном дворце и служил в то время в Конной гвардии. Мы очень любили дяденьку, бежали к нему навстречу и бросались на шею. Дяденька любил иногда шутить над нами. Показывая Иоанчику конец ремня, которым он затягивал рейтузы, говорил, что это – его хвост. При этом Иоанчик чуть не плакал, страшно боясь этого “хвоста”. Он был вообще очень нервный ребенок, боялся шкуры белого медведя с большой головой, лежавшей в приемном кабинете отца, и плакал, когда его к ней подводили.
Нас часто водили в Дворцовую церковь и причащали.
Нередко родители приводили к нам в детскую родственников, знакомых, среди которых бывали старые камер-фрейлины николаевских времен и сослуживцы отца по Измайловскому полку. Нередко звали нас к родителям, чтобы показать гостям, и часто – к бабушке Александре Иосифовне, которую мы звали “Анмама”, а дедушку – “Анпапа”. Она нас ласкала и шутила с нами, а однажды позвала нас, чтобы показать приехавшему из-за границы родственнику, какому-то австрийскому эрцгерцогу. Меня и Иоанчика нарядили в кружевные платьица с широкими голубыми кушаками и лентами, и в назначенный час мы явились. Эрцгерцог подошел ко мне и хотел, чтобы я подал ему ручку, а я в это время рассматривал многочисленные бабушкины безделушки, которыми была полна ее гостиная. Эрцгерцог несколько раз обращался ко мне по-немецки, но безрезультатно. В то время по-немецки я еще не говорил, да и был всецело поглощен рассматриванием безделушек. В конце концов я рассердился и ударил эрцгерцога по лицу. Можно себе представить, какой произошел скандал: бабушка меня немедленно выгнала. Тут же присутствовавшая подруга ее детства, баронесса Роткирх, привела меня в дежурную, в которой сидели бабушкины “комнатные женщины” и наши “нянюшки”, и сказала на своем ломаном русском языке: “Русский немца побиль”. В тот же день вечером пришел как всегда в детскую отец и, посмотрев на Ваву с хитрым видом, повторил те же слова: “Русский немца побиль”. Но матушка была очень недовольна моим поведением и, придя вечером к нам, высказала неудовольствие няням.
После этого случая я долго был в немилости у бабушки и она не звала меня к себе. Приходил ее камердинер и докладывал: “Ее императорское высочество великая княгиня Александра Иосифовна приглашают к себе его высочество князя Иоанна Константиновича с Варварой Петровной”. Иоанчик и Вава уходили к бабушке, а я оставался с Атей.
11 января 1890 года, накануне Татьянина дня, родилась моя старшая сестра Татьяна, а в ноябре того же года я заболел брюшным тифом.
Только к Рождеству я начал поправляться, хотя все еще лежал. Родители сделали мне елку в одной из бабушкиных комнат, меня привезли в кресле на колесах, и отец подарил мне свой морской палаш, чем доставил мне громадное удовольствие. В январе были торжественные крестины моего только что родившегося брата Константина. К этому дню я настолько уже поправился, что ходил по комнате в малиновом халатике и красной феске, потому что мне остригли волосы. После крестин ко мне зашли император Александр III и императрица Мария Федоровна. Я до сих пор помню их стоящими в дверях между столовой и моей комнатой. Я вынул висевшую у меня через плечо игрушечную шашку. Государь спросил меня: “Кто ты такой?” Я ответил: “Турка”.
Когда заходил ко мне отец, он часто говорил, глядя на саксонскую люстру с фруктами и ананасом: “Ананас не для вас, вишни для вас лишни”. Я был на строжайшей диете. После брюшного тифа мое здоровье навсегда осталось слабым.
Чтобы дать мне окончательно поправиться, меня решили послать и Швейцарию, в Веве. Со мной и Иоанчиком поехала и матушка. Нас сопровождали: Атя, матушкина камер-фрау Изабелла Карловна Грюнберг (которую мы называли Беблас), детский врач Дмитрий Александрович Соколов, лакей Рябинин и повар Брюхоиенко, который готовил мне специальные блюда. Мы ехали в отдельном вагоне, с кухней.
По пути к нам присоединились матушкины родители: принц Маврикий и принцесса Августа Саксен-Альтенбургские, мы их называли “Опапа” и “Омама”. Я слышал от матушки, что дедушка Маврикий, который со стороны моей матери был правнуком императора Павла I, и великий князь Николай Николаевич Старший, который был его внуком, были очень похожи друг на друга. В эти годы мы все еще говорили только по-русски, а дедушка и бабушка не знали русского языка, но все же мы с ними как-то объяснялись. Веве принесло нам большую пользу, и в июне мы вернулись восвояси.
Иоанчик и я подрастали, и родители решили, что пора, чтобы подле нас был мужчина, а не один только женский элемент. К нам поступил студент-медик, окончивший Духовную академию и прислуживавший в церкви Мраморного дворца. Я назову его Тинтином, как называла его наша матушка. Когда Тинтин пришел к нам в первый раз, Иоанчик попросил его, чтобы он рассказал ему “сказку про молебен”.
Тинтин ходил с нами гулять и играл с нами. Кажется, это он научил нас читать и писать, а также и арифметике. Бабушка же возмущалась, что к нам поступил “псаломщик”.
Весной 1892 г. нас для укрепления здоровья отправили в Афины, к королеве Ольге, нашей любимой тете Оле. Мы приехали к ней в Страстную Субботу и попали в объятья громадной королевской семьи. Наши двоюродные братья были уже взрослыми, кроме Андрея, которому было 11 лет, и Христофора, который был на год моложе меня. Мы прожили в Афинах четыре недели, проводя все время на воздухе; нас возили на берег моря, в Фалеро, где был хороший пляж. Там мы бегали по песку и собирали ракушки. Мужа тети Оли, короля Георга I, мы называли дядя Вилли. Он был лысый, с большими усами, и однажды, во время завтрака, когда за столом было много народу, Иоанчик вдруг расшалился и хлопнул греческого короля по лысине. Это ему даром не прошло, и он был строго наказан.
В мае мы со всей королевской семьей пошли на королевской яхте “Сфактерия” в Венецию, где задержались на несколько дней и, расставшись с греческими родственниками, поехали в Виши, где лечился наш отец, а затем – в Париж. Как раз перед тем отец, по приказанию императора Александра III, ездил в Нанси на свидание с президентом Французской республики Сади Карно. Французы из этого свидания сделали большой шум и впоследствии отец говорил мне, что император Александр III остался этим недоволен. Очевидно, государь хотел, чтобы свидание отца с президентом прошло менее заметно. Отец предвидел, что при нашем проезде через Нанси его там будут опять чествовать, и решил проехать Нанси незаметно. Поэтому по дороге мы вышли из поезда и поехали на лошадях. Но на вокзале Нанси отца все же узнали и студенты устроили овацию, забросав нас цветами. Нам приказали завесить окна вагона, но отец был вынужден показаться толпе и раскланяться. Ему это было очень неприятно, он знал, что строгий император Александр III будет недоволен, но ничего не мог поделать.
Посетив родину Орлеанской Девы, Домреми, погостив в Альтенбурге у “Опапа” и “Омама”, мы через Вержболово вернулись в Россию.
15 ноября 1892 года родился брат Олег. Это радостное известие застало нас играющими в биллиардной; мы сейчас же надели наши игрушечные шашки и побежали вниз, к родителям. В большой гостиной мы застали духовника нашего отца, священника Арсения Двукраева, приехавшего дать молитву Олегу. Это был седой старик в золотых очках, выглядел он очень строгим, и я его побаивался. Когда мы входили в гостиную, он стоял перед большой картиной Распятия испанской школы и внимательно ее разглядывал. Увидя нас, он нас благословил и велел нам почаще смотреть на эту картину.
Перед тем как войти к матушке, нам приказали снять шашки. Мы вошли в спальню вместе с отцом Арсением. Как сейчас, я вижу матушку, лежащую в постели, и отца Арсения с Олегом на руках, читающего молитву перед киотом, освещенным лампадой. Я же стою подле постели и рассматриваю только что мне подаренную английскую книгу с картинками, изображающими английские войска.
Следующим ребенком моих родителей был брат Игорь, родившийся в 1894 г. Весной, перед его рождением, случился пожар в Стрельне в детской, в которой жили Татиана, Костя и Олег. Подняла тревогу подняня Паша, слава Богу, детей вовремя вынесли. Пожар произошел от керосиновой лампы, прогорел потолок детской. Когда родился Игорь, отец пришел в нашу большую спальню объявить нам об этом. Он был в белом кителе: когда матушка рожала, он всегда надевал белый китель. Он послал к государю своего шталмейстера, барона П.А. Рауш фон Траубенберга, известить его о рождении Игоря. Когда Рауш ждал приема в коттедже в Александрии, попугай, находившийся по соседству, повторял: “Кончено! Кончено!” Это произвело на Рауша очень неприятное впечатление, потому что в то время было известно, что государь серьезно болен.
Государь Александр III иногда приезжал в Стрельну к бабушке, которой он очень благоволил. Я помню, как-то раз он приехал на линейке, на которой сидят друг к другу спиной. Линейка была запряжена четверкой цугом, с форейтерами, одетыми наподобие французских кучеров почтовых дилижансов, в низких цилиндрах, зеленых с красным куртках и ботфортах. С государем и государыней приехало много родственников, съехавшихся на свадьбу великой княгини Ксении Александровны. Тут была сестра государыни Марии Федоровны, принцесса Валлийская (впоследствии английская королева Александра) с дочерьми Викторией и Мод и наши греческие родственники, а также и Ольга и Миша (сестра и брат будущего государя Николая II). Бабушка их принимала в своей большой розовой гостиной. Статуэтки, зайчики и собачки, украшавшие комнату, – все было выкрашено в розовый цвет, бабушка его очень любила. Она сидела в гостиной, в соломенной будке, такой, какие ставят в садах. Императрица сидела против нее, в такой же будке; молодежь, приехавшая с их величествами, была очень весело настроена.
Свадьба великой княгини Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем состоялась летом 1894 г. в Петергофе. Нас с братом на свадьбу не взяли: нас держали очень строго и считали слишком маленькими, чтобы возить на такие торжества. Мы смотрели, как наши родители уезжали из Стрельны на свадьбу. Матушка была в русском платье, то есть в сарафане-декольте, с длинным шлейфом, а отец – в флигель-адъютантском мундире, Александровской ленте и с Андреевской цепью. Самый орден Андрея Первозванного, висевший на цепи, и Андреевская звезда были усыпаны бриллиантами.
На свадьбе произошел забавный случай: после венчания был момент, когда семейство отдыхало. Великий князь Михаил Николаевич сел в кресло и заснул, а великий князь Павел Александрович и дяденька стали подле него изображать служение благодарственного молебна: дядя Павел за священника, а дяденька – за диакона. Они вообще любили изображать богослужение. Когда они дошли до слов Евангелия, Михаил Николаевич вдруг проснулся и, думая, что он присутствует на богослужении, перекрестился. Затем, придя в себя, он рассердился и, плюнув, крикнул: “Тьфу, дураки!” Этот случай рассказал мне бедный дядя Павел во время одной из наших прогулок по тюремному двору, в августе 1918 года, в Доме предварительного заключения.
Вечером в день свадьбы, когда Александр Михайлович и Ксения Александровна ехали на тройке в Ропшу и переезжали по мосту через канавку, близ Ропшинского дворца, лошади испугались людей, стоявших по сторонам дороги с зажженными факелами. Экипаж опрокинулся на мосту, и они оказались в грязной канаве. В ужасном виде, совершенно грязные, они пришли во дворец, где их встречал с хлебом-солью главноуправляющий Уделами князь Вяземский.
На нас, детей, этот случай произвел большое впечатление. Во время прогулок по Стрельнинскому парку наш двоюродный брат Христофор Греческий очень любил его изображать. Он нам говорил: “Иоанчик, Гаврилушка, хотите посмотреть, как Сандро и Ксения упали в канаву?” – и бежал вдоль канавки, окаймляющей дорожку, по которой мы шли, и вдруг падал в нее. Крики его гувернантки, мисс Лонг, не помогали. Наш милый шалун вылезал из канавы весь в грязи к неописуемому ее ужасу.
21 октября утром, когда мы одевались, вошла к нам в уборную Атя и сказала, что государь Александр III скончался. В этот же день праздновалось вступление на престол императора Николая II, и поэтому траур был снят. Родители наши экстренно вернулись из-за границы. В эти же дни я вижу себя разговаривающим в комнатах бабушки с королевичем Георгием Греческим, приехавшим на похороны государя. Он был в русском морском сюртуке, с медалью за спасение погибающих – это он спас наследника Николая Александровича, когда в Японии на того напал японский фанатик и нанес ему саблей удар по голове.
В день похорон императора Александра III мы пошли в Мраморный зал, окна которого выходили на крепость. На набережной, перед нашим дворцом, были выстроены войска, которые дали несколько залпов, когда тело царя опускали в могилу. Я помню, как молодой государь, вместе с великим князем Михаилом Александровичем, проехал мимо Мраморного, возвращаясь с похорон. Наш отец как командующий Преображенским полком дежурил у гроба государя в день его похорон и оставался на своем посту до тех пор, пока не заделали царскую могилу.
Глава III. 1896. Коронация в Москве
12 мая 1896 года мы с Иоанчиком и обоими нашими воспитателями поехали в Москву на коронацию. Эта поездка была полнейшим для нас сюрпризом. Нам объявили о ней перед самым отъездом. Я так обрадовался, что стал кататься по песку на дворе Стрельнинского дворца, в котором мы тогда жили. В Москве на вокзале нас встретили родители и дяденька. Прямо с вокзала родители повезли нас в часовню Иверской Божией Матери, приложиться к чудотворной иконе. Нас поместили в Потешном дворце, в котором жили родители, бабушка и дяденька.
Потешный дворец с давних времен предоставлялся нашей семье всякий раз, когда она приезжала в Москву. Он был в русском стиле, с зелеными стенами. Наша комната выходила непосредственно на широкую кремлевскую стену, с которой был чудный вид на Москву. Мы с дяденькой гуляли по этой стене.
Первый день нашего приезда был посвящен осмотру Москвы и наблюдением за тем, как приготовлялась коронация. Мы смотрели, как переносили царские регалии из Оружейной палаты в Кремлевский дворец. Это было очень красивое зрелище: на подушках несли корону, скипетр, державу и прочие регалии; шли герольды в золотых костюмах и в больших круглых шляпах с перьями и дворцовые гренадеры.
Возвращаясь, мы встретили нашего отца под руку с великим герцогом Карлом-Александром Саксен-Веймарским, двоюродным братом нашего деда. Он был в сюртуке Ингерманландских драгун, шефом которых состоял. Ему было семьдесят восемь лет. Он родился в один год с императором Александром II. У него были небольшие усы, которые он красил. Когда он целовался, на щеке оставался след от поцелуя. Однажды, где-то за границей, он встречал на станции мою бабушку Александру Иосифовну, которая держала на руках собачку. Когда он намеревался ее поцеловать, бабушка подставила ему вместо щеки – собачку, которую он и чмокнул.
Карл-Александр помнил Гёте на смертном одре и прекрасно говорил на изысканном французском языке начала XIX столетия, как говорили наши деды. Я слышал, что при его посредстве император Александр II примирился с императором Францем-Иосифом, которого он не желал видеть за неблагородную роль, какую сыграла Австрия во время севастопольской кампании.
Но я отвлекся. Москва произвела на меня большое впечатление, в особенности Кремль, окруженный стеною с башнями, с его соборами и святынями. Погода стояла прекрасная. Москва была торжественна и сияла в ожидании коронационных торжеств.
Следующий день после нашего приезда был день коронования их величеств. Нас разбудили рано; солнце сияло. Слышна была военная музыка. Нас одели в белые матросские костюмы и отвели в Успенский собор, в особое помещение. Там мы ждали с бабушкой начала церемонии. Тут же с нами находились гофмейстерина бабушки графиня A.E. Комаровская, управляющий двором бабушки П.Е. Кеппен, камер-паж и камеристка.
Бабушка приехала в собор в парадной карете, голубой с золотом, цугом, с форейторами и двумя лакеями на запятках. Бабушка была в русском платье из серебряной парчи и с дивными драгоценностями. Она просила разрешения их величеств не быть в декольте, боясь простуды, и потому корсаж ее платья был закрытый.
В соборе были отведены места для всех приглашенных и приготовлено особое место для государя и государынь, против алтаря, на возвышении, к которому вела большая, широкая лестница.
Я стоял рядом с княгиней Анастасией Николаевной Романовской герцогиней Лейхтенбергской вместе с Иоанчиком и Сандро Лейхтенбергским. Мы прекрасно видели всю церемонию, императрица Мария Федоровна в бриллиантовой короне, золотой порфире и в бриллиантовой Андреевской цепи вошла в собор прежде государя. Она встала с правой стороны возвышения, перед своим троном. После нее вошли в собор государь и государыня.
Государь был в Преображенском мундире и лакированных сапогах, чего он обыкновенно не делал, а носил всегда простые, шагреневые. Государыня была в парчовом серебряном русском платье. Они тоже встали перед своими тронами.
Начался чин коронования. Он проходил с исключительной торжественностью. Красота была во всем и затмевала всё, что мне когда-нибудь приходилось видеть. Успенский собор, свидетель нескольких веков русской истории, в котором венчались на царство все цари из Дома Романовых; сонм духовенства в великолепных облачениях, с митрополитами во главе; чудное пение – все это придавало торжеству глубокомистический характер.
Великие княгини и иностранные принцессы в роскошных платьях и драгоценностях; великие князья и иностранные принцы в самых разнообразных мундирах, придворные дамы и кавалеры – живописная толпа, окружавшая царя и цариц, – все было красиво и величественно.
Государь сам, как Самодержец Всероссийский, возложил на себя корону и короновал императрицу, вставшую перед ним на колени. Государь прочел “Символ Веры” громким и ясным голосом. Было очень трогательно, когда государь читал молитвы, которые читают государи по чину коронования. При этом одну молитву государь читал стоя, а все присутствующие стояли на коленях, а другую государь читал коленопреклоненно, а присутствующие стояли. По окончании чина коронования всё семейство поднялось по лестнице на возвышение, на котором стояли царь и царица, чтобы принести им поздравления. Мы шли за матушкой. Матушка поцеловала руку государю, чего мы обыкновенно не делали, а на меня, восьмилетнего, нашло какое-то особенное состояние, и я не поцеловал государю руку. Стыдно вспомнить!
После чина коронования началась литургия, во время которой, после причащения священнослужителей, над государем было совершено таинство миропомазания. Раскрылись Царские Врата, к солее приблизился государь император, и один из архиереев в сонме священнослужителей обратился к нему со следующими словами:
– Благочестивейший великий государь наш, император и самодержец всероссийский! Вашего императорского величества миропомазания и святых Божественных Тайн приобщения приближися время: того ради да благоволит ваше императорское величество шествовать сея Великие Соборные Церкве к Царским Вратам.
Затем последовало миропомазание и вхождение государя через Царские Врата к Престолу для св. Причащения по священническому чину. При совершении миропомазания помазывают миром также и грудь. Для этого у государя было сделано на груди мундира отверстие с клапаном. На следующий день, когда мы осматривали Оружейную Палату, нам показали этот мундир, и мы видели вырез на груди мундира с клапаном, чтобы этот вырез прикрыть. Мундир уже висел среди других, в которых короновались прежние императоры. Между прочим, Александр III долго не хотел посылать своего мундира в палату и носил его и после коронации. Это было заметно по его изношенности.
Вся служба в соборе продолжалась часа три, если не больше. Бабушка уходила отдыхать в помещение, в котором мы с ней ожидали начала церемонии. По окончании обедни государь с государыней пошли прикладываться к мощам в Архангельском и Благовещенском соборах. Над ними генерал-адъютанты несли золотой балдахин со страусовыми перьями. Все вышли из собора. Я был в отчаянии, потому что не знал, куда идти. Наши воспитатели остались снаружи собора, в выходе нам не полагалось участвовать. Мы пошли за торжественным шествием, состоявшим из высочайших особ, которое двигалось к Красному Крыльцу по мосткам, покрытым красным ковром; вдоль мостков стояли конногвардейцы в золотых касках с золотыми орлами, в супервестах, ботфортах и лосинах. Мы шли самые последние, втроем: Иоанчик, Сандро Лейхтенбергский и я. Я страшно боялся потеряться и долго не мог забыть этого кошмарного чувства. Часто потом этот случай виделся мне во сне.
Шествие взошло на Красное Крыльцо и повернуло направо в залы. Тут заметил нас отец и вернул на Красное Крыльцо, где собрались великие князья. С Крыльца прекрасно видна была вся площадь между соборами, сплошь усеянная народом. Там же были сделаны и трибуны для публики, и отдельная трибуна для придворных музыкантов, одетых в красную форму и игравших на очень длинных и прямых трубах. Каждая труба издавала только один звук. Великий князь Николай Николаевич посадил меня себе на ногу, подле перил балкона, на котором мы стояли. Мы видели, как государь и государыня шли под балдахином по площади, по мосткам, и поднялись, обойдя соборы, на Красное Крыльцо. С Крыльца они отвесили глубокие поклоны стоявшей внизу толпе. Они поклонились три раза подряд: прямо перед собой, направо и налево. До сих пор помню склоненные головы государя и государыни, увенчанные коронами, громовое “ура” толпы и звуки гимна.
После нашего завтрака мы пошли смотреть на Высочайший завтрак в Грановитой Палате. Мы смотрели сверху, из окон тайника, из которого в допетровские времена смотрели царицы и царевны на царские пиры.
Государь и государыни сидели втроем за столом у стены, на возвышении, государь посередине, а императрицы справа и слева от него. Государь был в порфире без короны, а государыни в порфирах и коронах. Я помню, что государь ел спаржу руками. Царю и царицам подавали блюда придворные чины, а рядом с ними шли кавалергардские офицеры в касках и с вынутыми палашами. Возвращаясь, они шли пятясь, чтобы не поворачивать спин их величествам.
В палате за столами сидели высшие государственные чины и дипломатический корпус.
Вместе с нами смотрели сверху великие князья и принцы. Среди них был толстый эмир Бухарский и высокий худой хан Хивинский. Они оба были в чалмах и халатах.
Вечером мы с родителями поехали на иллюминацию. Она была замечательна. По улицам ходили толпы народа, так что мы в ландо с трудом шагом продвигались вперед. Толпа окружала нас вплотную. Какой-то человек рядом с нами, сняв шапку, крикнул: “Ура! Сергей Александрович!” – видимо, приняв отца за великого князя Сергея Александровича. Толпа непрерывно кричала “ура!”. Когда мы вернулись домой, у меня в ушах стояло “Боже, царя храни” и “ура”, которые мы слышали весь день, с самого утра.
На следующий день мы снова осматривали достопримечательности Москвы и вечером уехали обратно, в Стрельну. Трехдневное пребывание в Москве произвело на меня неизгладимое впечатление.
На коронации отец был награжден орденом Владимира 3-й степени, а дяденька произведен в генерал-майоры. Дяденька любил нам рассказывать из прошлого. Так, рассказывая о коронации императора Александра III, он вспоминал, что, во время торжественного въезда государя в Москву, сам он ехал перед взводом конной гвардии, как раз перед государем. Проезжая Спасские ворота в Кремле, где все снимают шапки, он каски не снял, потому что в правой руке держал обнаженный палаш, а в левой – повод.
Это был единственный в его жизни случай, когда он не снял головного убора в Спасских воротах.
Глава IV. 1897. Парады
В конногвардейском манеже – На Марсовом поле
25 марта 1897 года нас с Иоанчиком в первый раз в жизни повезли на парад конной гвардии по случаю ее полкового праздника. Это было для нас совершенной неожиданностью.
Утром, как всегда, мы гуляли с нашим воспитателем, лейтенантом Михайловым, ничего не подозревая. Мы встретили на Дворцовой площади ехавший в Зимний дворец за штандартом взвод конной гвардии в парадной форме, в кирасах и в касках с орлами. Я мечтал попасть на парад, но не смел надеяться, что нас возьмут. Когда мы пришли домой, нам сказали, что мы на парад едем. Мы были на седьмом небе от восторга. Мы поехали с лейтенантом Михайловым в Конногвардейский манеж и вошли в ложу, приготовленную для императриц, великих княгинь и полковых дам. Ложа была украшена коврами и растениями.
Полк в пешем строю, в белых мундирах и в золотых касках с золотыми орлами, занимал три стены манежа. Перед срединою полка, в глубине манежа, напротив входа, были выстроены в одну шеренгу, украшенные медалями, вахмистры с полковыми штандартами. Перед трубачами стоял старик литаврщик, сверхсрочный Никифоров, с белой бородой и в белом мундире, расшитом золотыми позументами с кистями и в генеральских эполетах. Такую форму носили только литаврщики гвардейских кирасирских полков. Он служил в конной гвардии со времен императора Николая I и считался реликвией полка. Посредине манежа стоял аналой и около него полковой причт с протопресвитером военного и морского духовенства Желобовским во главе. Тут же стояли полковые певчие в белых конногвардейских фуражках и в синих кафтанах с красными рукавами, закинутыми за спину, с золотыми галунами. Такие кафтаны, похожие на польские кунтуши, носили все полковые певчие. Они отличались лишь расцветкой.
В манеже было много офицеров, представителей разных полков и прежде служивших в конной гвардии. В ложах сидела публика. Когда приезжали начальники, старый сверхсрочный квартирмейстерский вахмистр Антонович, стоявший у входа в манеж, выкрикивал, кто приезжает. Так, когда приехал великий князь Владимир Александрович, он выкрикнул: “Его императорское высочество августейший главнокомандующий Войск гвардии и Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович изволят еха-ать!” Командир полка, князь Одоевский-Маслов, генерал с седеющей бородой, скомандовал: “Полк смирно, палаши вон!” Палаши блеснули в воздухе, а трубачи заиграли полковой марш. Командир с палашом “под высь” пошел навстречу главнокомандующему, остановился перед ним и, опустив палаш, отрапортовал.
Владимир Александрович в кавалергардском мундире, в каске с серебряным орлом зычным голосом поздоровался с полком и поздравил его с полковым праздником, после чего начал обходить полк. Обойдя первый эскадрон, он приказал ему вложить палаши в ножны. Так он приказывал всем четырем эскадронам. Делал он это нарочно, чтобы не утомлять солдат держанием тяжелых палашей.
После Владимира Александровича приехал великий князь Михаил Николаевич. Глашатай крикнул: “Его императорское высочество генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич изволят еха-ать!” Опять та же команда, трубачи снова заиграли полковой марш, и командир подошел к приехавшему с рапортом. Михаил Николаевич, маститый старик высокого роста с седой бородой, в конногренадерском мундире и каске с черным волосяным плюмажем и с красной лопастью позади, поздоровался с полком и поздравил его с праздником, но не обходил полка.
Начальники становились на правый фланг полка, а именно: военный министр генерал Куропаткин, главнокомандующий великий князь Владимир Александрович, генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич. Последний был такого высокого роста, что его султан из эспри доходил до барьера ложи с публикой, под которой он стоял. Левее его находился бывший командир конной гвардии, начальник 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии великий князь Павел Александрович, а рядом с ним – бригадный командир.
Наконец, раздался выкрик: “Его императорское величество государь император изволит еха-ать! ” Командир скомандовал: “Полк смирно, палаши вон!” Вдали, в подманежнике, раздались голоса конногвардейцев, отвечавших на приветствие государя. Манеж замер в ожидании царя. Но вот отворились ворота манежа и показался молодой государь в конногвардейской форме в сопровождении своего младшего брата великого князя Михаила Александровича.
В это же время императрица вошла в нашу ложу. Я не помню, приехала ли также императрица Мария Федоровна, или была только одна императрица Александра Федоровна. Командир полка скомандовал: “Слушай на караул!” – и пошел к государю с рапортом. Трубачи заиграли гвардейский поход, торжественные и величественные звуки которого наполнили манеж.
Отрапортовав государю, командир взял палаш в левую руку, а правой подал государю рапортичку, которую государь тут же передал дежурному генерал-адъютанту, тот в свою очередь передал ее дежурному свиты генералу, а последний – дежурному флигель-адъютанту.
Государь подал руку командиру, подошел к стоявшим на правом фланге полка и тоже с ними поздоровался. После этого он подошел к трубачам и отмахнул им. Трубачи замолчали. Государь с ними поздоровался и поздравил с праздником; после этого начал обходить полк и с ним поздоровался: “Здорово, конная гвардия!” – Полк громко и ясно, слегка растягивая, ответил: “Здравия желаем, ваше императорское величество!” – “Поздравляю вас с полковым праздником!” – крикнул государь. “Покорно благодарим, ваше императорское величество!” – ответил полк и тотчас же весь закричал “ура”, а трубачи заиграли “Боже, царя храни”.
За государем шла большая свита. Обойдя полк, государь стал посреди манежа. Трубачи сыграли “На молитву”, и полковой адъютант подвел штандарты к аналою. По команде командира полк снял каски на молитву и начался молебен. Государь стоял на ковре перед аналоем, а за ним великие князья. Я помню среди них 18-летнего Андрея Владимировича в кавалергардском мундире.
По окончании молебна протопресвитер Желобовский окропил штандарты святой водой, а затем обошел полк, тоже кропя его святой водой. Государь с великими князьями и начальством шел за ним. Я обратил внимание на то, что, когда государю кадили во время молебна, он кланялся, наклоняя только голову, а не голову и корпус, как делает большинство молящихся. Михаил Александрович делал так же.
По команде трубачи сыграли “отбой”, полк надел каски, штандарты стали перед полком, и начался церемониальный марш. Полк проходил дважды мимо царя, по полуэскадронно и справа по шести, и оба раза удостоился царского “спасибо”.
Я помню среди офицеров полка графа Комаровского, племянника уже упомянутой А.Е. Комаровской. Он был потрясающе некрасив и громадного роста. Он имел обыкновение гулять по Морской улице, причем его палаш волочился по тротуару, а изо рта торчала большая сигара. Говорили, что нянюшки пугали им детей, но мы с Иоанчиком его очень любили.
Во время прохождения справа по шести государь переменил место и стал по другую сторону проходивших, чтобы быть со стороны офицеров, которые шли с левого фланга. По окончании церемониального марша государь выпил за здоровье полка чарку вина и принял рапорт вахмистра лейб-эскадрона. Парад кончился, полк вышел из манежа и разошелся по казармам. Государь и все бывшие в манеже вышли на двор, чтобы присутствовать при передаче первым взводом лейб-эскадрона штандартов конному взводу, для отвоза их обратно в Зимний дворец и Благовещенский собор. Эта церемония всегда происходила на площадке между манежем и эскадронным флигелем.
Мы на двор не пошли, а поехали домой и побежали к бабушке в столовую, где все сидели за завтраком и, захлебываясь от восторга, делились своими впечатлениями. Я помню, что у отца болело горло и поэтому он не поехал на парад.
Конная гвардия считалась в нашем доме своим родным полком. Наш дед, великий князь Константин Николаевич, с детства числился в ней. Отец и дяденька, а также их старший брат Николай Константинович числились в конной гвардии с самого рождения. Поэтому Иоанчик с раннего детства решил, что тоже будет конногвардейцем и действительно прослужил в полку десять лет – до самой революции, беззаветно любя его. Последние годы перед войной Иоанчик тоже назначался ассистентом к штандартам на Благовещенском параде – как в свое время наш отец и дед. Таким образом – три поколения нашей семьи стояли на том же самом месте, на том же самом параде.
В 1897 году три главы великих держав приезжали в Россию с визитом к государю. Весной приехал австрийский император Франц-Иосиф, летом – германский император Вильгельм II с императрицей Августой-Викторией, а также президент Французской Республики Феликс Фор.
В день приезда австрийского императора Тинтин, Иоанчик и я пошли к Зимнему дворцу и стали на Дворцовой площади, неподалеку от подъезда ее величества, чтобы видеть приезд государя вместе с императором. По пути проезда государя и австрийского императора, от Николаевского вокзала вплоть до Зимнего дворца, шпалерами стояли войска. Государь вместе с императором приехали в коляске; государь был в австрийской форме, а император – в форме лейб-гвардии Кексгольмского полка, шефом которого он состоял. Как мне помнится, у него пальто было надето внакидку. Когда коляска остановилась перед подъездом, он выскочил из нее, как молодой человек, несмотря на свои шестьдесят пять лет.
По случаю приезда австрийского императора на Марсовом поле был устроен парад. Нас с Иоанчиком привезли в ландо, из которого мы смотрели на прохождение войск. Государь лично командовал парадом и потому все время был с вынутой шашкой. Став во главе войск, он, проезжая перед императором, салютовал ему шашкой и, заехав галопом, стал рядом с ним. За государем ехала громадная свита, которая тоже заехала галопом и стала позади императоров. Я помню, скачущими в свите, великих князей Андрея Владимировича и Александра Михайловича. За императорами стояли два трубача, конвойца, а рядом с ними – приехавший вместе с императором эрцгерцог Оттон Австрийский, отец последнего австрийского императора Карла.
Отец был тогда командиром Преображенского полка и провел его перед двумя императорами. Он, как и государь, был в ленте ордена Святого Стефана. Дяденька был очень эффектен перед конногренадерами, в особенности, когда заезжал к государю полевым галопом. Он и его лошадь составляли одно целое, лошадь шла под ним, как часы. Совершенно было незаметно, как дяденька ею управляет.
Парад окончился атакой кавалерии. Эта атака была гвоздем всего парада. В конце Марсова поля выстроилась вся бывшая на параде конница, то есть две дивизии. По приказанию государя два конвойных трубача, стоявших за ним, сыграли сигнал “карьер”. Тогда по команде великого князя Николая Николаевича вся масса конницы ринулась в карьер на императоров. Николай Николаевич скакал перед серединой всей этой массы, а непосредственно за ним – дяденька, за которым скакали конногренадеры на вороных лошадях, в черных касках с поперечным волосяным гребнем.
Картина была поистине величественная и даже жуткая. Николай Николаевич остановился в нескольких шагах от императоров и скомандовал: “Стой! Равняйсь!” Вся скакавшая масса конницы в один миг остановилась перед императорами. Николай Николаевич повернулся к ней лицом и скомандовал: “Палаши, шашки, сабли вон, пики в руку, слушай!” Блеснули на солнце палаши, шашки и сабли. “Господа офицеры!” – снова раздался голос Николая Николаевича. Офицеры опустили оружие, отдавая честь, а трубачи заиграли Гвардейский поход, Николай Николаевич и дяденька повернулись, с опущенными шашками, лицом к императорам. Австрийский император подъехал к Николаю Николаевичу и пожал ему руку.
Германский император с императрицей и Феликс Фор приезжали летом в Петергоф, когда мы были в Павловске, и поэтому мы их не видели. По случаю их приезда были парады и разные торжества. Для германского императора был парадный спектакль в Петергофе на одном из островов на озере. Германский император назначил нашего отца шефом Прусского 5-го гвардейско-гренадерского полка. Отец заказал себе немецкую форму и снялся в ней. Он подарил фотографию в немецком мундире няне Ваве и написал на ней: “Твой питомец в виде супостата”.
Глава V. 1900–1902. Кадет
Я зачислен в Первый Московский корпус – Строевые занятия и ручной труд – Сам чищу себе сапоги – Поездка в Москву – В корпусе в Лефортово и у дяди, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича – Моя тетя поразительно красива и очень изящна
5 сентября 1900 года, в день именин матушки, Иоанчик и я были зачислены в кадетские корпуса: Иоанчик – в Первый, а я – в Первый Московский. Отец определил нас в корпуса по их старшинству: Иоанчика, как старшего, – в самый старший корпус, а меня – в следующий по старшинству. Когда дошла очередь до братьев, Константина зачислили в Нижегородский, Олега – в Полоцкий, Игоря – в Петровско-Полтавский и, наконец, Георгия – в Орловский Бахтина.
Мы узнали об этом великом событии накануне вечером. Отец вручил Иоанчику и мне по приказу (за своей подписью) по военно-учебным заведениям, № 100-й, в котором было сказано о нашем зачислении. Мы были невыразимо счастливы, что будем носить военную форму, и действительно уже на следующий день на нас надели однобортные черные мундиры с гладкими медными пуговицами, черными же воротниками, с красными петлицами и золотым галуном, красный кушак, черные длинные штаны и фуражки с красным околышем и черной тульей с красным кантом. У Иоанчика были красные погоны с желтой цифрой и буквой, “I.K.” – Первый кадетский, а у меня красные погоны с синим кантом и с желтыми “I.M.” – Первый Московский.
Нам полагались черные шинели того же покроя, как у солдат, и простые сапоги с короткими грубой кожи голенищами, которые надевались под штаны. Мы могли носить белые замшевые перчатки. Дома же мы ходили в сурового полотна гимнастерках или в бушлатах.
Переехав в Петербург, мы стали ездить на строевые занятия в Первый кадетский корпус, на Васильевском острове, а также на уроки ручного труда. Все остальные предметы мы проходили у себя дома. Иоанчика зачислили в 4-й класс, а меня в 3-й, но на строевых занятиях в корпусе я был вместе с Иоанчиком.
Ручному труду нас обучал один из воспитателей корпуса подполковник Соловьев, а директором корпуса был полковник генерального штаба Покотило. Кадеты звали его “дядя Пуп”.
В 1900 году, осенью, государь император, живя в Крыму в Ливадии, заболел брюшным тифом. Когда после болезни он вернулся в Петербург, по всему пути, от вокзала до Зимнего дворца, были выстроены шпалерами войска, а кадеты были выстроены на Дворцовой площади. Я очень радовался тому, что буду встречать государя, но накануне почувствовал себя нездоровым, вечером мне смерили температуру, оказался жар, и вместо Дворцовой площади я попал в постель. Я был в отчаянии и даже плакал. Иоанчик пошел один. Он рассказывал потом, что едва видел государя, так как их величества ехали в закрытой карете. Мне помнится, говорили, что государь был недоволен, что ему подали карету, благодаря чему он плохо видел войска, как и они его. Я лично думаю, что ему подали карету нарочно, чтобы он не простудился после болезни, возвращаясь из теплого крымского климата в холодный Петербург.
Отец, став во главе военно-учебных заведений, начал приводить их в более военный вид. Так, корпуса снова, как в прежние времена, стали выносить в строй свои знамена. Возвращение знамени совершалось в торжественной обстановке, обыкновенно отец сам при этом присутствовал. Мне кажется, что это торжество в Первом кадетском корпусе совпало с праздником корпуса, 17 февраля 1901 года.
После обедни нас выстроили в громадном корпусном зале, который считался одним из самых больших в Петербурге. Говорили, что самым большим был зал Морского корпуса. На правом фланге стояла первая рота, с ружьями, и музыканты Павловского военного училища. Парадом командовал сам директор корпуса, он был большой молодчина и что называется “человек с перцем”. Обыкновенно директорами корпусов того времени бывали люди, давно не бывшие в строю, и потому парадами командовал кто-нибудь из ротных командиров.
В зале была устроена ложа для матушки, в которой она стояла со своей фрейлиной, баронессой С.Н. Корф. Отец принимал парад. Перед строем служили молебен, после которого, обращаясь к корпусу, отец сказал речь по поводу возвращения знамени. Затем корпус два раза прошел перед отцом церемониальным маршем под музыку. Мы с Иоанчиком шли на правом фланге наших отделений, отдавая честь. Я был очень счастлив.
После парада внизу, в большой корпусной столовой, был парадный завтрак, на котором присутствовало много бывших кадет 1-го корпуса. Один из них, военный юрист, генерал-лейтенант Щербаков, выпуска 1863 года, продекламировал стихи своего сочинения, которые я до сих пор помню:
Сказать вам надо без сомненья,
Как первый корпус наш возник,
Как в историческом значеньи
Он стал героями велик.
Возник он в дни царицы Анны,
Ее указом дан завет
Гнездо орлиное кадет
России дать для службы бранной.
Заря в Румянцеве блеснула,
И корпус славой был покрыт,
Герою Ларги и Кагула
Навеки памятник открыт!
Дальше, между прочим, было сказано, что Иоанчик прославляет погоны корпуса. Отцу сначала как будто бы понравились эти стихи, но вчитавшись в них, он нашел их плохими.
Одно время нас с Иоанчиком заставляли самих чистить свои сапоги и медные пуговицы на мундирах. Это было перед тем, как нас отправили на неделю в наши корпуса, его – на Васильевский остров, а меня – в Москву. Так как кадетам полагалось самим чистить сапоги и пуговицы, мы тоже должны были уметь это делать.
В Великом посту я поехал с родителями в Москву. Родители остановились в генерал-губернаторском доме, у великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Дядя Сергей был в то время московским генерал-губернатором и командующим войсками Московского военного округа. Родители поместились в первом этаже. Не успели мы приехать, как вошел милый дядя Сергей и радостно, со свойственной ему приветливостью, приветствовал матушку,
Отец отвез меня в корпус, который находился далеко от центра, в Лефортове. Он помещался в громадном Екатерининском дворце, разделенном на две части: в одной помещался 1-й Московский корпус, а в другой, рядом, 2-й Московский императора Николая I. У последнего были синие погоны с вензелем императора Николая I. Можно было пройти из корпуса в корпус, не выходя на улицу.
Мы поднялись по красивой лестнице, украшенной медными римскими шлемами. В первом этаже, в столовой был выстроен корпус, с музыкантами из кадет же. Когда мы вошли, они встретили нас маршем. Я шел за отцом и старался идти с ним в ногу.
Меня определили в третий класс, в первое отделение. Воспитателем был подполковник Трубников, служивший раньше в одном из московских гренадерских полков. Он был очень симпатичный, небольшого роста, с маленькой бородкой. Трубников был прекрасным воспитателем, любил кадет и заботился о них. Он был живой человек, и кадеты его любили.
Итак, я в первый раз в жизни остался один, среди чужих людей. Но мне было хорошо и приятно. Я спал в большой спальне вместе с кадетами. Мою кровать поставили у стены и повесили на ней образ моего святого – Архангела Гавриила с зажженным фонарем в руке. Во время уроков я сидел с правой стороны во втором ряду. Я учился недурно, но очень плохо писал по-французски. Кажется, за диктовку или сочинение на французском языке я получил пятерку или шестерку (по двенадцатибалльной системе).
Отец несколько раз приезжал при мне в корпус и был в корпусной церкви у всенощной. Он стоял спереди, я стоял в строю. Матушка тоже как-то приехала в корпус, приходила к нам в третью роту и снялась вместе с нами.
В отпуск я ходил к великому князю Сергею Александровичу, когда родители у него гостили, а также и без них. Однажды, когда родители еще были в Москве, приехал обедать к дяде и тете великий князь Николай Михайлович. Я помню, что перед обедом, в кабинете тети, великой княгини Елизаветы Федоровны, где мы собрались, Николай Михайлович очень много и громко говорил. Он был очень высокий и полный, с небольшой черной бородкой, и был известен как историк.
В генерал-губернаторском доме, в комнатах, где жили родители, окна выходили на Тверскую. Последняя комната была, если не ошибаюсь, зимним садом, с большими окнами и потому очень светлая. Однажды мы гуляли в Александровском саду с матушкой и тетей. У последней была короткая, до талии, мерлушковая кофточка, очень элегантная и очень ей шла. Тетя была поразительно красива и очень изящно одевалась.
Мне так понравилось в корпусе, что я просил отца подольше меня там оставить. Родители уехали домой, в Петербург. Я перешел с кадетами на “ты” и очень с ними подружился. Первым учеником нашего класса был Критский. Он был смертельно ранен в войну 1914 года. Многих я забыл, но помню Побыванца, Маслова, Образкова, Федотова. Образков хорошо рисовал; помню, что он срисовал с книжки портрет Суворова, очень удачно. Маслов впоследствии перешел в Морской корпус и стал морским офицером. После революции, в эмиграции, он женился на дочери французского адмирала и умер, кажется, от чахотки. Побыванец и Образков оказались после революции в Сербии. Федотов умер в Париже. Я несколько раз встречался с ним.
В корпусе был знаменитый учитель истории, Александр Флегонтович Спасский, который преподавал лет пятьдесят. Он был очень строг, его побаивались. Преподаватель французского языка был рыжий и очень веселый. Известным лицом в корпусе был батюшка – толстый и важный. Он затем перешел в Благовещенский собор, в Кремль.
Идя строем в столовую, мы проходили мимо католической церкви. У нас в корпусе было две церкви: православная и католическая, в которую ходили кадеты католического вероисповедания.
Когда я однажды пришел в отпуск к Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне, помню, мы пили дневной чай втроем, в будуаре тети. Дядя был в голубой австрийской курточке и высоких мягких сапогах без шпор. Может быть, это были кавказские чувяки. Он читал вслух какую-то французскую книгу про Россию допетровского периода.
На следующий день тетя хотела позвать мальчиков моего возраста, чтобы играть со мной, но я предпочел поехать на Concours Hippique и отправился в большой московский манеж, в сопровождении дядиного адъютанта, полковника Гадона. А вечером вернулся в корпус в тетиной карете, запряженной парой, в английской упряжке.
В Вербную субботу я должен был ехать обратно в Петербург. За мной приехал Тинтин, и мы завтракали с ним у дяди и тети. По желанию отца я должен был присутствовать на всенощной в корпусе, но мне очень хотелось пойти ко всенощной с Сергеем Александровичем в его домашнюю церковь. Дядя Сергей приказал протелефонировать отцу в Петербург и просить на это его разрешения. Отец разрешил, и я остался в генерал-губернаторском доме.
Мне вспоминается, что в этот день, после завтрака, я ездил в гости к кадетам Борису и Дмитрию Иваненкам. Они были одного класса со мной, но другого отделения. Их отец был чиновником особых поручений при дяде Сергее. Они жили в собственном особняке. Их старшая сестра вышла впоследствии замуж за конногвардейца барона П. Врангеля, который сделался известным как главнокомандующий Добровольческой армией в 1920 году.
Я сохраняю о дяде Сергее самое отрадное воспоминание. Он напоминал моего отца, был такого же, как он, большого роста. Судя по фотографиям, он был похож на свою мать, императрицу Марию Александровну.
Рядом с его приемным кабинетом был частный кабинет, очень уютно устроенный. В нем на мольберте стояла картина Васнецова – лик Спасителя, удивительной работы. На большом письменном столе было очень много вещей и среди них – портрет императора Александра II, мальчиком, в большом кивере 1-го кадетского корпуса. На стене, подле самого стола, висел портрет Елизаветы Федоровны в профиль, в розовом русском придворном платье и в изумрудной парюре. Тетя держала в руках веер. Портрет имел поразительное сходство с оригиналом и был очень изящен.
После всенощной в домовой церкви с вербой в руках я отправился на вокзал, где меня ждали Тинтин и пришедшие проводить меня директор корпуса, воспитатель и некоторые кадеты моего класса. Я уехал в Петербург.
Глава VI. 1903–1905. Две зимы в Ливадии и одна в Павловске
Осенью 1903 года врачи объявили, что я по состоянию здоровья не могу провести зиму в Петербурге, и решили отправить меня в Крым. На южном берегу Крыма, в имении государя Ливадия, мы поселились целой компанией: Иоанчик, я, наш воспитатель М.И. Бородин, его жена, наш лакей Анисимов и его помощник Спиридон; а также повар, кухонный мужик и горничная Бородиных. Две ночи мы ехали в поезде до Севастополя, а от Севастополя, через Байдарские ворота, на лошадях до Ливадии. У Байдарских ворот перед нами развернулась дивная картина: Черное море во всем своем величии, это громадное водное пространство, скрывающееся за горизонтом. От Байдарских ворот дорога спускалась зигзагами и, далеко еще не доходя до моря, тянулась вдоль него до самой Ливадии. Мы приехали вечером, в темноте, выехав из Севастополя после завтрака.
Нам отвели дом высших чинов охраны, он был расположен непосредственно над верхним шоссе. Это был прекрасный дом из серого крымского камня. Он был светлый, уютный, обставленный удобно и просто. Перед домом была площадка, покрытая мелким серым гравием, который как-то особенно шуршал под колесами экипажей. Этот звук мне помнится еще и сейчас.
Весь наш день проходил строго по расписанию. На наше здоровье было обращено особое внимание. Каждое утро приходил ливадийский врач, Пантюхин, пресимпатичный человек, и выслушивал нас. Он очень часто нас взвешивал и следил за нами. После утреннего чая или кофе с вкусным серым хлебом, называвшимся “докторским”, мы прогуливались по площадке перед домом, после чего начинались уроки, которые продолжались до завтрака. К нам ездили преподаватели Ялтинской мужской гимназии. Мы с Иоанчиком занимались отдельно друг от друга: было решено, что для каждого из нас так будет лучше. В переменах между уроками мы выходили на двор. Завтракали и обедали мы с Бородиными, и жене воспитателя мы обязаны были целовать руку, чтобы приучиться к хорошим манерам.
После завтрака мы ездили верхом или шли гулять. Ездили мы на наемных лошадях, которые были совсем приличны. После прогулки пили чай и принимались за приготовление уроков, вплоть до обеда. После обеда мы обыкновенно бывали свободны. Перед сном снова прогуливались по площадке. Бородин был прекрасный администратор, воспитатель и преподаватель. Он замечательно наладил наши занятия и весь наш обиход. Сам он преподавал нам русский язык и литературу.
В январе 1904 года мы были, как громом, поражены известием о начале русско-японской войны. Как-то вечером к нашему дому подошла толпа манифестантов из Ялты, и мы должны были выйти на балкон и раскланиваться перед ними. На балкон вынесли лампу, чтобы осветить нас с Иоанчиком. Конечно, кругом все только и говорили о войне. Когда в начале апреля было получено известие о гибели адмирала Макарова и чудесном спасении Кирилла Владимировича, мы послали телеграмму великому князю Владимиру Александровичу и Марии Павловне.
Когда вечерами мы ходили гулять, Бородин обычно шел вместе с нами. Он был разносторонне развитым человеком, но, как у человека не нашего круга, у него на многие вещи были другие взгляды, что, разумеется, влияло на наше воспитание. Под влиянием этих взглядов Иоанчик написал как-то письмо сестре Татиане о том, что она должна поступить на курсы. Дяденька, узнав об этом, возмутился и сделал Иоанчику строгое письменное внушение.
Весной у нас были экзамены. Приехала целая комиссия, которая торжественно заседала в столовой. Среди других был генерал Завадский из Петербурга; председательствовала тетя Стана, впоследствии жена великого князя Николая Николаевича.
Время перед экзаменами было довольно тяжелым. По каждому предмету приходилось подготовляться несколько дней. К нам приезжали учителя, и мы зубрили при их помощи. Зато как приятно было, когда это горячее время кончилось. Я отвечал, в общем, хорошо, и мы благополучно перешли из шестого класса в седьмой.
В мае месяце, по окончании учебного 1903/04 года, мы поехали домой в Петербург. Ехали на лошадях через Ай-Петри до Бахчисарая. Это было длинное путешествие. Выехали утром, завтракали на Ай-Петри и к вечеру приехали в Бахчисарай. С Ай-Петри открывался дивный вид, но на него был очень тяжелый подъем. Зато от Ай-Петри до Бахчисарая шла прямая, гладкая дорога степями, покрытыми цветами. Я помню целые поля маков.
Мы осматривали Бахчисарай и видели знаменитый фонтан, воспетый Пушкиным. Я снял его своим аппаратом. Мечеть в Бахчисарае нам показывал мулла в зеленой чалме. Мы обедали на вокзале. Мне помнится, что за обедом мы получили телеграмму от родителей, в которой было сказано, что убит (на русско-японской войне) конногвардеец Зиновьев, племянник фрейлины матушки баронессы Софии Николаевны Корф.
Две ночи мы ехали до Петербурга. На Николаевском вокзале нас встретили родители. Мы не виделись с сентября месяца, и как радостно было снова увидеть их. В Мраморном у нас больше не было комнат, а потому мы поселились в дедушкиных комнатах. Мы долго, несмотря на прекрасную погоду, не переезжали в Стрельну. Бабушку, слепую и больную, решили не трогать и оставить в Мраморном. Так она больше никогда и не выехала из Мраморного дворца, прожив в нем безвыездно с 1903 года по 1911-й, до самой своей смерти.
30 июля 1904 года я шел по двору перед Стрельнинским дворцом, когда мне сказали о рождении наследника цесаревича Алексея Николаевича. Я чуть было не заплакал от радости.
Мы ездили на крестины наследника в Большой Петергофский дворец. Приехав во дворец, мы пошли с родителями, Татианой и младшими братьями в комнаты, в которых собиралось семейство. Нам пришлось подняться по лестнице во второй этаж. Наверху я сразу же увидел подле дверей принца Генриха Прусского и принца Луи Баттенбергского – они оба были женаты на сестрах императрицы.
Государь приехал веселый и довольный, в голубом атаманском мундире, то есть в мундире полка наследника, с бриллиантовой Андреевской звездой и бриллиантовым орденом Андрея Первозванного, висевшим на Андреевской цепи. Государь и великие князья надевали бриллиантовую звезду и орден лишь в самых торжественных случаях.
Мы шли в выходе по залам дворца, вошли в церковь и встали с правой стороны. Наследника несла в этом же выходе, на подушке, обер-гофмейстерина светлейшая княгиня М.М. Голицына. Она шла между генерал-адъютантом графом И.В. Воронцовым-Дашковым и генерал-адъютантом О.В. Рихтером.
Войдя в церковь, государь сразу же вышел: родителям не полагается присутствовать на таинстве крещения детей. Этот обычай идет от первых времен христианства, когда родители зачастую бывали язычниками. Восприемниками наследника были императрица Мария Федоровна и великий князь Алексей Александрович.
Когда таинство крещения было совершено, бывший наследник, великий князь Михаил Александрович, который считался наследником, пока у государя не было сына, поехал к императрице объявить ей, что наследник окрещен. Проходя мимо почетного караула Преображенского полка, Михаил Александрович поздравил от имени государя флигель-адъютантом начальника караула штабс-капитана Зеленого, сына И.А. Зеленого, гофмейcтеpa моего отца. Михаил Александрович был в восторге, что перестал быть наследником, потому что он никогда не желал царствовать.
Учебный 1904/05 год мы снова проводили в Крыму, в Ливадии. На этот раз младшие братья были с нами.
В феврале 1905 года до нас дошло ужасное известие об убийстве дяди Сергея Александровича. Революционер бросил в карету бомбу, дядю и карету разорвало в клочки.
Отцу сообщил об этом ужасном событии П.Е. Кеппен. Матушка в то время была в ожидании сестры моей Наталии, прожившей всего три месяца. Отец не сразу сказал ей о том, что случилось. Когда, наконец, он решил ей об этом сообщить, она находилась в детской моего младшего брата Георгия. Отец пришел и начал возить Георгия в колясочке по комнате, матушка заметила, что отец плачет. Тогда он ей сказал, в чем дело. Отец велел передать государю по телефону просьбу разрешить ему выехать в Москву, но очень долго не получал ответа. Сели обедать, а ответа все не было. Государь, оказывается, колебался, разрешить ли отцу ехать, так как боялись новых покушений. Отец приехал на вокзал в последнюю минуту, пришлось задержать поезд. Другим великим князьям посоветовали в Москву не ехать.
Впрочем, дяде Павлу Александровичу, брату дяди Сергея, государь разрешил приехать в Москву на похороны и вернул ему звание генерал-адъютанта, которое он потерял, женившись в 1902 году на Ольге Валерьяновне Пистолькорс. Таким образом, на похороны приехало только два великих князя. Говорили, что сердце дяди Сергея нашли на крыше какого-то здания. Даже во время похорон приносили части его тела, которые находили в разных местах в Кремле, и клали их завернутыми в гроб.
Мы удачно выдержали выпускные экзамены, и, таким образом, окончилось наше пребывание в Крыму, продолжавшееся два учебных года. Никогда еще наши занятия не были поставлены так хорошо и серьезно, как в то время. По окончании экзаменов мы с Иоанчиком поехали в наше подмосковное имение Осташево, незадолго до того приобретенное. Братья уехали туда еще раньше нас.
На станции Волоколамск нас встретил отец и повез на тройке в Осташево. Прежде, чем ехать домой, мы заехали в церковь. Матушка была в это время на балконе нашего дома и махала нам платком. В Осташеве было так хорошо и спокойно. Это была подлинная Россия. Через месяц мы всей семьей переехали в Павловск и 1 июля поступили оба, Иоанчик и я, в Николаевское кавалерийское училище.
Мы переехали с Бородиным и его женой в Красное Село, где стоял лагерь училища. Дом наш, как все придворные дома Красного Села, был деревянный, двухэтажный. В первом этаже жили мы с Иоанчиком, во втором – Бородины. Комнаты были довольно уютные, но сырые, около дома был небольшой садик. Каждое утро нам подавался экипаж, и мы ездили в училище, которое было верстах в двух.
Я жалею, что мы не жили в училище, как прочие юнкера. Я считаю, что это было неправильно: чем ближе стояли бы мы к жизни, тем было бы полезнее.
В училище было два курса, старший и младший. Юнкера жили в бараках по курсам, старший отдельно от младшего, чтобы не было “цуканья”, которое мой отец преследовал. Но несмотря на преследование, “цук” в училище все же оставался. Я лично считаю, что “цук”, или другими словами “подтягивание” старшими юнкерами младших, вещь полезная, если она проводится в приличных границах, без издевательства, которое, к сожалению, бывало нередко.
Была в училище также казачья сотня под командой полковника Пешкова, который был известен тем, что приехал из Сибири в Петербург верхом. Казаки жили отдельно, в своих бараках, и “цуканья” у них не было. Они вообще были серьезнее юнкеров эскадрона и лучше их учились.
Я с семилетнего возраста мечтал поступить в Николаевское кавалерийское училище, и вот, наконец, мое желание исполнилось! Кадетскую форму я проносил в течение пяти лет и, наконец, стал настоящим военным. Мы ходили в высоких сапогах со шпорами, у нас были темно-зеленые двубортные мундиры с унтер-офицерскими галунами на погонах, на воротнике и на красных обшлагах рукавов. Фуражка была солдатская, то есть бескозырка с красным околышем и черными кантами, с темно-зеленым верхом. Шашка носилась на белой сыромятной плечевой портупее, на ножнах которой было гнездо для штыка. Какое счастье было надеть шашку! Шинели были серые, солдатского сукна и, конечно, по юнкерской моде очень длинные, почти до пят, с красными петлицами, с черными кантами. Перчатки мы носили белые замшевые.
Когда окончился лагерь и мы покинули Красное Село, доктора снова решили, что я не могу проводить зиму в Петербурге, и дяденька нашел выход из этого положения: он предложил остаться на зиму в Павловске. Мы поселились с Иоанчиком в левом флигеле Павловского дворца, в наших детских комнатах, с которыми было связано так много милых воспоминаний. Учение наше продолжалось под наблюдением неутомимого и распорядительного Бородина, преподаватели приезжали из Петербурга, по утрам до завтрака шли лекции. Завтракали мы с родителями, дяденькой, сестрой и братьями, и нас садилось за стол человек пятнадцать. Прежде чем сесть за стол, мы пели молитву “Очи всех на Тя, Господи, уповают”, а встав из-за стола – “Благодарим Тя, Христе Боже наш”.
После завтрака мы ездили верхом с дяденькой и братьями. Прогулка продолжалась полтора часа, какая бы ни была погода; у нас была целая система фуфаек, количество которых зависело от погоды. Этому научил нас дяденька, который ездил по три лошади в день в течение многих лет и приобрел большой опыт в способах одевания. Дяденька следил по часам за продолжительностью аллюров: сперва мы шли шагом десять минут, затем рысью десять – иначе говоря, версту шагом, две рысью – по уставу. Затем шли две версты галопом с правой ноги, то есть три и три четверти минуты верста, всего семь с половиной минут, после этого десять минут шагом и снова две версты галопом, но с левой ноги. Когда двигались шагом, часто пели песни, которым обучил нас дяденька: “За дружеской беседой”, “Вечер поздно из лесочку”, “Понапрасно, Ванька, ходишь”; во время прогулки дяденька также учил нас ломке строя, мы не сразу могли понять, как из колонны справа по шести перестраиваться в колонну справа по три или из колонны слева рядами перестроиться в колонну слева по три.
Вернувшись домой, мы снова принимались за занятия, готовились к лекциям, занимались языками.
Обедали мы в чисто семейной обстановке; после обеда отец садился за пасьянс в своем большом кабинете, в котором между двойными рамами жили снегири, которых отец очень любил. Мы располагались вокруг него. Матушка вязала крючком что-нибудь из шерсти. В десять часов она уходила к себе.
Наступила осень, а вместе с ней начались и беспорядки 1905 года, вызванные неудачной японской войной. В Колпине, где были известные заводы, тоже были беспорядки. Поговаривали, что колпинские рабочие собираются идти громить наш Павловский дворец. Дяденька просил великого князя Владимира Александровича поставить во дворец караул. С тех пор два года подряд стоял у нас унтер-офицерский караул, а по ночам ходил вокруг дворца дозор. В Петербурге шумели страсти, происходили беспорядки и забастовки, но в нашем милом Павловске все было спокойно.
Вспоминая прошлое, мне хочется сказать несколько слов о великом князе Владимире Александровиче, двоюродном брате моего отца.
Он очень тяжело и глубоко переживал невзгоды, обрушившиеся на Россию. Он был глубоко русский и очень умный человек и ясно видел, куда ведут события. Слава Богу, он не дожил до революции 1917 года. Впоследствии профессор Б.В. Никольский, читавший брату Олегу и мне римское право и во время первой революции выступавший на митингах как крайне правый, рассказывал нам, что Владимир Александрович вызвал его как-то к себе в Царское Село и долго говорил с ним. Он говорил со слезами на глазах, как ему больно, что левая печать нападает на столь любимые им войска гвардии, которыми он до этого так долго командовал.
Он носил седые баки и брил подбородок: черты лица его были очень красивы и породисты. Голос был громок и приятен.
Государь в 1905 году до поздней осени оставался в Петергофе, где у него происходили совещания с великим князем Николаем Николаевичем (заменившим великого князя Владимира Александровича на посту главнокомандующего), графом С.Ю. Витте и министром двора бароном Фредериксом. На этих заседаниях и было решено издать манифест 17 октября о “свободах” и учредить Государственную Думу.
Глава VII. 1906–1907. Юнкера Николаевского кавалерийского училища
Той же зимой в начале 1906 года у нас в Павловске обедали государь, государыня и великий князь Михаил Александрович. После обеда государь и Миша ходили осматривать помещение, в котором жили братья и мы с Иоанчиком. Наши воспитатели стояли тут же, в коридоре, и государь, как всегда, любезно с ними поздоровался. Он и Миша расписались в моем альбоме, который мне когда-то подарила тетя Оля. Больно думать, что этот альбом пропал в России – в нем было столько исторических и памятных подписей!
Как-то и мы все обедали у государя в Царском Селе, в Александровском дворце. Как сейчас помню, это было в день похорон принца Константина Петровича Ольденбургского, на которых государь утром присутствовал. Когда мы приехали в Александровский дворец, нас провели в гостиную государыни. В скором времени вышли государь и государыня. Обед был в столовой, в которой стояли шкапы красного дерева – библиотека Александра I. На шкапах сверху были расставлены гипсовые конные фигуры, изображавшие солдат и офицеров русской конницы времен императора Николая I.
Отец сидел по правую руку государыни, а матушка справа от государя. Я совсем не знал Александровского дворца, в котором был всего раза два в детстве, и потому меня все очень интересовало. После обеда мы опять прошли в гостиную государыни. Помню, что государь показал нам свой приемный кабинет в стиле Мепеля. Раньше этот кабинет и гостиная императрицы составляли одну залу. Ее превратили в две большие комнаты с коридором между ними. По стилю они совсем не подходили к Александровскому дворцу, который весь был выдержан в стиле ампир.
В приемном кабинете государя были хоры, которые соединялись с гостиной императрицы. Матушка находила, что для государя небезопасно иметь такие хоры, на которых легко можно спрятаться. Я думаю, что она была права, но отец был с ней не согласен. Он был вообще оптимистом.
В приемном кабинете государя стоял большой биллиард с лузами и висели картины. Помню, что над угловым диваном висела картина кисти Детайля, изображающая государя на маневрах перед лейб-гусарами. Государь встал на диван, показывая отцу картину и называя по фамилиям офицеров, на ней изображенных. За письменным столом висел большой портрет Александра III во весь рост работы Серова. Государыня долго нас не отпускала, и мы уехали за полночь.
В 12 часов ночи в коридоре, в который выходили комнаты их величеств, были поставлены конвойные часовые с вынутыми шашками, что произвело на Иоанчика и на меня большое впечатление. Так делалось тогда каждую ночь.
11 апреля 1906 года родилась наша младшая сестра Вера. Отец послал нас к государю и государыне объявить им о прибавлении нашего многочисленного семейства. Мы с Иоанчиком надели парадную форму и с восторгом поехали в Царское Село. Нас провели в будуар императрицы, он был сиреневый (она очень любила сиреневый цвет), и в нем стояли кусты сирени в горшках, огороженные низкой решеткой. Так делалось и у нас в Мраморном дворце и в Павловске.
Государь и государыня закусывали; было одиннадцать часов утра. В это же время государю приносили ежедневно пробовать пищу собственного его величества Сводного пехотного полка и Конвоя. Тут же находилась и великая княгиня Ольга Александровна и великие княжны. Мы были очень радушно приняты.
Наконец, настала страдная пора переходных экзаменов с младшего на старший курс училища. На подготовку к ним нам давалось дня по три и меньше, в зависимости от предмета. С утра и до вечера мы проходили весь прочитанный курс по программе, по которой нас спрашивали на экзамене. Когда мы готовились к экзамену по уставам, наш сменный офицер Константинов даже ночевал у нас во дворце, помогая нам.
27 апреля состоялось торжественное открытие Государственной Думы в Зимнем дворце. Это случилось как раз перед экзаменом по законоведению, к которому мы усиленно подготовлялись. Мы поехали на открытие Думы с отцом, Татианой и братьями. Погода была совсем летняя. В Зимнем дворце мы с Иоанчиком прошли в Помпеевскую галерею, надели там винтовки и встали в строй нашего училищного взвода в Николаевском зале, в котором были выстроены взводы от всех училищ. Отец приходил в Николаевский зал и здоровался с подчиненными ему училищами.
В выходе перед государем несли государственные регалии, в том числе и корону. Государыни и великие княгини были в русских платьях. Среди великих князей шел четырнадцатилетний Дмитрий Павлович, в белом конногвардейском мундире; он был очень изящен и, как шутил великий князь Сергей Михайлович, как будто сделанный ювелиром Фаберже.
К сожалению, мы не слышали речи государя, обращенной к депутатам, которую государь читал, стоя перед троном, в Георгиевском зале. Но братья наши все видели и слышали, так как стояли в самом зале. На троне была положена живописными складками мантия государя. Рассказывали, что сама государыня Александра Федоровна клала мантию на трон и устраивала складки. В комнате рядом с тронным залом стоял караул от Преображенского полка, под командой поручика Дена. Ему приказано было защищать государя в случае, если бы какой-нибудь депутат позволил себе выходку против него: время было очень неспокойное.
По окончании церемонии шествие вернулось обратно. Когда мы ехали домой, в Мраморный дворец, было слышно, как толпы народа, стоявшие на набережной Невы, приветствовали депутатов, ехавших из дворца в Государственную Думу.
Экзамены прошли благополучно, и мы оба перешли на старший курс. В этот второй год нашего пребывания в Николаевском кавалерийском училище лагерь был гораздо интереснее. Начались эскадронные ученья и маневры. Первое время винтовка до крови набивала мне спину, пока я не научился как следует ее пригонять. Ездить в строю вовсе не так просто, как это кажется с первого взгляда. Бывало, сожмут тебя соседи с двух сторон так, что едва держишься в седле и ужасно больно ногам. Но, в конце концов, ко всему привыкаешь. Однажды наш эскадронный командир полковник Ярминский стал вызывать юнкеров по очереди, чтобы командовать эскадроном по сигналам, которые играл находившийся при нем трубач. Я с большим удовольствием и удовлетворением вспоминаю этот случай, потому что командовал я хорошо и эскадронный командир остался мною доволен.
Наш курс как-то сделал в один день пробег в саперный Усть-Ижорский лагерь и обратно, верст 80. Эскадрон шел через Царское Село, Павловск и Колпино под командой генерала Девита. Мы вышли утром и к завтраку были в лагере Саперного училища. Там нам показывали разные фортификационные работы и саперные юнкера производили взрывы.
Обратно мы шли той же дорогой и вернулись в лагерь, когда было уже темно. Несмотря на мой большой тренинг, я все же очень устал. Поздно вечером мы закусили с юнкерами и вернулись в экипаже в наш Красносельский дом, где мы тогда с Иоанчиком жили.
Ходили мы также на маневры и ночевали на биваках. Помнится, я ходил однажды в ночной разъезд.
С юнкерами установились у нас добрые отношения. Мы дружили с Ужумецким-Грицевичем, Микулиным и Михайловым. Как-то Грицевич приезжал к нам в Стрельну на субботу и воскресенье. Мы приехали вместе с ним верхом на наших лошадях из Красного Села. Он был небольшого роста, смуглый и конфузливый. Зато Михайлов был вовсе не конфузливый, а весельчак и большой любитель лошадей. А Микулин был спокойный, уравновешенный, красивый блондин. Он был взводным портупей-юнкером первого взвода, в котором числились Иоанчик и я.
Из других юнкеров я помню кавказца Тамбиева, смуглого, с большими черными усами. Он был вахмистром эскадрона, до него вахмистром был граф де Тулуз-Лотрек, малосимпатичный и, по-видимому, здорово уже поживший. За какие-то проделки его из вахмистров разжаловали. Впоследствии, будучи офицером, он служил на Кавказе и был убит в мирное время кинжалом в спину. Был я также в добрых отношениях с князем Девлет-Кильдеевым и со многими другими. Мне было приятно встречаться и проводить время с юнкерами и с их стороны я видел к себе тоже доброе отношение.
Однажды, в воскресенье, зимой 1907 года, мы пошли на лыжах с отцом, Татианой и братьями. Мы вышли на Красную долину и поднимались по берегу реки Славянки, напротив памятника Никсу (наследнику Николаю Александровичу, рано умершему сыну Александра II). В это время отец обратился ко мне: “Почему бы тебе не поступить в лейб-гусары вместо конно-гренадер? Конно-гренадеры стоят далеко, и, живя в Петергофе, ты будешь оторван от семьи. Лейб-гусары тоже очень хороший полк, они стоят в Царском Селе, рядом с Павловском, и таким образом ты сможешь жить дома”. Я сразу же согласился, несмотря на то, что я очень любил дяденьку и знал, что ему будет неприятно, что я не выхожу в столь любимый им конно-гренадерский полк. Но желание отца было для меня законом, и раз он считал, что мне лучше не выезжать из дома и служить в лейб-гусарах, значит, так и должно было быть. Дяденька и виду не показал и, видимо, примирился с нашим решением.
Итак, всё сразу переменилось в моих планах на будущее, и я стал готовиться к поступлению в лейб-гвардии Гусарский его величества полк. Отец поехал к государю и просил его разрешить Иоанчику поступить в конную гвардию, а мне в лейб-гусары. Государь дал свое согласие и сказал: “Оба – в мои полки!” Он был шефом обоих.
Отец пригласил в Павловск министра Императорского двора барона Фредерикса, чтобы посоветоваться с ним относительно того, как нам надо будет держать себя в полку и как офицеры должны будут держать себя по отношению к нам. Отец, а в особенности дяденька, который начал службу в конной гвардии под командой барона Фредерикса, очень хорошо к нему относились и уважали его. Фредерикс приехал вечером, к обеду. У него были весьма изысканные манеры. Он носил длинные усы, а на затылке был сделан пробор и волосы расчесаны волосок к волоску, по обе его стороны.
После обеда отец и дяденька удалились с Фредериксом для беседы. Они решили, между прочим, что мы не должны будем переходить с офицерами на “ты”, как это было, когда отец и дяденька служили в полках. Не помню, о чем они еще говорили, но знаю, что по всем вопросам они оказались одинакового мнения.
Затем отец вызвал к себе командиров конной гвардии Хана-Нахичеванского и лейб-гусар – Петрово-Соловово и объявил им, что мы выходим в их полки. Он сказал им то, что было решено в беседе с Фредериксом, а также, что мы должны будем нести службу наравне с нашими однополчанами.
Когда Петрово-Соловово приехал к отцу, я спрятался в передней родителей и смотрел, как он проходил. Я до этого никогда его не видел. Через некоторое время родители пригласили его к обеду с женой, рожденной Пантелеевой. Соловово был очень живой и веселый, его жена была гораздо моложе его. Хан-Нахичеванский тоже как-то обедал у нас.
На масленице родители дали в Павловске большой бал для моей сестры Татианы и великой княжны Марии Павловны. Бал начался днем. Приехало очень много гостей, главным образом из Петербурга, а также из Царского Села. Была мобилизована вся наша конюшня для встречи гостей на вокзале и для их отвоза.
Государь и государыня приехали во время бала. Отец встретил императрицу с букетом цветов. Бал был в большом танцевальном зале. Я открыл его вальсом с Анной Александровной Танеевой, которая впоследствии вышла замуж за Вырубова и стала первым другом императрицы Александры Федоровны. Несмотря на то, что она была довольно полна, она была легка, как пух, и очень хорошо танцевала. Бал удался на славу.
Для императрицы в зале был устроен особый уголок из старинной мебели и растений. Матушка представляла ей бывших на балу дам. Но государыня оставалась на балу недолго, я предполагаю, что она, как часто с ней бывало, неважно себя чувствовала. Родители танцевали кадриль. Отец был очень изящен в конногвардейском вицмундире.
В комнатах правого флигеля, примыкавших к залам, были поставлены ломберные столы, где нетанцующие гости играли в карты и курили.
Когда стемнело, в залах зажгли свечи и лампы. В танцевальном зале вокруг карнизов были поставлены свечи. Когда их зажгли, получилась незабываемая картина. С потолка спускались четыре стеклянных фонаря, в которых тоже горели свечи. В то время в Павловске электричества не было. Его провели в жилых комнатах по моей инициативе в 1911 или 1912 году, в залах же так никогда его и не было.
После бала пошли ужинать в Греческий и соседние с ним залы. В тот вечер мне очень понравилась молоденькая графиня Марина Гейден, блондинка, в голубом платье, очень веселая. Через год она вышла замуж за конногвардейца, графа Мантейфеля, вскоре после свадьбы убившего на дуэли графа Николая Сумарокова-Эльстон, который будто бы ухаживал за графиней Мариной. В свое время эта печальная история наделала в Петербурге много шума. Брак Марины с Мантейфелем распался. Марина принуждена была уехать за границу, а Мантейфель в скором времени ушел из полка.
Нас с Иоанчиком держали очень строго и почти никуда одних не пускали. Когда мы были уже юнкерами, нам разрешили ездить верхом одним, без провожатого, в Царское Село, и первое время я себя чувствовал не совсем в своей тарелке. Младших моих братьев воспитывали гораздо более самостоятельными, и потому они, выйдя в офицеры, чувствовали себя куда лучше, чем мы с Иоанчиком.
Но вот снова настал период экзаменов, и не просто экзаменов, а выпускных. Однако мы не держали их: старшие решили, что экзаменов нам держать не надо, так как экзамены не доказывают знаний. В этом решении главную роль сыграло мнение дяденьки. Конечно, в то время я был очень доволен обойтись без экзаменов, но теперь мне кажется, что все же лучше было бы их держать.
Наконец настал давно жданный день производства, то есть 14 июня 1907 года. Погода была пасмурная. Мы поехали в Петергоф на моем новом автомобиле – большой не поспел к производству, и фирма “Победа” дала мне временно автомобиль “Ришар-Бразье”. Мы были втроем: отец, едва оправившийся после тяжелой болезни, Иоанчик и я. Мы приехали к Большому Петергофскому дворцу и встали в строй училища перед дворцом со стороны верхнего сада, где были выстроены пажи и юнкера всех петербургских училищ, которые производились в офицеры. Пошел дождь, и потому всех нас перевели в Большой дворец, в Петровский зал. Приехала матушка, тетя Оля, Татиана и младшие братья и встали в дверях зала. Затем приехал государь, поздоровался с выстроенными в зале юнкерами и обратился к нам с кратким словом и, между прочим, сказал, что мы должны быть строги и справедливы с подчиненными; он закончил поздравлением нас с производством в офицеры. Царские слова были покрыты громким “ура”.
Мы были очень счастливы и поехали в дяденькин домик (предоставленный ему, когда он командовал конно-гренадерами), чтобы переодеться в офицерскую форму. Там ждали нас назначенные нам камердинеры – к Иоанчику – Анисимов, ко мне – М., который был до того лакеем у моих родителей. Он был поляк и католик. Они оба были в парадных камердинерских фраках с золотым шитьем на воротнике и сияли от радости.
Нас ждал большой сюрприз: Андреевские ленты и все орденские ленты ниже Андреевской, кроме Георгиевской и Владимирской. Последние члены Императорского дома получали лишь как награду при прохождении службы.
Каждый из нас получил по две больших красных коробки. В одной из них лежали несшитые орденские ленты: Александровская, Белого Орла, Анненская и Станиславская, и звезда, и орден к каждой из них, а в другой – Андреевская цепь. Ордена нам были присланы при письме, каждому особо, от министра Императорского двора барона Фредерикса. Согласно закону нам, как князьям крови императорской, полагалось получать Андреевские ленты не при рождении, как великим князьям, а по достижении совершеннолетия. В это время Иоанчику уже исполнилось двадцать лет, а мне – только девятнадцать, так что я получил ленту раньше положенного срока. Бриллиантовых знаков Андрея Первозванного мы не получили – о них в законе ничего не было сказано.
Мы переоделись в летнюю парадную форму: Иоанчик надел темно-зеленый, царского сукна вицмундир с золотой амуницией, с Андреевской лентой, шашку и фуражку с белым верхом, как носили все кирасиры, а я – красный доломан с золотыми шнурами, Андреевскую ленту, золотую амуницию и шашку, – подарок дяденьки, которую он носил когда-то сам. Клинок шашки был кавказский, знаменитая Гурда, слегка искривленная. К сожалению, моя красная фуражка была с защитным верхом, что было весьма некрасиво, но так полагалось носить летом. У меня были вице-чакчиры с золотым галуном и лакированные ботики с розетками и прибивными венгерскими шпорами.
Мы сели в мой автомобиль и поехали завтракать к государю. Часть царских детей была в это время больна какой-то заразной болезнью, и мы их не видели. Когда мы приехали, государь, наши родители и тетя Оля были в большой столовой направо от входа. Мы явились государю. Конечно, нас поздравляли и обнимали.
После завтрака мы поехали домой и сразу же пошли к дяденьке. Он нам передал от имени бабушки – Иоанчику дедушкин палаш, а мне – дедушкину саблю, которая мне так нравилась еще с 1895 года, когда во время Иоанчиковой скарлатины я жил в дедушкиных комнатах. На ее клинке были отмечены сражения Венгерской кампании 1849 года, в которых мой дед участвовал и за которые получил Георгиевский крест. А от себя дяденька подарил мне гусарскую саблю, очень кривую и широкую.
Затем мы с родителями и дяденькой отправились поездом в Петербург, к бабушке. К сожалению, дяденька, как экономный человек, приказал нам снять парадную форму и надеть защитные кителя. А как было бы приятно показаться своим в Мраморном дворце в мундире и ленте!
Заехав сначала в Николаевское кавалерийское училище на молебен по случаю выпуска, мы явились к бедной слепой бабушке. Она нас поздравила и благословила.
На следующий день мы с Иоанчиком поехали в Гатчину являться императрице Марии Федоровне. Мы поехали через Красное Село на моем автомобиле. Мы в первый раз в жизни были в Гатчине и Гатчинском дворце. Тетя Минни очень любезно нас приняла и оставила завтракать. Я помню, что за завтраком были дядя Георгий Михайлович с женой, а также великий князь Михаил Александрович и великая княгиня Ольга Александровна. Михаил Александрович в то время был в кирасирах ее величества, но временно не нес службы, потому что у него была язва желудка. Несмотря на язву, он был весел и очарователен, как всегда. Мы зашли в его комнаты. Они были маленькие и низкие, и в них было наставлено множество вещей. Мне рассказывали, что во времена императора Николая I в этих комнатах жила прислуга, но император Александр III, сам будучи очень большого роста, любил маленькие комнаты и поселился в них со своими детьми. Миша покатал нас по Гатчинскому парку на своем автомобиле, он им прекрасно управлял.
На обратном пути из Гатчины в Стрельну мы заехали в Красное Село к нашему дяде – главнокомандующему Николаю Николаевичу. Он сразу же нас принял, был очень мил и любезен и прочел нам маленькое наставление о том, как нам надо служить. Оказалось, что у меня неправильно был надет кушак, дядя Николаша поставил меня перед зеркалом и сам перетянул кушак на место.
На третий день после производства мы с Иоанчиком поехали в Царское Село являться великому князю Владимиру Александровичу. Он принял нас в своем небольшом кабинете с мебелью из карельской березы и письменным полукруглым столом. Дядя Владимир был ласков с нами и, как и дядя Николаша, дал нам несколько добрых советов. Нас оставили завтракать; завтрак был подан в саду, перед дворцом.
В воскресенье вечером я переехал из Стрельны в финскую деревню Алякули, где стоял 4-й эскадрон, в который я был назначен. Мне нашли хороший дом у крестьянина – финна – деревянный, в два этажа. Его отремонтировали и поставили мебель из Мраморного дворца. В первом этаже было две комнаты: довольно большая гостиная-кабинет в три окна и рядом – небольшая спальня. Во втором этаже было помещение для камердинера. Рядом с моим домом построили мне конюшню в несколько денников и с комнатой для конюхов. Конюшня была очень просторная и светлая, Алякули была приветливая деревушка с прудом, в котором купали лошадей. Она славилась источником очень свежей и чистой воды.
Когда я приехал, солдаты сидели группами подле своих помещений и пели песни. На следующий день утром я надел красный доломан с двумя моими медалями, золотую амуницию и Андреевскую ленту и пошел являться моему эскадронному командиру ротмистру Молоствову в его избу, которая была рядом с моей. Входя к Молоствову, я стукнулся головой о притолоку, которая была, конечно, недостаточно высока для моего большого роста. У Молоствова собрались все офицеры нашего эскадрона: штаб-ротмистр Скалон (по прозванию Кут), поручик Раевский, сиамец корнет Най Пум и корнет Катаржи. Я отрапортовал Молоствову и познакомился с моими сослуживцами по эскадрону.
Мы завтракали в нашем маленьком эскадронном офицерском собрании, которое было против моего дома. Я очень за собой следил и старался поменьше говорить – из стеснения и скромности. Я боялся шевельнуться.
Затем мой конюх Флор Зенченко подал мне моего любимого Атамана, и я подъехал к выстроенному на нашей деревенской улице эскадрону. Вахмистр скомандовал: “Смирно! Глаза налево!” Я подъезжал к эскадрону с левого фланга. Я громким голосом поздоровался с эскадроном: “Здорово, братцы!” Эскадрон ответил: “Здравия желаем, ваше высочество! ” Я очень старался хорошо сидеть на лошади и отчетливо здороваться. После меня подъехал к эскадрону корнет Катаржи. Он поздоровался с эскадроном, я встал на свое место, а Катаржи командовал следующему за ним по старшинству офицеру, которым был корнет Най Пум. Таким образом, с эскадроном здоровались все офицеры по старшинству, начиная с младшего. Старший офицер эскадрона, штабс-ротмистр Скалон, командовал эскадронному командиру. Поздоровавшись с эскадроном, Молоствов скомандовал: “Господа офицеры, эскадрон направо марш, справа по три, марш! Господа офицеры вперед”. Все офицеры выехали перед эскадроном, тогда Молоствов крикнул: “Кому курить – кури!” Офицеры и солдаты закурили. Не успели мы отъехать от Алякули, как Молоствов заметил, что я выехал без подперсья (ремень на груди лошади, пристегивающийся к седлу и подпруге), и отправил меня надеть его.
На военном поле собрался весь полк. Я явился по случаю поступления в полк полковому командиру свиты его величества генерал-майору Петрово-Соловово.
Наш полк был вторым полком 2-й бригады 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Бригадой в то время командовал генерал Генерального штаба Орановский. Его убили в 1917 году в Финляндии взбунтовавшиеся солдаты. Он производил учение бригады. Когда мы возвращались с ученья, офицеры снова ехали все вместе, и я, едучи рядом с Най Пумом, расспрашивал его про сиамского принца Чакрабона, с которым Пум приехал, будучи мальчиком, в Россию и с которым он учился в Пажеском корпусе. В 1902 году Пум вместе с Чакрабоном вышел в лейб-гвардии Гусарский его величества полк. Чакрабон прослужил несколько лет и вернулся к себе в Сиам. Но на обратном пути, кажется, в Киеве, Чакрабон женился на русской барышне, чем в Сиаме оказались очень недовольны и собирались посадить Пума на кол за то, что он не помешал этой свадьбе. Но Пум в Сиам не вернулся и одно время жил в Париже. Вскоре, однако, он возвратился в Россию, принял русское подданство и снова поступил в наш полк. С Пумом мы быстро сошлись. Он ехал на своей кобылке Фиалке, нарядной, совершенно белой, с рубленой репицей.
Вскоре после того, как я поселился в Алякули, я поехал с Пумом в Царское Село и в первый раз в жизни вошел в наше полковое собрание, белый двухэтажный дом. Внизу находился большой зал – столовая в стиле ампир, биллиардная и гостиная, наверху была библиотека, рядом с ней комната, в которой обыкновенно играли в карты, но только в коммерческие игры, азартные были запрещены. Кроме того, в доме помещался небольшой полковой музей.
9 августа Кавалергардского полка флигель-адъютант полковник Воейков был назначен командующим нашим полком.
В тот день, когда генерал Петрово-Соловово сдавал наш полк полковнику Воейкову, полк выстроился в большом манеже в пешем строю. Пришел старый командир, поздоровался с полком и сказал краткую речь. Он, видимо, был очень взволнован и прослезился. Ему было тяжело сдавать наш полк. Его в полку любили, он был старый лейб-гусар, и большинство офицеров служило с ним в полку, когда он еще не был командиром полка.
Когда Петрово-Соловово вышел из манежа, вошел новый командир, полковник Воейков, он также сказал речь.
Офицеры устроили Петрово-Соловово большие проводы в своем собрании. Начались они большим обедом, на который съехались много прежде служивших в полку офицеров. Приехал и великий князь Борис Владимирович, который был офицером нашего полка, но службы в нем не нес и мундира полка не носил, потому что был отчислен в свиту государя. После обеда пел русский хор и цыгане. Я ничего не пил. Будучи в первый раз в жизни на таком обеде, я очень стеснялся и чувствовал себя не в своей тарелке.
30 ноября я прочел в приказе, что назначен вторым помощником начальника полковой учебной команды, а также помощником заведующего школой солдатских детей. В учебной команде я занимался пешим строем, гимнастикой и некоторыми уставами; один раз в неделю я давал урок воспитанникам школы солдатских детей.
Я был занят целый день и порядочно уставал. Спать ложился рано, потому что приходилось рано вставать. Когда по утрам я ехал в полк в своем громадном автомобиле, было совсем темно, как ночью, и в манеже утренние занятия шли при зажженных фонарях.
Обедал я всегда у родителей и нигде не бывал. Мне приходилось зубрить уставы и для самого себя у меня оставалось мало времени. Так продолжалось всю зиму. Я ничего не пил, и счета из собрания, которые мне подавали каждую неделю, были ничтожны, к неудовольствию заведующего собранием. В первые два года я был довольно далек от моих товарищей, мой образ жизни сильно отличался от того, который вели они.
Глава VIII. 1908. Присяга. Флигель-адъютант
6 января 1908 года мы с Иоанчиком присягали в церкви Большого дворца, в Царском Селе. Сперва предполагалось, что мы будем присягать в день Георгиевского праздника, 26 ноября. Отец хотел, чтобы мы присягали именно в этот день, потому что в этот день присягал он, как и наш дед. Но наша присяга, к большому моему сожалению, не состоялась в день Георгиевского праздника, потому что императрица Александра Федоровна плохо себя чувствовала.
6 января, перед отъездом в Царское Село, Иоанчик и я прошли к родителям. По случаю знаменательного дня присяги родители подарили мне квадратные синие эмалевые запонки с бриллиантиками, кроме того, отец передал нам, от имени бабушки, по кольцу, которые носил дедушка. Я получил кольцо с розовым сапфиром, на внутренней стороне его было выгравировано: “Помни Анмама, служи, как Анпапа”. С тех пор я всегда ношу это кольцо.
Мы приехали к церковному подъезду большого Царскосельского дворца, где ожидали вместе с великими князьями государя. Дежурство при государе стояло против нас, а в соседней с подъездом церковной зале были выстроены взводы от военно-учебных заведений и гвардейских частей, со знаменами и штандартами. Парадом командовал великий князь Николай Николаевич. Он стоял в дверях залы и был не в духе. В то время революционеры хотели убить его и охотились за ним.
Приехал государь. Сняв шинель, он начал обходить присутствующих и с ними здороваться. Не могу забыть, с каким спокойным достоинством и простотой он себя держал! Протягивая руку, он смотрел прямо в глаза и затем слегка наклонял голову. Во дворец также приехали императрица Мария Федоровна и великие княгини. Все они были в русских платьях и кокошниках. Матушка и сестра Татиана тоже приехали. В этот день Татиана в первый раз надела русское платье и участвовала в выходе. Она была в Екатерининской ленте с бриллиантовой звездой.
Выход в церковь начался из верхних зал. В церковном зале мы прошли между взводами со знаменами и штандартами. Во время обедни государь, государыня и старшие члены семейства стояли у правой стороны, против окон, а остальные – у левой стены, рядом с окнами. Тут же стоял небольшой стол с золотой чернильницей, на котором после присяги мы должны были подписывать присяжные листы.
По окончании литургии началась наша присяга. Я страшно волновался. Посреди церкви поставили аналой с крестом и Евангелием. Сперва мы присягнули как члены Императорского дома, а затем – как офицеры. Первым присягал Иоанчик, а за ним – я. Правую руку мы держали поднятой, а в левой держали бумагу, по которой читали. Когда настал мой черед читать офицерскую присягу, внесен был штандарт лейб-гусар. Перед самым началом присяги мы поклонились государю, а присягнув, подошли к нему. Государь и государыня обоих нас поздравили, затем мы подписали присяжные листы: лист присяги члена Императорского дома и лист воинской присяги. Нам давал их подписывать министр иностранных дел Извольский. Он перепутал листы и одному из нас дал подписать два листа присяги члена Императорского дома, а другому – два листа воинской присяги. Через некоторое время нам прислали на дом новые листы, чтобы исправить эту ошибку.
После этого сразу происходил выход на Иордань. С разрешения государя я на Иордань не пошел, потому что был простужен. Когда государь и семейство вернулись с Иордани и начали закусывать, государь поздравил меня и Иоанчика флигель-адъютантами. Мы были очень счастливы. Николай Николаевич сухо протянул мне руку и сказал: “Поздравляю”. Отец приказал нам сразу же явиться барону Фредериксу. Мы вышли в соседний зал, подошли к нему и отрапортовали: “Ваше высокопревосходительство, честь имею явиться по случаю назначения флигель-адъютантом к его императорскому величеству”.
Среди пажей находился камер-паж государя, князь Багратион-Мухранский, который позже, в 1911 году, женился на моей старшей сестре Татиане.
Мои младшие братья смотрели на нашу присягу с хоров церкви. Няня Атя тоже стояла на хорах. Она в это время была уже монахиней, под именем матери Гавриилы.
Когда мы вернулись домой, Иоанчик подарил мне погоны с флигель-адъютантскими вензелями, которые он заранее заказал в чаянии, что государь назначит нас флигель-адъютантами. Отец был недоволен этим, и Иоанчику попало.
Привожу “Высочайше утвержденный порядок присяги князей крови императорской Иоанна Константиновича и Гавриила Константиновича, приносимой по совершеннолетии их высочеств”.
§ 1. 6 января, в день, назначенный для присяги Их Высочеств Князей Иоанна Константиновича и Гавриила Константиновича, по разосланным от Высочайшего двора повесткам, соберутся в Царскосельском Большом Дворце, к 11 ч. утра: Придворное духовенство, обер-гофмейстерина, статс-дамы, камер-фрейлины и свитные фрейлины их императорских величеств государынь императриц и гофмейстерины и фрейлины их императорских высочеств великих княгинь. Первые чины императорского двора, его императорского величества генерал-адъютанты, Свиты его величества генерал-майоры, флигель-адъютанты и состоящие при их императорских высочествах великих князьях генералы и адъютанты; особы двора его императорского высочества великого князя Константина Константиновича и кавалеры великокняжеских дворов.
Дамы в русском платье, а кавалеры в парадной форме.
§ 2. Духовенство собирается в алтаре Придворной Церкви. Придворные дамы и первые чины двора – в столовой, прочие остаются в церковном зале.
§ 3. Когда все к шествию будет готово и министр императорского двора донесет о том его императорскому величеству, их императорские величества и особы императорской Фамилии изволят через парадные залы проследовать в Дворцовую церковь.
§ 4. От дверей столовой их императорским величествам предшествуют первые чины императорского двора. За особами императорской Фамилии следуют придворные дамы.
§ 5. При входе в церковь их императорские величества, их императорские высочества и их высочества встречены будут придворным духовенством со крестом и святою водою.
§ 6. По приложении ко Кресту, их императорские величества изволят стать на свои места.
§ 7. По окончании литургии их высочества князь Иоанн Константинович и князь Гавриил Константинович подойдут к поставленному перед алтарем аналою, перед Животворящий Крест и Святое Евангелие, для произнесения, на основании учреждения об императорской Фамилии, присяги, как в верности царствующему государю и Отечеству, так ровно в соблюдении права наследства и фамильного распорядка. Присягу, особо для сего установленную, князь Иоанн Константинович и князь Гавриил Константинович читают вслух, а засим утверждают ее своею подписью и передают присяжные листы министру иностранных дел, для хранения в государственном архиве.
§ 8. Вслед засим внесены будут в церковь штандарты лейб-гвардии Конного и лейб-гвардии Гусарского его величества полков и поставлены у аналоя.
Князь Иоанн Константинович изволит подойти под штандарт лейб-гвардии Конного полка, а князь Гавриил Константинович – под штандарт лейб-гвардии Гусарского его величества полка, где и принесут на верность службы государю и Отечеству присягу, которая будет читана вслух их высочествами.
§ 9. По совершении присяги, провозглашено будет протодиаконом многолетие их императорским величествам и всему Царствующему Дому.
Подписал: Министр Императорского Двора, генерал-адъютант барон Фредерикс.
На следующий день мы с Иоанчиком и отцом поехали к государю, отец – по какому-то делу, а мы – явиться по случаю назначения флигель-адъютантами. Мы уже были с аксельбантами и вензелями. Государь принял нас всех троих вместе в своем рабочем кабинете в Царском Селе. Он разговаривал с нами, стоя подле дверей.
Свита государя была настолько велика, или – точнее – флигель-адъютантов было так много, что дежурство каждого при особе государя бывало не чаще, чем один раз в месяц. Во времена Александра III, который сильно сократил свиту, мой отец и дяденька дежурили каждую неделю. За флигель-адъютантами обыкновенно присылалась на станцию придворная тройка, но так как я жил в Павловске, то за мной приезжали во дворец. Тройка подвозила меня около 11 часов утра к подъезду № 4 Александровского дворца. Я входил в дежурную комнату, где меня ждал заканчивающий дежурство флигель-адъютант. Приходил скороход и докладывал, что в приемной государя уже собрались такие-то и такие-то лица. Тогда я через все залы отправлялся в приемную.
Здесь я обыкновенно заставал какого-нибудь министра с портфелем, приехавшего с докладом. Штатские министры бывали во фраках с золотыми пуговицами и лентах. Так старик министр Горемыкин приезжал в Алексеевской ленте. Военный министр приезжал в сюртуке, при оружии. Кроме министров, в приемной нередко ожидали люди, которые должны были являться государю: губернаторы или командующие войсками и многие другие. Часто заходили в приемную обер-гофмаршал граф Бенкендорф и дворцовый комендант генерал Дедюлин.
От времени до времени открывалась дверь из кабинета государя, выходил дежурный камердинер и приглашал то лицо, которое государь должен был принять. Однажды на одном из моих дежурств ожидал в приемной французский посол адмирал Тушар. Камердинер передал мне приглашение от государя, а я лично передал его послу.
Во время приема дежурный флигель-адъютант все время должен был находиться в приемной. Перед завтраком приходил скороход и докладывал, что их величества приглашают меня к завтраку. Иной раз доклады затягивались до самого завтрака и мне едва хватало времени вымыть руки. Я шел в маленькую гостиную государыни, между ее будуаром и большим кабинетом, становился возле дверей и ожидал прихода государя. Вымыв руки в своей уборной комнате, которая была по другую сторону коридора, государь шел к императрице и, проходя мимо меня, со мной здоровался. Вскоре он возвращался с государыней и великими княжнами.
В гостиной стоял стол с закусками и водкой, а также и стол, за который садились завтракать. Первые годы я водки не пил, а когда начал пить, то государь всегда говорил мне, что мне пить вредно. Я позволял себе, впрочем, выпивать не более одной рюмки. Когда мы усаживались за стол, гоффурьеры и камер-лакеи уносили закусочный стол.
Часто зимой подавались черноморские устрицы, которые государь очень любил. Он предпочитал их заграничным, как вообще предпочитал всё русское – иностранному.
Кофе пили после завтрака в сиреневом будуаре императрицы. По стенам висело несколько картин и портрет государя. На полках и столиках было много фотографий и безделушек. Между прочим, в будуаре обычно лежала газета “Новое время” и клалась для императрицы записочка с фамилией дежурного флигель-адъютанта. Кофепитие продолжалось недолго, и меня отпускали, а государь шел гулять по парку, обыкновенно вместе с великими княжнами. Они любили ходить на пруд и разбивать на нем лед кирками.
Когда я возвращался в дежурную комнату, мне докладывали, что собрались просители. Я выходил из дворцовых ворот. Обыкновенно их было человек пять-шесть. Отобрав у них прошения, я возвращался в дежурную комнату и принимался за работу. Надо было прочесть прошения, занести их в реестр, запечатать его и отдать камердинеру. Государь прочитывал реестр до обеда, делал на нем заметки и отсылал в походную канцелярию.
Часов в пять придворный лакей приносил чай. Если у государя бывал прием между завтраком и обедом, то снова приходил скороход и докладывал об этом. Тогда я опять спешил в приемную. Днем обыкновенно приезжали председатель Совета министров Горемыкин и министр иностранных дел Сазонов.
Приемная государя была комната в два окна, выходивших на площадку перед дворцом, между рамами окон было устроено электрическое отопление, благодаря чему от окон не дуло. В начале царствования императора Николая II в этой комнате была столовая. Теперь посередине стоял большой стол с альбомами. На одной стене висели две акварели, изображавшие Петра Великого, несущего на руках маленького Людовика XV, и еще один из эпизодов его пребывания во Франции. На другой стене висел большой портрет императрицы Александры Федоровны в белом платье. В углу стояло знамя собственного его величества Сводного пехотного полка, с ликом Спасителя на полотнище и двуглавым орлом поверх древка.
Перед обедом снова приходил скороход и приглашал меня от имени их величеств к обеду. Обед бывал в будуаре императрицы. Бедная государыня обыкновенно плохо себя чувствовала и обедала полулежа. Она бывала очень красиво одета в вечерний халат с кружевами и в чудесных жемчугах. За обедом бывали и великие княжны, в зависимости от их возраста. Наследник в первые годы моих дежурств обедал у себя в детской и затем приходил вниз, к императрице, в голубом халатике. Он был очень мил и красив. Из его комнат к императрице был проведен домашний телефон, по которому он иной раз говорил с императрицей во время нашего обеда.
Обыкновенно государь недолго сидел со всеми после обеда и снова уходил к себе в кабинет. Тогда меня отпускали, и я возвращался к себе в дежурную.
27 марта 1908 года приехал в Царское Село князь Николай Черногорский. Государь встречал его на вокзале царской ветки. Мне была послана повестка встречать князя Черногорского на вокзале. Кроме великого князя Николая Николаевича и меня, никого из семейства на вокзале не было. Приезжавший князь был тестем Николая Николаевича.
Государь, встретив князя Черногорского, уехал с ним в карете. Князь был в кивере Стрелкового полка, шефом которого он состоял. Садясь в карету, он не наклонил головы и ударился кивером о карету. Я не видел этого, но государь мне об этом позже сам рассказал.
Другой раз я был дежурным, когда у государя гостили великий герцог и герцогиня Гессенские, а также мой двоюродный брат королевич Андрей Греческий со своей женой. Это было на Пасху, и после завтрака у их величеств я, переодевшись в парадную форму, поспешил поехать в Большой дворец на христосование государя со свитой и депутациями от шефских полков.
Посмотреть на христосование приехал и великий герцог Гессенский. Во время христосования я стоял возле двери зала, в который входили христосовавшиеся. Они подходили к государю, останавливались и кланялись. Государь протягивал им руку со словами “Христос Воскресе!” Они отвечали “Воистину Воскресе!” – и государь христосовался с ними. Они опять отвешивали поклон и шли дальше к государыне, которая стояла позади государя, в некотором отдалении, и раздавала им яйца, каменные или фарфоровые. При этом ей целовали руку.
Через некоторое время государь вышел в большой зал, в котором были выстроены представители тех частей, шефом которых был государь. Государь их обходил и с ними христосовался и некоторым говорил два-три слова. Христосование продолжалось несколько часов подряд. Я все время был подле государя и, сознаюсь, порядком устал, хотя и не христосовался. Как мог он выдержать христосование с таким количеством людей! Это было на второй день Пасхи, накануне он также христосовался со множеством народа и, кажется, также и на третий.
После христосования государь должен был идти мыть лицо и бороду – вода становилась черной, а рука государыни темнела и опухала. В приказах по частям, представители которых являлись на Пасху, писалось, чтобы нижние чины не фабрили усов и бороды.
В тот же день в 8 часов вечера я обедал у государя; так как были гости, то обед происходил не в комнате государыни, а в столовой, в которой стояли шкапы с книгами Александра I. Кроме великого герцога Гессенского и его жены, Андрея Греческого и его жены, были также великая княгиня Елизавета Федоровна, великая княгиня Мария Павловна и великий князь Дмитрий Павлович.
После обеда мы затеяли очень веселую игру в кабинете государыни: мы дули на шарики при помощи трубочек, приделанных к деревянному кругу, посередине которого было зеленое поле. Игра заключалась в том, что надо было загнать шарики на определенные места. Было очень шумно и оживленно, и государь принимал участие в этой игре.
Глава IX. 1908. Свадьба великой княжны Марии Павловны и шведского принца Вильгельма
В апреле того же 1908 года была свадьба великой княжны Марии Павловны со вторым сыном шведского короля Густава V герцогом Вильгельмом Зюдерманландским. Я с большим удовольствием вспоминаю это время. Жених приехал 17 апреля. Ему была устроена торжественная встреча на станции царской ветки в Царском Селе. Встречал его сам государь со свитой и с почетным караулом от стрелков императорской фамилии.
Поезд подходил к станции раньше, чем государь успел прибыть, и поэтому состав задержали невдалеке и снова пустили, когда государь приехал. Принц был громадного роста, очень худой, с длинной шеей. Он был морским офицером и потому был в морской шведской форме. Он обошел караул вместе с государем. Я шел в свите вслед за ними.
На следующий день, 18 апреля, приехал шведский король Густав V в сопровождении своего брата принца Карла и его жены принцессы Ингеборг, двоюродной сестры нашего государя. Их сопровождала большая свита, состоявшая из шведов и русских. Встречал их опять сам государь, тоже с большой свитой и с почетным караулом, но встреча короля была более торжественная и многолюдная. Жених тоже был на станции. Король, очень худой и высокий, был в шведской адмиральской форме и в Андреевской ленте. Королева же по слабости здоровья приехать не могла. Король поздоровался со всеми. В тот же день в честь шведского короля был устроен великолепный обед в большом зале Большого Царскосельского дворца. Государь и король обменялись тостами.
Рядом с моим отцом сидел шведский архиепископ, приехавший венчать герцога и Марию Павловну по лютеранскому обряду. Он не говорил ни на каком языке, кроме шведского, и мой отец объяснялся с ним по-латыни. Во время обеда у дверей комнат, где помещался шведский король, стояли почетные часовые лейб-гвардии Гусарского его величества полка, в парадной форме, в меховых шапках с султанами и в белых ментиках. В одной из зал стоял почетный караул от лейб-гвардейского Кирасирского его величества полка, в белых мундирах, белых лосинах и ботфортах и в золоченых касках с серебряными орлами.
Дворец сиял огнями. Было очень много приглашенных в великолепных туалетах и драгоценностях и красивых мундирах. Красота и великолепие царили повсюду и настроение было соответственное.
После революции 1905 года в первый раз снова были большие торжества во дворце у царя. Для меня лично все это было ново, потому что я в первый раз присутствовал на таком парадном приеме у государя.
20 апреля состоялась свадьба. Я приехал на нее в своем новом автомобиле “Ришар-Бразье” с сестрой Татианой и Иоанчиком. Все семейство, шведский король, принцы и принцессы собрались в Большом дворце, в комнатах покойной императрицы Марии Александровны. Было очень интересно и приятно оказаться среди живописной толпы моих родственников и иностранных гостей. Государь был в конногвардейской форме и с цепью шведского ордена Серафимов. Обе императрицы, как и все великие княгини, были в русских платьях и кокошниках, покрытые дивными драгоценностями. Мой отец был в шведской ленте Серафимов и в Андреевской цепи. Мы с Иоанчиком тоже были в Андреевских цепях.
Невеста сидела за туалетным столом, на котором стоял золотой туалетный прибор императрицы Елизаветы Петровны. Этот прибор всегда ставился на туалетный стол, за которым причесывались перед свадьбой великие княжны и принцессы, выходящие замуж. Вообще же он хранился в Эрмитаже. Невесте прикрепляли корону и букли. После революции 1917 года эту корону купил ювелир Картье, проживающий в Нью-Йорке.
Невеста была в русском парчовом серебряном платье-декольте с большим шлейфом. Ее шею украшало колье из больших бриллиантов. Корсаж ее платья был покрыт бриллиантовыми украшениями. Кроме короны, ей надели бриллиантовую диадему и вуаль из старинных кружев. Корону эту, колье, диадему и бриллианты надевали на великих княжон и принцесс в день свадьбы. Поверх платья невесте накинули малиновую мантию с горностаем. Мантия была очень тяжелая.
Я помню, что мы с отцом и Иоанчиком стояли одно время в дверях комнаты, в которой причесывали Марию Павловну. В это время шведский король обратился к Иоанчику с несколькими словами. Разговаривая с королем, Иоанчик был в пенсне. Когда король отошел, отец сделал Иоанчику замечание: разговаривая с королем, он должен был снять пенсне.
Когда невесту причесали и одели, торжественное шествие двинулось по залам дворца в церковь. Большой зал, по которому проходило шествие, был перегорожен во всю длину драпировкой на золоченых столбиках, чтобы скрыть приготовленный для парадного обеда громадный стол.
Невеста шла под руку с женихом. Залы были полны приглашенных. Шествие было очень длинно и представляло красивое зрелище. Войдя в церковь, молодые встали перед аналоем. Государь, государыня, король, принцы встали вдоль стен. Многочисленное духовенство было в роскошных облачениях. Придворные певчие, в малиновых кафтанах и фраках, прекрасно пели. Пение императорской придворной капеллы было одним из лучших в России. Певчие набирались по всей России и отличались прекрасными голосами. Богослужения при дворе всегда отличались большим благолепием.
Мы с Иоанчиком были шаферами жениха. Когда пришло время держать над молодыми венцы, мы приблизились к ним, повернулись в сторону их величеств и отвесили им поклон – такова была старая традиция, которой научил нас великий князь Сергей Михайлович, бывший тоже шафером.
После окончания венчания был отслужен благодарственный молебен, а затем из церкви шествие двинулось наверх, в одну из зал, приготовленную для венчания по лютеранскому обряду. Тут был устроен алтарь и поставлены кресла. Архиепископ шведский приступил к венчанию. Мы, конечно, ничего не понимали по-шведски и брали пример с короля: он вставал – мы вставали, он садился – садились и мы.
По окончании венчания был дан отдых часа на два до парадного обеда. Родители мои уехали в Павловск. Я, не желая возвращаться, остался во дворце и отдыхал в одной комнате с великим князем Михаилом Александровичем. Он лежал на одной кушетке, а я на другой, и он экзаменовал меня по “Уставу строевой кавалерийской службы”. Вместе с нами отдыхал и принц П.А. Ольденбургский.
Обеденный стол был замечательно красиво декорирован. Молодые сидели с государем, государыней и шведским королем. Я сидел рядом с графиней Шереметевой, очень почтенной дамой. За государем и государыней стояли первые чины двора: министр императорского двора, обер-гофмаршал, обер-шенк и т. д., а также камер-пажи. За каждым принцем и принцессой и членами семейства стояли придворные чины и камер-пажи. Первые наливали нам шампанское, а вторые держали накидки, перчатки и веера великих княгинь и принцесс, и головные уборы великих князей.
После обеда был “куртаг”: пол зала, в котором он происходил, был покрыт красивым красным ковром. В конце зала стоял ломберный стол с картами и зажженными свечами. Это полагалось по старой традиции. В зале расположился придворный оркестр в красных мундирах. “Куртаг” заключался в том, что государь и государыня, молодожены и старшие из присутствующих высочайших особ танцевали полонез. После каждого тура кавалеры меняли дам. У мужчин были карточки, на которых было написано, с кем они танцуют. Нетанцующие великие князья стояли в дверях зала, в том числе Иоанчик и я.
В один из дней свадебных торжеств в Большом дворце состоялся концерт и ужин, который был подан за отдельными столиками. Государь приказал сказать в нашем полку, что он наденет ментик в рукава. Поэтому все бывшие на концерте лейб-гусары были одеты так же. Я в первый раз в жизни был в такой форме, то есть в белом ментике, надетом в рукава, и в парадных чакчирах с золотыми галунами по бокам и спереди, причем спереди из галуна был сделан целый рисунок. Кроме того, мы были с саблей и ташкой и с шапкой с султаном.
На концерте пели артисты и артистки императорских театров: Смирнов, Кузнецова, Липковская и другие. Артистки были в парадных вечерних платьях и с причудливыми прическами. Все эти придворные торжества были для меня совершенным новшеством, и я наслаждался от души.
Затем в Зимнем дворце было “Baise main”, когда весь двор, свита, офицеры и т. д. приносили поздравления молодоженам. Я был самым младшим флигель-адъютантом и шел последним. Подойдя к Марии Павловне, надо было отвесить поклон, затем поцеловать ей руку и снова поклониться, затем поклониться герцогу, пожать ему руку и снова поклониться. Великий князь Павел Александрович просто поцеловал свою дочь и ее мужа. Шведский король между тем стоял как бы инкогнито у закрытых дверей зала, за молодыми. Мой отец встал вместе с ним, и мы с Иоанчиком тоже.
Через несколько дней принц Карл шведский был у нас в полку. Он завтракал в собрании, смотрел учебную команду и полковое ученье. Полк в конном строю выстроился на Софийском плацу, в доломанах, при полной боевой амуниции. Принц Карл был генерал-инспектором шведской кавалерии. Ему и его свите подали лошадей из придворной конюшни. Он сел на чистокровную лошадь, подъехал галопом к полку и поздоровался по-русски: “Здорово, братцы!” Он прекрасно выглядел верхом.
Наш полковой командир Воейков показал ученье на широких аллюрах и окончил его атакой. По окончании ученья полк прошел перед принцем церемониальным маршем. Я был на своем любимом Атамане.
В Павловске был устроен “семейный обед”, на который приехали иностранные гости. Обед был в большом бальном зале. Играли балалаечники Измайловского полка, и Мария Павловна танцевала русскую, а за ней и все начали танцевать. Государь танцевал польку – в первый и последний раз я видел его танцующим. К сожалению, не помню с кем.
Едва успели пройти свадебные торжества, как приехал к государю муж сестры испанского короля, баварский принц, служивший на испанской службе, инфант дон Фердинанд. Он привез государю мундир испанского уланского полка, шефом которого государь был назначен. Великий князь Борис Владимирович был назначен состоять при испанском принце.
В день большого обеда в честь принца мы с братьями ездили из Павловска в Петербург в Михайловский театр на дневное представление “Горя от ума” при участии артистов Московского Художественного театра. Фамусова играл Станиславский. Он был очень хорош. Софью играла Германова; ее игра и голос мне очень понравились. Замечательно красива была обстановка сцен. В первом действии комната была вся из карельской березы в стиле ампир.
Возвращались мы в Павловск в одном вагоне с великим князем Алексеем Александровичем. Он ехал в Царское Село на обед и оставался там ночевать. Мы всю дорогу разговаривали. Дядя Алексей был очень с нами мил. Почему-то, между прочим, мы говорили о Чехове. Я тоже помню, как дядя Алексей сказал, что в жизни следует все испытать. Он был очень похож на своего брата Александра III, но красивее его.
На обеде государь был в привезенной ему испанской уланской форме, которая оказалась очень некрасивой и ему не шла. В честь принца был устроен парад Царскосельскому гарнизону перед Большим дворцом. Войска были в лагерной парадной форме. Принц ехал рядом с государем. Меня перед прохождением поставили во второй эскадрон вместо глухого корнета Галла: боялись, что из-за своей глухоты он чего-нибудь не расслышит и напутает.
Я был на своем Приятеле, завода Зарудного. Он очень хорошо прошел перед государем. Дворцовый комендант Дедюлин потом хвалил мне его.
Глава X. 1908. Путешествия по Волге, в Москву и в Полтавскую губернию
В разгар полевых поездок с учебной командой мне, по желанию моего отца, пришлось взять отпуск, потому что вся моя семья, кроме матушки и двух младших детей, Георгия и Веры, отправлялась в путешествие по Волге для осмотра русских древностей.
Во время этой поездки мы посетили Тверь, Углич, Романов-Борисоглебск, Ярославль, Ростов Великий, Кострому, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и Москву. Путь был совершен от Твери до Нижнего на пароходе по Волге, затем от Нижнего до Москвы по железной дороге, а от Владимира до Боголюбова и Суздали – на лошадях. Вся дореформенная Русь глянула нам в глаза. Нас сопровождал В.Т. Георгиевский, знаток русской старины. Особенно тщательно осмотрели мы Ростовский кремль с его башнями и длинными переходами, с его обширным музеем, и Романовские палаты в Игнатьевском монастыре.
Полюбовавшись красотой Нижнего Новгорода и помолившись у гробниц Минина и Пожарского, мы отправились в бывшую столицу великого княжества Володимирского, древнестольный Владимир. Мы поднимались на хоры Успенского собора, где в 1237 году искала спасения вся великокняжеская семья. Здесь, как известно, все члены семьи великого князя вместе были задушены дымом и огнем костров, разведенных в храме татарами. Мы любовались архитектурой Успенского собора. В этот же день были подробно осмотрены исторические Золотые ворота, где происходила битва владимирских князей с татарами. Больше всех из нас проявлял интерес к древностям брат Олег. Он взбирался по древней лестнице внутрь стены Золотых ворот, на остатки помоста, с которого в древности лили кипяток, сыпали камни и пускали стрелы в осаждавших врагов. Он внимательно осматривал уцелевшие гнезда для балок помоста и, видимо, желал возможно яснее представить себе картину боя с татарами.
Будучи в Москве, мы осмотрели и ее и, конечно, побывали в знаменитой Третьяковской галерее. Мне особенно понравились картины Верещагина, изображавшие случаи из русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Очень сильное впечатление произвела на меня картина Репина, висевшая одна, в отдельной зале, и изображавшая убийство Иоанном Грозным своего сына. Я с трудом от нее оторвался. Незадолго до войны 1914 г. какой-то неуравновешенный человек разрезал эту картину ножом. Слава Богу, Репин был тогда еще жив и сам реставрировал свое чудесное произведение.
Вечером я побывал у всенощной в Успенском соборе в Кремле, в котором венчались на царство все наши цари. В Успенском соборе была традиция, по которой служившие в нем священники были басами. Они замечательно красиво вместе пели.
Окончив путешествие, я вернулся к своим занятиям: ко времени моего возвращения полк перешел уже в лагерь, и я снова, как и за год до этого, поселился в моем доме, в деревне Алякули.
С большим удовольствием вспоминаю я время, проведенное в учебной команде. В ней был замечательный дух благодаря ее начальнику штабс-ротмистру Гревсу, и я всегда потом с радостью встречал гусар, моих бывших воспитанников по команде. Гревс подарил мне на память о моей службе золотой с эмалью жетон в виде нашей гусарской ташки.
Летом 1908 года в Красном Селе на военном поле во время лагерного сбора был устроен пробег для офицеров кавалерии и конной артиллерии с препятствиями. Наш полк снова, как и в предыдущем году, взял приз. Смотреть на пробег собралось много публики, приехал и мой двоюродный брат, королевич Андрей Греческий – он был кавалерийским офицером у себя в Греции.
В последний день маневров и перед самым их окончанием я был послан ординарцем к командиру Гвардейского корпуса, генерал-лейтенанту Данилову. Он важно ехал по военному полю на своем рыжем драбанте в сопровождении большой свиты. Через некоторое время он меня подозвал и велел передать главнокомандующему о каком-то движении генерала Брусилова, который в этот день командовал корпусом кавалерии. Я поскакал в направлении, в котором должен был находиться великий князь Николай Николаевич. Был я на своем мерине Королевиче, завода Остроградского, с отвратительными движениями: он плохо шел галопом и его приходилось все время подбадривать. Наконец, я увидел полевого жандарма и спросил его, где находится великий князь, но он не дал мне определенного ответа. Вдруг я увидел громадную свиту и поскакал к ней. Во главе ее ехал государь и рядом с ним – Николай Николаевич. Я подскакал к Николаю Николаевичу и начал докладывать ему поручение генерала Данилова. Но Николай Николаевич велел мне докладывать государю. Я очень волновался и запыхался из-за моего несчастного мерина, который тяжело дышал. Передавая поручение генерала Данилова, я сказал: “Корпусный командир…” – но Николай Николаевич тотчас же переспросил меня: “Какой корпусный командир?” Я ответил ему. Когда я кончил доклад, он отпустил меня, велев ехать обратно шагом, должно быть, заметив, как тяжело дышит моя лошадь.
Я почему-то мечтал завести попугая какаду. Командующий полком полковник Воейков обещал мне его подарить, если я с ним поеду на охоту. Никто из нас никогда не был охотником. Отец и дяденька никогда не охотились и не любили охоты. Но я согласился и раздобыл охотничий костюм у одного из товарищей по полку. Раевский дал мне свою медвежью доху. Мы поехали на лошадях из Царского Села в Лисино, где была полковая охота. Лисино было в окрестностях Павловска. Наша компания состояла из командующего полком полковника Воейкова, штабс-ротмистров Звегинцева и Скалона, поручика Раевского, корнетов Кушелева, Трубникова, Волкова, Галла и меня. С нами был также художник Маковский. Последний часто бывал в полку и даже ездил с полком на маневры. Он написал для нашего полкового собрания большой портрет государя верхом.
Мы приехали в Лисино вечером и ночевали в полковом охотничьем домике; на следующий день встали рано. Были загоны, и Звегинцев выдавал нам номера по жребию, где кому стоять. Я убил несколько зайцев. Они кричали, как дети, когда в них попадали, и мне это не доставило никакой радости – наоборот!
Завтрак был в лесу. Вечером мы вернулись домой, и я подарил одного из зайцев нашей старой няне Ваве.
Воейков сдержал свое обещание и как-то вечером в собрании подарил мне прелестного какаду с розовой грудкой. Он сидел в большой клетке, и я поставил ее у себя в комнате, но, к сожалению, попугай оказался из молчаливых. Сестра Татиана однажды ласкала его, и он укусил ее – к счастью, не глубоко, но метка на лбу осталась на всю жизнь.
В октябре я поехал с дяденькой и его другом А.В. Короченцевым на дяденькин Дубровский конный завод, в Полтавскую губернию. Мы сели в поезд на станции Александровской, ехали в отдельном вагоне двое суток и утром приехали на станцию Дубровский конный завод. Здесь нас встретили управляющий заводом генерал Измайлов, известный на всю Россию знаток лошадей, и его помощник, дяденькин адъютант Кулаков.
Дяденька жил в небольшом доме, который назывался “дворцом”. Дом был совсем простой, очень уютный и удобный, с небольшим палисадником. В столовой висели гравюры и небольшие картины, изображавшие лошадей. На одной из них был изображен граф Орлов в небольших санках, правящий своим легендарным арабом – производителем Сметанкой. Дяденька говорил мне, что эти картины принадлежали раньше великому князю Николаю Николаевичу Старшему и висели на его Чесменском конном заводе.
Большую часть дня мы проводили на заводе. Дяденька постоянно делал выводки. Завод был рысистый и верховой. Дяденька не признавал метисов и выводил чистопородных орловских рысаков и верховых Орлово-Растопчинцев. У него был великолепный производитель Хваленый, получивший на бегах множество медалей; когда его выводили, на него надевали целую цепь из них. Кроме того, на заводе имелись также и чистопородные ардены.
На заводе существовала школа молодых наездников, которые выезжали верховых лошадей по системе известного Филлиса. Там же была своя школа ветеринаров и шорная мастерская, в которой дяденька как-то заказал для меня красивую выводную уздечку.
Завтракали и обедали мы в доме генерала Измайлова, у которого была очень милая жена. Она нас изумительно вкусно кормила. За завтраками и обедами обычно бывало много гостей, приезжавших на завод, между прочим, при нас приезжали управляющий Новоалександровским заводом Гротен и граф Нирод, управляющий Яновским заводом.
За завтраками и обедами бывало весело и оживленно. Сам дяденька ничего не пил, он все время говорил о заводе и лошадях. Гротен, человек лет семидесяти, был очень живой и энергичный старик с седыми усами и подусниками. Когда-то он служил в Гродненских гусарах и был эскадронным командиром у генерала Скобелева, о котором он, впрочем, отзывался как о плохом служаке. Как-то Гротен пришел вместе с нами в манеж, где наездники работали лошадей “в руках”, по системе Филлиса; Гротен очень этим заинтересовался, так как система Филлиса была для него новшеством. Он подошел к лошади и попробовал сам ее “поработать в руках”, несмотря на свой пожилой возраст.
Граф Нирод тоже был старик, несколько подслеповатый. Когда-то он был большим спортсменом и скакал на скачках. Он рассказывал интересные вещи, и я с упоением его слушал. Он любил рассказывать про императрицу Марию Федоровну, как однажды, будучи с императором Александром III в Польше, она скакала по очень неровной местности и так быстро, что сопровождавшие ее лица не могли за ней поспеть. Она была великолепной наездницей.
Помню из его рассказов, как однажды, во времена Александра II, были в Царском Селе скачки. Первый приз выиграл принц Альберт Саксен-Альтенбургский, двоюродный брат моей бабушки, служивший в то время в лейб-гусарах. Государь приехал на скачки после заезда, который был выигран принцем, и приказал повторить скачку. Принц снова шел первым, но, подходя к финишу, засмотрелся на какую-то даму, сидевшую на трибунах, зазевался, и приз достался графу Нироду.
Мы с дяденькой вернулись в Павловск в воскресенье, в самом начале ноября. На Александровской станции нас встретил Иоанчик и сообщил печальную весть о кончине великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала. Он умер от воспаления легких в Париже.
По случаю смерти дяди Алексея были панихиды, и одна из них – у государя, в Царском Селе. После панихиды великий князь Борис Владимирович сказал государю, что его отец, Владимир Александрович, очень огорчен смертью брата и был бы счастлив, если бы государь разрешил его сыну Кириллу Владимировичу (бывшему в немилости в это время) приехать на похороны. Государь согласился и снова пожаловал его флигель-адъютантом.
Часто зимой в экзерцирсхаузе (гарнизонный манеж) бывали парады по случаю полковых праздников разных полков, на которых я в качестве флигель-адъютанта должен был присутствовать, если бывал свободен от занятий. Обычно в манеже подходил ко мне придворный лакей и приглашал к высочайшему завтраку, после парада в Большом дворце. Однажды я по неопытности отказался от приглашения, сказав лакею, что я должен идти на занятия в эскадрон, но мне потом объяснили, что не имею права отказываться от высочайшего приглашения.
Приезжая, во дворец, я шел в комнаты, в которых накрывалась для государя закуска. Обыкновенно закуска подавалась в комнатах Александра I. Если парады бывали зимой на площадке перед Большим дворцом, то государь до закуски переодевался в соседней комнате. Обычно на этих завтраках бывал великий князь Николай Николаевич, как главнокомандующий нашим округом, государь с ним разговаривал, а я держался в стороне и молчал. Николай Николаевич держался с государем очень официально и на каждом шагу говорил ему “ваше величество”. После закуски государь, а за ним и мы, шли в большой зал, в котором стояли за столами приглашенные к завтраку начальствующие лица и офицеры полка, у которого был праздник. Меня обыкновенно сажали за один из круглых столов, а не за длинный стол, за которым сидел государь. Когда приходило время произнесения государем тоста за полк, против государя становился служивший в штабе генерал Княжевич. Таким образом напоминалось государю, что настало время для тоста. По окончании завтрака государь шел курить и пить кофе; великие князья шли за ним.
Тем временем все присутствующие переходили в соседний зал. Офицеры полка становились отдельной группой с командиром и полковниками на левом фланге, бывшие офицеры полка и начальствующие лица становились поодаль. Когда все оказывались на своих местах, открывались двери и выходил государь в сопровождении великих князей. Государь долго беседовал с офицерами полка, начиная со старших. Командир полка называл их по фамилиям; у государя была замечательная память и многих он знал. Он разговаривал с большой легкостью и всех очаровывал своей простотой и ласковой манерой, но в то же время вы всегда чувствовали, с кем говорите. Затем государь быстро обходил остальных, делал общий поклон и уходил по залам на подъезд, садился в экипаж и уезжал в Александровский дворец.
Офицеры бросались неудержимой толпой за государем. Пройти было невозможно, толпа не пускала.
12 декабря 1908 г. в последний раз в жизни видел я великого князя Владимира Александровича. Он приехал на парад Пажеского корпуса и лейб-гвардии Финляндского полка, в наш гарнизонный манеж, по случаю их праздников. Поздоровался с пажами и поздравил их. Затем поздоровался с финляндцами и тоже их поздравил.
Владимир Александрович в этот, как и в другие разы, произвел на меня очень глубокое впечатление, и его манера здороваться с войсками очень мне понравилась. Говорил он и держал себя с такой простотой и вместе с тем так величественно, что надо было родиться сыном Александра II и внуком Николая I, чтобы так себя держать. Через два месяца дяди Владимира не стало.
Глава XI. 1909. Серебряная свадьба родителей
15 апреля 1909 года исполнилось двадцать пять лет свадьбы моих родителей. На эту серебряную свадьбу приехал в Россию брат моей матушки, дядя Эрнест Саксен-Альтенбургский. Отец, дяденька, мои братья и я выехали его встречать на станцию царской ветки. На платформе был выстроен почетный караул и собрались лица свиты.
Дядя Эрнест приехал в сопровождении флигель-адъютанта Свечина, назначенного состоять при нем, а также своего альтенбургского гофмаршала. Не успел он приехать, как надо было спешить на богослужение в лютеранскую церковь Павловска. Матушка, выходя замуж, не перешла в православие и всю свою жизнь оставалась лютеранкой, поэтому накануне дня серебряной свадьбы было лютеранское богослужение.
После завтрака, днем, приехал великий князь Андрей Владимирович и привез подарок – серебряные тарелки от всего семейства. На обратной стороне каждой тарелки было выгравировано имя одного из членов царствующего дома.
Перед обедом, когда дядя Эрнест спустился из отведенных ему комнат “под куполом” – только что очень красиво отделанных, – он принес с собой два футляра. Я сразу решил, что это – альтенбургские ордена для Иоанчика и меня. Так и оказалось: один футляр он дал Иоанчику, а другой – мне. В них лежало по знаку 1-й степени Саксонского Эрнестинского ордена, со звездой. Мы, конечно, были очень счастливы этим.
Обед был в присутствии государя и государыни, торжественный и праздничный. Прежде чем сесть за стол, государь и государыня удалились с моими родителями в туалетную комнату рядом с парадной спальней императора Павла Петровича и благословили их образом. Кроме того, они подарили матушке брошь с большим аквамарином, окруженным бриллиантами. Аквамарин был любимым камнем императрицы Александры Федоровны.
Во время обеда играли прекрасные балалаечники Измайловского полка. После обеда Татиана, братья и я устроили собственный концерт в картинной галерее: мы дули в чайники, наполненные водой и таким образом очень прилично сыграли несколько вещей. После концерта государь и государыня уехали, а за ними спешно стали разъезжаться и другие.
На следующий день утром, в самый день серебряной свадьбы, когда родители вошли в кабинет, мы с Татианой сыграли им в четыре руки свадебный марш из “Лоэнгрина”, после чего мы все вместе пошли пить кофе в столовую. Мы поднесли родителям в этот день сделанные на серебре наши профили, вроде того, как императрица Мария Федоровна, жена императора Павла, нарисовала своих детей. Профили наши писал художник Рундальцев, остальное делал ювелир Фаберже.
Отец подарил матушке раскрашенные фотографии – свою и всех нас, детей, в серебряной раме, в стиле ампир. Кроме наших фотографий, в эту же раму были вставлены фотографии Мраморного, Павловского и Стрельнинского дворцов и дома в имении Осташево – то есть тех мест, где протекала жизнь моих родителей в течение 25 лет. А матушка подарила отцу свою и наши миниатюры.
Подарков было очень много: бабушка, дяденька, тетя Оля и тетя Вера подарили серебряную “бульетку” – для чая. Вышло какое-то недоразумение: предполагалось подарить серебряный самовар, но получилась вместо русского самовара – заморская “бульетка”. Ювелир Фаберже поднес моим родителям по платиновому обручальному кольцу, которые они с тех пор всегда носили.
Утром был торжественный молебен. Мы все были в парадной форме и альтенбургских лентах. После завтрака поехали в Петербург, в Мраморный дворец. Тут собралось множество народу. Залы во втором этаже, выходившие окнами на Дворцовую набережную, были переполнены депутациями и поздравителями. Дядя Эрнест, Татиана, братья и я шли непосредственно за родителями. Старшие в депутациях говорили речи. Преображенцы преподнесли родителям статуэтку Петра Великого, полковник Воейков – букет красных роз. Прием этот запомнился мне навсегда: родителям было оказано столько внимания, они увидели к себе столько любви. Тут можно было воочию убедиться, какой популярностью и каким уважением они пользовались!
Днем 17 апреля состоялся у нас в Павловске спектакль. Шла пьеса П.С. Соловьевой “Свадьба солнца и весны”. В ней приняло участие до пятидесяти детей, и в их числе – моя старшая сестра Татиана и мои братья – Константин, Олег и Игорь. Брат Олег подробно описал этот день в своем дневнике от 19 апреля (ему было в это время 16 лет).
“Вчера состоялся спектакль. Главные роли “солнца” и “весны” исполняли Татиана и Костя, роль зимнего ветра взял на себя Игорь, а я вышел в роли весеннего дождя. Кроме этих представителей весны и зимы, было множество ролей, как яблони, сирень, жаворонки, головастики, ласточки, снежинки и разные цветы. Все были одеты в очень красивые костюмы. Еще 12 апреля, в воскресенье, была сделана генеральная репетиция. Она сошла очень слабо, так что между днем самого спектакля и генеральной репетицией пришлось опять повторить пьесу, которая на этот раз сошла лучше. Все с нетерпением ждали 17-го числа, когда должно было состояться представление.
Вот наступил, наконец, этот день, и с двенадцатичасовым поездом стали собираться все актеры. Папа′ и мама′ пригласили к спектаклю государя, государыню, наследника и великих княжон. Все поочередно подходили к нам, спрашивая, будут ли их величества, и я всем отвечал: “будут”, так как знал, что государь любит разные представления. Мало-помалу все актеры надели свои костюмы, и когда все было готово, вышло приказание встать за кулисы. Выход зимнего ветра и танец снежинок должен был совершиться под музыку, а мне, весеннему дождю, надо было мелодекламировать. Но вдруг я узнал, что нашего музыканта, А.М. Миклашевского, еще нет и может быть придется начать без него. Всякий поймет волнение, охватившее меня при этом известии. Начались томительные минуты ожидания. Я несколько раз выбегал за кулисы, чтобы узнать, приехал ли Миклашевский, но всегда получал отрицательный ответ.
Откуда-то пришло известие о прибытии государя во дворец, которое шепотом передавалось от актера к актеру. До поднятия занавеса оставалось пять минут. Я почти с отчаянием выбежал в последний раз из-за кулис, чтобы узнать о прибытии Миклашевского, и вдруг с радостным лицом входит М.Н. Бухарин (тесть Н.Н. Ермолинского) и объявляет: “Миклашевский приехал!” У меня как камень с сердца свалился. В эту минуту я был бы в состоянии от радости заплакать, броситься на шею к М.Н. или сделать что-нибудь другое, невозможное… Возвратившись на сцену, я, конечно, не замедлил объявить радостную весть. С минуты на минуту должен был войти в залу государь. Всё на сцене было тихо. Изредка слышался шепот некоторых актеров и шушуканье других.
В это время мы услыхали шаги приближающегося царского семейства и загремела “Слава”. У всех нас от высокого наслаждения слышать эту русскую песнь, от чувства преданности государю, который находился тут же рядом и слушал ту же “Славу”, и от волнения перед игрой забегали мурашки по коже. Сделалось холодно… Забренчали балалайки и полились звуки наших родных русских песен. Куда я ни смотрел в это время за кулисы, где толпились играющие, везде видел актеров, отбивающих такт. Это делалось как-то машинально. Послышались последние аккорды балалайки. Вот сейчас поднимется занавес. Все начали креститься. Сестра и я внутренне молились. Раздался шум и занавес поднялся. Первая снежинка заговорила:
– Отчего нам стало скучно?
Вторая ей ответила:
– Что-то неблагополучно.
И вот пьеса пошла. Раздались аккорды, под которые должен был выбежать ветер, и вот вылетел с шумом Игорь, и я слышу, как он уверенно и громко говорит:
Пути мои далеки.
Я надуваю щеки,
Лечу, лечу, лечу…
В это время особой машиной изображается шум ветра. Игорь взбегает на холм и кричит:
Пляшите же, сестренки,
Кружитесь предо мной,
Я научу вас шмыгать,
Взлетать, кружиться, прыгать,
Я – брат ваш ледяной…
После этих слов снежинки начали одна за другой бегать по сцене под очень красивую музыку. Я слышу, что раздаются последние аккорды: сейчас мне надо будет выходить. На меня вдруг налетает какое-то торжественное настроение весеннего дождя… Я расправляю руки, с которых падают зеленовато-серебряные ленты, наподобие воды, и выхожу тихо и медленно на сцену. Все залито зеленоватым светом. Сначала я останавливаюсь у дерева и смотрю в ряды. Вот сидит государь в стрелковом мундире, государыня, и на ее коленях – маленький наследник. Мама нагнулась к государыне и что-то шепчет. Она меня не видит. Вот она откинулась, заметила меня и как будто вздрогнула. Все это, конечно, произошло в одно мгновение. Я иду и говорю под музыку:
Я к вам иду, иду я к вам.
Я краснею, чувствую близость государя, которого немного вижу. Вот дошла очередь до моего любимого места, которое я стараюсь сказать повышенным голосом:
Мои струи собьются с вами,
И над полями и лугами
Мы вознесемся к небесам…
В это время я всегда чувствовал, будто бы я действительно возносился высоко в голубое небо. Тот, кто бывал в деревне, поймет меня, если я скажу, что у меня было чувство “деревенское”, которое бывает в деревне в хорошую летнюю пору.
Кроме этих стихов, я очень любил мои последние слова, после которых должен был выйти Костя (солнце). Обращаясь к ветру, я говорю:
Но погляди: за мною
Лазурною тропою
Идет великий вождь!
В это время вышло Солнце в золотом костюме, и в рядах пошел шепот. После длинной речи, которую оно говорит, я ухожу за кулисы.
На представлении за кулисами было очень тесно. Кроме актеров, там стояли еще рабочие, которые поднимали на блоках заднюю движущуюся декорацию. Татиана, Игорь, Старицкий, Муханов и я были сценариусами. Итак, мне надо было толкаться между рабочими и актерами, чтобы всех вовремя посылать на сцену. В эти минуты я бывал всегда ужасно злым, так как приходилось толкать всех, торопить всех, отвечать на глупые вопросы всем и т. д. Я даже поругался с “сиренью”, с которой, конечно, мы помирились после представления. Она мне говорит: “Олег Константинович, ради Бога, уйдите отсюда, вы мне ужасно мешаете!” Через несколько мгновений она мне еще что-то сказала, а я ей ответил: “Да бросьте ко мне приставать!” Но в сущности она была права, так как я им ужасно мешал.
У нас, как я уже писал, в роли яблонь играли две девочки: Шидловская и Зернина. Мы их всегда очень изводили и спрашивали, кто из них древо познания добра и кто – древо познания зла. Обе отвечали, что они древо познания зла. Я очень любил их выход.
В общем представление сошло хорошо и публика была очень довольна. После этого играли французские актеры Andrieu и Paul Robert – очень смешную пьесу. Читала стихи Стрельская и было еще несколько номеров. Мне приходилось еще участвовать в двух живых картинах, в роли альтенбургской невесты и великой княгини Екатерины Павловны. Первая картина представляла сватовство русских витязей с альтенбургскими крестьянами, а вторая – семью императора Павла Петровича.
По окончании спектакля папа, мама и все приглашенные собрались в картинной галерее и ждали шествия цветов, жуков, птиц и других участвовавших в первой пьесе. Все они с цветами в руках проходили мимо папа и мама, причем клали цветы у их ног. Самые маленькие проделывали это настолько смешно, что все улыбались… По окончании шествия всех позвали обедать. В шести залах стояли круглые столы, за которыми сидели дети, их матери и много других приглашенных. Нам, то есть Татиане, Косте и мне, хотелось устроить такой стол, чтобы никого из больших за ним не сидело, а сидели бы только мы и самые симпатичные дети…
Вскоре все задвигали стульями и надо было прощаться. Это всегда так грустно! За эти репетиции и представление все так сошлись, всем было так весело! И вот теперь все это кончилось, и кончилось навсегда! Все побежали переодеваться, чтобы поспеть на экстренный восьмичасовой поезд. Я бегу на квартиру к Н.Н. Ермолинскому, чтобы тоже переодеться, и встречаю там Макса (Муханова). Мы с ним очень подружились за последнее время. Я его схватил, поцеловал и сказал: “Спасибо тебе, Макс, что ты так помогал нам и что так хорошо исполнил свою роль!”
Я побежал на большой подъезд, откуда все отъезжали. Гости говорили, что им тоже жалко, что всё кончилось. Меня одна девочка даже остановила и сказала: “Кланяйтесь Татиане Константиновне, Константину Константиновичу и Игорю Константиновичу, скажите им, что было очень весело, и поблагодарите их!”
Все уехали, я пошел в залу, где стоит наша сцена, и показалось мне, что тут сделалось так грустно. Я взошел на подмостки. Везде беспорядок. Лежат декорации, стружки, стулья. Между мусором я нашел ветку какого-то цветка, кажется, ветку одной из яблонь. Я улыбнулся, поднял ее и ушел”.
Глава XII. 1910
В Швейцарию после воспаления легких – На Корфу у тети Оли, королевы греческой – После консилиума врачей я ухожу в бессрочный отпуск и уезжаю на кумыс в Оренбург – Сестра Татиана влюбляется в князя Константина Багратион-Мухранского
С 4 по 5 мая я был дежурным по полку и по нездоровью чувствовал себя не в своей тарелке. Ночью я даже не обходил полка. Вернувшись после дежурства домой, я почувствовал себя скверно и на следующий день не послал на высочайший выход по случаю дня ангела государя, а слег в постель. У меня оказалось воспаление легких.
Лечил меня наш домашний врач Д.А. Муринов. Отец был в это время в служебной поездке, чуть ли не в Туркестане, и матушка не писала ему о моей болезни, чтобы не волновать его. Когда я начал поправляться, мне было разрешено сидеть в кресле на балконе. Погода была чудесная.
Хотя я постепенно и поправлялся, но врачи все же решили отправить меня в Швейцарию. Дяденька стоял за Финляндию. В некоторых отношениях это было бы, конечно, лучше, потому что я оставался бы в пределах России и мои близкие легко могли бы меня навещать. Но мне лично очень хотелось уехать за границу. Со мной, в качестве ментора, поехал Тинтин и доктор Д.А. Соколов, по прозванию Букса.
Я протелеграфировал государю, который в то время плавал на яхте “ Штандарт”, в шхерах, прося его разрешить мне уехать в 11-месячный отпуск за границу. Государь ответил утвердительно.
В день отъезда на станции Александровской железной дороги провожали меня родители, дяденька, братья и Татиана, а также наши домашние. Из лагеря приехали на автомобиле офицеры 4-го эскадрона. Если бы я в то время знал, что с моим отъездом оканчивалась, в сущности, моя служба в полку! Впоследствии я служил лишь периодами и, в конце концов, ушел из строя по слабости здоровья. Но в то время я уезжал, окрыленный надеждой через 11 месяцев вернуться в полк.
В Берлине мы втроем, Тинтин, Букса и я, погуляли по улицам между двумя поездами, а приехав в Швейцарию, поселились в местечке Бюргеншток, на озере Четырех Кантонов. От озера до Бюргенштока вела цепная железная дорога. Бюргеншток был нам знаком всем троим: десять лет тому назад мы провели здесь несколько недель вместе с моими братьями и сестрой Татианой.
Я быстро поправлялся, живя на большой высоте и в прекрасном воздухе. Мы делали прогулки, и я даже играл в теннис. Но Букса запрещал мне много играть. Как всегда бывает в таких случаях, завелись знакомые: известный петербургский врач по накожным болезням Манасеин с дочерью, почтенная русская дама со своей племянницей Дворжицкой, девицей уже в годах. Ее дядя был полицмейстером Петербурга 1 марта 1881 года, когда император Александр II был смертельно ранен бомбой нигилиста. В санях Дворжицкого Александр II был привезен в Зимний дворец. В нашей же гостинице жил профессор пения грек Критикос. Его дочь очень хорошо пела и дала концерт в большой гостинице, в Бюргенштоке. Я взял у Критикоса несколько уроков пения. Он учил меня петь арию Ирода из оперы “Иродиада”.
Прожив положенное время в Бюргенштоке, мы поехали в санаторию Шатцальп, над Давосом. Из Давоса в санаторию идет цепная железная дорога, здание санатории громадное, с дивным видом на окрестности. Мне отвели прекрасную комнату с балконом, и я сперва пользовался большой свободой, несмотря на строгие правила. Старшего врача, доктора Неймана, не было, и его замещал младший врач.
Конечно, я быстро перезнакомился с пациентами, не слишком серьезно больными, пользовавшимися, как и я сам, сравнительной свободой. Я подружился со шведом Рольфом Демаре и русским швейцарцем Штудером. Все трое мы увлекались крокетом. Но когда приехал из отпуска старший врач, моей свободе настал конец. Нейман прописал мне строгий режим: все утро и часть дня я должен был проводить лежа на балконе и несколько раз в день мерить температуру. За мое почти девятимесячное пребывание в санатории у меня, однако, ни разу не повысилась температура.
Завтракал я и обедал в общей столовой, за отдельным столиком, как и большинство лечившихся, вечер проводил в гостиной. Мне никогда не было скучно, и я был доволен судьбой. Лежа на балконе, я много читал и писал письма. Я не был болен, но должен был поправить легкое от бывшего в нем воспаления и окрепнуть.
Пробыл я в Шатцальпе девять месяцев, пора было думать об отъезде. За мной приехал Р.Ю. Минкельде, служивший при нашем дворе, и мы поехали с ним в Лозанну. Когда он уехал обратно в Россию, оставив меня в Лозанне, я почувствовал себя очень одиноко, до такой степени я не был приучен к тому, чтобы жить одному!
Я объехал все Женевское озеро, побывал в Женеве, Эвиане – в те счастливые времена никаких виз и паспортов не требовалось и можно было проехаться по территории Франции. Прожив в местечке Ко, я через Италию выехал в Грецию, к тете Оле. Переночевав в Венеции, я на следующее утро выехал в Триест и через два дня был на Корфу.
Мой двоюродный брат, королевич Христофор, подъехал к нашему пароходу на лодочке и привез меня во дворец, который стоял на берегу. Я сразу попал в объятия дорогой моей и горячо любимой тети Оли, а идя во дворец, мы встретились с греческим королем Георгом I и его сестрой, английской королевой Александрой (женой Эдуарда VII), которая жила на своей яхте “Виктория и Альберт”.
Дядя Вилли выглядел очень моложаво, несмотря на то, что в те времена ему было 59 лет. Королева Александра была очень красива и тоже выглядела моложе своих лет. У нее была фигура, как у молодой девушки. В первый раз мне пришлось видеть ее за шестнадцать лет до этого, когда в 1894 году она приезжала в Петергоф на свадьбу великой княгини Ксении Александровны. Она очень много снимала тогда, и, несмотря на длиннейшую катушку для снимков, этой катушки все-таки не хватило. Королева Александра была в сильной степени глуха и с ней было трудно разговаривать.
Во дворце, на лестнице, я встретился с очень симпатичной и веселой принцессой Викторией, дочерью Эдуарда VII. Ее окружали тоже веселые и оживленные мои греческие двоюродные братья Николай и Андрей.
Поместили меня в прекрасной комнате. По утрам мы все вместе пили кофе в столовой: тетя Оля, король, королевичи, их жены и я. Тетя Оля сама разливала кофе. Все греческое семейство было очень дружное и жило в мире и согласии.
Королева Александра и принцесса Виктория каждый день завтракали с нами во дворце. После завтрака мы все, в нескольких автомобилях, катались по Корфу. Это исключительной красоты остров. Каждый день мы ездили по живописнейшим местам. Обыкновенно я сидел в автомобиле, которым правил королевич Андрей. Несмотря на сильную близорукость, он правил прекрасно. На Корфу местность очень гористая и нам все время приходилось ехать по горным дорогам, с очень крутыми поворотами, которые зачастую невозможно было взять сразу и приходилось давать задний ход. При этом автомобиль приближался к краю обрыва и тетя Оля боялась. Король греческий и королева английская обычно ехали впереди нас.
Обедали мы ежедневно на яхте “Виктория и Альберт”. Мужчины надевали к обеду смокинги, а дамы – вечерние платья. Один лишь король бывал в английской адмиральской форме, в короткой вечерней куртке со звездой ордена Подвязки. К пристани, перед дворцом, подавался английский военный катер, на котором мы и ехали на яхту, он же отвозил нас обратно.
В столовой яхты накрывался длинный стол, украшенный цветами. Один из английских придворных держал в руках папку с воткнутыми в нее карточками с обозначением имен приглашенных и указывал им, куда садиться. В первый же вечер я спутал свое место и сел не туда, отчего вышел небольшой конфуз – случилось это от моей чрезмерной стеснительности.
К обеду мы шли торжественно, ведя под руку каждый свою даму, под звуки греческого и английского гимнов, – и так бывало каждый день. Лакеи были одеты в красные ливреи, были подтянуты и стилизованы.
После обеда почти все усаживались за бридж, но так как я не играл, то мне приходилось разговаривать с английскими придворными.
Королеве Александре пришлось спешно уехать с Корфу, когда она получила известие о серьезной болезни Эдуарда VII. Она успела вернуться в Англию перед самой смертью английского короля.
Мне кажется, что мы все еще были на Корфу, когда пришла весть о смерти. Вскоре после этого мы с тетей Олей переехали в Афины.
Я очень был дружен с библиотекарем короля, Стюкером, и часто заходил к нему. Он был забавный и веселый. Я знал его еще с 1898 года, когда, будучи воспитателем моих двоюродных братьев, Андрея и Христофора, он в первый раз приехал в Россию. Когда тетя Оля приезжала в Россию, она и ее семья считались гостями государя. Поэтому Стюкер в каждый свой приезд получал орден, а так как он одно время приезжал каждый год, то у него накопилось несколько русских орденов. Он много видел на своем веку; в России он гостил не только у нас, но и у государыни Марии Федоровны, в Гатчине, и у великого князя Сергея Александровича, в имении Ильинское, под Москвой. Дядя Сергей подарил Стюкеру Красивую посеребренную дугу для троечной запряжки. Он также бывал в Дании, у короля и королевы Датских, знал много интересного и умел занятно рассказывать.
Когда я вернулся в Петербург, через несколько дней после моего приезда в Мраморном дворце состоялся консилиум врачей. Они нашли, что состояние моего здоровья не позволяет мне служить в строю, и направили меня в Оренбургскую губернию пить кумыс. Мне пришлось поехать к государю и просить его отпустить меня в бессрочный отпуск. Я приехал к нему в воскресенье, до обедни, и он отпустил меня. Вернувшись домой, в Павловск, я сразу же пошел в церковь, отец был уже там. Я подошел к нему и сказал, что государь отпустил меня в бессрочный отпуск. Мне показалось, что отец был не в духе и что мое сообщение ему не по душе.
На следующий день я поехал в полк и доложил старшему полковнику Г.И. Шевичу (полковник Воейков в это время был в отпуску), что государь отпустил меня в бессрочный отпуск. Шевич тоже остался недоволен.
В это время у нас дома часто говорили о корнете Кавалергардского полка князе Багратион-Мухранском. Он приезжал к нам в Павловск и катался на лодке с сестрой Татианой. Все были от него в восторге. Татиана и Багратион влюбились друг в друга и решили жениться. Но отец и матушка были категорически против этой свадьбы, так как Багратион считался не равного с Татианой происхождения. Отец потребовал, чтобы Багратион покинул Петербург. Тогда Багратион уехал в Тифлис в ожидании прикомандирования в Тегеран к казачьей части, бывшей в конвое у шаха Персидского. Татиана была в отчаянии и серьезно заболела. У нее болела спина от удара, который она получила, катаясь в Павловске на санках, привязанных к розвальням. На нее налетел барон Буксгевден, преподаватель немецкого языка моих братьев и большой их приятель. Татианино горе совпало с ее болезнью. Она долго лежала и не могла ходить. Зимой ее выносили на балкон греться на солнышке.
В комнате с пилястрами, в которой жила Татиана, висел образ Божьей Матери в профиль в синем покрывале. Императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, любила молиться перед этим образом и скопировала его. Копия висела в другой комнате. Татиана заметила, что молитвы исполняются, когда перед этим образом помолишься. Она молилась, чтобы Багратион вернулся и они поженились. Отец сказал Татиане, что она должна знать, что по закону этот брак недопустим. В семействе стали подниматься голоса о желательности изменения этого закона, и государь сказал матушке: “Я три месяца мучился и не мог решиться спросить мама, а без ее санкции я не хотел предпринимать что-либо. Наконец, я ей сказал про Татиану и Багратиона, о предполагаемых семейных советах для решения этого вопроса и о возможном изменении закона. Я боялся, что она скажет, а она ответила (при этом государь изображал, как Мария Федоровна говорит своим низким голосом): “Давно пора переменить”. Напрасно я три месяца мучился”.
Матушка очень грустила о Татиане и не знала, что придумать, чтобы ей доставить удовольствие. Она послала свою камер-фрау Шадевиц купить для Татианы книжку о Грузии. Ей дали единственное, что было: маленькую беленькую брошюру грузинолога профессора Марра: “Царица Тамара или время расцвета Грузии. ХП век”. Профессор Марр в ней защищает царицу Тамару от общепринятого о ней понятия, будто она была не строгих правил, и повествует о том, как никогда, ни до, ни после, Грузия не доходила до такого расцвета во всех областях своей жизни: поэзии, музыки, строительства и государственного управления. Он отмечал нищелюбие царицы, ее заботу о церквах, которые она снабжала книгами, утварью, ризами…
Прочитав эту брошюру, Татиана полюбила святую и блаженную царицу Тамару, помолилась ей, любившей и защищавшей Грузию, за ее прямого потомка – князя Константина Багратиона. И вскоре государь разрешил Багратиону вернуться и увидаться с Татианой в Крыму.
1 мая 1911 года в Ореандской церкви, построенной моим дедом, был отслужен молебен по случаю помолвки Татианы и Багратиона. Этот день был днем празднования св. царицы Тамары, о чем знала одна Татиана.
В 1946 г. митрополит Анастасий, постригая в Женеве Татиану, дал ей совершенно неожиданное имя Тамары. Теперь она неразрывно связана со своей небесной покровительницей.
Получив разрешение государя, я выехал в Оренбург на кумыс. Я ехал с подъесаулом Васильковским и его женой, сначала через Москву, а потом – по Волге до Самары. Путешествие было восхитительное. Погода стояла идеальная. Красивые, живописные виды сменялись один за другим; мы проезжали мимо старых монастырей и церквей, в некоторых из них я был за два года перед этим, когда с родными путешествовал по Волге. Кормили нас чудесно.
В Казани мы сошли с парохода и поехали осматривать город, главным образом его святыни. В то время, когда мы осматривали старинный Кремль, появился молодой вице-губернатор с рыжей бородой. Он только недавно был назначен в Казанскую губернию и ничего о ней не знал. На мои вопросы он не мог отвечать и только хихикал в бороду, повторяя, что он только недавно на своем посту и еще ничего не знает.
Командующий войсками Казанского военного округа был генерал Сандецкий, известный своей невероятной строгостью и грубостью. Узнав, что я в Казани, он прислал в мое распоряжение офицера. Генерала Сандецкого так боялись солдаты, что во время производимых им смотров некоторым из них становилось дурно.
Осмотрев Казань, мы снова сели на пароход и доехали до Самары, где пересели на поезд и поехали в Оренбург, который был столицей Оренбургского казачьего войска. В нем одновременно жили наказный атаман Оренбургского казачьего войска и губернатор.
Позавтракав на станции, мы поехали на лошадях на “Кумыс Каррика”, то есть в степь, где были разбросаны небольшие деревянные домики для лечившихся кумысом. Кажется, ехать надо было часа два-три. Я поселился в одном из таких домиков, в нем было три комнаты: две – моих и одна – моего камердинера. Каррик был не то англичанин, не то шотландец, он был хозяином и собственником этого кумысного заведения. Большого роста, симпатичный, он ходил в шотландской шапочке. Васильковский был уже на кумысе Каррика за год перед тем и поэтому знал, как надо пить кумыс. Питье это начиналось с самого утра и постепенно увеличивалось. Его приносили в больших бутылках, как из-под шампанского, вкус у него сладковатый и пить его тяжело, а, в конце концов, и противно. От него часто тошнило, но на это не обращалось внимания.
От кумыса я стал сильно полнеть, так что пришлось выписать себе из Петербурга новые, более широкие штаны и сапоги – голенища стали жать. Я каждый день прибавлял в весе и посылал об этом сообщения в Петербург П.Е. Кеппену, который был душой всей жизни нашей семьи и, конечно, очень интересовался результатами моего лечения кумысом.
Я познакомился с местным уездным начальником, и мы с Васильковским и с ним как-то ездили к киргизам, ночевали втроем в киргизской юрте и присутствовали на киргизских скачках, в которых принимали участие старые, толстые киргизы. Я устроил на кумысе народный праздник с разными играми и состязаниями и раздавал призы. Окончился народный праздник скачками. Скакала куча народу, в ужасной пыли. Мой шофер Сильванович почему-то непременно пожелал участвовать в этой скачке и болтался где-то в толпе, понятия не имея о верховой езде.
Я провел на кумысе чуть ли не два месяца. Накануне отъезда из Оренбурга мы с Васильковскими переночевали в доме войскового атамана. Самого атамана не было и принимал нас его сын, кадет одного из двух оренбургских кадетских корпусов. Он прекрасно справился со своей задачей.
На вокзал мы приехали, окруженные конвоем оренбургских казаков. Меня провожало много народа и даже хор оренбургских трубачей. Мне с Васильковскими дали салон-вагон, к которому была прицеплена платформа, на которой стоял мой автомобиль, покрытый брезентом. Я поехал в наше подмосковное Осташево.
Глава XIII. 1910—1911
Мой брат Олег первым из членов Императорского дома поступает в Александровский лицей. Я присоединяюсь к нему – Петербургские театры – Шаляпин встает на колени – Литературно-музыкальные субботники в Павловске
В это время брат Константин был произведен в офицеры. Он вышел в лейб-гвардии Измайловский полк, который всегда так нежно любил мой отец. Он приехал в Осташево вскоре после меня. Там же в это лето находился и другой мой брат, Олег, только что, весной 1910 года, окончивший Полоцкий кадетский корпус. Олег мечтал поступить с осени в Императорский Александровский лицей для получения высшего образования.
У нас дома одни были за лицей, а другие – против. Инициатором поступления Олега в лицей был Н.Н. Ермолинский (воспитатель трех младших братьев), который был новатором в их жизни и проводил свои взгляды в их воспитании и образовании. Что касается воспитания, то он считал, что они должны быть самостоятельнее, чем мы с Иоанчиком, когда учились. Что же касается образования, то Ермолинский находил, что Олег, как способный человек, должен получить высшее образование, и нисколько не смущался тем, что лицей – гражданское заведение, и что до сих пор ни один член Императорского дома не носил гражданского мундира. Сам Олег не стремился на военную службу, он гораздо больше интересовался литературой и музыкой. Я лично тоже стоял за то, чтобы Олег поступил в лицей.
Олег был дружен с Н.Н. Ермолинским, и последний понимал, что Олег незаурядный человек, и всячески содействовал его развитию и образованию. Они вместе играли в четыре руки, увлекаясь музыкой. Олег много читал, и Ермолинский знакомил его с интересными и образованными людьми, могущими отвечать на его запросы. Ермолинский, повторяю, понимал, что нельзя нас было так воспитывать, как это делалось до его поступления к моим братьям. Нас воспитывали очень далеко от жизни и давали нам очень мало свободы. Поэтому, когда мы с Иоанчиком поступили в полки, нам было нелегко. Взгляды Ермолинского не сходились со взглядами дяденьки, который, несмотря на свои воспитательские способности, придерживался старых взглядов.
Благодаря Ермолинскому Костя, а за ним и Игорь, поступили в Пажеский корпус, в специальные классы. Поступление моих братьев в Пажеский корпус тоже было новшеством, так как не было принято, чтобы члены императорской фамилии были пажами. Конечно, ни Костя, ни Игорь не носили на высочайших выходах шлейфы великих княгинь.
Мой отец и дяденька, и дядя Вячеслав Константинович, другой брат моего отца, числились в Морском училище, как и Кирилл Владимирович, Александр и Алексей Михайловичи. Андрей Владимирович и Сергей Михайлович числились в Михайловском артиллерийском училище, но все они учились дома и только на некоторые занятия ездили в училища. Так было и с братом Константином. Но когда Игорь поступил в Пажеский корпус, он был приходящим в полном смысле этого слова. Как и везде, в корпусе его очень любили, он был на “ты” со своими товарищами и на совершенно равном с ними положении. Я считаю, что так и должно было быть. Жизнь идет вперед и не может оставаться в одних и тех же формах. Дети императора Николая Павловича, как Александр II, мой дед, и великие князья Николай и Михаил Николаевичи были в свое время как бы полубоги: в то время они были единственными великими князьями на всю Россию. Их дети, как мой отец и дяди, конечно, занимали высокое положение, но уже иное, чем их отцы, так как великих князей было уже много. А их внуки, как мы, хотя и были в исключительном положении, но уже опять по-иному, чем наши отцы и деды.
Перейдя на третий курс лицея, Олег больше не учился дома, а ездил на все занятия в лицей, будучи приходящим. Почему-то все же не решались позволить Олегу и Игорю жить в своих учебных заведениях. Член императорской фамилии прежде всего – человек и потому должен знать жизнь, чтобы ее понимать, а для этого он должен не бежать от людей, а, наоборот, быть среди них.
Привожу выдержку из книги “Князь Олег”:
Новая воспитательная система поставила себе вполне определенные задачи. “С сотню лет тому назад, – читаем в одной записке, поданной моему отцу, – жизнь текла спокойно и медленно. Барин-вотчинник, выезжая, например, по делам в столицу, уже за месяц до отъезда начинал собираться: вытаскивались с антресолей сундуки, красились форейторские седла, неторопливо обдумывались поручения, покупки, и тут же записывались ровным, спокойным почерком… Потом шла длинная, бесконечная дорога, подолгу останавливались на почтовых станциях и терпеливо ожидали перемены лошадей или починки экипажа… Во всем, что делалось, не было заметно ни тени торопливости: художник просиживал над картиной по 30 лет, писатели писали шеститомные романы; переписчики сами себе точили перья, прежде чем покрывать чистый лист мелким и вычурным почерком; сенные девушки пряли и ткали вручную под аккомпанемент песен. Повсюду шла работа прочная, но медлительная… В наши дни, чтобы собраться в путешествие на край света, достаточно часа. Из окна летящего с головокружительной быстротой поезда или мотора вы не успеваете различить окрестности. Остановки на станциях уже редкость. Усадебной жизни почти нет. Поместья сменены дачами и курортами. Художники на полотне успевают давать только настроения или впечатления от природы. Литература с шеститомного романа перешла на коротенькую повесть. Гусиное перо сменилось пишущей машинкой, письмо – телефоном, ручная работа – фабричным производством, и все человечество торопится, летит, как будто продолжительность его жизни сократилась на три четверти”.
Этот быстро несущийся поток жизни в связи с усложнившимися общественными и экономическими условиями, в связи с борьбой различных классов между собой, несомненно должен был ставить новые задачи в вопросах воспитания моих братьев.
“Прежде всего, – читаем в той же записке, – нельзя забывать, что их высочества переступают порог юности с особыми правами и при наличности особо благоприятных условий существования. Со дня совершеннолетия, имея почти все русские знаки отличия и с этих же пор вполне обеспеченные материально, они не только могут, но, по словам Императора Николая I, обязаны оправдать в глазах Монарха и народа свои исключительные права и привилегии. Ведь они стоят так высоко, так на виду, что вся Россия знает их жизнь, повторяет их слова, даже часто следует их примеру. Кто, как не они, при наличии материальной обеспеченности и всех знаков отличия, полученных еще в юности, могут явиться для государя “без лести преданными”? Кто, как не они, так высоко стоящие над толпою, обязаны явить собою пример людей, окупивших громадные, дарованные им права, еще большими великими делами? Общество ждет от них этого и надеется”.
Ермолинскому казалось, что братьям, вследствие особых условий их уклада жизни, не хватает знания России в ее целом, не хватает ясных, твердых ответов на многие запросы времени, не хватает, наконец, может быть, – воли. В самом деле: лишений они не знают, толпы близко не видят, а с окружающими людьми столкновений обычно не испытывают, горячих споров не ведут. Все эти неблагоприятные условия решено было, по возможности, устранить или смягчить.
10 мая 1910 года состоялось официальное зачисление Олега в Императорский Александровский лицей. Государь разрешил ему носить лицейский мундир. Таким образом, и мечты Олега, и намерения ведавших его воспитанием и образованием осуществились.
Олег оказался первым из членов Императорского дома, поступившим до военной службы в высшее гражданское учебное заведение. Император Александр I предполагал поместить в Царскосельский лицей своих младших братьев, но это в силу разных причин не осуществилось. Но, увы, Олег первые два года не мог учиться в самом лицее – он должен был слушать лекции на дому, в Павловске, потому что вследствие перенесенного воспаления легких пребывание в Петербурге могло оказаться для его здоровья роковым. Врачи согласились только на одно: предоставить Олегу возможность держать экзамены в стенах лицея, вместе с товарищами.
И горю, и гневу Олега не было границ. Но, как бы то ни было, перед волей врачей пришлось склониться и к началу учебного года занятия были устроены в Павловске.
Вскоре после начала занятий я присоединился к Олегу для слушания лекций. Я числился в это время в отпуску по болезни, и так как не мог служить, решил получить высшее образование. Отец вызвал к себе моего командира полка, генерала Воейкова, и объявил ему об этом. Мне кажется, что Воейков был недоволен: он зачастую меня впоследствии подразнивал лицеем.
Занятия науками не заполняли всего моего свободного времени. После 11-месячного отпуска, вернувшись домой, я хотя и поселился в Павловске, но стал довольно часто ездить в Петербург. В первые два года моей службы я даже не мог ездить в театр, и теперь я старался нагнать потерянное. Я стал ездить на спектакли, особенно – в балет.
Как-то перед тем, как ехать в театр, я обедал в Мраморном дворце у сестры моего отца тети Веры (герцогини Вюртембергской), в так называемой “семейной” комнате. Она называлась так, потому что в ней висела большая картина, изображавшая моего прадеда, герцога Иосифа Саксен-Альтенбургского, с его четырьмя дочерьми. В этой комнате тетя Вера всегда останавливалась, когда приезжала в Петербург. Мы обедали вдвоем. В разговоре она между прочим сказала, что считает грехом посещать театры. Она была своеобразным человеком, очень религиозным, но, не поняв духа православия, в котором родилась, она на старости лет перешла в лютеранство.
Бывая в Мариинском театре, мы, младшие члены императорской фамилии, сидели в верхней боковой царской ложе, как нам было указано через министра двора. Нижняя ложа предоставлялась более старшим членам семейства. В ней также садился всегда государь и обе императрицы. В Большой средней царской ложе государь и лица императорской фамилии никогда не сидели, кроме парадных спектаклей, что случалось очень редко. Так, государь, государыня и старшие великие князья и великие княгини сидели в этой ложе в день парадного спектакля по случаю трехсотлетия царствования дома Романовых.
В начале 1911 года в Мариинском театре шел “Борис Годунов”. Годунова пел Шаляпин. Обе боковые императорские ложи были полны лиц Императорского дома. Приехали государь с дочерьми и императрица Мария Федоровна. Государь, государыня и великие княжны сидели в нижней ложе, а также и члены Императорского дома постарше. Те же, кто были помоложе, сидели в верхней ложе, как мои братья и я, Дмитрий Павлович и А.Г. Лейхтенбергский. Почему-то великий князь Николай Николаевич и его жена тоже пришли в нашу ложу.
Когда окончился первый акт и начались аплодисменты, совершенно неожиданно поднялся занавес и мы увидели артистов, участвовавших в опере, стоявших живописной группой. Среди них возвышалась громадная фигура Шаляпина в древнем царском одеянии. Повернувшись лицом к царской ложе, они запели “Боже, царя храни”. Весь переполненный театр встал, как один человек. В этот же момент все артисты и Шаляпин опустились на колени. Вся публика запела гимн вместе с ними. Картина была потрясающая. Зал был охвачен невероятным энтузиазмом, он гудел от “ура”.
Какая была причина манифестации? Оказалось, что хор оперы обращался с какой-то просьбой к директору Императорских театров Теляковскому, но удовлетворения не получил. Тогда хор решил обратиться прямо к государю. Чтобы подкрепить свою просьбу, он прибег к манифестации и был поддержан старшими артистами. Но в момент манифестации публике не были еще известны настоящие ее причины. Государь велел исполнить просьбу артистов.
Из всех лиц императорской фамилии Дмитрий Павлович ближе всех стоял к государю и его семье. После смерти великого князя Сергея Александровича (у которого он жил с сестрой после свадьбы отца) государь приблизил его к себе, и одно время Дмитрий жил в Царском Селе, в Большом дворце, под его крылышком. Будучи своим человеком у государя, Дмитрий ходил в антрактах в нижнюю ложу; нас же дома учили, что если в нижней ложе находится государь, то пока он нас не позовет, не спускаться. Так, по крайней мере, было во времена Александра III, но я все же решил спуститься. В нижней аванложе стояли в это время мои дяди Георгий и Сергей Михайловичи и о чем-то разговаривали. Государь, государыня и все остальные, бывшие внизу, находились в самой ложе. Георгий Михайлович сказал мне спокойным тоном: “В наше время без приглашения государя не входили в его ложу”. Я ответил не менее спокойно, что если бы я сам не пришел, то мне пришлось бы в антрактах оставаться одному наверху.
Александр III звал к себе в ложу во время антрактов членов семейства, находившихся в верхней ложе; он вообще держал себя ближе к семейству, чем император Николай II. Я не помню случая, чтобы государь позвал нас к себе в ложу, но он, по-видимому, ничего не имел против того, чтобы мы приходили вниз без предварительного с его стороны приглашения.
Когда мы вернулись наверх, мы все были в очень веселом настроении и заперли дверь нашей аванложи, так что жена великого князя Николая Николаевича, тетя Стана, долго не могла в нее войти. Она стояла у двери, сердилась и требовала, чтобы мы ее открыли. В конце концов, мы впустили ее. К счастью для нас, Николай Николаевич этого не увидел, иначе нам бы страшно от него попало.
Приблизительно раз в месяц я бывал дежурным флигель-адъютантом. Раза два мне пришлось во время дежурства сопровождать государя в Петербург, в Мариинский театр. Однажды это совпало с концертом инвалидов. Эти концерты в пользу инвалидов давались после Отечественной войны ежегодно и так продолжалось сто лет подряд. Концерт давали соединенные хоры музыкантов и трубачей Гвардейского корпуса, поэтому музыканты были в своих разнообразных формах, что было очень красиво. Рампа большой сцены была уставлена касками, киверами и шапками гвардейских полков; по старой традиции, еще со времен Александра I, государь надевал на этот концерт мундир лейб-гвардии Драгунского полка, потому что лейб-драгуны были сформированы во время Отечественной войны в 1814 году. В антракте государь раздавал призы музыкантам.
В ноябре 1910 года у нас в Павловске начались так называемые “субботники”, то есть литературно-музыкальные вечера, происходившие на квартире Н.Н. Ермолинского по субботам. Целью “субботников” было, с одной стороны – ознакомление с произведениями наших писателей XIX века в художественном чтении, с другой – с произведениями иностранных композиторов. Всех участников приглашено было до сорока, причем было установлено, что никто из них не может быть только слушателем или, как говорили мои братья, “трутнем”, – все присутствующие на вечерах должны были выступать в качестве исполнителей: декламаторов, пианистов или певцов, по желанию. Братья следили строго, чтобы это требование выполнялось участниками, и ему, действительно, подчинялись все. Отец почти всегда посещал эти собрания, принимая участие в чтении художественных произведений и иногда сообщая неопубликованные материалы из переписки тех или других писателей.
Перед первым субботником была разослана всем участникам следующая программа:
Эта программа, разосланная заблаговременно, давала участникам субботников возможность выбирать произведения по своему вкусу и достаточно времени, чтобы подготовиться к их исполнению.
Изредка мои братья и я выступали на субботниках, чтобы прочесть то или иное литературное произведение. Из всех нас только один Олег выступал и как чтец, и как пианист, и как мелодекламатор.
Между прочим, в этих субботниках принимал участие квартет Кедровых, состоявший из братьев Николая и Константина Николаевичей Кедровых (сыновей Стрельнинского придворного священника), Чупрынникова и Сафонова. Н.Н. Кедров был профессором консерватории, К.Н. Кедров – псаломщиком Аничкова дворца, а Чупрынников и Сафонов – артистами Императорской оперы. Чупрынников прекрасно пел в опере “Садко” арию индийского гостя. С Н.Н. Кедровым приезжала его жена, С.Н. Гладкая, хорошая певица. Иной раз приезжала заслуженная артистка оперы Каменская, она была уже в отставке, но пела еще отлично, с большим мастерством. Также прекрасно пели и Сандра Белинг, и г-жа Одинцова. Первая была замужем за служившим в придворном оркестре Белингом, а вторая – за адъютантом Николаевского кавалерийского училища ротмистром Одинцовым. Бывал также известный драматический артист В.Н. Давыдов. Он замечательно декламировал. Вообще на субботниках можно было встретить известных артистов и разных образованных людей, придававших этим вечерам большой художественный интерес.
Зимой 1910–1911 г. у нас в Павловске состоялся любительский спектакль, в котором принимали участие великий князь Борис Владимирович, моя сестра Татиана, мой брат Константин, я сам и другие лица. Кроме пьесы, название которой я теперь забыл, шла также сцена в келье Чудова монастыря в исполнении Олега и Игоря. Олег играл Пимена. Он весь ушел в роль летописца. Я с удовольствием вспоминаю это время и репетиции, на которых всегда бывало весело.
Глава XIV. 1910—1911
Георгиевский парад в Зимнем дворце – Я зачислен офицером – Экзамены в лицее – В Ессентуках – Смерть бабушки Александры Иосифовны – Свадьба Иоанчика с принцессой Еленой и Татианы с князем Багратионом – Трюфели в шампанском
26 ноября состоялся Георгиевский парад в Зимнем дворце. После парада и семейного завтрака государь поехал в Народный дом, на Петербургской стороне, где был завтрак для Георгиевских кавалеров из нижних чинов. Отец тоже поехал туда и взял с собой Иоанчика, Костю и меня. Государя встретил принц А.П. Ольденбургский, который стоял во главе Народного дома. Столы для Георгиевских кавалеров были расставлены по всему дому. Нижние чины 14-й роты Преображенского полка под командой своего ротного командира капитана Шульгина наблюдали за порядком. Шефом этой роты был принц А.П. Ольденбургский.
Государь выпил чарку за здоровье Георгиевских кавалеров, а принц – за здоровье государя.
Принц Ольденбургский был человеком выдающейся энергии, строгий и вспыльчивый. Он был замечательным организатором, и его кипучая деятельность принесла много пользы России.
Вечером в Зимнем дворце состоялся традиционный обед для Георгиевских кавалеров – офицеров. Перед обедом великий князь Николай Николаевич телефонировал государю, что он не может приехать, потому что заболел ангиной.
Мой отец всегда ездил на георгиевские обеды. Однажды, в царствование Александра III, перед георгиевским обедом государь его спросил, почему нет матушки, которая была утром на выходе? Матушка в тот год была в ожидании. Отец ответил, что ей нездоровится. Государь остался недоволен и заметил, что в таком случае матушке не следовало приезжать и на выход. Государь Александр III был очень строг с семейством. Однажды он посадил под арест великого князя Николая Михайловича за то, что тот ехал мимо Аничкова дворца на захудалом извозчике, развалясь, с сигарой в зубах. Государь увидел его в окно. Николай Михайлович любил так ездить.
Император Николай II был другой: мягкий, чуткий, внимательный. Помню, однажды во время закуски перед завтраком, после одного из выходов, он оцарапал себе палец до крови об иголку, забытую портным в его мундире. Николай Николаевич ему посоветовал помочить палец водкой, и он тотчас это сделал.
За одним из таких завтраков зашел разговор о столкновении, происшедшем между нашими уланами, стоявшими на прусской границе, и прусской кавалерией. Совершенно не помню, почему и как произошло это столкновение. Николай Николаевич, не любивший немцев, был очень доволен, что мы им “наклали”, и выразил надежду, что “в будущей войне мы им тоже накладем”.
6 декабря 1910 г. утром Костин камердинер Крюков разбудил нас и поздравил с монаршей милостью: зачислением в списки лейб-гвардии 4-го Стрелкового императорской фамилии полка, об этом он прочел в “Инвалиде”, в котором печатались высочайшие приказы. В стрелки были зачислены Иоанчик, Костя и я. Легко можно себе представить нашу радость!
Мы поехали по магазинам офицерских вещей искать себе стрелковые погоны, петлицы, портупеи и т. д. Магазины по случаю праздника были закрыты, и нам пришлось в них входить через задний ход. Наконец мы кое-что нашли. Я надел мундир и малиновую рубашку отца. Иоанчик, Костя и я поехали в Царское Село вместе с Николаем Николаевичем и принцем П.А. Ольденбургским. В Царском Селе я предложил им обоим сесть в мой автомобиль, но Николай Николаевич отнесся к нему недоверчиво и предпочел ехать в придворной карете.
Я в первый раз был в собрании стрелков императорской фамилии. Их собрание было очень уютное. На обед приехал государь и удивился, откуда у нас стрелковая форма. После обеда стали пить чарочки. Пришлось, к моему ужасу, пить и мне. Чарочка была большая, серебряная, наполненная шампанским. Взяв чарочку, надо было поклониться государю и выпить ее до дна. Я не люблю шампанского, не могу пить его быстро и с трудом одолел большую чарочку. Очень неприятно пить из серебряной чарочки. Из стекла пьется гораздо легче.
В мае начались у нас с Олегом лицейские переходные экзамены с первого на второй курс. Мы подготовлялись к ним с помощью наших профессоров. Первый экзамен был по римскому праву. В этот день мы поехали с Олегом в Петербург в Киевское подворье, где митрополит Киевский Флавиан отслужил для нас молебен, а затем – в часовню Спасителя, на Петербургской стороне, и только потом уже – в лицей. На Троицком мосту мы повстречались с похоронами и решили, что это – хорошая примета.
Олег держал экзамен со своим классом, а я отдельно. Мы оба хорошо выдержали и получили полный балл, к большому нашему удивлению, так же как и к удивлению профессора Б.В. Никольского. Признаюсь, мы были в восторге. После экзамена мы снова поехали в часовню Спасителя, помолились и поблагодарили Бога за оказанную нам помощь. С тех пор мы каждый раз ездили в часовню до и после экзамена.
Если не ошибаюсь, вторым экзаменом был экзамен по статистике, и мы готовились к нему под руководством профессора, сенатора Власия Тимофеевича Судейкина. Экзамен пришелся в день Ангела нашего отца, 21 мая. Мы с Олегом решили подарить отцу серебряный портсигар и просили ювелира Фаберже прислать несколько портсигаров на выбор. Их прислали как раз, когда мы готовились с Судейкиным к экзаменам, поэтому пришлось выбирать при нем. Власий Тимофеевич был человек прижимистый и сказал нам: “Il faut marchander” [нужно поторговаться]. Нам очень понравилось это выражение, тем более что торговаться с Фаберже нам приходилось. И мы часто потом повторяли эти слова.
Той же весной должен был идти в Царском Селе, в Китайском театре, спектакль “Измайловского досуга”. Измайловские офицеры, и в их числе мой отец, должны были играть “Принцессу Грезу” Ростана. Я тоже должен был играть в этой пьесе и изображать “рыцаря зеленых лат”. Я участвовал в репетициях, но потом заболел корью и не мог принять участие в самом спектакле, который, впрочем, пришлось отменить по случаю смерти мужа сестры моей матушки.
Когда я выздоровел, меня отправили на кавказские минеральные воды, в Ессентуки. Перед отъездом я зашел к генералу П.Е. Кеппену проститься. Он был очень болен, еле держался на ногах. У него был рак, от которого он и умер в августе месяце. Очень тяжело было видеть нашего дорогого Павку в таком состоянии. Это оказалось нашим последним свиданием на этом свете.
В Ессентуках я поселился в санатории Азау, во главе которой стоял доктор с польской фамилией. Он запретил мне курить и назначил воды, которые я должен был пить. У меня была прекрасная комната с балконом и спальня. Кормили нас очень недурно. По утрам я ходил в парк, в котором были источники, и проделывал курс лечения. Автомобиль мне сильно облегчал передвижения, и я делал большие и интересные прогулки.
Одно время в нашей санатории жил генерал Рузский с женой. Через шесть лет он принял участие в отречении государя. Тогда же он мне скорее нравился. Он рассказывал много любопытного о русско-японской войне и очень критиковал генерала Куропаткина, которого недолюбливал.
Приезжал со своей молодой женой и бывший военный министр генерал Редигер, рассказывавший тоже много интересного. Так, между прочим, он вспоминал, что когда бывал у государя с докладами, то государь, куривший папиросы в мундштуке, клал конец мундштука на особую бумажку перед пепельницей, чтобы выходящий из мундштука дым не портил письменного стола, – до такой степени он был аккуратен.
Относительно аккуратности государя я вспоминаю рассказ моей матушки о том, как государь ей однажды сказал, что у него такой порядок в письменном столе, что он может в темноте найти любую вещь, лежащую в ящиках.
В санатории, в Ессентуках, я познакомился с известной артисткой Петербургского Александринского театра Марией Александровной Потоцкой. Она долгое время жила с великим князем Николаем Николаевичем и очень страдала, когда он ее бросил. Это была красивая и интересная женщина и прекрасная артистка.
Там же я познакомился с известной исполнительницей русских песен Н.В. Плевицкой и с ее тщедушным мужем. Она была очень популярна в Петербурге. По происхождению она была простой крестьянкой, сумевшей, благодаря своему большому таланту, пробить себе дорогу. Кто мог в то время предположить, что она сыграет такую печальную роль в эмиграции в Париже и умрет в тюрьме!
В Ессентуках была станица терских казаков, и каждый день ко мне назначался казак-ординарец, который исполнял мои несложные поручения и носил телеграммы на почту. Тогда же я получил известие от Иоанчика и сербской принцессы Елены об их помолвке, – телеграмма была из Италии, из королевского замка Ракониджи. Иоанчик поехал в Италию в сопровождении Стюкера, бывшего воспитателя греческого королевича Христофора. Иоанчик и он несколько дней погостили у итальянских короля и королевы, где также гостила родная племянница королевы, дочь сербского короля Петра.
Итак, в нашем доме стали готовиться к двум свадьбам: сестры Татианы с кн. Багратионом и Иоанчика с принцессой Еленой.
В то время заболела в Петербурге моя бабушка Александра Иосифовна, 23 июня пришла телеграмма, что бабушка скончалась. С ней ушла в вечность целая эпоха. В России она прожила с 1847 года, то есть 64 года; она была на трех коронациях: Александра II в 1856 г., Александра III в 1883 г. и Николая II в 1896 г. Она застала конец славного царствования Николая I, который ее очень любил, и была близкой свидетельницей великих реформ Александра II.
При ее кончине присутствовало всё наше семейство и дяденька. Генерал Кеппен, узнав, что бабушке очень плохо, потребовал, чтобы его, умиравшего от рака, принесли в бабушкины комнаты. Он сидел рядом с ее спальней, в Малиновой столовой – он был ей предан буквально до гроба. Пока силы ему позволяли, он каждый день, даже по два раза в день, приходил к бабушке. С 1903 г. он, так же, как и бабушка, безвыездно жил в Мраморном дворце, в служебном доме. До этого он всюду, но только в России, сопровождал бабушку. Когда она переезжала в Стрельну или в Павловск, он следовал за нею. За границу же с бабушкой ездили или ее шталмейстер барон К.К. Буксгевден, или генерал А.А. Киреев. Генерал Киреев умер незадолго перед бабушкой в Павловском дворце, генерал же Кеппен – через полтора месяца после. Таким образом, одновременно с бабушкой отошли в вечность преданные ей люди, которые состояли при ней в продолжение многих лет.
Бабушку похоронили в Петропавловской крепости рядом с дедушкой, великим князем Константином Николаевичем. По другую сторону лежит великая княгиня Александра Николаевна, его любимая сестра. Дедушка завещал похоронить себя подле нее.
Вернувшись из Ессентуков и пробыв несколько дней в Стрельне, я поехал в Сестрорецк и поселился там в пансионе, так как близ него жил на даче профессор Б.В. Никольский, при помощи которого я собирался писать свое лицейское сочинение. Питался я у Никольских. Профессор был женат на дочери долголетнего редактора журнала “Исторический вестник” Шубинского. У них было два сына и одна дочь, которых родители воспитывали в вере, благочестии и монархических принципах. Все семейство было очень дружное.
Я провел недели две в Сестрорецке и уехал оттуда, сперва в Павловск, а затем – в Красное Село, на высочайший смотр войскам, стоявшим в Красносельском лагере.
На высочайшем смотру я впервые был в свите государя. Днем, после завтрака, были скачки на Красносельском скаковом круге в высочайшем присутствии. В одном из заездов участвовал великий князь Михаил Александрович, в том же заезде участвовал и кавалергард Косиковский, на родной сестре которого Михаил Александрович хотел когда-то жениться. Бедную Косиковскую отправили за границу. Михаил Александрович не выиграл скачки. Он вообще хорошо скакал и, будучи наследником, взял много первых призов (тогда у него была дивная лошадь), но уступал их приходившим вторыми. Конечно, злые языки говорили, что он приходил первым потому, что был наследником престола и что, стало быть, скакавшие уступали ему место. Но это неправда. Я знаю случай, когда с ним скакал конногренадер Шульц, который очень хотел его обогнать, но при всем своем желании не мог этого сделать. Михаил Александрович был вообще большим любителем спорта и гимнастики.
Я приехал в Петербург в день смерти генерала П.Е. Кеппена. Не стало нашего дорогого Павки! Более преданного и верного человека, каким был для нашего семейства Павел Егорович, я не встречал. Его отпевали в нашей домовой церкви, в Мраморном дворце, в которую он ходил в продолжение стольких лет. Мои братья и я сам несли его гроб по мраморной лестнице.
Отец, дяденька и я с братьями провожали гроб пешком до самой могилы на Смоленском кладбище. Вместе с нами за гробом шли жених моей сестры кн. Багратион-Мухранский, Тинтин, служащие Мраморного дворца, родственники Кеппена и его друзья.
Во дворе Мраморного дворца я увидел старого служащего ювелира Фаберже с большой белой бородой, который пришел проводить Павла Егоровича. Он пользовался уважением у всех наших поставщиков. Но не только у них. Когда граф И.И. Воронцов-Дашков ушел с поста министра двора, он приехал к Павлу Егоровичу с прощальным визитом.
Павел Егорович завещал похоронить себя без всяких воинских почестей, хотя он и был генералом от артиллерии, но ничего общего со строевыми частями не имел. Он также просил, чтобы не было венков и цветов. Это был глубоко принципиальный человек. Когда гроб опускали в могилу, принесли венок от великого князя Петра Николаевича, который часто бывал и жил в нашем доме в молодости и поэтому знал Павла Егоровича. Нас очень тронуло внимание дяди Петюши.
21 августа состоялась свадьба Иоанчика в большом Петергофском дворце. За два дня до свадьбы, то есть 19-го, приехал в Петергоф принц Петр Черногорский, двоюродный брат невесты Иоанчика. Отец, по приказанию государя, встречал его на станции царской ветки. Я поехал в Петергоф на встречу вместе с отцом.
На станции собрались лица свиты и был выстроен почетный караул. Принц Петр был небольшого роста, с черными усиками и довольно красивый. Он очень скромно себя держал. Отец вместе с принцем и мною поехал к государю во дворец, в Александрию. Они поднялись к государю, а я остался ждать внизу. Прием у государя продолжался недолго, и мы вдвоем с отцом вернулись обратно в Стрельну.
Того же числа днем приехал в Петергоф сербский король Петр вместе с невестой Иоанчика принцессой Еленой Петровной, и с наследником королевичем Александром, будущим королем-героем Александром Югославским.
Отец, матушка, тетя Оля, мои братья и я поехали встречать его на ту же станцию. На станции собралось все семейство и много народа. На платформе был выстроен караул от лейб-гвардии Измайловского полка, который был как бы нашим семейным полком.
Государь был в сербской ленте с бриллиантовой звездой. Иоанчик выехал заранее навстречу королю и своей невесте и приехал вместе с ними, в царском поезде.
Король вместе с государем обошел караул и поздоровался с ним. Иоанчик в поезде учил короля, как надо обходить караул и как с ним здороваться. После взаимных приветствий и представлений государь сел с королем в коляску и поехал в Александрию в Готическую церковь на молебен в сопровождении собственного его величества конвоя. Командир конвоя князь Ю. Трубецкой ехал подле колеса царского выезда с вынутой шашкой.
Государыня поехала вместе с принцессой Еленой за государем и королем, в коляске. Мы все поехали за ними в своих автомобилях, что было некрасиво и нарушало торжественную картину въезда. Иоанчик ехал один в своем открытом сером автомобиле. По дороге стояли шпалерами нижние чины Конвоя собственного его величества Сводного пехотного полка и Петергофского гарнизона, без оружия.
В тот же день вечером состоялся в большом Петергофском дворце торжественный обед в честь сербского короля.
Сербский король пожаловал дяденьке, Косте и мне орден Карагеоргиевичей 1-й степени, то есть красную ленту с белыми каймами и звезду.
Обед был в Петровском зале. Как всегда в таких случаях, стол, стоящий покоем, был замечательно красиво накрыт; играл придворный оркестр. Государь и король обменялись речами. Мне кажется, что государь говорил по-русски, как всегда очень просто, без всякой позы, но с громадным достоинством. Он упомянул в своей речи Иоанчика, что мне было очень приятно.
За каждым членом семейства стоял паж.
В день семейного обеда я был дежурным флигель-адъютантом. В этот день утром к государю приезжал с докладом военный министр генерал Сухомлинов, а также князь А.Г. Романовский герцог Лейхтенбергский, по случаю своего приезда из-за границы. Он специально приехал на свадьбу Иоанчика, который пригласил его своим шафером. В ожидании приема мы сидели втроем в гостиной рядом с кабинетом государя.
Как всегда, я был приглашен к высочайшему завтраку, за которым, кроме царской семьи, был гостивший у их величеств принц Коннаутский. Он был рыжий, хромал на одну ногу и не производил симпатичного впечатления. Он был очень хорошо одет в синий костюм с белой полоской. Кажется, он приезжал свататься к одной из великих княжон, но из этого ничего не вышло: царские дочери были глубоко русскими и не желали выходить замуж за иностранцев. В 1914 г. приезжал с этою же целью румынский наследник, но также не имел успеха.
После завтрака государь с детьми, Коннаутский и я вышли в сад и пошли на мол, который был перед дворцом. В сущности, дворец государя скорее походил на частный дом – небольшой и скромно обставленный.
Наконец, наступил день Иоанчиковой свадьбы. Она назначена была на 21 августа в три часа дня. Отец, Иоанчик и я приехали вместе в большой Петергофский дворец и вышли у маленького подъезда со стороны верхнего сада. Все семейство собралось в Белом зале, рядом с которым государь и тетя Оля благословили Иоанчика. Императрица Александра Федоровна плохо себя чувствовала и не могла присутствовать при венчании, но все же она присутствовала при благословении. Она была в диадеме с жемчугами, в широком кружевном платье и, как всегда, была замечательно красива. Императрица Мария Федоровна не была на свадьбе, потому что находилась за границей.
Великие князья Николай и Петр Николаевичи, как и их жены, не были на свадьбе и ни на одном из связанных с нею торжеств, так как они не хотели встречаться с сербским королем по политическим причинам.
Великий князь Михаил Александрович не был на семейном обеде потому, что Николай Николаевич запретил начальникам частей отлучаться с бывших в то время маневров. Поэтому на свадьбе было меньше офицеров, чем обыкновенно бывало на придворных свадьбах. Присутствовал, между прочим, среди гостей принц сиамский Чакрабон, как раз в то время приехавший в Россию. Орден Андрея Первозванного, висевший на надетой на нем Андреевской цепи, был без изображения св. Андрея Первозванного и потому странно выглядел. Объясняется это тем, что Чакрабон не был христианином.
Семилетний наследник Алексей Николаевич был в этот день в первый раз в офицерском мундире. Он был прелестен в форме Стрелков императорской фамилии. Младшие великие княжны, также в первый раз надевшие русские придворные платья – белые с розовыми цветочками, но без шлейфов, и розовые кокошники, – были очаровательны.
Невеста была, как полагалось, в русском платье из серебряной парчи, но без традиционной бриллиантовой короны, потому что Иоанчик не был великим князем. Не понимаю, почему надо было делать такую разницу. В церковь мы пошли торжественным шествием. Маленький, прелестный наследник шел с одной из своих маленьких сестер. Их пара была обворожительна и трогательна.
В церкви государь встал, как всегда в Петергофе, у окон, с левой стороны. Мои родители и я стояли справа. Шаферами у Иоанчика были: великие князья Михаил Александрович, Дмитрий Павлович, Сергей Михайлович, Сандро Лейхтенбергский и я; у невесты – сербский наследник Александр, принц Петр Черногорский и мои братья Константин, Олег и Игорь.
По церковным правилам жених во время венчания должен быть без оружия, но на придворных свадьбах оружие почему-то не снималось. Иоанчик, желая точно придерживаться церковных правил и, должно быть, с разрешения государя, снял палаш. Я его подал Иоанчику перед выходом из церкви.
Во время пения “Тебе Бога хвалим” у Елены Петровны очень сильно заболела спина, должно быть, от тяжелого подвенечного убора. Она даже вся скривилась. Я боялся, что ей станет дурно, но все сошло благополучно. Вечером в тот же день в Стрельне был обед, на который приехали сербский король и королевич, а также шафера.
Обед был в Турецком зале. В Стрельне не было электричества, и потому в люстры, висевшие в зале, были вставлены свечи. Во время обеда свечи стали падать на пол, одна за другой. Нам это было очень неприятно. Попадало много свечей. Теперь, после того как произошла революция и Иоанчик пал одной из ее многочисленных жертв, можно считать падение свечей плохим предзнаменованием, но вряд ли тогда это приходило кому-нибудь в голову.
После обеда я с родителями, сестрой Татианой и братьями уехал обратно в Павловск. Молодые поехали вдвоем. В Павловске, на большом подъезде дворца, была устроена торжественная встреча молодых. На подъезде собралось много народа и управляющий Павловском генерал Геринг поднес Иоанчику и Елене хлеб-соль. Во втором этаже, в ротонде, был красиво накрыт чай. Он продолжался недолго, и вскоре мы разошлись по своим комнатам. Молодым отвели помещение в одной из двух квартир под куполом.
24 августа все семейство во главе с их величествами и царскими дочерьми приехало на свадьбу Татианы и Багратиона. Кроме семейства, на свадьбе было много приглашенных. Семейство собиралось в кабинете императора Павла.
Татиана была в красивом белом платье с серебром и шлейфом, в Екатерининской ленте и с бриллиантовой звездой. На голове у нее, вместе с “fleurs d’orange”, была надета бриллиантовая диадема. Татиана прекрасно выглядела.
Когда ее благословили, – причем, как принято, мы на благословении не присутствовали, – все семейство, во главе с их величествами, пошло по залам в церковь. Это было вроде выхода. Так как свадьба была полувысочайшая, великие княгини и дамы были не в русских платьях, а в городских. Но мужчины были в парадной форме.
Во время церковных служб мы обыкновенно стояли на хорах церкви, а посторонняя публика внизу. Но во время свадьбы мы все стояли внизу, посторонней же публики не было. Мои братья – Константин, Олег, Игорь – и я были шаферами Татианы, а шаферами Багратиона были кавалергарды во главе с полковником Араповым (Анди).
Поздравление происходило в Большом зале. Государь разговаривал с приглашенными. Он подошел к старой княгине Багратион-Мухранской, тетке Кости Багратиона. Она всегда жила в Тифлисе, была богата, всеми уважаема и строга: ее побаивались. Государь, разговаривая с ней, стоял, а она сидела на диване, подле окна, конечно, с разрешения государя. Я никогда не забуду этой картины, как дама сидела, а самодержец всероссийский в белом кавалергардском мундире стоял перед ней. Государь был с ней очень любезен и обворожителен.
Свадебный обед был в Греческой зале. Я сидел рядом с моей свояченицей Еленой Петровной. Она была очень изящна в золотом платье-декольте и диадеме. На обеде, кроме нашей семьи и самых близких нам людей, были семья Багратиона и его шаферы.
Подавали, между прочим, трюфели в шампанском, любимое блюдо отца. Редко приходилось, даже в те счастливые времена, обедать в такой обстановке. Такого красивого дворца, каким был Павловский, я никогда не видел.
Татиана с мужем поместились в Татиановых же девичьих комнатах, подле зала с пилястрами.
Глава XV. 1911
Останься Столыпин жив, революции в России не было бы – В Мисхоре в Крыму – Эмир Бухарский – Генерал-фельдмаршал Милютин – Авиационная школа в Севастополе – Экзамены в лицее, завтраки в полку
Живя в Павловске, я часто бывал у Васильковского на одной из Матросских улиц, на которой он жил со своей женой, тестем Губовичем и свояченицей. Васильковский дал мне мысль поехать в Крым, на виноградное лечение. Перед нашим отъездом произошло убийство в Киеве председателя Совета Министров П.А. Столыпина. Смерть Столыпина была громадной потерей для России. Останься он жив, не было бы, по всей вероятности, революции. Потому-то и убили его революционеры, что он вел Россию по пути процветания. В Екатерининском соборе, в Царском Селе, была отслужена торжественная панихида, на которой я присутствовал. Было очень много народа, и священник сказал трогательное слово.
Итак, я поехал с Васильковским в Мисхор, в пансион, где мы наняли несколько комнат. Предварительно я отправил в Севастополь свой автомобиль. Как приятно подъезжать к Севастополю после двух ночей, проведенных в поезде, когда показывается Черное море и светит южное солнце. На душе становится так легко и весело.
В прежнее время, когда мы ездили в Крым под началом полковника Бородина, мы из Севастополя отправлялись в Ливадию на лошадях и приезжали вечером, в темноте, очень усталые. Но теперь, благодаря автомобилю, мы часа через три были уже на месте. Большое удовольствие во время пути очутиться у Байдарских ворот, откуда совершенно неожиданно открывается чудный вид на море.
Император Александр II, уезжая из Крыма осенью 1880 года, завтракал у Байдарских ворот с княгиней Юрьевской, на которой только что женился. Он в последний раз в своей жизни любовался дивным видом. Через полгода он был убит революционерами.
Когда мы приехали с Васильковским в Мисхор, государь был в Ливадии, поэтому на следующий день я поехал явиться. Государь жил в только что выстроенном новом Ливадийском дворце.
Он встретил меня очень ласково: “Какой сюрприз!” – сказал он. Я никогда, ни до, ни после, не видел государя в таком хорошем настроении. Государь принял меня в своем большом новом кабинете с балконом, очень светлом и с видом на море. Большой письменный стол стоял посреди комнаты. Государь вышел со мной на балкон и показал мне, какой с него открывается чудный вид.
Новый Ливадийский дворец был довольно красивый и очень светлый; к сожалению, он был некрасиво меблирован.
Мне было приятно снова побывать в Ливадии, в которой я провел два учебных года, и увидеть знакомые места. В общем, все оставалось по-старому, кроме нового дворца, который Ливадию только украсил. Управляющий имением был тот же, генерал Янов, и сторож у ворот, со стороны Ореанды, с большой рыжей бородой, был тот же, который был и при нас.
Мисхор находится рядом с Алупкой, которую я так люблю. Конечно, я снова осматривал Алупкинский дворец, и показывал его все тот же пожилой татарин, у которого были часы с портретом великого князя Николая Николаевича Старшего. Мы с Васильковскими очень часто гуляли по дивному Алупкинскому парку, и я от души наслаждался. Погода стояла чудесная.
Мы ездили с визитом к княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой, в тот самый дом, в котором Татиана была объявлена невестой князя Багратиона.
Мы как-то обедали у Юсуповых. Они жили по-царски. За стулом княгини стоял расшитый золотом татарин и менял ей блюда. Мне помнится, что стол был очень красиво накрыт и что были очень красивые тарелки датского фарфора. В столовой было большое зеркальное окно с прекрасным видом на Ай-Петри.
После обеда мужчины сели играть в бридж, а я остался разговаривать с княгиней и другими дамами. Я томился, потому что все темы быстро были исчерпаны.
В это время в Ялте жил эмир Бухарский, который ходил в халате с генеральскими эполетами и свитскими аксельбантами. Я поехал к нему с визитом на его собственную дачу, посидел у него и пригласил его к себе в Мисхор. В условленный день я послал за эмиром автомобиль и для торжественности посадил рядом с шофером моего камердинера Рымаря. Эмир приехал со своим доктором, худым стариком, и с состоявшим при нем офицером. Последний произвел на меня отвратительное впечатление. Не помню, чем я угощал эмира, полагалось его угощать “дастарханом”. Мои камердинер и шофер получили от эмира медали и были очень этим довольны.
В Симеизе, вблизи Мисхора, жил престарелый генерал-фельдмаршал граф Милютин, пробывший военным министром в течение почти всего царствования императора Александра II. Мне очень хотелось с ним познакомиться. Я написал ему письмо, прося его меня принять. В назначенный день мы с Васильковским явились к графу Милютину. Ему было девяносто с лишком лет, но он был еще бодр и, к моему большому смущению, сам пододвинул мне кресло. Он был седой, как лунь, с небольшой бородкой, в новой генерал-адъютантской тужурке с вензелями императора Александра II и фельдмаршальскими жезлами на погонах. Мы сидели у него в кабинете-библиотеке. Мне помнится, что говорили мы и о моем дяде, которого он прекрасно знал, заседая много лет подряд в государственном Совете под его председательством.
Я сидел, устремив глаза на Милютина, чтобы как следует его рассмотреть: ведь я сидел перед начальником штаба Кавказской армии, который в 1859 году взял Гуниб и пленил Шамиля, перед деятельным сотрудником Царя-Освободителя, реорганизовавшего нашу армию, перед человеком, которого не сможет обойти историк царствования Александра II!
Через месяц после моего визита Милютина не стало. Как я счастлив, что мне удалось его повидать и перекинуться с ним несколькими словами! Милютин умер одновременно со своей женой, и их хоронили вместе. После смерти Александра II Милютин ушел с поста военного министра и с тех пор безвыездно жил в своем имении в Симеизе. Обстановка его дома была очень скромная. Он приезжал в Москву на коронацию императора Николая II и на открытие памятника Александру II в Москве в 1898 году и тогда был произведен в генерал-фельдмаршалы.
Перед отъездом из Крыма следовало откланяться государю. Я поехал в Ливадию и просил доложить о себе, но государя не было дома, он совершал большую прогулку. Меня позвала к себе государыня и оставила завтракать. Никогда еще со мной не случалось, чтобы государь или государыня оставляли меня завтракать невзначай. Поэтому я был чрезвычайно тронут вниманием царицы. Она была очень в духе и очень мила со мной. Мы завтракали наверху, в маленькой столовой. Я помню, что в столовой, над дверью, висела гравюра, изображавшая встречу царя Соломона с царицей Савской.
На обратном пути из Мисхора в Севастополь мы ехали очень быстро. В Севастополе отправились в гостиницу Киста, в которой позавтракали. Там мы встретились с полковником Генерального штаба Одинцовым, начальником авиационной школы в Севастополе. Он предложил нам осмотреть его школу. Я охотно согласился. Школа была за городом. После осмотра мне предложили полетать на аэроплане. Я с радостью принял это заманчивое предложение.
Пришлось снять саблю и вместо фуражки надеть шлем. Аэроплан был совсем открытый, и меня привязали к сиденью. Пилотом был известный летчик Ефимов. Было немножко страшно, но очень приятно. Мы поднялись на шестьсот метров и пролетели над кладбищем, по направлению к которому двигалась похоронная процессия. Я хотел перекреститься, но было страшно отнять руку от жердочки, за которую я держался, но я все-таки перекрестился. В воздухе мы встретились с другим аэропланом, на котором летел флигель-адъютант Е.К. Арсеньев. Он приехал в Севастополь, чтобы ехать в Ливадию дежурить. Ему, как и мне, предложили попробовать полетать на аэроплане. Я вижу его сидящим на аэроплане в красных флигель-адъютантских лампасах. Когда Ефимов стал спускаться, у меня захватило дух, как на качелях. Я был в восторге, что мне удалось полетать.
Неприятно возвращаться осенью из Крыма в Петербург. Из тепла – в сырой, хмурый петербургский климат.
Мне снова надо было приниматься за ученье. Олег очень успешно перешел с первого курса на второй и продолжал по-прежнему заниматься с профессорами в Павловске. Мне же нужно было сдать еще много экзаменов из-за кори, которой я болел весной и которая помешала мне их сдать своевременно.
Поэтому, по рекомендации профессора Никольского, я пригласил себе репетитора, бывшего правоведа Н.М. фон Мензенкампфа, который каждый день приезжал ко мне в Павловск. Таким образом, я успешно сдал все экзамены за первый курс лицея. Когда я бывал готов к очередному экзамену, я телеграфировал директору лицея генералу Шильдеру, и он назначал мне день экзамена. Перед экзаменом и после я каждый раз заезжал в часовню Спасителя на Петербургской стороне.
Перейдя, таким образом, на второй курс, я и дальше придерживался той же системы, то есть просто готовился к экзаменам с Мензенкампфом в то время, как Олегу профессора читали лекции. Я сдавал экзамены среди учебного года, когда хотел, а Олег в положенное время, вместе со своим курсом.
В это время к Олегу приезжал читать лекции министр юстиции Щегловитов. Он завтракал вместе с нами у моих родителей. Я помню, что однажды за завтраком он показывал нам фотографию убийцы Столыпина Богрова, снятого во фраке, то есть в том виде, в каком он совершил убийство в театре, в Киеве.
Мензенкампф приезжал ко мне по утрам, а остальное время я был свободен. Обыкновенно я каждый день ездил завтракать в полк, куда меня очень тянуло. Мои мысли и интересы были в полку. Но я твердо решил дотянуть лямку до конца, то есть окончить курс Императорского Александровского лицея. После завтрака я всегда ездил верхом. Часто я отправлялся в Петербург, бывал у Васильковских и в театрах.
Бывая ежедневно в полку, я ближе подошел к своим товарищам и вопреки моим прежним взглядам перешел с ними на “ты”. Я почувствовал, что иначе и быть не может, что, если я хочу быть действительно близок к ним, я должен быть с ними на “ты”, чтобы не было между нами никаких преград: все они были на “ты” между собой. В полку решили, что младшим я сам буду предлагать выпить на “брудершафт”, а старшие будут мне предлагать. Таким образом, в скором времени я со всем полком был на “ты” и почувствовал себя гораздо лучше и свободнее. Я как бы стал полноправным членом полковой семьи.
Глава XVI. 1912
Высочайший выход – Записка вдовствующей императрицы – Я вступаю в яхт-клуб – Поездка на Ривьеру с артисткой А.Р. Нестеровской – Великий князь Михаил Михайлович – Кшесинская, Нижинский, Стравинский и Фокин – Шведский король Густав V – Светлейшая княгиня Юрьевская – Похороны дяди Юрия, герцога Лейхтенбергского
1 января 1912 г. был высочайший выход в Зимнем дворце. После обедни семейство вышло с государем в Тронный Георгиевский зал, в котором стоял дипломатический корпус. Государь и императрица Мария Федоровна стали обходить дипломатов и с ними разговаривать. Семейство стояло в стороне, и члены его разговаривали друг с другом.
Государь и императрица Мария Федоровна очень скоро обошли всех дипломатов, причем разговаривали почти с каждым из них. Императрица даже обогнала государя и раньше его окончила обход. Императрица Мария Федоровна, как и ее датские родственники, обладала умением свободно разговаривать с посторонними людьми. Она говорила каждому несколько слов и очаровывала своей любезностью и ласковостью. Кроме того, у ней был в этом отношении огромный опыт, как и у государя, который унаследовал от нее эту способность.
6 января, в день крещенского выхода, присягали великий князь Дмитрий Павлович и князь С.Г. Романовский герцог Лейхтенбергский. Как всегда, семейство собралось в комнатах их величеств. После обедни Дмитрий и Сергей присягали сперва как члены Императорского дома, а затем – как офицеры. Дмитрий присягал под Конногвардейским штандартом, а Сергей – под Андреевским флагом флотского Экипажа, стоявшего в Петербурге. Государь поздравил их обоих флигель-адъютантами. В тот же вечер я встретился с Дмитрием в Мариинском театре. Он сиял от радости быть флигель-адъютантом. Конная гвардия поднесла ему аксельбант.
В январе же праздновалось столетие Императорского Александровского лицея, и по этому случаю было много торжеств в самом лицее и большой обед в Зимнем дворце. Государь обходил здание лицея, и когда он пришел в класс Олега, последний поднес ему изданные им рукописи стихотворений Пушкина. При этом Олег очень волновался.
20 февраля 1912 года я был вечером в Мариинском театре. Туда приехала императрица Мария Федоровна и некоторые члены семейства. Императрица Мария Федоровна обычно приезжала в театр в черном вечернем платье с большим круглым бриллиантом в волосах. Отец мне говорил, что этот бриллиант был не ее собственный, а принадлежал к числу коронных.
В эти дни отец оправлялся после припадка болезни почек, от которой он очень страдал. Императрица расспрашивала меня об его здоровье, и тут же, в аванложе, написала ему записку карандашом и дала мне ее для передачи. Привожу эту записку полностью:
Tres cher Costia,
Je te remercie mille fois pour ta bonne lettre et demande bien pardon de ne pas f’avoir r’epondu avant. Je voulаis toujours venir moi-meme, j’ai si envie de te revoir, je pense tant a toi et me rejouis que tu te sens enfin mieux.
C’est affreux comme tu dois avoir souffert pauvre. Peut-etre pourrais je venir dans le courrant de cette semaine, j’ai si envie de vous revoir tous les deux.
C’est ton fils Гавр. qui t’apportera ces lignes e′crites au the′atre.
Je t’embrasse bien tendrement ainsi qu’Elisabeth. Que Dieu te benisse.
Ta affectionnee
Minny[1].
Каждое воскресенье в ту зиму я бывал в Мариинском театре, в балете. Мне очень нравилась артистка А.Р. Нестеровская (в дальнейшем я буду называть А.Р. Нестеровскую просто А.Р.). В антрактах я приходил на сцену с ней разговаривать и скоро стал бывать на ее маленькой квартире, в которой она жила со своей матерью, очень почтенной женщиной из дворянской семьи родом с Кавказа. Таким образом между нами завязались дружеские отношения.
Зимой этого же года я стал членом Императорского яхт-клуба. Произошло это следующим образом: у великого князя Андрея Владимировича в его дворце, на Адмиралтейской набережной, был концерт, играл какой-то знаменитый скрипач. Много было гостей из высшего петербургского общества. Я обратился к бывшему на концерте генерал-адъютанту Николаеву, завсегдатаю яхт-клуба, с просьбой устроить так, чтобы меня записали в члены, что и было сделано. Я был страшно рад вступить в яхт-клуб, но не смел сказать о том, что я сделал это, ни отцу, ни дяденьке, потому что они оба были противниками клубов, а на яхт-клуб смотрели как на рассадник сплетен и интриг, что, конечно, было правдой. Когда же отец об этом узнал, то выразил свое неудовольствие матушке. Она ответила, что я совершеннолетний и если поступил в клуб, то это мое личное дело. По-видимому, отец на этом успокоился, но не так было с дяденькой. Он узнал о моем вступлении, по-видимому, от генерала Ольхина, с которым был в хороших отношениях. Как-то, сидя у отца в кабинете в Павловске, дяденька начал рассказывать, что делается в яхт-клубе, с явным намерением вызвать меня на реплики и, таким образом, заставить обнаружить, что я тоже состою в клубе. Но я молчал как рыба, и дяденькин маневр не удался.
Встретив в клубе, еще в первые дни по моем вступлении, отставного преображенца графа Лорис-Меликова, я просил его не говорить об этому моему отцу. Лорис рассказывал мне, что сам вступил в клуб во время командования Преображенским полком моим отцом и потому должен был спрашивать его разрешения. Отец дал свое согласие, но крайне неохотно.
Вступить-то в клуб я вступил, но бывал в нем очень редко, потому что по своему характеру я стеснялся ездить в клуб и там встречаться со старыми генералами и моими дядями: Николаем Николаевичем, Николаем Михайловичем и Сергеем Михайловичем.
В марте месяце я поехал на Ривьеру. В день моего отъезда за границу я переоделся в Павловске в штатское платье и в таком виде поехал в поезде в Петербург. Перед отъездом я заехал к великому князю Андрею Владимировичу, и мы вместе с ним поехали на вокзал. Он был тоже в штатском, в коричневом пальто и котелке. На подъезде его прислуга, прощаясь с ним, целовала его в плечо; меня это очень удивило, потому что в нашем доме никогда этого не делалось. Андрей Владимирович мне объяснил, что это старая традиция. По-видимому, в нашем доме эта традиция была отменена моим дедом или моим отцом.
Я ехал с Андреем Владимировичем в одном купе. Спал наверху, а он внизу. В нашем же вагоне ехал дядя, великий князь Георгий Михайлович, с генералом Эшапаром и адъютант Андрея Владимировича фон Кубэ.
На вторую ночь мы приехали в Венецию и, воспользовавшись тем, что наш поезд долго там стоял, вышли полюбоваться Большим каналом. При этом я вспомнил моего отца, который очень любил Венецию. Незадолго до нашего приезда в Канны в наш вагон вошла тетя Анастасия, выехавшая навстречу своему брату Георгию. Она каждую зиму проводила на Ривьере.
В Каннах мы остановились в большой гостинице “Карлтон”, на набережной. Была Страстная неделя, мы говели и дважды в день ходили в прелестную русскую церковь. В Каннах жил в то время на своей вилле Казбек великий князь Михаил Михайлович со своей семьей. Его жена, графиня Торби, рожденная графиня Меренберг, была дочерью Нассауского принца Николая и его морганатической жены, графини Меренберг, дочери поэта А.С. Пушкина. Я видел ее, но не был ей представлен. У Михаила Михайловича было две дочери и сын.
Как-то на Страстной неделе я обедал у великого князя Михаила Михайловича с Андреем Владимировичем и Георгием и Сергеем Михайловичами. Я в первый раз видел графиню Торби и сидел подле нее. Она была очень симпатична.
Дом Михаила Михайловича был поставлен на широкую ногу, и чувствовался в нем большой порядок. Подавали лакеи в синих ливреях. Все они были немцы, бывшие солдаты прусской гвардии, очень подтянутые и производившие прекрасное впечатление. После обеда большинство гостей село играть в карты, а Михаил Михайлович играл на биллиарде с генералом Эшапаром. Я в карты играть не умел и смотрел, как играет Михаил Михайлович.
Михаил Михайлович женился в 1891 г., не испросив разрешения Александра III, и был за это уволен со службы, и ему было запрещено возвращаться в Россию. В 1909 г. он снова был пожалован флигель-адъютантом, но продолжал жить за границей. Он был старостой Каннской церкви и во время служб сам собирал деньги на храм.
Перед самой Пасхой приехала в Канны наша известная балерина М.Ф. Кшесинская. В одном с ней поезде приехала и А.Р. Они обе остановились в нашей гостинице. Сразу после праздников мы все переехали в Монте-Карло. В то время в Монте-Карло гастролировал русский балет Дягилева и имел большой успех. Балетной новинкой был “Петрушка” Стравинского в постановке известного балетмейстера Фокина. К Стравинскому надо привыкнуть. Лишь после того как я несколько раз видел “Петрушку”, Стравинский начал мне нравиться, и я полюбил некоторые из его мелодий, например мелодию шарманки. Шли также “Половецкие пляски” из оперы “Князь Игорь” и “Египетские ночи”, всё – постановки Фокина. Фокин их поставил поразительно. Сочетание танцев и музыки было замечательное. Сам Фокин жил в то время в Монте-Карло со своей женой, тоже балетной артисткой, и со своим маленьким сыном Виталием, за которым ходила русская няня.
Клеопатру в балете “Египетские ночи” играла артистка Астафьева, бывшая замужем за К.П. Гревсом, братом моего сослуживца по полку.
Я каждый день ходил в театр. Мы с А.Р. играли в казино в рулетку, но, конечно, по маленькой, так что наши карманы не страдали. Однажды А.Р. выиграла в рулетку. Дома вместе с великим князем Сергеем Михайловичем они считали выигранные деньги, клали золотые монеты кучками и решали, что на них купить. Сергей Михайлович был очень хороший и добрый человек и в то же время – умный и образованный. Он любил подсмеиваться над людьми и изводить их. Иной раз он бывал очень неприятным. Но повторяю, это был добрейшей души человек.
Кшесинская должна была выступать у Дягилева с известным артистом Нижинским. Они танцевали в небольшом балете, “Spectre de la Rose”, под музыку Вебера, “L’Invitation a la valse”, также в постановке Фокина. Гвоздем этого балета был громадный прыжок Нижинского в окно. Балет этот мне очень нравился, я видел его много раз.
Однажды А.Р., И.Э. Готш, Владимир Лазарев (двоюродный брат Юсупова), адъютант Андрея Владимировича и я проиграли все, что у нас было в карманах. Нам очень хотелось пить, и мы пошли в бар спортинга. У меня нашлась большая пятифранковая монета, на которую я получил стакан какого-то прохладительного напитка, и мы все пили из моего стакана через соломинки.
Часто приезжал из Ниццы шведский король Густав V. Он любил игру в рулетку по маленькой, пятифранковиками. Всегда садился на высокий стул, на который обыкновенно садились служащие в казино, наблюдавшие за игрой. Король был громадного роста, и потому ему было удобнее сидеть на высоком стуле. Он был очень милый и любезный. Тетя Анастасия каждый день бывала в казино и в спортинге. Когда она играла, к ней нельзя было подходить и с ней разговаривать. Однажды она пригласила меня обедать в нашей гостинице, мы обедали вдвоем, в общей столовой. Я был уверен, что я ее гость, раз она меня пригласила, и потому был очень удивлен, когда через некоторое время получил счет за обед.
Срок, на который государь отпустил меня за границу, заканчивался. Мне очень не хотелось покидать нашей веселой компании, и я телеграфировал государю, прося его разрешить мне продлить отпуск. Государь ответил, что разрешает. Царскую телеграмму А.Р. сохранила у себя.
В Ницце жила тогда светлейшая княгиня Юрьевская, вдова императора Александра II. Я как-то поехал к ней завтракать вместе с великим князем Андреем Владимировичем. Юрьевская жила на собственной вилле. Я встретился с ней в первый раз в жизни. Это была старушка небольшого роста, с тонким, острым носом и, как мне показалось, малосимпатичная. У нее был неприятный, крикливый голос и вообще она мне не понравилась. За завтраком был также престарелый секретарь княгини – де Тур. Он был в свое время воспитателем сына Юрьевской, Георгия, и с тех пор оставался при княгине.
А.Р. очень любила собак. Мы узнали, что один из лакеев ресторана “Сиро” продает собак, и просили его нам их показать. Он нам привел двух громадных английских бульдогов, очень злых, за которыми шло множество щенков, один милее другого. Мы не знали, которого из них выбрать. Когда лакей повел всю эту собачью компанию домой, один щенок отстал, так как ему было тяжело идти в гору. Тогда мы решили взять именно его и назвали его Карло в память того, что он был куплен в Монте-Карло. Конечно, его стали звать Карлушей. У Карлуши еще не был обрезан хвост, и так как А.Р. не хотела его мучить, Карлуша остался на всю жизнь с длинным хвостом.
Понемногу развлечения Монте-Карло начали мне приедаться, и пора было ехать домой. Мы двинулись через Париж, куда приехали утром, и пошли, конечно, сейчас же по магазинам. Наконец, мы сели в Норд-экспресс, чтобы ехать в Петербург; Карлуша бегал по коридору вагона и очень веселился.
Я вышел из поезда на Александровской станции вместе с Карлушей и поехал прямо в Павловск. В липовой аллее, перед дворцом, встретил меня отец. У него был плохой вид. Во время моего отсутствия он был снова болен и только теперь начал поправляться.
В Павловске была еще весна, и мне вспоминается, что кое-где лежал еще снег.
На следующий день после моего приезда были похороны дяди Юрия, герцога Лейхтенбергского, скончавшегося в Париже, тело которого было привезено в Россию экстренным поездом. Хоронили его в Петропавловской крепости. Я поехал в Петербург, на Николаевский вокзал, на который должен был прибыть поезд. Из семейства приехали Михаил Александрович, Андрей Владимирович, дяденька и мой брат Константин. На вокзале был выстроен почетный караул от роты Дворцовых гренадер. Вместе с гробом приехали из Парижа дети покойного. Когда гроб вынесли из вагона, музыка заиграла “Коль Славен”. Мне стало очень грустно, но с другой стороны, торжественная обстановка в печальные минуты подбадривает. Я испытал это на себе впоследствии, когда хоронил отца.
Члены семейства, а за ними государева свита шли за гробом. По пути шествия траурной процессии стояли войска. Иоанчик и Дмитрий Павлович были в строю конной гвардии. Иоанчик сидел молодцом, подтянуто, а Дмитрий со скучающим лицом, положив руку с поводом на луку седла.
Отпевание происходило не в Петропавловском соборе, а рядом с ним, в новой усыпальнице, очень неуютной и некрасивой, но при очень торжественной обстановке. Не хватало лишь царя и царицы, находившихся в то время в Крыму.
Спасибо за милое письмо, и я прошу прощения, что задержалась с ответом. Мне все хотелось самой приехать, так как очень хочется видеть тебя; я всегда думаю о тебе и рада, что ты, наконец, чувствуешь себя лучше.
Это ужасно, как ты должен был мучиться, бедняга. Может быть, я смогу приехать на этой неделе – мне так хочется увидеть вас обоих. Твой сын Гавриил принесет тебе эти строки, написанные в театре. Целую тебя и Елизавету. Господь да благословит тебя.
Твоя любящая Минни.
Глава XVII. 1912
Тайное обручение с А.Р. Нестеровской – Освящение памятника Александру III в Москве – На Воробьевых горах – Петергоф – Полковой лагерь в Алякулях – Наследник Алексей Николаевич
Я хотел жениться на А.Р., но не имел права этого сделать без разрешения государя, не говоря уже о разрешении моих родителей: я заранее знал, что разрешения не получу, но мы решили обручиться. Очень трудно было сделать это так, чтобы священник не знал, кого он обручает, иначе мог выйти скандал. Наконец, нашли иеромонаха из Афонского подворья и пригласили его обручить нас на квартире дяди А.Р., бывшего офицера Тверского драгунского полка. Было решено, что когда приедет иеромонах, мне дадут знать по телефону, и я моментально должен буду приехать на одну из Измайловских рот (так назывались улицы, бывшие в районе Измайловского полка), где жил дядя А.Р. Как раз в это время я готовился к лицейскому экзамену по немецкой литературе и занимался с профессором Тетенборном. Мы сидели с ним в Мраморном зале. Я сидел как на иголках, но не смел показать и виду, что меня что-то беспокоит, и все ждал телефона, которого все не было. Наконец, занятия кончились, и только тогда мой камердинер Рымарь доложил, что мне звонили, но что он не смел доложить мне об этом, пока я занимался. Я очень был недоволен, схватил приготовленное штатское платье и помчался на квартиру дяди А.Р.
Я очень волновался, так как сильно запаздывал, а там в это время волновались еще больше, потому что не понимали, почему я не еду. Иеромонах был удивлен, что жених не едет, и, по-видимому, стал подозревать что-то неладное. Приехав на квартиру, я мигом переоделся в зеленовато-серый костюм, но, о, ужас, я впопыхах забыл захватить с собой галстук! Пришлось взять черный галстук дядюшки А.Р., который оказался фальшивым, то есть не завязывался, а застегивался на пряжку и был мне широк. В таком виде я предстал перед пожилым иеромонахом со строгим лицом. Во время обряда обручения он недоверчиво на меня посматривал. Мне же все время приходилось поправлять галстук. Наконец, все было окончено и мы, слава Богу, были обручены.
Экзамен по немецкой литературе я благополучно сдал, несмотря на то, что приготовления к нему совпали со страшными волнениями.
Весной 1912 года состоялось в высочайшем присутствии торжественное освящение памятника Александру III в Москве. Члены семейства присутствовали на этом торжестве.
Мы поехали в Москву, где мне и моим братьям было отведено помещение в Нескучном. Иоанчику и Елене были предоставлены комнаты государя и государыни, которые никогда не останавливались в Нескучном. Только во время коронации они провели там несколько дней и говели в домашней дворцовой церкви. Братьям – Константину, Олегу, Игорю и мне – отвели комнаты на антресолях, подле церкви. Вместе с нами жил Н.Н. Ермолинский. Погода была чудесная. Как-то вечером мы сидели на балконе, выходившем в сад, и слушали пение соловья. У меня, когда я бывал в Москве, было какое-то особенное сознание, что я нахожусь в сердце России.
Я никогда не забуду этого вечера. Исторический Нескучный дворец, принадлежавший екатерининскому вельможе Алексею Орлову, дивный весенний вечер, трели соловья и Москва – все это сливалось вместе в моем воображении, и я глубоко наслаждался чувством, которое испытываешь очень редко и потому оно так запоминается.
В Москву прибыли взводы со знаменами и штандартами от всех гвардейских частей. В день приезда государя и государыни они стояли по пути следования их величеств, с вокзала в Кремль, как и войска Московского гарнизона.
Открытие памятника на площади, перед храмом Христа Спасителя, было очень торжественным. На площади были выстроены войска; обойдя их и поздоровавшись с ними, государь вошел в храм, и началось богослужение. По окончании церковной службы все члены императорской фамилии вышли за государем и государынями из храма и подошли к памятнику, покрытому пеленой. Государь спустился по ступеням памятника на площадь, вынул шашку и скомандовал войскам очень ясным и громким голосом: “Всем парадом слушай на-краул!” Минута была захватывающая. Пелена спала с памятника. Александр III был изображен сидящим на троне в короне и мантии, со скипетром и державой в руках. Памятник, по общему мнению, был неудачный и не художественный. Говорили, что хотели изобразить Александра III таким, каким он был во время коронации в 1883 году, когда он сидел на троне в сознании величия этой минуты, но это скульптору не удалось.
На ступенях памятника стояли фотографы, которые с присущей им смелостью и суетливостью стали снимать, бегая по ступеням памятника. Сергей Михайлович их отгонял.
Государь стал перед войсками и повел их церемониальным маршем перед памятником. Он шел великолепно, прекрасно салютовал шашкой и, зайдя к памятнику, пропустил войска перед собой. Мы стояли на ступенях памятника.
Как-то я поехал с братьями и моими товарищами по полку, приехавшими на открытие памятника в Москву, на Воробьевы горы, с которых открывается поразительный вид на самый город и на Москва-реку. Мой брат Игорь правил нашим автомобилем. Как сейчас вижу его в красной фуражке Елисаветградского кавалерийского училища, в котором он числился один год, до поступления в специальные классы Пажеского корпуса. Олег, в форме лицеиста, тоже был с нами. На Воробьевых горах был небольшой ресторан, в котором пел русские песни прекрасный хор. Большим наслаждением было сидеть на террасе ресторана, слушать песни и любоваться расстилавшейся перед нами Москвой с ее сорока сороками церквей.
После нашего возвращения из-за границы А.Р. наняла себе дачу в Петергофе. Она была в стороне от других дач. Дача была большая, с хорошим садом. Вернувшись из Москвы, я все свободное время проводил на этой даче. С 1909 года, то есть с тех пор, как я заболел воспалением легких, я не нес службы в полку, но всей душой стремился снова в строй. Поэтому в то лето я после трехлетнего отсутствия снова пошел с полком в лагерь.
Я очень любил наши милые Алякули, мой чистый и приветливый дом и веселую конюшню. Каждый год в день перехода полка в лагерь устраивался алякульский обед, на который съезжались все офицеры полка, приезжали также и прежде служившие. В 1912 году он тоже состоялся. Приехал великий князь Николай Михайлович с адъютантом великого князя Михаила Александровича графом И.И. Воронцовым-Дашковым. С ним была и его прелестная жена, графиня Ирина Васильевна, урожденная Нарышкина.
Обед, как всегда, продолжался до самого утра. Песенники качали толстого Николая Михайловича. Он пил их здоровье и сказал им: “За ваше здоровье, друзья мои!” Я никогда не слышал, чтобы так обращались к солдатам.
В то время у меня было три верховых лошади: чистокровные родные брат и сестра Ольнара и Орацио и выводной ирландец Парнель, которого я купил перед выходом в лагерь у ротмистра Соллогуба, покидавшего полк. Все они были в лагере, и я ездил на них попеременно. У меня был также маленький автомобиль, двухместная карета Русско-Балтийского завода, очень удобный и уютный.
В начале августа, вечером, когда я сидел на даче в Петергофе у А.Р., мне сообщили по телефону из Павловска о рождении у моей сестры Татианы первенца Теймураза. Так звали одного из царей династии Багратидов.
Вскоре по окончании лагеря я дежурил у государя в Петергофе. Как всегда, я завтракал и обедал у их величеств в Александрии, в их небольшом, скромно обставленном дворце, на самом берегу Финского залива. Вечером, около восьми часов, я ждал в самой столовой выхода государя и государыни. Пришел маленький восьмилетний наследник Алексей Николаевич, одетый в белую морскую голландку. Он стал шалить и говорить глупости, сел на пол и почему-то снял свой башмак. Помнится, я его за это укорял. Алексей обратился к стоявшему в столовой лакею и, указав на меня, сказал: “Выведи его!” Мне послышалось, что идет государь, и я сказал Алексею: “Папа идет!” Алексей испугался и стал проворно надевать башмак. Наследник был большой шалун. Государь его подтягивал и строго говорил ему: “Алексей!” Наследник его побаивался и слушался.
Глава XVIII. 1912. 100-летие Отечественной войны
Парад в Бородино и на Ходынском поле – Торжественный обед в Кремлевском дворце
В конце августа государь, государыня с детьми и все лица императорской фамилии ездили в Бородино и Москву на торжества по случаю столетия Отечественной войны. В Бородино мы все ехали в специальном поезде, только великий князь Николай Николаевич ехал отдельно, а мой отец оставался в подмосковном Осташеве по болезни. В поезде мы и жили, и обедали, пока стояли в Бородине. 25 августа прибыли на станцию Бородино государь и государыня с детьми. Мы все их встречали. Собрались также местные гражданские и военные власти. Почетный караул был от лейб-гвардии Преображенского полка. Вряд ли я увижу когда-нибудь такой великолепный караул. Правофланговый преображенец был много выше меня (а во мне один метр девяносто семь сантиметров) – и выше даже Николая Николаевича. Сразу же после приезда государя мы все поехали на Бородинское поле сражения, на котором были выстроены войска, то есть представители частей, участвовавших в Бородинском сражении. Их было очень много.
Государь сел на лошадь и стал объезжать войска. Он был в форме конной гвардии: конная гвардия отличалась под Бородином. Мой конюх Шкиндер подал мне Парнеля под роскошным гусарским вальтрапом, расшитым золотом.
Великий князь Георгий Михайлович, сев на свою рыжую лошадь, поскакал галопом, чтобы нагнать отъезжавшего государя. Он сидел глубоко и сгорбившись на своем старом драбанте, который, идя галопом, согнул шею, как цирковая лошадь. Это было очень смешно.
Когда мы проезжали мимо лейб-егерей, старый барабанщик, еще служивший с великим князем Михаилом Михайловичем двадцать с лишним лет тому назад, увидев его, выбежал к нему из строя. Конечно, это было вольным поступком, но, как рассказал мне сам Михаил Михайлович, барабанщика не наказали, принимая во внимание его долголетнюю службу и его чувства к великому князю.
Мы очень долго объезжали войска. Мы проезжали мимо кадет 1-го Московского корпуса, в котором я когда-то числился. Мой бывший директор Римский-Корсаков стоял на правом фланге кадет. Один из кадет держал корпусное знамя, которое и я когда-то носил. Мы обменялись с генералом несколькими словами.
Отрадно было проезжать мимо своего лейб-гусарского взвода. Штандартным унтер-офицером был взводный моего родного 4-го эскадрона сверхсрочный Барбарич, мой ученик по учебной команде в 1908 году.
Вместе с нами ехал верхом принц А.П. Ольденбургский. Он был очень бодр, несмотря на свои 68 лет. В тот же день был крестный ход, в котором несли чудотворный образ Владимирской Божьей Матери. Государь со свитой шел за иконой, которую проносили перед войсками. Ее несли солдаты, меняясь по дороге, так как образ был очень тяжелый. Это та самая чудотворная икона, перед которой служили молебен накануне Бородинского сражения в 1812 году в присутствии Кутузова.
На Бородинском поле был отслужен молебен, после которого государю представляли столетних стариков-крестьян, современников Бородинского сражения. Говорили, что некоторые из них были подставные, что они были гораздо моложе и ничего общего с Бородинским сражением не имели.
Когда мы вернулись на станцию Бородино и шли к нашему поезду, старшие станционные служащие не встали, когда мы проходили мимо них. Я шел рядом с принцем А.П. Ольденбургским. Он был весьма вспыльчив и строг. Увидев, что станционные служащие продолжают преспокойно сидеть, он закричал им очень неприятным голосом, чтобы они потрудились встать, когда мимо них проходят Андреевские кавалеры (мы были в лентах). Служащие вскочили.
26 августа, в самый день Бородинского сражения, состоялся большой парад войскам, прибывшим на торжество. После парада у государя был семейный завтрак в маленьком доме, который назывался дворцом. Во время закуски государь отозвал великого князя Михаила Михайловича в соседнюю комнату и назначил его шефом 49-го Брестского полка, шефом которого он был с детства, пока не был уволен со службы за свою женитьбу на графине Меренберг. Михаил Михайлович был очень этим счастлив.
После завтрака мы снова сели на лошадей и поехали за государем объезжать Бородинское поле. Очень многие воинские части поставили памятники своим предкам на тех местах, на которых они сражались в 1812 году. Представители этих частей стояли возле своих памятников. Очень интересно было объезжать Бородинское поле и видеть те места, на которых сражались наши доблестные полки. Я чувствовал себя взволнованным. Я въехал на место, с которого Кутузов смотрел на бой. С этого места все поле было видно как на ладони. Михаил Михайлович подъехал к группе офицеров Брестского полка и объявил им о своем вторичном назначении их шефом.
Мы ехали за государем разными аллюрами: шагом, рысью, галопом. Когда мы проезжали мимо какой-то изгороди, великий князь Кирилл Владимирович обратился к великому князю Дмитрию Павловичу: “Покажи-ка нам, олимпиец, как нужно прыгать! ” (Дмитрий Павлович участвовал тем летом на международных Олимпийских играх в Стокгольме.) Дмитрий тут же перепрыгнул изгородь, а за ним Иоанчик, Костя и я. Дальше был невысокий забор, который перепрыгнул Николай Николаевич. Он ехал на серой придворной лошади.
Французы тоже поставили на Бородинском поле памятник. Государь и мы остановились перед ним и, сойдя с лошадей, расписались в почетной книге. Великий князь Николай Михайлович почему-то не пожелал расписаться: он был своенравным человеком.
Вместе с французской делегацией встречал государя Сандро Лейхтенбергский, как правнук герцога Евгения Богарне-Лейхтенбергского, сына императрицы Жозефины, пасынка Наполеона.
Объезд Бородинского поля продолжался несколько часов. Он закончился у царского поезда, стоявшего в лесу на насыпи. Когда мы подъезжали к поезду, Дмитрий Павлович схватил за поводья лошадь, на которой ехал Борис Владимирович, и вместе с ним въехал галопом по насыпи к поезду, из окна которого смотрела, улыбаясь, императрица. Мы вошли в вагон-столовую, в котором был накрыт чай.
Так кончились торжества на Бородинском поле. В тот же день вечером мы приехали в Москву.
За время нашего короткого пребывания в Москве был большой парад на Ходынском поле, торжественная обедня в храме Христа Спасителя и многие другие торжества. Я был рад присутствовать на параде на Ходынском поле и ехать в свите государя. По новым правилам, когда государь, объехав одну линию войск, объезжал следующую, стоявшую за ней, первая поворачивалась кругом, чтобы видеть государя и не стоять к нему спиной. Вдруг я вижу, что из повернувшейся линии войск выбежал солдат с винтовкой в руках и бежит к государю. Великий князь Сергей Михайлович, ехавший передо мной, в ужасе схватил за руку князя С.Г. Романовского герцога Лейхтенбергского, ехавшего с ним рядом. Все это длилось одно мгновение. Солдат подбежал к государю и подал ему прошение. Говорят, что ехавший за государем дежурный генерал-адъютант Скалон, варшавский генерал-губернатор, схватился за шашку, а государь сказал солдату: “Срам для полка!” – и поехал дальше как ни в чем не бывало. Не знаю, какое впечатление произвело это неприятное происшествие на государыню, ехавшую с наследником за государем в экипаже.
Оказалось, что солдат, подавший прошение, не должен был отбывать воинской повинности. Он хлопотал, чтобы его освободили, но ничего не мог добиться. Тогда он решил прибегнуть к последнему средству, раз представилась к тому возможность, то есть обратиться к самому государю. Я думаю, что его простому крестьянскому уму этот способ казался нормальным. Государь поручил свиты генералу Дельсалю произвести следствие. Генерал Дельсаль мне рассказывал, что государь лично написал приказ, налагавший различные наказания на прямых начальников этого солдата, начиная с командующего войсками Московского военного округа генерала Плеве.
Великий князь Николай Михайлович был верен себе: он не пожелал сидеть верхом во время прохождения войск церемониальным маршем. Он слез с лошади и прогуливался позади нас, между нами и трибунами для публики, разговаривая с присутствующими знакомыми. Думаю, что государь этого не заметил, так как это происходило за его спиной. Заметь это Александр III, полагаю, что он посадил бы Николая Михайловича под арест.
Вечером 30 августа был большой парадный обед в Кремлевском дворце. За каждым из лиц императорской фамилии стояли придворный и паж. На хорах играл оркестр Большого московского театра и пели артисты и артистки императорской московской оперы.
На стенах Георгиевского зала висели мраморные доски с фамилиями Георгиевских кавалеров. На одной из них записан был мой отец. После обеда государь обходил в соседнем, Андреевском зале присутствовавших за обедом. Большинство из них были жители Москвы, старые генералы и разные высшие чины, между ними – старик граф Олсуфьев, бывший лейб-гусар выпуска 1849 года. Это тот самый граф Олсуфьев, который описан в романе Куприна “Юнкера”.
Среди генералов был также родной сын поэта Пушкина, генерал А.А. Пушкин, почетный опекун, как и граф Олсуфьев. Он был физически похож на своего гениального отца, но носил широкую бороду. Император Александр III однажды в Красном Селе посадил его под арест за то, что по окончании маневров он уехал раньше государя.
Живя в большом Кремлевском дворце в одном коридоре с нами, Борис Владимирович был верен своим привычкам и ни на миг от них не отступал, как будто жил в своем коттедже в Царском Селе. Он не любил торопиться. Перед обедом он каждый день брал ванну. Ванна была в коридоре, и он выходил из нее закутанный в простыню, когда мы уже бывали совсем готовы, чтобы идти к государю. К государю он приходил к самому выходу их величеств из их комнат, когда все семейство бывало уже в сборе.
После парадного обеда мы все поехали на вокзал провожать их величества. В тот же вечер и мы все уехали обратно в Петербург в специальном поезде. Великий князь Михаил Александрович остался еще на два дня в Москве и уехал затем за границу. В Австрии он обвенчался с Натальей Сергеевной Брасовой, от которой у него был сын Георгий, трагически погибший во Франции при автомобильной катастрофе уже после революции.
После этого брака, на который не было получено разрешение государя, Михаил Александрович был отчислен от командования Кавалергардским полком и долгое время не мог вернуться в Россию.
Глава XIX. Мраморный дворец
Я обустраиваю собственную квартиру в Мраморном дворце – История дворца
Моя невеста А.Р. по моему желанию покинула балет, прослужив в нем шесть лет. Она нашла квартиру в доме страхового общества “Россия” на Каменноостровском проспекте, против Александровского лицея. Дом был прекрасно построен известным архитектором Бенуа, с современным комфортом. В то время в Петербурге было очень мало таких домов, и А.Р. была очень счастлива своей находкой.
Я со своей стороны занялся устройством своей квартиры в Мраморном дворце. Я только что ее получил. До того я жил в Павловске, и так как первые два года по производстве в офицеры врачи не пускали меня зимой в Петербург, у меня в Мраморном квартиры не было. Приезжая из Павловска, я останавливался у брата Константина, который занимал ту самую квартиру в третьем этаже, в которой когда-то жили мы с Иоанчиком. Теперь я получил три парадные комнаты во втором этаже, выходившие на Дворцовую набережную: так называемую Турецкую, угловую и соседние две. Раньше в них была библиотека. В комнате, соседней с Турецкой, стоял громадный стол-шкап, покрытый зеленым сукном, а на нем модель какого-то корабля. В ней я устроил гостиную, а в следующей – спальню. Рядом с передней была большая комната в два окна, выходившая на двор. Раньше она почему-то называлась канцелярией. Что в ней была за канцелярия и кто в ней работал – не знаю. Кажется, в ней останавливался когда-то живший постоянно в Павловске шталмейстер моего деда И.А. Грейг. Я превратил ее в комнату моего дежурного камердинера. Рядом с ней я устроил свою уборную комнату и поставил в ней мраморный умывальник; в соседней с ней маленькой комнате без окна я поставил ванну. На стенах уборной комнаты висели литографии, изображавшие прусские войска времен Фридриха-Вильгельма IV. Они висели раньше на шкапах с мундирами моего деда. Как я был рад, когда в Париже, после революции, генерал Д.И. Ознобишин подарил мне такие же литографии из своей богатейшей военной коллекции!
В передней я повесил мои любимые картины А. Гебенса, изображавшие наши гвардейские полки, стоявшие в Варшаве в то время, когда мой дед был наместником Царства Польского. Мой кабинет я устроил в угловой комнате, так называемой Турецкой, в которой мой дед любил обедать в светлые весенние вечера, когда Петербург и Нева бывают особенно хороши. В ней стоял большой диван, обтянутый турецкой материей, а на козлах помещалось турецкое седло, украшенное разноцветными камнями, и висели турецкие материи. Замечательно красив был паркет с инкрустациями из черного дерева. Посредине пол открывался, там, где под ним был устроен фонтан, но я не знаю, можно ли было приводить его в действие. Разумеется, когда я устроился в Турецкой комнате, все турецкие вещи были из нее вынесены.
Мебель я заказал красного дерева, обтянутую голубой кожей с зеленым отливом, вроде павлиньего пера. Вдоль стены, против окон, я поставил большой книжный шкаф, а посреди комнаты – большой письменный стол.
Мои комнаты были невероятно высокие. В углу кабинета висела икона Божьей Матери с лампадой. Она далеко не доходила до потолка, и, несмотря на это, приходилось брать лестницу, чтобы зажигать лампаду. Оконные рамы были бронзовые, должно быть, еще с екатерининских времен. Двери из кабинета в гостиную и из гостиной в спальню были сплошного красного дерева с рисунком из черного дерева.
Мебель гостиной я заказал ореховую, обтянутую красной кожей с черными жилками. В углу я поставил большой диван, перед ним – круглый стол, покрытый зеленой с золотом скатертью – подарок матушки. На полу стояла огромная пепельница из зеленого стекла.
Спальню я оклеил белыми обоями с розами. Они не понравились моему отцу: он нашел, что они дамские. Я оставил в комнатах большие старые некрасивые люстры, которые висели в них раньше.
Мраморный дворец построила Екатерина II. Она начала его строить для своего любимца графа Григория Орлова, но он умер, когда дворец не был еще готов. Когда великий князь Константин Павлович женился, Екатерина подарила ему Мраморный, но молодой Константин Павлович вел себя неподобающим образом: он стрелял из пушки в большом коридоре дворца и, чтобы не убить свою жену, сажал ее в большую вазу. За такое поведение Екатерина выселила внука из Мраморного дворца. Затем в нем жил польский король Станислав Понятовский, когда вынужден был покинуть Польшу. В Мраморном Понятовский и умер. Великий князь Борис Владимирович говорил мне, что видел однажды гравюру, изображавшую Понятовского на смертном одре в Мраморном зале Мраморного дворца. Эта зала была на втором этаже. По смерти короля поляки вывезли всю мебель. В Мраморном же жил и пленный Костюшко, когда его навестил Павел I.
Когда цесаревич Константин Павлович приезжал из Варшавы в Петербург, он останавливался в своем Мраморном дворце. Он жил в первом этаже, в комнатах, выходивших на Дворцовую набережную. Он был дружен со своим младшим братом, Михаилом Павловичем. Они просиживали в Мраморном ночи напролет, причем цесаревич рассказывал своему брату о Суворовском походе, в котором он принимал участие, и о наполеоновских войнах, в которых он командовал гвардией.
По смерти Константина Павловича Мраморный перешел к моему деду, Константину Николаевичу. В высочайшем указе от 20 декабря 1849 года сказано:
“Предназначенный Указом моим 6 марта 1832 года Департаменту Уделов данным любезнейшему сыну моему его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу и ныне вновь перестроенный Мраморный дворец со всеми убранствами и принадлежащим к нему служебным домом всемилостивейше жалую в дар его императорскому высочеству в вечное и потомственное его высочества владение. Повелеваю дворец сей именовать Константиновским и о сдаче оного с планами и описями сделать с вашей стороны должное распоряжение”.
Глава XX. 1912—1913
Совершеннолетие брата Олега – Трехсотлетие дома Романовых – Я получаю диплом Александровского лицея о высшем образовании
15 ноября 1912 года Олег достиг совершеннолетия – ему исполнилось 20 лет. Он сам описал это событие в своем письме к нашему отцу, помещенном в книге “Князь Олег”. Я помещаю здесь это письмо:
“День моего совершеннолетия был одним из самых радостных дней всей моей жизни: твои и мама подарки, чудный молебен, завтрак со всеми старыми и наличными служащими Мраморного и Павловска, икона, которой благословил меня митрополит Флавиан (Киевский), икона от служащих, икона от прислуги, картина Шишкина, которую мне подарили братья, удавшийся вечером реферат, представление “Севильского цирюльника” и, наконец, телеграмма от государя – все это меня так радовало и трогало, что и сказать трудно. Я получил много приветствий и милых поздравлений, между которыми трогательные письма от Труханова и Базыкина (переплетчик и книгопродавец). Накануне пришлось целый день сидеть дома и готовиться к реферату, который был назначен как раз на этот день. Мне отчего-то казалось, что реферат сойдет хорошо, и потому я не просил начальство Лицея перенести его на другой день, решив, что он доставит мне лишнее удовольствие. Так, к счастью, и вышло. Для реферата надо было прочитать несколько книг на заданную тему и потом докладывать их профессору в продолжение 40 минут. Моя тема была: “Феофан Прокопович и правда воли монаршей”.
Кроме учебных занятий, мне надо было заказать завтрак и разослать приглашения. Я даже в тот день не ужинал, что иногда приятно. В 111/2 часов ночи пришли ко мне Н.Н. (Ермолинский), Гаврилушка, Костя и Игорь. Иоанчик явился позже. Я немного волновался, сам не знаю отчего. Двадцать лет жить, ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться – это так хорошо, что казалось жалко с этим расставаться. Вообще довольно много думал, думаю и, дай Бог, всегда буду думать о том, как мне лучше достигнуть моей цели – сделать много добра родине, не запятнать своего имени и быть во всех отношениях тем, чем должен быть русский князь. Я стараюсь всеми силами бороться со своими недостатками и их в себе подмечать. А это так трудно. Боюсь, что тебе кажется, что я – “пипс”, но вместе с тем уверен, что ты меня поймешь.
Когда пробило 12 часов ночи, мы перекрестились и пошли в столовую, где было приготовлено шампанское. В то же время я распечатал заветный пакетик, в котором лежало кольцо Анпапа (нашего деда) и, придя от него в восторг, надел его на левый мизинец. Оно очень красиво и нравится мне особенно тем, что камни расположены в том порядке, как ты хотел. Мы заставили Макарова (камердинер Олега) надеть его новый костюм к его большой радости. Он мне спек очень вкусный хлеб-соль, мы с ним целовались и обнимались, как полагается. В это время пришло известие по телефону, что барон Менд (адъютант нашего отца) меня поздравляет. Было уже за полночь, но, несмотря на это, мы его позвали к себе и оставили довольно долго. Братья ушли, а мы втроем продолжали разговаривать.
Наконец, мы разошлись и улеглись спать. Проснулся я довольно поздно. Макаров вошел в спальню и вслед за неизменным “Здравия желаю, ваше высочество!” стал меня поздравлять. Я вскочил с кровати и в одной рубашке долго стоял в кабинете и смотрел на ваши портреты. Мне твой портрет больше нравится, ты поразительно похож, многие говорят только, что голова слишком велика по туловищу. Остальное все хорошо, кроме, пожалуй, фона. На фоне виднеется какая-то дверь с золотыми полосками. Портрет Мама еще не совсем высох, и потому трудно отдать отчет в его достоинствах и недостатках. Мне сперва показалось, что она непохожа, но теперь больше и больше кажется, что сходство есть и даже очень большое. Войдя в кабинет, я увидел еще две вазочки из вещей Анпапа…
Пришлось торопиться, чтобы не опоздать к церемониям. В церковном зале было много приглашенных. Мы прошли мимо них прямо на свое место. Все было очень красиво: и церковь с новым ковром, и алтарь, по-новому освещенный, и пение хора.
Митрополит благословил меня иконой и сказал несколько слов. Н.Н. в удобную минуту меня поймал и тоже сказал трогательную речь.
Потом мы пошли вниз. Иоанчик позвал своих трубачей. Они заиграли по его приказу гусарский марш для меня.
Завтрак был очень веселый в Мраморном зале. Выглянуло солнце. По Неве тянулись льдины.
После завтрака я пошел к себе и приводил в порядок реферат, но мне мешали: звонили по телефону, приходили. Реферат начинал меня волновать. Появилось сразу много народа.
Н.Н. запретил мне, наконец, заниматься. Перед отъездом в Лицей я получил телеграмму от Царя: “Поздравляем тебя и шлем наилучшие пожелания ко дню твоего двадцатилетия”.
После этого я, опять не ужинавши, поехал в Лицей. Профессор опоздал, и это меня волновало. На реферате были, кроме профессора Нольде (энциклопедия права), директор и два лицеиста, которые должны были читать после меня. Вначале у меня дрогнула нога, а потом я совсем успокоился и говорил около часу совсем спокойно. Профессор во всем, за исключением одной подробности, со мной согласился и поставил “весьма” (для рефератов нет баллов, есть только “весьма”, “хорошо” и “неудовлетворительно”).
После этого я поехал слушать “Севильского цирюльника”. Играл Шаляпин. Весь театр и мы хохотали. За целый день я так устал, что не велел себя будить и, улегшись в 12 часов ночи, проснулся только около часу дня”.
Так писал брат Олег нашему отцу. В каждой фразе этого юношеского письма сквозит его возвышенная, прекрасная душа, которой суждено было так скоро уйти от нас.
Зимой 1913 года праздновалось трехсотлетие царствования Дома Романовых. По этому случаю было много торжеств. В первый день торжеств, перед выходом, когда все семейство собралось в комнатах государя и государыни, Борис Владимирович спросил государя, можем ли мы носить только что утвержденный знак в память юбилея. Государь сказал, что можем. Знак этот был в виде герба Романовых, окруженный венком. Я стоял рядом с Борисом и слышал, как государь сказал, что получил множество телеграмм из всевозможных углов России, от совершенно незнакомых ему людей. Мне кажется, что государь сам отвечал на все эти телеграммы.
Очень было интересно смотреть на принесение поздравлений их величествам свитой, придворными и разными депутациями. Поздравление происходило в зале рядом с Малахитовой гостиной. Семейство стояло за государем и государынями. Мы делились друг с другом впечатлениями. Поздравляющих было очень много; каждый из них подходил сначала к императрице Александре Федоровне, делая поклон, целовал ей руку и снова делал поклон. Затем он таким же образом подходил к императрице Марии Федоровне и затем уже к государю. Александра Федоровна сидела, но Мария Федоровна все время стояла.
В один из дней юбилейных торжеств была торжественная обедня в Казанском соборе в присутствии их величеств. Обедня была архиерейская и потому продолжалась очень долго.
Великая княгиня Мария Павловна приехала в Казанский собор вместе с великой княгиней Марией Александровной, герцогиней Кобург-Готской, прибывшей из Германии на юбилей. Она была единственной дочерью императора Александра II. Они приехали в парадной карете цугом с форейторами. Выезд был русский. Форейторы были одеты, как кучер, который сидел на больших малиновых с золотом козлах. Мария Павловна придерживалась старых традиций и в такой торжественный день, как юбилей Дома Романовых, пожелала выехать цугом. Мне это очень понравилось.
По случаю юбилея Дома Романовых был парадный спектакль в Мариинском театре. Публика была допущена только по приглашениям, театр был полон. Флигель-адъютантам, как, например, Багратиону, пришлось сидеть где-то на самом верху. Их величества и семейство подъезжали к боковому подъезду и собирались в аванложе. Дяденька приехал с Татианой: он вывозил ее на придворные торжества, потому что муж ее, не будучи “высочайшей особой”, не мог сидеть в царской ложе и участвовать в высочайших выходах вместе с ней. Камер-пажи со своим ротным командиром стояли подле аванложи в ожидании выхода государя, государынь и великих княгинь, чтобы следовать за ними. Государь, государыни и старшие члены семейства сидели на этот раз в большой центральной ложе. Остальные заняли обе боковые царские ложи. Шла опера Глинки “Жизнь за царя”. В первой паре мазурки, во втором действии, танцевала Кшесинская. По случаю юбилея было разрешено в последнем действии изобразить царя Михаила Федоровича – вообще же царей и цариц запрещено было изображать на сцене. Михаила Федоровича изображал известный на всю Россию тенор Леонид Собинов. Роль его была безмолвная. Он только прошел по сцене в крестном ходе.
По случаю романовского юбилея петербургское дворянство дало большой бал в Дворянском собрании. На балу были их величества со старшими великими княжнами, вся императорская фамилия и масса приглашенных. Бал начался с полонеза. Государь шел с женой петербургского губернского предводителя дворянства Сомовой, а государыня – с Сомовым. За ними шли великие князья с женами петербургских дворян и великие княгини с петербургскими дворянами.
Когда государь и государыня вошли в залу, заиграл кантату большой струнный оркестр графа А. Шереметева под его личным управлением. Странно было видеть свитского генерала на месте дирижера, с дирижерской палочкой в руке.
Бал открыла великая княжна Ольга Николаевна со светлейшим князем Салтыковым; говорят, что он, танцуя, забыл снять шашку. Я тоже танцевал и, между прочим, с одной из великих княжон. Бал был очень красивый и оживленный, но менее красивый, чем дворянский бал в Москве, той же весной. Государь и государыня с великими княжнами уехали до ужина.
На время торжеств государь и государыня с детьми переехали из Царского Села в Петербург, в Зимний дворец. Живя в Зимнем, великая княжна Татиана Николаевна заболела брюшным тифом и очень скоро их величества вернулись в Царское. Татиане Николаевне остригли волосы, как полагалось при тифе, и сделали из них парик, который она носила, пока волосы не отросли.
Я вынес впечатление, что юбилей Дома Романовых прошел без особого подъема, и объясняю это тем, что революция уже начинала чувствоваться в воздухе. Конечно, в театре приглашенная публика кричала “ура”, оркестр играл гимн, но настроения не было. Все было по-казенному, не чувствовалось, что вся Россия единодушно празднует юбилей своей династии.
Весной 1913 года А.Р. ездила в Павловск нанимать дачу. Она сняла ее у вдовы профессора Фойницкого, на Новой улице, с большим садом и с островом посреди пруда. Остров соединялся с берегом деревянным мостиком. Это была та самая дача, на которой в моем детстве жил германский посол граф Радолин с женой и дочерью и на которой бабушка, матушка и мы с Иоанчиком были однажды с визитом.
В начале мая я окончил курс императорского Александровского лицея и 6 мая получил лицейский диплом. Я торжествовал и спешно достал себе лицейский знак, о котором я давно мечтал, так как он носился с правой стороны, как ученый знак, указывавший на то, что тот, кто его носит, имеет высшее образование. Я боялся, что из-за своего слабого здоровья я, может быть, не смогу продолжать служить на военной службе, имея же высшее образование, я мог со временем получить гражданский пост. В тот же день, по случаю дня рождения государя, был высочайший выход в Большом Царскосельское дворце. Семейство собралось в комнатах в первом этаже справа от церковной лестницы. Когда императрица Мария Федоровна со мной здоровалась, она сказала мне несколько любезных слов по поводу того, что я успешно окончил лицей. Императрица Мария Федоровна была его попечительницей, и ей поэтому было доложено о моем окончании курса. Я выдержал трехгодичное испытание и прошел три старших университетских курса лицея. Это было не легко и требовало большого терпения и усидчивости. Олег это понимал и прислал мне очень лестную поздравительную телеграмму.
Глава XXI. 1913
Романовский юбилей в Москве и Костроме – Олег становится корнетом – Визит в Россию Пуанкаре и Жоффра
Весной 1913 года романовский юбилей праздновался в Москве. Снова большинство Императорского дома собралось в Первопрестольной. Иоанчик с женой, Костя и я снова жили в Нескучном, как весной 1912 г. На юбилей приехала из Швеции великая княгиня Мария Павловна со своим мужем герцогом Зюдерманландским и малолетним сыном Ленартом.
Государь император въезжал в Москву верхом. Мы все поехали встречать их величества. Перед вокзалом стояла рыжая чистокровная лошадь государя, внук известного производителя Гальтимора. Лошади всех нас стояли справа от подъезда по нашему старшинству.
Сев на лошадей, мы поехали за государем. Дяденька был на своей неизменной кобыле Штокрозе Деркультского конного завода, а я на своем Парнеле. Непосредственно за государем ехало дежурство (генерал-адъютант, свиты генерал и флигель-адъютант). За ними ехали старшие по престолонаследию – великий князь Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи с герцогом Зюдерманландским, а за ними – все остальные.
Государыня ехала с наследником, а великая княгиня Елизавета Федоровна с великими княжнами. Толпа их приветствовала. Бедная государыня, очень красивая, в большой белой шляпе с перьями, сидела с серьезным лицом, покрытым от волнения красными пятнами.
Перед государем шел взвод собственного его величества конвоя, в конном строю. Войска стояли шпалерами; Тверская улица, по которой двигалось шествие, была посыпана желтым песком, а столбы украшены горшками с цветами, везде были вывешены флаги, с балконов спускались материи и стояли царские бюсты. Народ восторженно приветствовал царя.
Когда мы подъехали к часовне Иверской Божьей Матери, государь сошел с лошади, чтобы приложиться к образу. Нам нельзя было задерживаться, и дяденька крикнул братьям и мне: “Сыпь!” Мы рысью выехали вперед.
Все ехавшие за государем выстроились в одну шеренгу против часовни и затем снова последовали за ним. Проезжая Спасские ворота, мы, как полагается, сняли шапки. За воротами нас встретило духовенство. Сойдя с лошадей, мы пошли за ним в Успенский собор на молебен.
В Москве было много богослужений, завтраков и обедов. Их величествам подносили иконы; московское дворянство поднесло государю очень красивый стяг, при этом Самарин сказал замечательную речь. Это тот самый Самарин, который впоследствии был обер-прокурором Святейшего Синода.
Московское дворянство дало совершенно исключительный по красоте бал в Благородном собрании. В собрании был зал с колоннами, и этот зал был украшен растениями и цветами, которые были привезены из подмосковных дворянских усадеб. Специально для императрицы был сделан лифт, потому что из-за больного сердца ей было трудно подниматься по лестнице.
Всем этим устройством заведовал граф Мусин-Пушкин, женатый на графине М.И. Воронцовой-Дашковой.
Как и в Петербурге, бал начался с польского. Государь шел с женой московского губернского предводителя дворянства Базилевской, увешанной замечательными изумрудами, а государыня – с Базилевским. Бал был очень оживленный, и я сам тоже много танцевал.
Государь и государыня смотрели на танцующих из открытой ложи, которая была в конце зала и примыкала к смежным с ней комнатам.
Великий князь Дмитрий Павлович танцевал вальс-бостон, т. е. вальс с фигурами, со своей сестрой Марией Павловной. Он был очень красив и изящен в красном конногвардейском мундире, который украшала голубая Андреевская лента, а Мария Павловна – в белом платье, бриллиантах и с бриллиантовой диадемой в виде лучей. Я никогда не забуду этой картины.
Как и в Петербурге, государь, государыня и великие княжны уехали до ужина. Ужин был очень красиво устроен. Мы с братьями ужинали целой компанией. Великий князь Николай Николаевич сидел рядом с Базилевской, муж которой когда-то был лейб-гусаром и служил под его командой.
А.Р. тоже приехала в Москву и остановилась у знаменитого тенора Леонида Собинова. Она смотрела на въезд из одного дома на Тверской.
Я часто бывал на Моховой, в квартире Собинова, чтобы видеться с ней. Она была поражена московскими обычаями, чисто русскими, которые в чиновном Петербурге больше не существовали. Завтрак, как она заметила, накрывался всегда на большое число людей – не потому, что было много приглашенных, а потому, что ждут неприглашенных, которые приходят каждый день в большом количестве. И действительно: сперва садилось за стол немного людей, но постепенно собиралось их изрядное количество, и к концу завтрака все места бывали заняты. Завтраки были обильны и разнообразны. После завтрака прислуга накрывала чай, и весь день самовар не сходил со стола, который ломился от пирогов, тортов и пр., и так шло до обеда, за который тоже садилось множество гостей. Такова была наша матушка-Москва, широкая и гостеприимная!
После московских торжеств мы все отправились по Волге в Кострому, живя в которой Михаил Федорович Романов был избран на царство. Лицам императорской фамилии были предоставлены два парохода. В Костроме они стояли вплотную один у другого, у самого берега. На пароходе, на котором помещался Иоанчик с женой Костя и я, жили также дяденька, Сергей Михайлович, А.П. и А.А. Ольденбургские и другие великие князья и княгини. На другом пароходе размещались Владимировичи и Виктория Федоровна, а также Петр Николаевич с семьей, Дмитрий Павлович и др.
По утрам все обитатели нашего парохода пили вместе кофе в столовой. Сергей Михайлович почему-то был все время не в духе и мрачно сидел один за столом в старой генерал-адъютантской фуражке. Он вообще плохо одевался. Когда он бывал в таком настроении, с ним лучше было не разговаривать из опасения получить неприятную реплику.
Старый дядя Алек Ольденбургский находил, что я очень худ, и усиленно поил меня черным пивом с какой-то примесью, что было очень невкусно, но я подчинялся из уважения к нему.
Несколько раз мы сходили с пароходов и ездили в придворных колясках в Кострому на разные торжества. Мы были вместе с государем в Ипатьевском монастыре, в котором когда-то жил Михаил Федорович со своей матерью перед избранием на царство.
Главным торжеством в Костроме было открытие памятника трехсотлетию царствования Дома Романовых. На площади перед памятником был выстроен 13-й гренадерский Эриванский полк, получивший вензеля царя Михаила Федоровича, и сотня казаков Терского казачьего войска в черных черкесках со светло-синими башлыками. Это было замечательно красиво.
Командир Эриванского полка флигель-адъютант полковник Мдивани обратился к великому князю Александру Михайловичу с просьбой посодействовать тому, чтобы ему, Мдивани, было разрешено пронести на руках перед фронтом полка наследника Алексея Николаевича, но Александр Михайлович отсоветовал ему это делать.
Костромское дворянство дало бал, на котором присутствовало большинство из нас. Я танцевал с местными дамами и барышнями и остался с Иоанчиком и Костей ужинать. На пароход мы вернулись очень поздно, когда уже все спали.
Мы уехали из Костромы на наших пароходах одновременно с их величествами; когда пароходы отходили, на высоком берегу Волги, со стороны города, стояла в конном строю сотня казаков Терского казачьего войска, это было очень замечательно красиво.
В Москве мои братья и я были очень обрадованы известием о производстве Олега в корнеты лейб-гвардии Гусарского его величества полка. Олег прекрасно окончил Александровский лицей и должен был поступить в лейб-гусары эстандарт-юнкером. Эстандарт-юнкеров больше уже тогда не существовало, но так как Олега не хотели почему-то делать вольноопределяющимся (должно быть, считая, что высочайшей особе не подходит быть таковым), решили сделать его эстандарт-юнкером. Но государь сразу произвел его в корнеты. Олег совсем не знал военной службы, и потому ротмистру Зякину поручено было учить его уставам. Олег, как в высшей степени добросовестный человек, рьяно принялся за учение.
В день последнего лицейского экзамена Олег узнал, что его напряженные труды нашли себе справедливую оценку: он окончил лицей с серебряной медалью, а выпускное сочинение “Феофан Прокопович как юрист” было удостоено Пушкинской медали, что особенно его порадовало, так как Пушкинская медаль давалась не только за научные, но и за литературные достоинства сочинения.
С 18 до 23 мая Олег каждый день ожидал высочайшего приказа о назначении его в Гусарский полк эстандарт-юнкером, но дни текли, а ожидаемое известие не приходило. Он нервничал, тосковал и не знал, чем объяснить такое промедление. Наконец, в день Вознесения пришло радостное известие, на которое Олег совершенно не рассчитывал. Вот как описано это событие самим Олегом в “Сценах из моей жизни”:
“Наступил праздник Вознесения. Уже за несколько дней перед ним Игорь и я были приглашены ехать с Романом и Надей (сын и дочь великого князя Петра Николаевича) в Знаменку, играть в теннис. Предполагалось собраться у них после 12-ти и выезжать из Петербурга на моторах. В этот день меня как-то особенно тянуло в церковь. Я как будто предчувствовал, что со мной должно произойти что-то необыкновенное, и перед этим мне хотелось помолиться. Подчиняясь этому влечению, я направился утром в храм-памятник (храм на месте покушения на Александра II), пришел к началу, стал в толпе, но постоянная давка, входящие и выходящие мешали мне сосредоточиться. Я давно был знаком сторожу, и он меня охотно впустил в алтарь, где я и простоял обедню.
Служба приближалась к концу. Священник, причастив детей, повернулся и вошел царскими вратами в алтарь. Заметив меня, он сказал: “Нагните голову”. Я послушался, хотя и не отдавал себе отчета, почему это нужно. Священник подошел и, держа чашу над моей головой, медленно благословил меня ею…
Когда мы приехали в Знаменку и вошли в дом, то увидали, что в столовой уже наливала чай Анна Алексеевна. Все садились, двигали стульями, смеялись, разговаривали. Как всегда в подобных случаях, шум был невероятный:
– Вам сколько кусков сахара? Два?
– Мне не чаю, а шоколада.
– Пожалуйста, не говорите все разом!
– Ваше высочество! Вас просят к телефону из Петербурга генерал Ермолинский, – сказал подошедший к столу лакей.
Сердце у меня екнуло. Я поспешно встал, прошел маленький коридорчик и очутился в комнате, где был телефон.
– Барышня! – говорил лакей. – Со мной говорят из Петербурга, а вы меня разъединили. Пожалуйста… так точно. Его высочество у телефона… Сейчас будут говорить.
Я взял трубку:
– Николай Николаевич, это вы?
– Да, получена телеграмма от князя Орлова, что государь император зачислил вас корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк.
– Что?
– Корнетом в Гусарский полк. Поздравляю!
– Ничего не понимаю. Какой Гусарский полк?
– Государь вас зачисляет корнетом в Гусарский полк.
– Не может быть! Неправда! Ура-а-а!
При этих радостных криках влетают в комнату Роман и Надя.
– Что? Что такое? Что случилось?
– Государь меня зачислил в Гусарский полк корнетом… Только это ошибка, нечему радоваться, – и, обратившись к телефону, я спросил:
– Николай Николаевич, кем я зачислен?
– Корнетом.
– Эстандарт-юнкером?
– Корнетом, кор-не-том.
– Это ошибка!
– Никакой ошибки. Сущая правда.
Надя и Роман стояли в дверях, изумленные не менее моего.
– Только, ради Бога, – сказал я им, – не говорите никому про то, что слышали… О своем производстве я решусь сказать только Игорю. Пойдем его искать.
Игорь, только что приехавший, стоял в это время в уборной спиной ко мне и мыл руки.
– Господин паж, – обратился я к нему строго. – Позвольте вас спросить, по какому праву вы стоите ко мне спиной?
– Что? Ты с ума…
– Потрудитесь молчать! С вами говорит корнет Гусарского полка.
– Что? Неправда!
– Нет, правда. Получена телеграмма от Орлова.
– Ну?..
Сердце мое было переполнено. Я бросил всю компанию и ринулся в сад… Перескочив разом несколько ступеней крылечка флигеля, я побежал по дорожке, вдоль чудных кустов сирени, которая была в полном цвету…”
На следующий день Олег, переодевшись в военную форму, явился в полк, а пять дней спустя, 29 мая 1913 года, состоялся высочайший приказ, по которому все окончившие в этом году лицеисты утверждались в соответствующих гражданских чинах. Олег утверждался в чине титулярного советника. Приказ этот вышел, следовательно, тогда, когда Олег уже числился корнетом.
Олег начинал совершенно самостоятельную жизнь, которой, однако, не суждено было оказаться продолжительной.
Когда мы вернулись в Петербург, я поехал с Олегом в Петергоф являться к государю. Олег – по случаю производства в офицеры, а я – по случаю возвращения в полк, после окончания лицея. Мы ехали с Олегом в его автомобиле. Государь принял нас в своем кабинете и, как всегда, был очень ласков. Продержал он нас очень недолго.
Я не пропускал почти ни одного спектакля в Красносельском театре. Ставились веселые пьесы, оперетки и красивые балеты, в которых неизменно принимала участие балерина Кшесинская, восхищавшая всех своими танцами.
Под конец лагеря приезжал в Петербург председатель французского Совета министров Раймонд Пуанкаре, а также генерал Жоффр. Жоффр предназначался, в случае войны, в главнокомандующие французской армии. Его возили по маневрам и смотрам, а жена его гостила в имении Николая Николаевича под Петербургом. Этот последний показывал Жоффру в присутствии государя учение всей кавалерии, бывшей в лагере под Красным Селом; он сам командовал ученьем. Кроме Гвардейской кавалерии, были еще Вознесенский уланский и Елизаветградский гусарский полки, прибывшие из своих стоянок в лагерь под Красное Село.
12 кавалерийских полков построились в одну линию для встречи государя. Линия построения была так велика, что я, бывший на первом взводе 4-го эскадрона, не видел из-за складки местности Николая Николаевича, который стоял впереди, перед серединою всей этой массы конницы. Он был на своей новой чистокровной гнедой лошади, на которую он в первый раз сел в тот день. Хотя она была прекрасно выезжена выдающимся наездником Андреевым, я все же не понимаю, как Николай Николаевич рискнул выехать на высочайший смотр на лошади, которой совсем не знал.
Конечно, линейное учение 12 кавалерийских полков не имело боевого значения, а было лишь красивой картиной, показывающей хорошую съезженность нашей конницы.
Во время ученья один из французских генералов, приехавший с Жоффром, потерял звезду Белого Орла. Унтер-офицер моего эскадрона случайно ее нашел на военном поле, и генерал был очень доволен и дал унтер-офицеру хорошо на чай.
Николай Николаевич был красив и эффектен верхом. Лихо ездил, хотя лошадей и не любил. Его высокая фигура на лошади производила большое впечатление. Когда он подъезжал к полку, окруженный большой свитой, солдаты подтягивались, боясь его. За ним ездил казак с его Георгиевским значком главнокомандующего.
Во время Великой войны, когда Николай Николаевич был Верховным главнокомандующим, он стал очень популярен во всей России, и солдаты ему верили и полюбили его. К сожалению, он не сумел использовать своей популярности в начале революции, в 1917 году, и спасти Россию от великих потрясений. Он совсем не был сильным, волевым человеком, только внешне казался таковым.
В то же лето 1913 года государь делал в Красном Селе смотр пехотным и кавалерийским полкам, прибывшим в наш лагерь из других округов. Один из этих полков был лейб-гвардии Литовский, первый полк 3-й гвардейской пехотной дивизии, стоявшей в Варшаве.
Я приехал на этот смотр из Алякуль и гарцевал перед Жоффром на моей чистокровной Ольнаре. Смотр был замечательный. Линейное ученье лейб-гвардии Литовского полка было настоящим балетом. Но опять-таки это ученье не представляло боевого значения. Смотр Литовскому полку закончился церемониальным маршем. Николай Николаевич ехал во главе полка в качестве его шефа.
В Красном Селе на военном поле была показана Жоффру атака кавалерии на пехоту, тоже в высочайшем присутствии. Не помню, участвовала ли в атаке вся кавалерия, находившаяся в лагере, или только наша 2-я гвардейская кавалерийская дивизия. Мы шли разомкнутыми рядами полевым галопом несколько верст подряд. К своему ужасу, я заметил, что моей Ольнаре не хватает дыхания, и ей трудно идти. В это время ей было девять лет.
Наш полк атаковал лейб-гвардии Измайловский, в котором служил мой брат Константин. Он был в этот день в строю полка. Измайловцы стояли разомкнуто, с пулеметами, и мы проходили между ними. Тут же находился верхом государь с большой свитой; справа от государя стоял великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии. Я заметил, что он указал государю на меня. Как раз в это время Ольнара испугалась какого-то измайловца и шарахнулась от него.
5 августа 1913 года государь принимал в Петергофе парад 8-го Уланского Вознесенского и 3-го Гусарского Елизаветградского полков. Шефом Гусарского полка была великая княжна Ольга Николаевна, а Уланского – Татиана Николаевна – старшие дочери царя.
Ольга и Татиана Николаевны приехали до государя и сели амазонками на своих лошадей. Они были в форме своих полков, в чине полковника. Николай Николаевич поехал с Ольгой Николаевной к Гусарскому полку. Я слышал, как он ей сказал: “Галопом!” Ольга Николаевна подняла свою красивую вороную лошадь в галоп и рядом с Николаем Николаевичем подъехала к своему полку. Командующий полком генерал Мартынов выехал к ней навстречу. Ольга Николаевна поздоровалась с полком и объехала его в сопровождении Николая Николаевича. Затем она встала на правый фланг полка.
Николай Николаевич широким галопом вернулся за Татианой Николаевной и тоже вместе с ней подъехал к ее Уланскому полку, с которым она поздоровалась и встала на его правый фланг. После этого приехал государь. Государыня по болезни не могла быть на параде и, таким образом, не видела своих двух старших дочерей перед их полками. Наследник со своими младшими сестрами смотрел на парад из палатки.
Когда государь объехал полки, начался церемониальный марш; великие княжны ехали перед своими полками на месте шефа, то есть перед командиром полка. Уланский полк проходил первым. Перед Татианой Николаевной ехал командовавший сводной бригадой генерал Орановский на некрасивой рыжей лошади, шедшей за поводом. Обе великие княжны галопом заехали к государю, но Ольга Николаевна срезала круг. Обе они были прелестны и очень старались. Я думаю, что государь сильно волновался, видя своих дочерей в первый – и увы! – последний раз в строю.
Глава XXII. 1913
В Киеве – Всероссийская конная выставка – Первая Российская Олимпиада – Кавалерийские маневры
Осенью в Киеве открывалась Всероссийская конная выставка под председательством дяденьки, а также первая Российская Олимпиада под председательством великого князя Дмитрия Павловича. Дяденька взял меня с собой в Киев.
По приезде дяденьку встречал на вокзале командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Николай Иудович Иванов. Он был сыном простого солдата, как и покойный адмирал Макаров, погибший на “Петропавловске” под Порт-Артуром. После этого нельзя сказать, что в России при царском режиме высшие посты занимали только аристократы.
Мы с дяденькой остановились в Киевском дворце, в котором останавливался государь в 1911 году, когда был убит Столыпин. Во время Великой войны в этом дворце жила императрица Мария Федоровна. Дворец был сравнительно небольшой, но очень удобный. При нем был большой сад, выходивший на Днепр.
Открытие конной выставки началось, как было принято в императорской России, с молебна. На молебне было много народа, в большинстве причастного к коннозаводству. Выставка была очень интересная, и мы с дяденькой ежедневно ее посещали. Дяденька купил по моему выбору серую лошадь завода графини Браницкой для моего брата Игоря, который в следующем году поступал в лейб-гусары. В один из этих дней в павильон выставки привезли в кресле на колесах старую графиню Браницкую. Это была очень древняя старуха и говорила только по-французски. Жила она постоянно в своем имении в Белой Церкви, и жила по-царски, так как была страшно богата. В Белой Церкви стоял Бугский уланский полк. Когда назначался новый командир полка, было принято запрашивать графиню Браницкую, будет ли он ей приятен. На первый взгляд кажется странным и совершенно непонятным, как можно было запрашивать о назначении командира полка даму, да еще к тому же не русскую, но если вдуматься в этот вопрос, станет ясным, что этот обычай был совсем не лишний. Графиня Браницкая пользовалась в своем округе огромным влиянием и приглашала к себе офицеров Бугского полка, в интересах же русской политики было заслужить симпатии польского общества к русской армии. Поэтому важно было назначение таких командиров, которые были достаточно светскими людьми и умели бы заслужить симпатии в польском обществе. Поэтому командирами Бугского полка назначались большею частью такие гвардейские офицеры, как Безобразов, Одоевский-Маслов, Рооп и Бюнтинг.
Через некоторое время после нас приехал в Киев великий князь Дмитрий Павлович в сопровождении своего бывшего воспитателя Лайминга, который управлял его делами. При Дмитрии также состоял полковник Толстой. Они все тоже остановились в Киевском дворце и были на дяденькином иждивении. Я поехал с Дмитрием на открытие первой Русской Олимпиады. Оно было очень торжественно и началось с молебствия в присутствии генерала Иванова и киевских властей. После молебна спортивные организации, киевские кадеты и гимназисты проходили перед Дмитрием церемониальным маршем. Предварительно мы с Дмитрием обошли их фронт, и Дмитрий с ними здоровался. Меня очень интересовало, как Дмитрий будет благодарить за прохождение киевских гимназисток. Он вышел из этого трудного положения, сказав им: “Хорошо ходите!”
Дмитрий громко, во всеуслышание объявил об открытии первой Русской Олимпиады. Дмитрию было тогда двадцать два года, но он держал себя как старый и опытный великий князь. Он совсем не стеснялся и чувствовал себя как рыба в воде. Дяденька же, которому в это время было 53 года, стеснялся и, в конце концов, все эти завтраки и обеды в Киевском дворце и представительство на выставке не доставляли ему никакого удовольствия.
Дмитрий был очень способным человеком и председательствовать на Олимпиаде ему было совсем не трудно. Он свободно разговаривал с посторонними людьми, которых ему представляли. Мы с ним каждый день ездили на спортивные состязания на стадион и сидели в палатке. Вместе с нами сидел и мой командир полка генерал Воейков, главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи. Он был даже в форме офицерской фехтовальной школы, в фуражке с краповым околышем и белыми кантами.
Как и с дяденькой, мы ездили с Дмитрием служить панихиду на могиле великой княгини Александры Петровны и посетили пещеры. При всех своих положительных качествах Дмитрий не был сведущ в церковных обрядах и спрашивал меня, как поступать в тех или иных случаях.
Нам с Дмитрием показывали джигитовку нижних чинов конной батареи, стоявшей в Киеве. Они проделывали очень трудные номера и проделывали их лихо и отчетливо. Я обратил внимание, как замечательно хорошо они были одеты, во всяком случае, не хуже гвардии, если не лучше.
Дяденька, Дмитрий Павлович и я одновременно уехали из Киева, но в разных направлениях: дяденька поехал в свой Дуборавский конный завод, в Полтавскую губернию, Дмитрий обратно в Красное Село, где еще оставалась конная гвардия по окончании лагерного сбора, а я – в Межибужье на кавалерийские маневры, на которые меня пригласил командующий Киевским военным округом генерал-адъютант Иванов.
Мы приехали в Межибужье рано утром и отправились на казенных автомобилях в расположение Ахтырского гусарского полка, где первым делом посетили церковь, в которой полковой священник отслужил молебен перед образом Ахтырской Божьей Матери. Нас поместили в квартире командира полка, которая была в старом замке Чарторыйских, отнятом у них после польского восстания. Мне отвели маленькую комнату рядом со столовой.
Мы недолго оставались в замке и поехали на маневры. Мне дали лошадь Ахтырского полка. Седло, однако, было трудно мне подобрать из-за моих длинных ног. Я переменил несколько седел, пока полковой наездник не дал мне английское седло полкового адъютанта Псиола. Только тогда я почувствовал себя “в седле”.
Генерал Иванов был по началу службы полевым артиллеристом и любил ездить полевым галопом, не разбираясь в местности; я скакал за ним, как и его свита.
На эти маневры приехали посредниками генерал Брусилов, мой бывший начальник дивизии, теперь командовавший 12-м корпусом, и генерал граф Келлер, начальник 10-й кавалерийской дивизии. Генерал Брусилов привез для себя ту же рыжую лошадь, прекрасно выезженную, на которой он еще ездил, когда командовал нашей дивизией.
Я помню, как мы с генералом Ивановым и посредниками стояли подле скакового круга, окруженного большой канавой и валом, через который пришлось ахтырским гусарам прыгать во время маневра на полевом галопе. Если они задерживались, генерал Брусилов их подбадривал. Поблизости залегла пехотная цепь. Генерал Иванов просил меня обойти солдат и поговорить с ними. Он хотел, чтобы в моем лице говорил с солдатами член династии. Мне было это нелегко, но я старался: подходил к лежавшим солдатам и задавал им разные вопросы.
На следующий день состоялся разбор маневра, а после него – большой обед. Генерал Иванов был все время очень любезен со мной, и тот факт, что он пригласил меня на маневры, был уже сам по себе очень трогателен: он показывал, как Иванов относился к членам династии. Мы выехали в Киев обратно с вечерним поездом. На этот раз со мной в вагоне ехали генерал Брусилов и граф Келлер. Как собеседник граф был очень приятен и симпатичен. Брусилов был похож на лису; я думаю, что и по характеру он был таков. Во всяком случае, оба эти генерала были выдающимися военачальниками и навсегда вошли в историю Русской императорской армии.
В Киеве я перешел из вагона генерала Иванова в другой поезд, чтобы ехать обратно в Павловск; генералы Иванов, Брусилов и граф Келлер меня провожали, чем я был очень тронут.
Я получил прекрасное купе 1-го класса, какие могли быть только в России, благодаря широкой колее. Всю дорогу до Павловска я сидел за столиком и изучал полевой устав. В Павловске я остался несколько дней и уехал в Осташево повидать родителей. В Москве я встретился с моим отцом и вместе с ним, в его вагоне, доехал до станции Звенигород, а оттуда на лошадях – в Осташево.
Отец со мной был очень ласков и даже однажды, когда я в его кабинете расположился в кресле, чтобы читать, пододвинул скамейку для ног. Я только несколько дней оставался в Осташево, откуда снова вернулся в Павловск.
В полку я подал рапорт об отчислении меня в свиту его императорского величества, потому что лечивший меня доктор Иванов считал, что мое здоровье не позволяет мне продолжать военную службу. Я сам это чувствовал, потому что был очень слаб, легко уставал на службе и в особенности – на маневрах. Очень скоро я уехал за границу.
Глава XXIII. 1913
Париж – Лондон – Рим – Ривьера – Берлин – Германский император Вильгельм II
Осенью 1913 года я побывал в Париже, Лондоне и Риме и осматривал достопримечательности. В Риме я остановился в гостинице “Эксельсиор”, туда же приехал председатель Совета Министров граф В.Н. Коковцов со своей женой Анной Федоровной, рожденной Оом.
В Риме русским послом в то время был Крупенский. Он пригласил меня к себе на обед, как и графиню Коковцову (граф был болен рожей и лежал в постели). Мы поехали на обед. Жена Крупенского была маленькая и некрасивая женщина, говорили, что она была очень ревнива. За обедом было много приглашенных, между прочим – жена нашего министра иностранных дел Сазонова, урожденная Нейдгардт. Ее сестра была вдовой убитого в Киеве министра Столыпина. Я сидел рядом с Сазоновой. Были также Н.Н. Шебеко с женой – он был назначен посланником в Бухарест, и министр иностранных дел Италии, а также – барон Икскюль фон Гильдебант, служивший в нашем посольстве.
Мне очень хотелось побывать у Папы, и я просил наших представителей в Риме устроить мне аудиенцию. Все было устроено, и в назначенный день я отправился в Ватикан. Но я приехал слишком рано, и потому меня никто не встретил. А должен бы я был идти на прием с “помпой”, окруженный папской гвардией. Шел я один по дивным историческим залам. Наконец, вошел в небольшую комнату с троном, в которой было много придворных; они меня очень любезно приняли.
Через некоторое время меня пригласили в соседнюю комнату, в которой сидел за письменным столом Папа Пий X. Он был весь в белом. Я поцеловал его руку. Он был очень старый, совсем седой, и производил очень симпатичное впечатление. Он посадил меня подле себя. Комната, в которой мы находились, была большая, продолговатая. На одной из стен висел гобелен, на котором был изображен тигр.
Я говорил Папе, как мне понравился собор Св. Петра и находящаяся в нем статуя Папы Пия IX, сделанная Кановой, попросил Папу подарить мне свою фотографию. Тогда он вынул из ящика письменного стола несколько фотографий и предложил их мне на выбор. Выбранную мною фотографию он подписал. Она висела у меня в Петербурге.
По окончании приема меня повели к статс-секретарю Папы кардиналу Мери дель Валь. Меня вели по залам в сопровождении придворных и папской швейцарской гвардии в живописных костюмах, запечатленных кистью Леонардо да Винчи. Почетные караулы отдавали мне честь.
У Мери дель Валь была дивная квартира, окна которой выходили на площадь перед собором Св. Петра. Его кабинет был полукруглый, с большой светлой полкой вдоль стены.
Я заметил на этой полке фотографию испанского короля Альфонса XIII в детском возрасте. Мери дель Валь был испанец знатного происхождения. Он был человеком средних лет, красивым и элегантным, с изящными манерами. Умер он много лет спустя после операции аппендицита.
В 1895 г. мои родители и моя тетя Вера Константиновна с двумя ее дочерьми были вместе в Риме и тоже посетили Папу. Папой был Лев XIII. Когда они шли по залам Ватикана, мой отец спросил по-немецки одного из сопровождавших их гвардейцев: “Lieben Sie Makaroni?” Забавный случай произошел во время приема Папой Львом XIII великих князей Сергея и Павла Александровичей. Они были у Папы в сопровождении состоявшего при них адмирала Арсеньева, на которого вдруг напал хохотун. Чтобы выйти из неловкого положения, Павел Александрович стал объяснять Папе, что Арсеньев был контужен под Севастополем, вследствие чего на него нападает временами хохотун. Но при этом Арсеньев стал смеяться еще больше. Тетя Оля тоже была когда-то у Льва XIII вместе со своим мужем королем Греческим Георгом I. Тетя Оля была глубоко православная, не утерпела и вступила с Папой в религиозный спор. Тогда король сказал тете: “Du wirst doch nicht mit dem Papst schimpfen!”
Осматривая Ватикан и собор Св. Петра, я видел, как Папа Пий Х благословлял народ, стоя на балконе. На перила балкона был вывешен ковер. Папа вышел, окруженный духовными лицами. Он был весь в белом и в красной бархатной пелерине, опушенной узкой полосой белого меха. Когда Папа′ благословлял народ, стоявшие внизу на дворе музыканты играли папский гимн.
Как и Папу Римского, мне очень хотелось видеть императора германского Вильгельма II. Гуляя по Риму вместе со служившим в нашем посольстве бароном Икскюлем, мы встретились с германским морским офицером, флигель-адъютантом германского императора. Он оказался знакомым Икскюля. Последний от него узнал, что император находился в то время в Потсдаме. Я написал нашему послу в Берлине Свербееву, прося устроить мне свидание.
Ответ от Свербеева пришел, когда я уже был в Каннах. На Французской Ривьере я вел спокойную жизнь, много читал и сидел дома. Свербеев сообщал, что император германский примет меня в указанный день в Берлине и что после приема я приглашаюсь присутствовать на присяге новобранцев Берлинского гарнизона, а после присяги – на завтраке в офицерском собрании Гвардейского гренадерского императора Александра I полка, шефом которого состоял наш государь.
В Берлин я приехал рано утром. На вокзале меня встретил барон Икскюль, и мы отправились с ним в гостиницу “Континенталь”, где мне отвели прекрасное помещение из двух комнат, гостиной и спальни, с большой ванной. Я завтракал у нашего посла Свербеева в русском посольстве на Унтер ден Линден.
Свербеев был очень симпатичный человек. Кроме посла, меня и Икскюля, завтракали еще двое служащих посольства. Комнаты в посольстве были красиво и со вкусом убраны. В разговоре с послом я выразил пожелание осмотреть военный музей “Цейхгауз”. Свербеев тут же приказал позвонить по телефону в музей и попросить, чтобы мне его показали. После завтрака я отправился туда с Икскюлем. Нас встретил какой-то господин, служивший в музее.
Я был в нем в первый раз в 1899 году; теперь я снова любовался громадными картинами, изображавшими сражение с Наполеоном в 1814 году и сражения франко-прусской войны 1870–1871 гг. Мне бросилась в глаза любопытная деталь: император Александр I, игравший первую роль в освобождении Европы, был на всех картинах изображен на втором плане, а прусский король Фридрих-Вильгельм III, мой прапрадед, – на первом. Такова германская психология: “Deutschland u..ber alles!”
На следующий день я надел свою гусарскую форму, нарочно для этого выписанную из Павловска, и в сопровождении полковника Базарова поехал в замок. Перед замком уже собрались начальствующие лица, приехавшие на присягу Берлинского гарнизона. Среди них я узнал генерал-фельдмаршала фон дер-Гольц-пашу, который реорганизовал турецкую армию.
Меня провели в большую комнату, в которой стояла модель военного корабля, а также висела картина из морской жизни. Там стояли генерал-адъютант германского императора фон Плессен и несколько флигель-адъютантов. Все они были в пальто, готовые идти на присягу. Я заметил в соседней комнате на столе их каски с султанами.
Ждать пришлось недолго. Один из флигель-адъютантов пригласил меня в соседнюю комнату. Войдя в нее, я оказался перед императором. Он был среднего роста, уже пожилой, со строгими чертами лица и седеющими волосами. Он тоже был в пальто, но с меховым воротником, в ленте Черного Орла и препоясанный шарфом с длинными кистями. Из-под его мехового воротника виднелся шитый и уже поношенный воротник общегенеральского мундира. Император выглядел совсем не элегантно.
Он задал мне несколько банальных вопросов, которые обычно задают в подобных случаях, и называл меня “mеin Prinz”. Мы стояли друг против друга посреди небольшой и некрасивой комнаты. Перед тем как меня отпустить, император просил меня передать моим родителям, что он “legt sich zu ihren Fu..ssen”.
Выйдя от него, я прошел в отведенную мне комнату, в которой должен был надеть пальто, чтобы идти на присягу. Меня уже ждал там мой камердинер Рымарь. Мне пришлось торопиться, чтобы поспеть на парад до прибытия императора.
Когда я вышел из подъезда, император уже выезжал верхом из ворот замка. В воротах я встретился с генералом И. Татищевым, который состоял при императоре германском.
Татищев меня провел на мое место, то есть туда, где стояли три сына императора. Старшим из них был принц Эйтел-Фридрих, второй сын императора. Они предложили мне встать справа от них. На площади перед замком были выстроены новобранцы Берлинского гарнизона, то есть гвардейских полков. Они были в парадной форме, в шинелях, без оружия. Пастор сказал слово с поставленной на площади кафедры.
Я забыл упомянуть, что император, выехав из ворот замка, объехал фронт солдат. Перед императором ехали два флигель-адъютанта на тощих лошадях. Свита императора была совсем маленькая, всего из трех или четырех человек, среди которых был генерал-адъютант фон Плессен. Как и флигель-адъютанты, ехавшие впереди, они сидели на тощих лошадях. Зато у императора была большая и хорошо упитанная лошадь с очень длинной зимней шерстью, что было очень некрасиво.
Император здоровался с солдатами, и они что-то ему отвечали. Во время речи пастора император стоял верхом посередине плаца с фельдмаршальским жезлом в руке. Султан его каски развевался по ветру.
После пастора говорил сам император, но я ничего не мог разобрать из его речи, как, должно быть, и солдаты, к которым он обращался. Затем солдаты выстроились в несколько каре. Император со свитой становился посередине каре, и полковой адъютант читал текст присяги, а солдаты с поднятыми правыми руками его повторяли. Я с принцами ходил за императором, но вдалеке от него.
Церемония закончилась церемониальным маршем знаменной роты, уносившей знамена в замок. Один из солдат задней шеренги споткнулся перед самым императором: и у хваленых немцев случилась проруха, да еще перед их строгим императором.
По окончании церемонии я вернулся в свою гостиницу, чтобы переодеться к завтраку в офицерском собрании Гвардейского гренадерского Александровского полка. Я был в зимней венгерке, с саблей и в шапке, потому что немецкие офицеры ходили в Берлине в касках.
Между воротами казарм и собранием были выстроены шпалерами солдаты в ожидании императора. Офицеры стояли группой перед собранием. Я снял пальто и встал вместе с офицерами.
Мне представили одного лейтенанта, кажется, графа Бисмарка, который был на юбилее Пажеского корпуса в 1902 году. Он был тогда кадетом Прусского кадетского корпуса Лихтерфельде и приезжал в составе депутации от корпуса. Он завтракал у моих родителей в Мраморном дворце вместе с другими кадетами и с генералом Шварцкопфом, который приехал во главе депутации. Мы с ним вспоминали мой родной Мраморный дворец.
Меня попросили подняться в офицерское собрание и провели в небольшую гостиную рядом с большой столовой. Там был генерал Татищев и старые немецкие генералы. Генерал Татищев разговаривал с генералом с небольшими баками. Он вспоминал, как радушно встречала толпа нашего государя, когда весной того же года он приезжал на свадьбу дочери германского императора, и при этом, помню, говорил: “Какая же может быть между нами война?!” А между тем менее чем через год мы уже сражались друг с другом.
Я видел из окна, как проехал император по улице к воротам полка. Он сидел мрачный, в полуоткрытом автомобиле, в пальто с меховым воротником и в каске, и отдавал честь двумя лишь пальцами, как делали в старое время. Мне помнится, что автомобиль был желтый, небольшой и весьма невзрачный.
Войдя в гостиную, император подал руку всем присутствующим, и мне в том числе. Проходя в столовую мимо меня, он сказал: “Ein eleganter Prinz!”
Император был в сюртуке Александровского полка с вензелями императора Александра I и фельдмаршальскими перекрещенными жезлами на погонах. Он был в черных штанах, с генеральскими красными лампасами и в ужасных высоких сапогах. Спереди они доходили до колен, а сзади под сгибом были вырезаны, что было очень неизящно. Сюртук был из тонкой материи, как вообще носили немцы. Это тоже было некрасиво, тем более что из-за этого на сюртуке было много складок.
Все пошли в столовую, в которой было накрыто много отдельных столов. Император сел за серединой главного стола. Слева от него сидел командир полка, а я между командиром полка и генерал-адъютантом фон Плессеном. Недалеко от меня сидел начальник генерального штаба генерал фон Мольтке, племянник знаменитого фельдмаршала. Он был большого роста, полный, с небольшими усами, и производил очень приятное впечатление.
Император говорил очень много и очень громко, при этом стучал по столу рукой, унизанной кольцами. Его левая рука была сухая и маленькая и из-за этого короче правой. Она тоже была в кольцах. Но император так ловко ее держал, что этого недостатка почти не было заметно. Меня научили, что, если император будет пить за мое здоровье, я должен встать, повернуться с приподнятым бокалом к нему лицом, поклониться, осушить бокал, снова поклониться и сесть. Я так и сделал. Он также обращался ко многим офицерам, приподнимая бокал и при этом называя их по чинам, и даже обратился к одному аспиранту. Все они сделали то же, что и я.
В столовой висели портреты наших государей, начиная с первого шефа полка Александра I и кончая портретом Николая II. Император рассказывал, между прочим, как его дед, император Вильгельм I, считал нужным пригонять каску к голове. К сожалению, я не помню подробностей этого своеобразного рассказа.
Император долго сидел за столом, так что командир полка, как бы извиняясь, сказал мне, что такова его привычка. Наконец он встал, и мы снова перешли в маленькую гостиную. В ней висели два небольших, но хороших портрета императоров Александра I и Николая I.
В гостиной император снова заговорил со мною. Он возмущался зданием германского посольства в Петербурге, потому что оно было построено в декадентском стиле, а также памятником Александру III на площади перед Николаевским вокзалом. С ним нельзя было не согласиться: здание германского посольства в Петербурге с двумя фигурами на крыше (одну из них называли Ильюшей Татищевым, состоявшим при кайзере, а другую – графом Донау-Шлаубитеном, состоявшим при нашем государе) было действительно ужасно. Во время разговора мы стояли подле вышеупомянутых портретов Александра I и Николая I.
Мне не понравилось, как себя держал император. Я невольно сравнивал его с нашим дорогим государем, который был само благородство, спокойствие и достоинство. Вильгельм II скорей походил на фельдфебеля, вносил много шума, и в нем не было того, что называется породой. Также и утонченной воспитанности не замечалось в нем, а скорее наоборот. Кроме того, он вообще производил несимпатичное впечатление, тогда как наш государь был очень симпатичен, в нем было много обаяния, чего у Вильгельма совсем не было.
На следующий день мне пришлось встать очень рано, так как мой поезд уходил чуть ли не в семь часов утра. Несмотря на такой ранний час, меня пришли проводить полковник Базаров и Икскюль.
Через несколько дней я уже был в полку. Рапорту моему об отчислении меня в свиту не был дан ход, и я остался на военной службе – и слава Богу, так как через год началась война и я вместе со своим полком отправился воевать.
Глава XXIV. Январь 1914
Завтрак у тети Минни – “Царь Иудейский” в Эрмитажном театре – Последний в истории России большой Высочайший выход и Крещенский парад
Зимой 1913–1914 г. императрица Мария Федоровна очень поздно вернулась из-за границы, я думаю – после Рождества. Отец приказал спросить ее, когда матушка, Костя, Игорь и я можем ей явиться. Тетя Минни пригласила нас завтракать в Аничков дворец. Я приехал туда прямо из Павловска. Швейцар и прислуга, бывшие на подъезде, очень приветливо меня встретили. В передней висела раскрашенная фотография офицеров Прусского Гвардейского гренадерского императора Александра I полка. Меня подняли на подъемной машине на второй этаж. Я вошел в гостиную, очень большую, на одном из окон которой стояла фотография графа И.И. Воронцова-Дашкова, бывшего министром двора в течение всего царствования Александра III. Императрица была со мной как всегда очень любезна. Мы сидели подле стеклянного шкапа, в котором стояли китайские фигуры из какого-то зеленого камня. Императрица мне сказала, что эти фигуры подарил ей состоявший при ней покойный князь Н.Д. Оболенский. Она сказала это печальным голосом, слегка нараспев. Она вообще говорила медленно, баском, растягивая слова. По-русски она говорила хорошо, почти без акцента, но со мной она говорила по-французски.
Вскоре после меня приехали родители и братья. Иоанчик и Елена не были приглашены вместе с нами, так как они жили самостоятельно, хотя и в Мраморном дворце. Мы завтракали в столовой рядом с кабинетом Александра III, в котором он принимал доклады министров. Сам он занимался наверху, в маленькой комнате, рядом с уборной комнатой императрицы. Александр III любил маленькие и низкие комнаты, хотя сам был громадного роста. Рядом со столовой была уборная комната Александра III, посреди которой стояла вешалка, на которой висел его сюртук. Я не посмел войти в уборную и осмотреть ее, как следует. Комнаты покойного государя сохранялись в том виде, в каком они были при нем.
Кроме нас, за завтраком были две фрейлины государыни, сестры графини Кутузовы, старушка m-lle Lescail, бельгийка, бывшая воспитанница императрицы, и состоявший при ней князь Шервашидзе.
В кабинете Александра III висело много картин и портретов. Между портретами императоров Петра III и Павла I висел портрет Александра II. После завтрака, когда государыня разговаривала с моими родителями, князь Шервашидзе, старик среднего роста с небольшой седой бородой, рассказывал мне, что император Александр II, будучи однажды в Аничковом дворце, сказал Александру III (тогда еще наследнику), чтобы он его портрет перевесил. Но Александр III забыл об этом. В следующий свой приезд Александр II повторил свое желание, но и на этот раз Александр III забыл его исполнить. Как известно, Александр II был убит. Должно быть, он считал дурным предзнаменованием, что его портрет висит между портретами государей, которые были убиты.
Завтрак подавали очень старые официанты в синих фраках. Один из них, очень худой и высокий, был похож на мумию.
Этой же зимой ставился в Зимнем дворце в Эрмитажном театре “Царь Иудейский”, драма, написанная моим отцом. Мои братья Константин и Игорь были в числе артистов. Иоанчик принимал в пьесе косвенное участие, так как в ней участвовал его хор певчих. Я же в пьесе участия не принимал. Артистами были офицеры лейб-гвардии Измайловского полка, потому что пьеса шла под флагом “Измайловского досуга”.
Мой отец играл Иосифа Аримафейского. Главную женскую роль Иоанны, жены Хузы, домоправителя Ирода, играла артистка Александрийского театра Ведринская. Бывший измайловец А.А. Геркен изображал Понтия Пилата. Было много репетиций. Когда начались репетиции в костюмах, стали допускать публику.
Святейший Правительствующий Синод был против постановки драмы, поэтому спектакли, на которые пускалась публика и на одном из которых был сам государь, назывались репетициями.
Эрмитажный театр был очень красив. В самом низу на полу стояли кресла, а большинство публики сидело на ступенях, покрытых подушками и расположенных амфитеатром. Публики всегда бывало очень много.
Конечно, самым торжественным днем был спектакль в высочайшем присутствии. Государь с великими княжнами приехал из Царского Села. Государь надел жетон “Измайловского досуга”, который измайловцы ему поднесли, когда, будучи еще наследником, он посетил “Досуг” в офицерском собрании измайловцев.
Спектакль прошел очень удачно. Громадное впечатление производила музыка Глазунова. Он прекрасно изобразил бичевание Христа. Императорский оркестр играл очень хорошо. После спектакля государь пошел за кулисы говорить с отцом. Отец был чрезвычайно взволнован, с его лица тек пот, он тяжело дышал. Я никогда не видел его в таком состоянии. Когда он играл, он священнодействовал. На этом спектакле были также и некоторые члены семейства. Говорили, что прежде, чем ехать на спектакль, великая княгиня Мария Павловна спросила священника, можно ли ехать, так как Синод был против постановки пьесы. Великий князь Николай Николаевич и Петр Николаевич с женами на спектакле не были. Должно быть, они были одного мнения с Синодом.
В день Крещения Господня 6 января 1914 г. был в Зимнем дворце последний перед революцией большой Высочайший выход и Крещенский парад. В залах были выстроены взводы от военно-учебных заведений и войсковых частей со знаменами и штандартами. Как всегда, все семейство собралось во внутренних покоях государя и государыни, в двух гостиных, между кабинетом государыни и Малахитовой гостиной.
Вошли государь и государыни. Государь держал себя с большим достоинством и очень спокойно. Обе царицы были в русских платьях, в сарафанах-декольте, с длинными шлейфами и в кокошниках. На них были замечательные драгоценности. Императрицу Марию Федоровну я представляю себе в серебряном платье, в колье из громадных бриллиантов и с бриллиантовой диадемой в виде лучей на кокошнике. Голубая Андреевская лента очень красиво выделялась на серебре ее сарафана. Царица-мать была небольшого роста, движения ее были спокойны и величественны, полные грации и изящества, и она казалась выше, чем на самом деле. Здороваясь, она как-то особенно красиво наклоняла голову.
Императрица Александра Федоровна была писаная красавица, высокого роста, она держала голову немного набок. В ее улыбке было что-то грустное. Она была очень величественная, очень породистая. Редко можно встретить такую красивую и вместе с тем такую породистую женщину, с такими изящными манерами. Мне представляется она то в синем сарафане, вышитом золотом, с громадным шлейфом, отороченным широким, темным соболем, то в бледно-розовом с серебром. Ее кокошник покрыт бриллиантовой диадемой с жемчугами, на шее – бриллиантовое колье и дивные жемчуга, несколько рядов, зерно к зерну и очень большие. Она тоже в Андреевской ленте и с бриллиантовой звездой. Как и царица-мать, она очень любезно здоровалась. Императрицы целовали нас в щеку, как и мы их, и затем мы почтительно прикладывались к их руке. Когда входили государь и государыни, я испытывал трепет и волнение. Трудно передать эти чувства, они выходили из недр душевных и появлялись при виде их величеств.
Поздоровавшись с нами, государь и государыни выходили в Малахитовую гостиную. Обер-гофмаршал граф Бенкендорф с большим золотым жезлом, увенчанным двуглавым орлом, докладывал государю, что к выходу все готово. Государь брал под руку царицу-мать. Императрица Александра Федоровна шла во второй паре со старшим из присутствующих великих князей. Так как Михаил Александрович жил в то время за границей, с императрицей шел великий князь Кирилл Владимирович. Затем члены семейства шли парами по старшинству престолонаследия.
В этот день на выходе были и мои родители. За последние годы они часто отсутствовали из-за болезни моего отца.
Когда государь вошел в Николаевский зал, его встретил рапортом командовавший парадом великий князь Николай Николаевич. Он был громадного роста, а гренадерка Павловского полка его еще увеличивала. Я был далеко позади и все-таки видел его, благодаря его росту. В Николаевском зале стояли взводы гвардейской пехоты со знаменами спиной к окнам, выходившим на Неву. Против них, по другую сторону зала, стояли лица, имевшие приезд ко двору и, между прочим, городские дамы в русских платьях разных цветов. Среди них выделялась княгиня З.Н. Юсупова, красавица, несметно богатая. Ее драгоценности равнялись по богатству, разнообразию и красоте драгоценностям императриц.
Мой брат Константин был в этот день в строю взвода Измайловского полка. Он очень хорошо выглядел в строю. Государь, входя из залы в залу, здоровался с выстроенными в них частями. Музыканты играли “Боже, царя храни”. Дивные звуки гимна плыли по залам и наполняли сердца благоговением и любовью к царю. Незабываемые эти минуты неописуемо красивы и торжественны!
В Гербовом зале стояли взводы Гвардейской кавалерии со штандартами. Ими командовал генерал Безобразов. Он так сильно потел, что капли пота падали с его шеи на его белый мундир. Государь и семейство входили в церковь. Большая церковь Зимнего дворца была разделена поперек золоченой решеткой. За решеткой становился государь, государыня и лица императорской фамилии. Остальные становились перед решеткой. Государь клал на кресло свой головной убор и перчатки. Моим братьям и мне, младшим по старшинству, не хватало места за решеткой, и мы становились перед ней вместе с Лейхтенбергскими и Ольденбургскими. Певчие пели на два клироса.
По окончании обедни государь и государыня прикладывались ко кресту, который выносил митрополит Владимир. После этого начинался выход на Иордань по залам Зимнего дворца, вниз по Иорданской лестнице, затем налево, по большому и широкому коридору на подъезд, и через Дворцовую набережную на специально устроенную Иордань (место, на котором освящается вода 6 января), под большой сенью, синею с золотыми на ней звездами и увенчанную крестом. Впереди шло множество духовенства и певчие. За духовенством следовали попарно государь и государыни, великие князья и княгини, а за ними несли знамена и штандарты. Духовенство было в шубах, поверх которых надевались облачения, поэтому они выглядели очень некрасиво. Однажды Александр III остался недоволен дурным видом духовенства и приказал им подтянуться, и впоследствии духовенство было одето лучше. Войска, стоявшие на Дворцовой набережной, возле Иордани, а также знаменщики были в шинелях или без них – в зависимости от погоды. Если было менее 5 градусов, они были в мундирах.
Во время шествия музыканты и трубачи играли “Коль славен”. Певчие пели крещенский тропарь “Глас Господень на водах”… Торжественное шествие под звуки музыки и пения было замечательно. Ясно чувствовалось величие царя и России, близость царя к своему войску и войска к своему царю.
Государыни и великие княгини участвовали в шествии только до Помпеевской галереи и уходили во внутренние покои, откуда смотрели в окна на водоосвящение на Неве.
В коридоре, перед подъездом, государь и великие князья надевали пальто, которые им подавали их камердинеры. Государь и мы все становились под сенью Иордани, так же как и знамена, и штандарты.
Во время водоосвящения читались молитвы, поразительные по значению и красоте. Для освящения воды митрополит опускался на Неву, окованную крепким льдом, и освящал воду в проруби. Затем он кропил святой водой государя, знамена и штандарты.
По окончании богослужения мы возвращались с государем в Зимний дворец тем же порядком, как шли на Иордань. Государь останавливался в Гербовом зале. Против него выстраивались музыканты Преображенского полка, и мимо государя проносили церемониальным маршем под музыку знамена и штандарты. Перед каждым знаменем и штандартом шел адъютант части, которой знамя или штандарт принадлежали. После этого мы возвращались в комнаты государя и государыни, где подавался семейный завтрак, т. е. завтрак, за которым, кроме государя, государыни и семейства, никого больше не было.
В день последнего выхода вечером мне позвонил по телефону Игорь по просьбе Иоанчика, чтобы сообщить, что у его жены начались первые роды. Я пришел в столь мною любимый кабинет дедушки, а теперь Иоанчиков кабинет, и застал там отца, самого Иоанчика и Игоря, которые собрались в ожидании известия о прибавлении нашей семьи. Мы просидели возле камина до поздней ночи, так ничего и не дождавшись.
В эту ночь мне пришлось спать всего часа два или три, потому что я уехал, как всегда с первым поездом, в Царское Село, в полк. Вернувшись к вечеру из Царского, я пошел наверх в нашу бывшую детскую. С минуты на минуту ожидалось окончание родов. Я сидел в большой комнате, когда-то нашей игральной, вместе с тетей Милицей, женой дяди Петра Николаевича, приходившейся родной теткой Елене Петровне. Наконец, нам сообщили радостную весть о рождении Всеволода Иоанновича. Он появился на свет в бывшей нашей детской спальне.
Так как Иоанчик был очень религиозен, то братья его дразнили, что его сын родится с кадилом в руке. Поэтому они заказали маленькое кадило и, как только Всеволод родился, ему вложили кадило в ручку. Так что Иоанчик впервые увидел своего сына с кадилом в руке.
В то время, когда родился Всеволод, отец был в Эрмитажном театре на репетиции “Царя Иудейского”. Ему сразу же сообщили о рождении внука. Полетели телеграммы родственникам. На следующий день в Мраморном дворце был торжественный молебен, на который съехалось много родственников и знакомых; по случаю рождения первенца офицеры конной гвардии поднесли Иоанчику икону Благовещения.
Вечером 10 января государь принимал земских деятелей по случаю 50-летия земства. Прием был в Дворянском собрании. Я явился на прием вместе с отцом. Земских деятелей собралось очень много. Государь обходил земских деятелей и со многими разговаривал.
Глава XXV. Зима и весна 1914
С родителями в Египет
Отец и матушка уезжали 14 января в Египет и предложили мне ехать с ними. Отцу при его болезни почек климат Египта был очень полезен. После тщательного обсуждения вопроса о том, как при моих слабых легких повлияет египетский климат на мой организм, мы пришли к заключению, что я поеду с ними. В день отъезда в Павловской дворцовой церкви был отслужен молебен. Наш поезд вечером уходил на Варшаву. Я сел в поезд в Петербурге, а родители – на Александровской станции, подле Царского Села. Их провожала масса народа, между прочим – все офицеры Измайловского полка. Нас, отъезжавших в Египет, было пятеро: родители, я, фрейлина матушки баронесса С.Н. Корф и князь Шаховской. При нас также было много прислуги.
На следующее утро мы приехали в Варшаву и были встречены на вокзале женой генерал-губернатора г-жей Скалон и помощником командующего войсками Варшавского военного округа генералом Рауш-фон-Траутенбергом. Его брат, Павел Александрович, был долгое время шталмейстером моего отца. Генерал был красивый мужчина с бородой и длинными усами. Я знал его с самого моего детства. Матушка, г-жа Скалон и я поехали в автомобиле в замок, а отец – в Суворовский кадетский корпус. Г-жа Скалон, урожденная баронесса Корф, из прибалтийских провинций, скорее была немкой, чем русской, но были и другие Корфы, больше русские, чем немцы. К последним принадлежала, между прочим, и фрейлина матушки, православная.
Я с матушкой завтракали у г-жи Скалон. Лакеи были в придворных ливреях. После завтрака дочь Скалонов показывала мне замок, он был громадными, и мы долго по нему ходили. В одной из комнат, в которой висели портреты варшавских генерал-губернаторов, я увидел, к большому моему удовольствию, портрет моего деда Константина Николаевича, бывшего наместником Царства Польского в 1862–1863 годах.
В бывшей тронной зале висел прекрасный портрет Николая I верхом. Он сам приказал этим портретом прикрыть нишу, в которой до первого польского восстания стоял королевский трон.
На вокзале мы с отцом переоделись в штатское платье. На следующий день вечером мы проехали Венецию, которую так любил отец. Поезд стоял в Венеции довольно долго, и мы вышли полюбоваться Большим Каналом, несмотря на то, что было уже довольно темно.
На следующее утро мы приехали в ужасное место – Бриндизи, порт, в котором должны были сесть на пароход. Долго ждали мы его, сидя в ресторане, на берегу моря. Писали домой открытки. Наконец, после долгого ожидания пароход пришел. Это было небольшое австрийское судно.
Вечером к обеду отец, Шаховской и я надели смокинги. Меня это очень забавляло. Во время обеда пароход немного качало. Шаховской неважно себя чувствовал и едва не вышел из-за стола. На третий день мы благополучно добрались до Александрии. Там нас встретили очень богатые египтяне Лотфала, которых родители знали еще с прошлого года и у которых отец крестил ребенка. Они повезли нас на своем автомобиле покататься по Александрии. Во время прогулки лопнула шина, но Лотфала не пожелали остановиться, и мы продолжали ехать с лопнувшей шиной.
Затем мы сели в поезд и вечером приехали в Каир. На вокзале нас встретил русский посланник А.А. Смирнов, пользовавшийся большим уважением в Каире. Он был старшиной дипломатического корпуса.
Мы остановились в гостинице “Семирамис” на берегу Нила. По утрам отец, Шаховской и я спускались в столовую пить кофе. Мы осматривали достопримечательности Каира. Конечно, ездили смотреть на пирамиды и сфинкса. Возле пирамид я снялся верхом на верблюде, и фотограф предъявил мне счет за фотографию в 300 золотых египетских монет.
В Каире мы познакомились с четой Третьяковых, только что поженившихся и очень влюбленных друг в друга. Б.Н. Третьяков был корнетом Кирасирского ее величества полка; его прелестная жена была урожденная Апухтина. Третьяков числился при русской миссии в Каире.
В то время в Каире были также кавалергард барон фон дер Остен-Дризен, павший смертью храбрых в войну 1914–1918 гг., и мой сослуживец по полку корнет С. Мальцов, приехавший полечиться в Египет.
Смирнов дал в нашу честь парадный обед. Все были во фраках, а дамы в вечерних платьях. Обед прошел в очень приятной атмосфере. После обеда я играл в покер.
В нашей гостинице устраивались балы, на которые приходили английские офицеры в очень красивой вечерней форме: у них были короткие красные куртки без фалд, открытые спереди крахмальные рубашки, черный галстук бантом и узкие черные штаны с золотым галуном.
Мне очень хотелось посмотреть учение английского драгунского полка, стоявшего в Каире. В то время английским представителем в Египте был известный лорд Китченер. Официально он не имел большой власти, но на самом деле творил в Египте все, что хотел. Так он однажды объявил, что не поедет в Хелуан, пока из Каира в Хелуан не будет проведена хорошая дорога. Дорогу египтяне провели, и тогда он в Хелуан поехал. Он мне разрешил присутствовать на ученье драгунского полка.
В назначенный день я надел гусарскую форму и в сопровождении англичанина, присланного Китченером, Третьякова и его жены, Мальцева и барона фон дер Остен-Дризена поехал в казармы драгунского полка. Третьяков тоже был в форме, а Дризен и Мальцов – в штатском.
Нас сразу провели в офицерское собрание и угостили закуской с водкой. Закусив, мы сели на лошадей. Один из офицеров дал мне своего поло-пони. Я никогда не ездил на так хорошо выезженной лошади. Как только я увидел выстроенный в одну линию драгунский полк, я полевым галопом поскакал поздороваться со стоявшим перед полком командиром полка. Сопровождавшие меня скакали за мной. Лошадь моментально отвечала на каждое мое движение. Мне очень понравился вид полка. Все солдаты были отлично одеты в походную форму цвета хаки и в тропические шлемы. Лошади были небольшие, в большинстве гнедые и прекрасно вычищенные.
Во время отдыха, когда все спешились, я почувствовал, что у меня начинает кружиться голова, потому что африканское солнце слишком нагрело мою красную фуражку. Тогда мне дали защитный шлем. Я вообще смотрел на ученье издали, а чтобы видеть подробности, скакал рядом с полком. Полк был хорошо съезжен. Ученье кончилось атакой.
Офицеры были со мной очень любезны и приглашали меня посмотреть, как они играют в поло.
Родители были очень в духе, в особенности – матушка. Она была счастлива быть все время с отцом и тем, что никто им не мешал, как это зачастую бывало дома. Обычно, живя в Павловске, отец часто ездил в Петербург и не всегда знал, вернется ли обратно в тот же день или будет принужден ночевать в Мраморном дворце. Матушке была очень неприятна эта постоянная неизвестность, и она тоже старалась выезжать в Петербург, когда отец там оставался.
Мы пробыли в Каире лишь одну неделю и поехали в Ассуан, на юг от Каира. Туда приходилось ехать целую ночь в поезде, вагоны которого были выкрашены в белую краску, чтобы было менее жарко. Но в январе в Египте большой жары не бывает, и нам даже приходилось надевать пальто, особенно по вечерам.
Как только мы вышли в Ассуане из поезда, отец повез меня к находившимся тут же большим камням, на которых были древние египетские иероглифы.
Мы поместились в большой гостинице с обширным двором. У меня была хорошая, светлая комната, с ванной и видом на двор. Родители занимали три комнаты напротив.
После утреннего кофе мы шли гулять. Матушка тоже ходила с отцом и со мной. Иногда я ездил верхом в сопровождении араба. Иной раз после дневного кофе, который я пил на веранде, мы ездили по Нилу на лодках. Эти прогулки на лодках были большим удовольствием. Мои родители их очень любили. На веслах сидели молодые арабы.
К обеду мы всегда переодевались, дамы в вечерние платья, а мужчины– в смокинги. После обеда я обыкновенно сидел на большом балконе, выходившем на Нил. Это бывало около 10 часов вечера, и несмотря на то, что я сидел над самой рекой, было совсем сухо и тепло, так что я надевал лишь летнее пальто. Нил нес мимо меня свои спокойные воды. На душе была тишина, но и грусть, что со мной нет моей милой А.Р. А она сидела в это время в холодном Петербурге, среди снегов, на берегу замерзшей Невы.
Приехала из Афин в Ассуан тетя Оля, побыть с родителями. Вместе с ней приехали ее фрейлина Бальтадзи, камергер граф Мессаля и состоявший при ней лейтенант Гаршин. Отец был очень рад приезду сестры. Они нежно любили друг друга и были все время вместе.
Как-то мы поехали на лодках вверх по Нилу посмотреть знаменитую Нильскую плотину, выстроенную англичанами, а также и на древний египетский храм Изиды, наполовину залитый водой благодаря этой плотине. Когда мы плыли вверх по течению, то постепенно поднимались в лодке по плотине, а когда плыли обратно – спускались. В Ассуане, посреди Нила, находится остров Элефантин с хорошей гостиницей. Мы как-то туда ездили. На Элефантине где в V веке до Р.Х. была знаменитая в истории Востока иудейская колония, сохранилось много следов древней жизни.
В то время местечко Ассуан ничего хорошего из себя не представляло: пыльная дорога, вдоль которой стояли неказистые дома и лавочки. Почему-то местные жители не обращали внимания на автомобили и не желали давать им дорогу. Начальником весьма немногочисленной полиции Ассуана был какой-то пожилой австриец, ходивший в черном мундире, в высокой красной феске и с тонкой палкой в руке. В Ассуане была коптская церковь с иконами. Она была очень бедна и ничего интересного из себя не представляла.
В нашей гостинице жила одно время жена военного министра Сухомлинова. Она приехала в сопровождении своего двоюродного брата Бутовича и полковника Семеновского полка Назимова.
Сухомлинова была красивая и элегантная женщина, Сухомлинов женился на ней будучи командующим войсками Киевского военного округа. Тогда много кричали по поводу этой свадьбы. Отец был с ней очень любезен, и матушка шутила, что он за ней ухаживает, потому что она жена его начальника – военного министра.
Когда постояльцы нашей гостиницы возвращались с прогулки, мальчики-арабы, служившие в гостинице, бросались к ним, чтобы смахнуть пыль с их сапог, так как в Ассуане везде был песок и сапоги всегда были запыленные. Для этого у них были большие кисти на палочках. Довольно часто в Ассуане поднимался неожиданно страшный ветер: небо становилось черным и тучи песку летели из пустыни, которая начиналась возле самого Ассуана. Тогда надо было закрывать окна, а во время прогулок – спешно возвращаться домой. Мелкий песок проникал всюду.
Верхом я ездил обычно по пустыне, так как в ней был мягкий грунт. Пустыня эта была началом Сахары, и потому я говорил, что езжу по Сахаре.
Побыв в Ассуане более месяца, мы поехали в Люксор, который находится между Ассуаном и Каиром. Там мы тоже остановились в большой гостинице на берегу Нила. Подле Люксора сохранилось много остатков египетских древностей. Мы каждый день их осматривали, видели аллею сфинксов и много очень интересных храмов, вернее – развалин храмов. Были также и в так называемой Долине царей.
Жара была ужасная. Когда я отдыхал, то все с себя снимал и все же изнемогал от жары, доходившей до 50 градусов. Прав был мой доктор Иванов, считавший, что Египет принесет мне вред, но отцу, больному почками, жара была полезна. Я помню, как отец шел по Люксору в полдень, в тропическом шлеме (мы все, мужчины, носили там эти шлемы защитного цвета). Пот тек по его лицу, но он не страдал от жары и любил гулять в самое пекло перед завтраком.
В Люксоре я оставался лишь несколько дней, потому что оканчивались два месяца, на которые отец взял меня с собою. Я уехал в Каир и снова остановился в гостинице “Семирамис”. Мне пришлось три дня провести в Каире в ожидании парохода. Там я снова встретился с моим сослуживцем по полку Сергеем Мальцовым, который вел рассеянный образ жизни и много пил. Между прочим, он и кавалергард барон фон дер Остен-Дризен купили негритянского ребенка и наняли ему няню. Не знаю, что они с ним сделали, уезжая из Египта, – во всяком случае, с собой, в Россию, они его не взяли.
Я ездил на автомобиле из Каира в Хелуан, в котором за год перед тем жили мои родители. Там жил Дризен и бывший кавалергард Н.А. Татищев, впоследствии московский губернатор. Мы обедали веселой компанией. К обеду приехал улан ее величества поручик М. Чичагов. Он влюбился в Петербурге в одну эффектную даму и, не добившись взаимности, решил покончить с собой, но, по счастью, лишь ранил себя – и приехал в Египет на поправку.
Обратно из Египта я ехал на том же самом пароходе, на котором мы пришли из Бриндизи в Александрию. Путешествие было очень приятное, одно время нас слегка покачивало. На нашем пароходе ехал немецкий принц Рейс. Он пожелал со мной познакомиться, и мы беседовали на военные темы. Сидя на палубе, я читал военные книги, как и тогда, когда жил в Ассуане. Я готовился к войне, которая, как мне казалось, была не за горами.
В Бриндизи нас долго не пускали на берег, потому что много времени занял карантинный осмотр. Наконец, я сел в поезд и поехал в Милан, где пробыл лишь несколько часов, и в тот же вечер поехал в Болье-сюр-Мэр, между Ниццей и Монте-Карло. В Болье я пробыл до мая: мне было рискованно оказаться сразу в холодном Петербурге после жаркого Египта.
Я часто ездил в Монте-Карло и осторожно играл в рулетку. Чтобы от бывавших иной раз выигрышей оставался ощутительный след, я на выигранные деньги покупал вещи в чудесном английском магазине в Ницце.
По воскресеньям я ездил в Ниццу, в церковь. Там очень красивый собор в русском стиле, выстроенный подле места, на котором стояла дача, в которой скончался наследник Николай Александрович, старший брат Александра III, в 1865 году.
На Страстной неделе я говел и был у заутрени. Церковь была полна, но к концу обедни почти все ушли. Я заметил в церкви старого московского купца Обидина, я помнил его еще с 1912 года. Он был очень богат, жил в Монте-Карло и вел едва ли соответствовавший его возрасту образ жизни. Этот сгорбленный старик простоял всю службу и причастился.
В Каннах жил брат государя великий князь Михаил Александрович со своей женой Н.С. Брасовой, которую я тогда увидел впервые. Они поженились вопреки воле государя и императрицы Марии Федоровны в 1912 году. В то время Михаил Александрович командовал Кавалергардским полком. Он был отчислен от командования и ему было запрещено возвращаться в Россию. Но он все-таки не был уволен со службы. Наталья Сергеевна Брасова была очень красива, с седой прядью волос, большого роста. Она очень хорошо одевалась. Миша был очаровательный человек, ласковый и мягкий в обращении. Он обладал громадной силой, как и его отец Александр III. Он мог разорвать пополам колоду карт. Однажды, когда он командовал эскадроном в Кирасирском ее величества полку в Гатчине, он на эскадронном учении с такой силой махал шашкой, что клинок шашки сломался и кусок острого клинка с визгом пролетел мимо его уха, по счастью, не задев его.
Я ездил в Канны к ним обедать.
Стояла чудная погода, а под конец моего пребывания в Болье было даже жарко. Я простудился и слег в постель с большим жаром.
Наконец, в мае месяце я вернулся в Петербург. Доктор Иванов нашел, что в Болье у меня был плеврит. Я с радостью вернулся в полк и окунулся в полковую жизнь. Предстоял смотр разведчикам, и я очень волновался за моих учеников, так как четыре месяца не занимался с ними. Меня заменяли корнет Кисловский и вахмистр Ященко. Смотр происходил в 3-м эскадроне, в первом этаже, куда были собраны разведчики со всего полка. Слава Богу, смотр сошел совсем хорошо и мои гусары не ударили лицом в грязь. Они, как и я, сильно волновались.
Глава XXVI. Лето 1914
Визит английской эскадры в Кронштадт – Чай в новом доме дяди Павла в Царском Селе – Визит в Петербург президента Франции Пуанкаре – Беспорядки на заводах – Экстренное заседание Совета министров
Летом 1914 года приходила в Кронштадт английская эскадра под командой адмирала Битти, имя которого стало затем таким известным во время войны 1914–1918 гг. Великий князь Борис Владимирович устроил в честь офицеров эскадры у себя в саду в Царском Селе прием, на который приехали государь, государыня, многие члены семейства и много приглашенных, между прочим – офицеры нашего полка и Атаманского, которым Борис в то время командовал.
Государь и государыня приехали в коляске на чудной паре в русской упряжи. Против них на скамеечке сидел родной племянник императрицы принц Баттенбергский, сын ее старшей сестры принцессы Виктории и принца Людвига, командовавшего в то время всем английским флотом. Юный принц был морским офицером, назначенным состоять при государе во время пребывания английской эскадры в Кронштадте.
Государь был в английском морском сюртуке, поверх которого был надет палаш. Так же были одеты и все английские офицеры.
Адмирал Битти очень хорошо выглядел: у него было породистое и красивое лицо. Я ожидал, что английские морские офицеры будут элегантны и с хорошими манерами, но оказалось, что большинство из них были вовсе не элегантны и без всяких манер.
Когда государь и государыня подъехали к воротам сада, сторож дал три звонка. У Бориса было положено, что, когда приезжали простые гости, сторож давал один звонок; когда приезжали высочайшие особы – два, а когда государь или государыня – три звонка. Таким образом в доме знали, кто едет.
Дядя Павел Александрович и его жена, графиня Гогенфельзен, пригласили моих родителей, братьев и меня на чай в свой новый дом в Царском Селе. В этот день родители были у них в первый раз после их свадьбы. Дом их был настоящий дворец с большим залом и гостиными. Для его постройки были выписаны мастера из Франции.
Чайный стол был накрыт очень красиво, но, несмотря на то, что графиня очень старалась, все же было как-то натянуто. После чая дядя Павел и графиня показывали нам свой дом. Он был устроен с большим вкусом. В большой гостиной висела картина, изображавшая императрицу Александру Федоровну – супругу Николая I с великим князем Александром Николаевичем (будущим императором Александром II) и великой княжной Марией Николаевной. Императрица была изображена в синем бархатном платье, которое получила по наследству ее внучка принцесса Е.М. Ольденбургская, дочь великой княгини Марии Николаевны. Великий князь Александр Николаевич был изображен мальчиком, в красивой лейб-гусарской куртке, шитой золотом. В той же гостиной висел его портрет, тоже мальчиком, в красном казачьем мундире. Эти портреты были прекрасно написаны.
У дяди Павла был очень красивый отделанный деревом и малиновой материей кабинет. На великолепном письменном столе было мало вещей, не так, как у моих родителей и у меня. Я заметил, что на столе лежало самопишущее перо или стило – тогда это у нас было редкостью. По-видимому, дядя, живя долгое время в Париже, забросил обыкновенные перья, какими в то время писали в России. На одном из столов опять стоял портрет Александра II – молодым генералом, должно быть, сделанный в то время, когда он командовал Преображенским полком. Думаю, что он принадлежал кисти известного портретиста Гау, писавшего прекрасные портреты акварелью. Тут же висел четвертый портрет Александра II – в голубом атаманском мундире. Этот портрет дядя нашел у какого-то старьевщика в Италии. Я думал, что он был работы художника Крюгера, бывшего при дворе императора Николая I.
Во втором этаже были спальни и жилые комнаты. Мне очень понравилась уборная дяди Павла, в которой он отдыхал после завтрака. Умывальник помещался в нише, отделанной красным деревом.
Мы познакомились с детьми дяди Павла и графини: молодым пажом Владимиром и двумя их дочерьми-подростками, Ириной и Наталией; все трое были красивы. Владимир, или как его называли – Ботька, учился в Пажеском корпусе, но был приходящим и жил на казенной квартире своего воспитателя полковника Фену, который командовал одной из рот корпуса. Фену держал у себя пансион для приходящих пажей.
В полку начались занятия стрельбой и эскадронные ученья. Каждый день приходилось ездить на Царскосельское Софийское стрельбище, которое, по счастью, было недалеко от наших казарм.
Мой брат Игорь очень хорошо выдержал офицерские экзамены в Пажеском корпусе и был до производства в офицеры, которое должно было быть в начале августа, прикомандирован к нашему полку вместе со своими товарищами по выпуску князем Мещерским и Леонтьевым. Он был зачислен в 4-й эскадрон. По существовавшим тогда правилам прикомандированные пажи были на офицерском положении, но у нас в полку они ставились в ряды, а не на офицерские места, чтобы приучить их к строю.
В июле прибыл в Петербург с визитом президент Французской Республики Раймонд Пуанкаре. Его торжественно встречали в Петергофе на пристани. Государь выехал к нему навстречу в Кронштадт. Семейство собралось на пристани. Мы стали по старшинству. Кирилл Владимирович, как старший по престолонаследию из присутствовавших, стоял на правом фланге. Я стоял между Иоанчиком и Костей. Государь и великие князья, имевшие орден Почетного легиона, были при ордене. У Бориса Владимировича на шее висел французский орден, кажется, за “земледельческие заслуги”, который он почему-то когда-то получил. Пуанкаре был в Андреевской ленте.
Вечером в большом Петергофском дворце, в Петровской зале, состоялся обед в честь президента. Государь и Пуанкаре обменялись речами. Государь говорил, как всегда, очень просто и с большим достоинством. Перед ним на столе лежала бумага с написанной на ней речью, но трудно было определить, читал ли ее государь или говорил наизусть. Пуанкаре говорил, как опытный оратор: с пафосом и очень хорошо.
После обеда вышли на большой крытый балкон, выходивший в сад, где государь и президент беседовали с присутствовавшими.
Большой ежегодный парад в Красном Селе состоялся на этот раз в присутствии президента Французской Республики. Государыня Александра Федоровна ехала вместе с Пуанкаре в коляске, запряженной a la Daumont.
Я, как старший офицер 4-го эскадрона, был на первом взводе на моей чистокровной кобыле Ольнаре. Государь пропустил наш эскадрон галопом, Ольнара шла прекрасно.
Накануне парада был высочайший объезд войск в Красном Селе. Пуанкаре, как и на самом параде, ехал в экипаже с государыней. После объезда у Николая Николаевича был дан большой обед в честь Пуанкаре. Обед подавали в саду, под навесом. Я сидел рядом с помощником Николая Николаевича генералом фон дер Флитом. Он сказал мне, между прочим, что императрица Александра Федоровна очень похожа на императрицу Александру Федоровну, жену императора Николая I, которую он помнил. Обед был очень вкусный и утонченный: Николай Николаевич лично следил за своей кухней, был большим гастрономом и держал хороших поваров.
После обеда мы поехали в Красносельский театр на спектакль.
В это время начались беспорядки на заводах, устраиваемые, как тогда говорили, немцами. Некоторые из гвардейских частей были посланы на усмирение. Николай Николаевич сказал моим братьям Иоанну и Константину, что он прикомандировывает их к себе, чтобы они не шли на усмирение вместе со своими частями. Он считал, и совершенно правильно, что члены династии не должны участвовать в подавлении беспорядков.
12 июля я поехал в Красное Село, на Военное поле, на котором государь делал смотр полкам, пришедшим в наш лагерь из других округов. В это время все больше и больше с каждым днем крепли слухи о возможности войны. Помню, что во время смотра я говорил об этом с начальником Главного штаба генералом Михневичем.
Сразу после смотра у государя в Красном Селе состоялось экстренное заседание Совета министров. В воздухе чувствовалась уже какая-то тревога.
После заседания государь передал командиру нашего полка генералу Шевичу дивную серебряную братину, которую последний пронес по фронту – это был императорский приз, который давался лучшему по стрельбе полку всей нашей конницы. Государь стоял тут же, он был расстроен, бросалась в глаза его бледность: он понимал как никто весь ужас предстоящей войны. Николай Николаевич, наоборот, был в приподнятом настроении: он всю жизнь терпеть не мог немцев и, должно быть, рад был ожидавшейся с ними войне.
Когда мы расходились по коноводам, корнет Алексей Орлов сказал мне, что, по всей вероятности, война неизбежна и что на следующий день наш полк возвращается в Царское Село. Для меня это было полнейшим сюрпризом. Тут же я узнал, что сейчас состоится производство в офицеры пажей и юнкеров, и остался посмотреть на производство. Пажи и юнкера, бывшие в лагере, были экстренно вызваны к Большой палатке – то есть к придворному деревянному зданию, служившему столовой.
Государь сказал замечательную речь и поздравил пажей и юнкеров с первым офицерским чином. Нормально они должны были быть произведены 6 августа.
Вечером состоялся обед в Большой палатке, в высочайшем присутствии, на котором были все начальники частей и лица императорской фамилии, бывшие в лагере под Красным Селом. Я сидел рядом с Дмитрием Павловичем, по другую сторону которого сидел принц Гогенлоэ, причисленный к австрийскому посольству.
Дмитрий должен был открывать в Риге 2-ю Российскую Олимпиаду и предложил мне поехать с ним, вспомнив, как мы открывали 1-ю Олимпиаду за год перед тем, в Киеве. Я с удовольствием согласился – я все еще не верил в возможность войны.
Во время обеда государь пил за войска гвардии и Петербургского военного округа и, как всегда, прекрасно сказал несколько слов. Главнокомандующий округом великий князь Николай Николаевич произнес тост за здравие государя императора очень громко и с большим пафосом. Ответом было “ура” гораздо более громкое, чем обыкновенно, видимо, от ожидания грядущих событий. У меня навернулись слезы на глаза и сдавило горло.
После обеда государь лично назначил временно командовавшего Преображенским полком флигель-адъютанта графа Игнатьева, старшего полковника Преображенского полка, командующим этим полком “на законном основании”. Командир полка князь Оболенский был нервно болен и находился в отпуску.
После обеда мы приехали в Красносельский театр, где было нервное, приподнятое настроение, а на следующий день, день моего ангела, полк рано утром пошел в Царское Село. Погода была дождливая.
Глава XXVII. Июль 1914
Дневник брата Олега – Мобилизационный план – Государь объявляет о начале войны – Возвращение родителей из Германии – Приготовления к отъезду в полк
Не успел Олег явиться по начальству, объездить с визитами офицеров и отдежурить по полку, как сильное воспаление легких в связи с плевритом приковало его к постели и изменило все предположения и планы.
Перед самой войной он вернулся в полк, несмотря на то, что по состоянию своего здоровья мог бы и не возвращаться. Вот что он пишет по этому поводу в своем дневнике:
“Утром 18-го явился в полк. Мне сообщили, что в состав полка я не записан и что мне советуют ввиду слабого здоровья и незнания строевого дела зачислиться ординарцем в Главную Квартиру. Я пошел ругаться и даже, кажется, переубедил В.”. (Должно быть, ротмистр граф Велепольский, командир 5-го эскадрона.)
После долгих хлопот Олегу действительно удалось добиться оставления его в полку.
“Меня, – пишет он в дневнике, – назначили в штаб полка. Командир сказал: “Я вам специально сообщаю, что вы будете вести дневник полка и будете моим корреспондентом”. “Надеюсь, что я у вас долго не останусь”, – отвечал я, на что командир возразил: “Это уж мое дело!”
Несмотря на столь определенные обязанности, мне обещали, что если я буду хорошо себя чувствовать, меня назначат опять в строй”.
Олег был очень недоволен таким положением: он жаждал боевых подвигов, а совершать их при несении обязанности ординарца казалось ему невозможным. В дневнике Олега имеются краткие записи его переживаний в эти знаменательные дни:
“Мы все пять братьев идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно, мне только радостно, что мы, Константиновичи, все впятером на войне”.
Настроение Олега было восторженно-приподнятое:
“17 июля, в девять часов пять минут вечера, была получена в полку телеграмма о мобилизации. Уже к 19 июля строевой состав был готов к выступлению. Лошадей по конской повинности полк получил к утру 20 июля. Мобилизация прошла быстро и спокойно. Всеми было замечено, какой порядок царил между приходящими запасными. Много принято было добровольцев, которые ежеминутно подходили к офицерам с просьбой принять их в ряды нашего полка”, – так начинает полковой дневник мой брат Олег.
По мобилизационному плану все, что нужно было делать для приведения полка в боевую готовность, было рассчитано не только по часам, но и по минутам. Я был счастлив, что иду на войну: это всегда было мечтой моей жизни.
Мне сшили в полку солдатскую шинель, но погоны на шинелях мы носили в начале войны золотые.
29 июля я получил повестку явиться на молебен в Зимний дворец к 3 с половиной часам дня. Олег, Игорь и я поехали на автомобилях из Павловска в Петербург. По дороге встретились с великой княгиней Марией Павловной и великим князем Борисом Владимировичем. Их автомобили стояли, так как случилась какая-то неисправность с автомобилем Марии Павловны. Вместе с ней ехали ее дочь Елена Владимировна с мужем, королевичем Николаем Греческим.
В Зимнем дворце все семейство собралось, как всегда, в комнатах государя и государыни. Николай Николаевич сидел в кресле в комнате рядом с Малахитовой гостиной. Он только что был назначен Верховным главнокомандующим и был возбужден. Мы вошли в Николаевский зал за государем и государыней. Зал был полон главным образом офицерами. Был отслужен молебен, по окончании которого государь громким и ясным голосом объявил о начале войны. В своей замечательной речи он сказал, что благословляет любимые им войска гвардии и Петербургского военного округа и что он не заключит мира, пока хоть один вражеский солдат останется на русской земле.
Когда государь сказал, что он благословляет гвардию, Николай Николаевич опустился на одно колено и весь зал за ним. Жена Иоанчика, Елена Петровна, бросилась к государю и поцеловала ему руку за то, что он выступил на спасение Сербии.
Государь пошел в залы, выходившие на Дворцовую площадь, и вышел на балкон. При виде государя и государыни вся огромная толпа, запрудившая Дворцовую площадь, опустилась на колени.
Николай Николаевич, проходя мимо лейб-казачьего караула, взялся за свою казачью шашку и сказал казакам, что в продолжение войны он всегда будет ее носить.
Все семейство прошло в комнаты государя и государыни, которые я совсем не знал, так как они не жили в Зимнем дворце обычно. Я знал только кабинет и гостиные рядом с Малахитовой гостиной, в которой собиралось семейство перед выходами. Государь и государыня прощались с теми из нас, кто уходил на войну. Государь спросил Олега об его здоровье, усомнившись, может ли он идти на фронт. Олег ответил, что может. Такого человека, как Олег, нельзя было удержать дома, когда его полк уходил на войну. Он был весь порыв и был проникнут чувством долга.
Мария Павловна подошла и в слезах благословила нас от лица наших родителей, которые еще не приехали из-за границы. Она думала, что мы уйдем на войну до их возвращения. Я никогда не забуду этой трогательной минуты.
Из Зимнего дворца я поехал с Олегом и Игорем в часовню Спасителя на Петербургской стороне, а оттуда в Петропавловскую крепость помолиться у могил наших предков и попросить их помочь нам быть их достойными на поле брани. Из крепости мы поехали на Смоленское кладбище, на могилу Ксении Блаженной, которую я очень чту. Вернувшись в Мраморный дворец, мы зашли к дяденьке проститься. Прощание, конечно, было очень трогательное. Дяденьке нездоровилось, так как он простудился в Стрельне, сидя по вечерам после обеда в саду до поздних часов и ведя с тетей Олей и дядей Георгием Михайловичем оживленные разговоры о войне.
Иоанчик предложил братьям причаститься перед отъездом на войну. Он заказал в Павловской дворцовой церкви раннюю обедню. Служил наш духовник архимандрит Сергий. Перед обедней он сделал нам общую исповедь. Церковь была совсем пуста, пришли только Елена Петровна, А.Р. и какая-то простая женщина, которая, когда мы причащались, громко плакала и причитала.
Я предложил Олегу и Игорю съездить проститься к дяде Павлу Александровичу, к которому я питал нежные чувства. Мы приехали в Царское Село в его новый дворец. Дядя Павел принял нас внизу, в своем роскошном кабинете. На первый взгляд дядя Павел производил впечатление сухого и гордого человека – на самом же деле он был очень добр и радушен.
Наконец, слава Богу, мои родители благополучно приехали из Германии, где застала их война. Отец перед самой войной был в Бад-Вильдунген, где лечил почки, а матушка с братом Георгием и сестрой Верой – у своей старшей сестры, а затем у своей матери. Отец сперва не хотел верить в возможность войны и не уехал вовремя, а потом был вынужден срочно выехать на автомобиле, который ему предоставил светлейший князь Ливен. Отец затем где-то встретился с матушкой, и они выехали в Россию. Но в это время была объявлена война.
Поезд, в котором находились мои родители, остановили недалеко от русско-немецкой границы и поставили возле него часовых. Чуть ли не в коридоре вагона родителей стоял немецкий часовой, причем двери купе приказано было не закрывать. Таким образом родители провели ночь. На следующий день их всех посадили на автомобили с опущенными занавесками и перевезли через границу. Их предупредили, что если они будут высовываться, то в них будут стрелять. По дороге, уже в России, их высадили из автомобилей и предоставили дальше идти пешком. Должно быть, немцы считали, что им самим ехать дальше небезопасно.
И так, пешком, мои родители, брат Георгий одиннадцати лет, сестра Вера восьми лет, фрейлина матушки баронесса С.Н. Корф, князь Шаховской, воспитатель Георгия француз Бальи-Конт, Верина англичанка и прислуга пошли по шоссе, на восток. Своего адъютанта Сипягина, присоединившегося по пути, и своего старого камердинера Фокина отец отправил обратно за отставшим багажом. Но Сипягина немцы объявили пленным, и так он никогда больше в Россию не вернулся, а Фокин вернулся через несколько недель через Данию. Бедные родители и все бывшие с ними шли пешком, пока не встретились с разъездом уланского Смоленского полка. Начальник разъезда штаб-ротмистр Бычко узнал моего отца и помог всем добраться до ближайшей станции железной дороги. Родители затем уже благополучно прибыли в Павловск.
На отца сильно подействовали пережитые волнения, но, как всегда, он ничего не говорил, а переживал их молча, в своей душе.
Накануне ухода на войну в полку был молебен на Софийском плацу днем, после обеда. Полк в этот день представлял из себя необычайную картину: наши серые лошади были выкрашены в зеленый цвет, чтобы быть менее заметными, моя Ольнара с удивлением осматривала себя, поворачивая голову, и, видимо, боялась самой себя. Полк выстроился в конном строю. Посреди каре стоял аналой и духовенство. Первый взвод 4-го эскадрона был назначен для приема штандарта под моей командой. Я поехал во главе взвода к дому командира полка и выстроил взвод развернутым фронтом перед командирским подъездом. Мне не впервые было везти штандарт к полку, но тот день был особенный, полк уходил на войну, и я чувствовал это и сильно переживал. Приняв штандарт, я повез его на Софийский плац. Не доезжая до полка, я снова построил фронт взвода и, согласно уставу, скомандовал “шашки вон!”. Раздались звуки полкового марша. Полк встречал свою святыню, штандарт – эмблему верности и преданности престолу и отечеству. Как я счастлив, что мне пришлось подвозить штандарт к полку в этот незабвенный день!
На молебен приехал Верховный главнокомандующий Николай Николаевич, в качестве старого командира нашего полка. Ему подвели командирскую лошадь, ту самую, которую он только что купил у кронпринца. Я думаю, что если бы Николай Николаевич это знал, он был бы очень недоволен: когда была объявлена война, он приказал сжечь свою форму прусского гусарского полка, шефом которого он состоял.
На молебен собрались родственники и знакомые офицеров полка. А. Р., ее сестра и двоюродная сестра Т. тоже приехали. По окончании молебна полковой батюшка отец Иоанн Блажевич обходил полк и кропил его святой водой. Николай Николаевич благословил полк небольшой иконой. Он держал ее в поднятой руке и очень громко и нервно говорил. Затем он обратился к полку с речью, страшно кричал и махал шашкой.
Полк прошел по-полуэскадронно перед великим князем. Проезжая перед Николаем Николаевичем, я салютовал ему шашкой. Олег был в строю 5-го эскадрона. Одно время его чистокровная Диана начала было шалить, но он с ней справился. А.Р. говорила потом, что во время прохождения на Олега было страшно смотреть: так он был худ.
По окончании торжества великий князь и все офицеры полка пошли в офицерское собрание.
После отъезда Николай Николаевича наш старый командир, генерал-адъютант барон Мейендорф, состоявший при особе его величества и командовавший нашим полком во время русско-турецкой войны, сказал офицерам речь. Говорил он густым и спокойным басом, поучая нас, как мы должны держать себя на войне.
23 июля полк выступил на войну. Олег пишет в полковом дневнике: “В течение 23 июля, шестого дня мобилизации, эскадроны пятью эшелонами прибывали на станцию Александровскую, где происходила погрузка”…
Утром в этот день перед отъездом в полк я пришел к родителям проститься. Отец поставил меня на колени в углу перед образами, в своем кабинете, и благословил. При этом он мне сказал, чтобы я помнил, кто я, и соответственно этому себя держал и добросовестно служил. Он добавил, что мой дед сказал ему то же самое, когда отец уезжал на турецкую войну в 1877 году. Родители проводили меня на подъезд и долго смотрели мне вслед, пока мой автомобиль удалялся по липовой аллее.
Я приехал в эскадрон. Он весь был в конюшне, лошади были поседланы. Входя по очереди во взводные конюшни, я здоровался с гусарами: “Здорово, братцы, поздравляю вас с походом!” Я никогда не забуду этих минут. Какое счастье поздравлять свой родной эскадрон с походом и вместе с ним идти на войну! Часто ли такое счастье доставалось офицерам полка! С 1878 года и по 1914-й, то есть в течение целых 36 лет, наш полк не воевал. Офицеров, бывших с полком на турецкой войне, давно уже в полку не было. Из них я знал лишь нашего старого командира полка генерал-адъютанта барона Мейендорфа и командира Гвардейского корпуса генерала Безобразова. У нас были офицеры, участвовавшие в русско-японской войне, как полковники Греве и Гревс, ротмистр граф Велепольский и мой эскадронный командир, ротмистр Раевский, но они были на ней в других полках, так как наш полк в русско-японской войне не участвовал.
Глава XXVIII. На фронте в первые дни войны
4-й эскадрон пошел грузиться на Александровскую станцию, которая была недалеко от расположения полка. Мы грузились вместе со 2-м эскадроном, которым командовал граф П.А. Игнатьев (Патька). Я был с ним в добрых отношениях. Он был знающий офицер, с университетским значком, окончивший Военную академию по первому разряду. По окончании академии он вернулся к нам в полк, а не пошел по Генеральному штабу.
Нашим эшелоном командовал полковник Гревс. Грузились мы очень долго. На станцию приехала А.Р. со своей сестрой и сидела в автомобиле. Я присаживался время от времени к ним. Жена Иоанчика и мой младший брат Георгий тоже приехали на станцию. Тут же была и мать Патьки, старая графиня С.С. Игнатьева.
Но вот настала минута расставания. Она была очень тяжела, но приходилось держаться перед эскадроном и присутствовавшими. Наконец, наш очень длинный поезд тронулся. А.Р. и С.В. Гревс (жена полковника), очень расстроенные, махали платками, пока поезд не скрылся с их глаз. С.В. Гревс упала без сознания, а А.Р. вернулась домой совсем больная и слегла в постель. У нее сделался колит на нервной почве, и три дня она провела без сознания. Поправившись, она переехала на свою петербургскую квартиру.
В пути у офицеров был отдельный вагон и у каждого свое спальное место. Патька был сперва очень печален, но постепенно тяжелое впечатление от разлуки с близкими рассеялось и мы пришли в обычное наше настроение. Олег в полковом дневнике записывает: “Настроение всех было восторженное: гусары пели песни, на станциях толпы народа встречали нас криками “ура” и горячими пожеланиями успеха”.
Во время дороги мы разбирали данные нам карты района, где нам предстояло действовать. В наш вагон сели два армейских пехотных офицера. Один из них был пожилой уже капитан. Оба они были одного и того же полка Виленского военного округа. Капитан очень хвалил генерал-адъютанта Ренненкампфа, своего командующего войсками, назначенного командующим 1-й армией, в которую входил и наш полк. Через некоторое время, уже на войне, я узнал от полковника Гревса, что капитан этот пал смертью храбрых.
К 25 июля последний эшелон прибыл на станцию Пильвишки, и вечером этого же дня полк расположился биваком в районе деревень Верокишке – Уштиловье – Антоново, верстах в 4-х от станции. Лейб-гусары в составе 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии вошли в число конницы 1-й армии. В состав 1-й армии входили 20-й, 4-й и 3-й армейские корпуса; кавалерия: правый конный отряд генерала Хана-Нахичеванского – 1-я и 2-я Гвардейские кавалерийские дивизии и 2-я и 3-я кавалерийские дивизии, последние без казачьих полков. Левый конный отряд генерала В. Гурко – 1-я кавалерийская дивизия (армейская конница).
Когда, выйдя из поезда, мы пошли на бивак, моя Ольнара была очень в духе, потому что застоялась в вагоне.
Того же числа корнету графу Игнатьеву с его командой связи было приказано захватить одного немецкого подданного, жившего на заарендованном участке и занимавшегося, по полученным от местных жителей достоверным данным, шпионажем, выслеживанием передвижений русских войск и сигнализацией. Окружив дом, граф Игнатьев его арестовал и отправил в штаб-квартиру 1-й армии. При этом было арестовано еще три немца.
26 июля полк отдыхал на биваке до 5 часов пополудни, когда внезапно пришло приказание седлать лошадей. В 6 часов все эскадроны выступили в местечко Пильвишки, где находился штаб 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Оттуда наши полки с артиллерией двинулись на фольварк Романишки. Скоро стемнело. Наступила полная ночь. Несколько раз мы останавливались. Впереди был слышен грохот колес орудий, которые переправлялись через мосты. Во время этого перехода мы все видели, как впереди и по сторонам от нас время от времени вспыхивали белые огни. Вспышки происходили на отдельных хуторах, расположенных на ровной местности. Очевидно, то была шпионская сигнализация противника. Она была так хорошо организована, что все старания наших разъездов ее перехватить не увенчались успехом. Часам к 10 вечера стал накрапывать дождик; глинистая почва дороги обратилась в какую-то жижу, что очень затрудняло движение повозок. К 12 часам ночи наша дивизия сделала переход в двадцать верст и подошла к фольварку Романишки. Наш полк расположился в поле на южной стороне дороги, тогда как по северной встали лейб-драгуны. К этому времени дождь усилился.
К большой скирде подъехал наш офицерский походный буфет под названием “Филька”, вокруг которого черными силуэтами засновали офицеры. Разводить костры было строго запрещено, и мы находились все время в полной темноте. Все спали не раздеваясь, зарывшись в скирде.
Не могу сказать, чтобы такая ночевка была приятна. На мне были новые “личные” сапоги, красивые на вид, но – увы! – они промокли. Как только стало возможно, я сменил на старые, сделанные в Гвардейском экономическом обществе. Они были некрасивы, но зато не промокали.
27 июля в 5 часов утра всей дивизии было приказано выступить к лесу восточнее фольварка Котовщизна, куда мы прибыли к семи часам утра и где полк стал в резерве. С утра шел дождь, но мало-помалу стало разгуливаться. Командир бригады, командир полка и офицеры вышли на опушку леса, с которой ясно был виден городок Владиславов, а за ним постройки немецкого города Ширвиндта. Носились слухи, что в последнем находится батальон пехоты противника, что на вышке кирки стоит пулемет для обстрела моста через пограничную речку Шешупу. Вследствие этого, с целью рекогносцировки впереди лежащей местности, были высланы разъезды от полков дивизии. В это же время 5-я батарея выехала на позицию, и мы с минуты на минуту ожидали, что завяжется бой. Но вот наступил десятый час, потом одиннадцатый, а перестрелка все не начиналась. В двенадцатом часу полку было приказано пройти лес обратно и расположиться биваком на западной его опушке. Тут нам представилось красивое зрелище: из ярко освещенного солнцем, еще мокрого от ночного дождя леса выскочила на ржаное поле напуганная пара коз. Несколько гусар пустились за ними верхом вдогонку.
Офицеры расположились тут же на отдых. Предыдущая дождливая ночь утомила, теперь же сделалось так жарко, что можно было, раздевшись, спать на земле.
В 6 часов полку было приказано вступить в Ширвиндт, который вследствие обхода, совершенного уланами, был к вечеру брошен занимавшим его ландвером. Немало досадовали мы на то, что так долго простояли перед этим городом, не подозревая, что пехоты в большом количестве там вовсе нет. Но несмотря на это, все с нескрываемой радостью стремились вперед к мосту, отделявшему Россию от Германии. Вот и пограничный столб, и речка Шешупа, а за ней первые улицы с вывесками на немецком языке…
Какую противоположность представлял Ширвиндт по сравнению с грязным и непривлекательным Владиславовом! Чистенький город, повсюду была видна аккуратность. Первое, что бросилось мне в глаза, было разбитое стекло в витрине магазина – неизбежный след войны!
Комендантом города был назначен полковник Гревс, а его помощником – граф Остен-Сакен. Немедленно было приказано открыть погреба и разбить все находящиеся в них бутылки с вином. Жителям предложили оставить город. Двенадцать человек были взяты заложниками. Оставленное в магазинах оружие было тут же конфисковано, а вся корреспонденция пересмотрена.
Офицерское собрание было устроено в гостинице, на площади города, где находится памятник Вильгельму I. Тут же по тенистой аллее, окаймляющей кирку, поставили лошадей. Было отрадно лично убедиться в том, с каким уважением относятся наши солдаты к чужой религии в то время как, по газетным известиям, австрийцы кощунственно надругались в Боснии над православной церковью, где растоптали ногами Святые Дары. Ничего подобного у нас не могло случиться. Многие офицеры лично видели, как гусары входили в кирку, снимали фуражки и крестились.
В 7 часов вечера 2-й и 5-й эскадроны под командой ротмистра графа Велепольского были высланы с пулеметным отделением лейб-гвардии драгунского полка и подрывными вьюками на станцию Виллюнен с целью ее взорвать. От 4-го эскадрона были высланы четыре разъезда: первый под моей командой, второй с корнетом Кисловским в Скорблинен, третий с корнетом Безобразовым на Зодраген и четвертый со взводным Денисовым в район Виллюнен. В каждом из них было по 12 гусар. В то же время вокруг Ширвиндта были поставлены полевые караулы.
Назначенные для взрыва станции Виллюнен эскадроны выступили из расположения полка в 5 часов дня. Подле деревни Кузьмине дозорные были обстреляны, после чего деревня была занята. Около станции гусары встретились с немецкими уланами, один улан был убит. В это время штаб-ротмистр Кушелев взорвал железную дорогу у Виллюнена в пяти местах. Эскадроны возвратились в Ширвиндт.
Теперь я скажу подробно о моем первом боевом задании. Перед отправлением на разведку разъезды 4-го эскадрона получили свои задачи от полковника Звегинцева. Мне был дан целый район в окрестностях Ширвиндта, который я должен был наблюдать в течение чуть ли не суток. По желанию эскадронного командира со мной поехал эскадронный вахмистр подпрапорщик Ященко. Найти данное мне направление было чрезвычайно просто, потому что на всех немецких дорогах стояли надписи. Самые дороги были в замечательном состоянии.
Проехав немного, я увидел низкий дом или амбар, перед которым стояло несколько человек местных жителей. Они недружелюбно и со страхом смотрели на меня. Я к ним подъехал и сказал по-немецки, чтобы они не боялись и что я их не трону.
Двигаясь дальше, мы подъехали к хутору, на котором решили остановиться и передохнуть. На этом хуторе жила немка с двумя сыновьями: одному было лет 16, а другому – 12. Поставив часового с подчаском, мы въехали во двор, где гусары и расположились, а я с Ященко вошли в дом. Мы вынули бывшие с нами закуски, хозяйка дала нам молока и сделала яичницу. Я ей сказал, что моя мать – урожденная немецкая принцесса, что мой родной дядя – герцог Саксен-Альтенбургский и что германская кронпринцесса Цецилия приходится мне троюродной сестрой. Она была очень удивлена и сначала не верила.
Отдохнув, мы двинулись дальше, дружески распрощавшись с хозяйкой хутора. Я старался быть любезным, чтобы оставить о нас, русских, хорошее впечатление. Всю ночь с разъездом я осматривал данный мне район, но противника нигде не обнаружил. На следующий день я продолжал наблюдать данный мне район и опять с тем же результатом. Приближаясь на обратном пути к Ширвиндту, я встретил на большой дороге, подле дома, пожилого крестьянина, который так нас испугался, что расплакался. Он думал, что мы подожжем его дом. Наконец, мы вернулись обратно в Ширвиндт. Наши офицеры сидели перед гостиницей под навесом на городской площади.
Кисловский, Игорь и я жили в палатках, которые поставили рядом. У меня была такая палатка, в которой можно было только лежать. Я спал в мешке, подбитом мехом, он был очень удобный и теплый.
30 июля была дневка. Служилась обедня и молебен по случаю дня рождения наследника Алексея Николаевича: ему исполнилось десять лет. Служил наш полковой батюшка перед походным престолом. Во время литургии поднялся ветер, и возду′хи над Святыми Дарами, стоявшими на походном жертвеннике, стали развеваться, стало страшно, как бы не упала чаша. Я подошел к жертвеннику и придержал воздухи.
Я раза два в эти дни встретился с Иоанчиком – он был ординарцем при штабе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Второй раз это случилось, когда мы проходили через Владиславов, и мы успели обменяться с ним несколькими словами.
1 августа, смененные драгунским полком, мы вышли из Ширвиндта и расположились квартиро-биваком в деревне Мейшты, что к северу от Владиславова. Офицеры уже расположились поэскадронно в отдельных дворах, собрание приготовляли рядом, во фруктовом саду, лошади были расседланы… Вдруг внезапно под городом послышались пушечные выстрелы, огонь начал быстро усиливаться. Генерал Шевич послал брата Олега к начальнику дивизии узнать, что будет приказано делать Гусарскому полку. Начальник нашей дивизии генерал Раух велел полку седлать и, оставаясь на правом фланге наших войск, ожидать дальнейших приказаний.
4-й и 5-й эскадроны рассыпались в цепь на опушке леса под командой графа Велепольского. Когда мы подходили к лесу, мы встретились с кирасирами его величества. Во главе их находился полковник Коленкин. При этом мы любовались двумя солдатами, которые перед нами в полуверсте подле дороги собирали телефонную проводку под шрапнельным огнем и делали свое дело, не торопясь, совершенно спокойно. Немецкие шрапнели ложились уже в самом Владиславове, где начались пожары.
По дороге из города кучками и поодиночке потянулись напуганные жители. Между ними мы узнали начальника почтового отделения, который спешно уносил почтовые бумаги. Он подошел к офицерам вручить только что полученные на их имя телеграммы.
Около 5 часов к генералу Шевичу подъехал драгун, который в полном замешательстве стал докладывать, что Ширвиндт уже занят немцами и что войска отступают. Никто, конечно, не поверил ему, тем более что стрельба немецкой артиллерии стала утихать. Вскоре затем пришло известие, что противник от Ширвиндта отступил.
Немецкая артиллерия принесла довольно значительные повреждения обоим городам: как Ширвиндту, так и Владиславову. Много строений в первом из них было разрушено, между прочим, был разгромлен дом, в котором за два часа до этого находилось наше собрание. Крыша и колокольня кирки носили следы шрапнельных пуль. Большая часть снарядов ложилась в центре города, на площади. Во Владиславове шрапнели также попали в несколько домов. Одна из них убила смотревших в окно двух еврейских детей. Несмотря, однако, на все эти происшествия, жизнь в городе к вечеру опять закипела и жители стали возвращаться – многие из них даже вовсе не уходили.
Наша артиллерия не осталась в долгу перед немцами. Один из наших снарядов убил командира неприятельской батареи, причем пуля пробила подзорную трубу, в которую он смотрел. Эту подзорную трубу и еще много других трофеев захватили наши доблестные артиллеристы, когда немецкие пушки были впопыхах увезены.
День 1 августа останется у нас навсегда в памяти, как первый день серьезного боя в эту войну.
5 августа было солнечное затмение, и как раз в те минуты, когда оно происходило, наша дивизия встретилась с 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией. Я был рад встретить мужа моей сестры Татианы Костю Багратиона. В колонне обоза я увидел моего камердинера З. – он был призван на военную службу и попал в конную гвардию в денщики к Иоанчику.
6-го числа был известный бой Гвардейской конницы под Каушеном, во время которого командир 3-го эскадрона конной гвардии ротмистр барон Врангель (впоследствии главнокомандующий Добровольческой армией) атаковал во главе своего эскадрона немецкую батарею.
К сожалению, я не участвовал в этом бою, потому что 4-й эскадрон был назначен охранять обоз 1-го разряда. Слышал впереди выстрелы, но не знал, что происходит. Мне помнится, что я стоял возле скирды сена, когда увидел несколько конногвардейцев. Я их спросил, что происходит впереди. Один из них, бойкий парень, ответил мне, что конная гвардия, как всегда, побеждает. Мне очень понравился его ответ.
После боя наш эскадрон был назначен в охранение. Ясно помню, что когда полк собрался вместе, уже почти стемнело. Я стоял в группе наших офицеров, говорили, что Врангель убит; Гревс и Велепольский жалели убитого, как хорошего офицера, которого они знали еще по японской войне. Вдруг в этот момент появляется сам барон Врангель верхом на громадной вороной лошади. В сумерках его плохо было видно и он казался особенно большим. Он подъехал к нам и с жаром, нервно стал рассказывать, как он атаковал батарею. Я никогда не забуду этой картины.
В этом бою поручик Кауфман был ранен в нижнюю часть живота. Он умер в госпитале в Вильне, в той самой палате, в которой через два месяца умер мой брат Олег. Его напутствовал, как и Олега, протоиерей отец Георгий Спасский, приобретший позже, в эмиграции в Париже, громадную известность и популярность.
Когда в Петербурге были получены первые сведения о бое при Каушене, жена военного министра пресловутая Е.В. Сухомлинова поздно ночью позвонила А.Р. Вскочив с кровати, А.Р. из другой комнаты подбежала к телефону. Сухомлинова ей сообщила, что произошел большой бой с немцами, что потери большие, но что я и мои братья живы. Адъютант военного министра прочел А.Р. список убитых, в котором было много ее знакомых.
Глава XXIX. Август 1914
Мы участвуем в боевых действиях
В эти дни 3-й и 4-й эскадроны под командой полковника Гревса заняли город Рессель, где встретились с уланами ее величества. Уланские офицеры и наши завтракали вместе в ресторане. Странно было сидеть за большим столом, покрытым белой скатертью, и пользоваться ножом и вилкой. Я почувствовал, что отучился есть в культурной обстановке, питаясь наскоро в поле и на биваках. Во время завтрака пришла депутация от города с повязками Красного Креста на рукавах и вручила командующему уланами полковнику Княжевичу контрибуцию в размере тридцати тысяч германских марок. Среди депутации был и католический священник, тоже с повязкой Красного Креста.
Рессель был красиво расположен, и я любовался видом на долину перед городом, по которой вилась обсаженная деревьями дорога. По ней мог подойти противник, чтобы выгнать нас из города. К вечеру мы вернулись на бивак, поместились в каком-то помещичьем доме и спали в большой комнате, в которой висела гравюра, изображавшая Вильгельма II молодым.
На следующее утро перед выступлением полковник Гревс, стоя перед маленьким образом в углу, в котором он спал, молился Богу. Я ясно вижу его в защитной гимнастерке, с красным боевым ремнем. Гревс был очень симпатичный человек и прекрасный товарищ в мирной обстановке, а на войне еще лучше: всегда спокойный, распорядительный и храбрый. Находиться под его командой было одно наслаждение.
В палатке я спал только лишь в первые дни войны, потом мы всегда останавливались в домах, что, конечно, было гораздо приятнее. Наша собранская кухня действовала отлично, и мы хорошо ели. Старший собранский вестовой Мишенин был распорядительным и толковым человеком. Но было особенно приятно получать из дому съестные припасы: мы всегда делились ими. А.Р. посылала мне, что могла.
Олег в эти дни по-прежнему находился в штабе.
“Я очень доволен, – писал Олег 15 августа генералу Ермолинскому. – Отношения прекрасные… Я пишу дневник полка и нахожусь при штабе, где приходится много работать и бывать под огнем. Но все же хотелось бы в строй”.
Вспоминаю, как мы 13 августа подходили к крепости Тапиау. Мы захватили с налету укрепленный лес и определили, что правый берег Деймы сильно укреплен и занят пехотой противника. Держали позицию до прихода пехоты. С темнотой полк отошел в направлении Велау. Дело было так: 4-й эскадрон подходил к лесу по полю, справа от нас шло шоссе, обсаженное деревьями, перед нами – небольшой лес, за лесом – спуск к реке, через нее – мост. Совершенно неожиданно нас стали обстреливать с опушки леса. Мы сразу же повернули и полным ходом стали уходить. Наконец, мы остановились, спешились и рассыпались в цепь. В это время я остался командовать эскадроном, потому что ротмистр Раевский уехал за приказаниями. Мы начали наступать на лес. Не помню, стреляли ли в это время или нет. Брат Игорь был со мной, но затем почему-то надо было отступать. Чтобы гусары не думали, что мы отступаем, брат Игорь и я за ним начали кричать: “Заманивай! Заманивай!” – вспомнив, что так делал Суворов, чтобы подбодрить свои войска. И это подействовало. Мы снова двинулись вперед. На опушке леса оказались свежие окопы, оставленные неприятелем. Видимо, противник отступил к Тапиау.
На ночь нас отвели куда-то очень далеко, в направлении Велау. Когда мы шли от леса по шоссе, полковник Греве послал меня сказать полковнику Гревсу, чтобы мы ввиду близости противника шли без разговоров и не курили. Заночевали мы в какой-то большой усадьбе.
В двадцатых числах августа наша дивизия стала на отдых. Наш полк расположился биваком в деревне Рейшенфельд, в которой оставался несколько дней. Когда наша дивизия приближалась к местам своего отдыха, мы повстречались на дороге с шедшей нам навстречу 1-й кавалерийской дивизией, которой командовал генерал В.И. Гурко, сын фельдмаршала. Он ехал во главе своей дивизии. Вид у него был настоящий кавалерийский. Сидел он верхом лихо, приятно было на него смотреть, в особенности если его сравнивать с нашим генералом Раухом, у которого вид был отнюдь не спортивный. Раух храбростью тоже не отличался.
В моем представлении начальник кавалерийской дивизии должен быть всегда впереди, подбадривать свои полки и вообще быть примером лихости и храбрости. Ничего этого не было у Рауха. Он был всегда злой и не в духе, с полками не здоровался и нашими симпатиями не пользовался. Но от него нельзя отнять, что он был знающим генералом. Так как его нервы не выдерживали звука выстрелов, то ему бы следовало не дивизией командовать, а сидеть где-нибудь в большом штабе. Там он принес бы больше пользы. Так думали многие из нас.
В Рейшенфельде Олег, Игорь и я поместились в одном доме. Вместе с письмами пришли посылки из дому. Олег был очень энергичен и добросовестно вел полковой дневник, для чего расспрашивал офицеров об их действиях. Я старался использовать это время, отдохнуть и набраться сил.
Все трое мы послали однажды дяденьке телеграмму о том, что с благодарностью думаем о нем и следуем его советам: ведь два года подряд, живя в Павловске, мы ежедневно ездили с ним верхом в любую погоду и вообще были под его надзором. Я обязан ему, в частности, тем, что я знал, как мне одеваться соответственно погоде. Дяденька телеграммой был очень тронут.
В день приезда генерала Ермолинского, который приехал нас навестить, меня послали в штаб дивизии с каким-то поручением. В штабе дивизии мне вручили пакет, который я должен был отвезти в штаб генерала Хана-Нахичеванского. Я поехал туда с несколькими гусарами, но лишь вечером добрался до штаба конного отряда. Тут я заночевал и только на следующий день увидел корпусного командира.
Генерал Хан-Нахичеванский принял меня, и я отдал ему пакет. Рука его была на перевязи, он был легко ранен. Оказалось, что я привез представления к наградам. Хан, который хронически всюду опаздывал, и в этот день все сидел у себя в комнате, когда пора было выступать.
Исполнив поручение, я отправился обратно и добрался до штаба нашей дивизии, когда уже пришли на бивак. Генерал Раух сидел в кресле, видимо, в дурном настроении. В этот день он едва не был убит снарядом, попавшим в фабричную трубу, подле которой он сидел со своим штабом. Когда я вошел, генерал Раух неприятным тоном разговаривал со своим начальником штаба полковником Богаевским.
Едва мы начали располагаться на биваке, как нас подняли и перевели в другое место, потому что Раух был в паническом настроении и ему все грезилась какая-то опасность.
28 августа наш эскадрон был послан с места ночлега, из деревни Марценшики, на разведку на юг в направлении озер, около Орловен.
Не доходя Нейдзальского леса, из эскадрона были высланы веером через лес и в обход его шесть разъездов: три офицерских и три унтер-офицерских. Ядро эскадрона втянулось в лес и, дойдя до озер с дачным поселком и охотничьим домиком, остановилось уже в сумерках.
У опушки леса разъезд, которым я командовал, увидел на дороге трех немецких улан. Я дал знак стрелять. Двое упало, третий удрал. Одного из упавших мы нашли. Мне стало как-то жаль убитого, и я его перекрестил.
Когда мы вернулись к эскадрону, я застал наших офицеров в очень тревожном настроении: выяснилось, что лес, в котором мы находились, был окружен наступающими немецкими войсками. По всем дорогам через лес, а также восточное и западнее его, двигались на северо-восток германские колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, обходившие эскадрон, который таким образом оказывался в мешке. Свободным был только пройденный уже путь на Гольдап, до Орловен оставалось еще верст десять – пятнадцать.
Положение создавалось тяжелое.
Здесь я уступаю место моему однополчанину поручику С.Т. Роопу: “Теперь только нам точно известно местонахождение обходивших неприятельских частей, а тогда эскадрон видел только ближайшее окружение себя противником и знал только, что свободный для него обратный путь – лишь уже пройденный им. О движении противника было послано донесение в штаб 2-й кавалерийской дивизии в деревне Соколькен, где предполагался согласно приказа по дивизии ночлег. Донесение отправлено было с тремя гусарами, в том числе и вольноопределяющимся Эрдели. Эскадрон же остался в лесу для дальнейшего наблюдения. Часа через три появился Эрдели пешком и доложил, что из деревни, вероятно Соколькен, в которой должен был находиться штаб дивизии, посланные с донесением были обстреляны противником, причем оба ехавшие с ним гусара и их лошади, так же как и его, Эрдели, лошадь, были убиты; но старший успел передать ему донесение. Не имея возможности пробраться через занятую уже противником местность, он вернулся пешком к эскадрону…
Решено было не задерживаться более и отходить, укрываясь лесами, в направлении на Гольдап. Когда в полной темноте подошли к северной опушке леса, услышали впереди в направлении Гольдапа сильную артиллерийскую и ружейную стрельбу (ночной бой у Гольдапа). Ночь была туманная, сырая, мгла не давала видеть вдаль. Продолжать движение в тумане, когда неизвестно где противник и где свои, рискованно: попадешь под обстрел и противника, и своих. Решили простоять в лесу до рассвета, если туман ранее не рассеется.
Вошли вновь немного в лес, выставили ближайшее охранение, и эскадрон, не расседлывая, стал ждать рассвета, держа коней в поводу…
Когда 29 августа (заря только что начала заниматься) штаб-ротмистр Волков вышел на опушку леса на холм, он увидал невдалеке нескольких людей, одетых как будто в русские шинели. Посланный унтер-офицер доложил, что это разведывательный эскадрон 3-го гусарского Елизаветградского полка со своим командиром штаб-ротмистром Небо. Подойдя к Небо, Волков узнал от него, что он только что наблюдал, как в лесу, где скрывался 4-й эскадрон, с западной его опушки втягивалась неприятельская пехотная колонна с артиллерией; узнали от Небо также, что в Гольдапе находится конный отряд генерала Хана-Нахичеванского (что было неверно, так как ночью Гольдап был занят 8-й герм. кав. дивизией). Оставаться дальше в лесу не представлялось возможным. Решено было уходить на Гольдап…
Сняв посты, эскадрон, вытянувшись из леса, взял направление на Гольдап (вспомнив, что по сведениям, данным Небо, он был занят отрядом генерала Хана-Нахичеванского) и, поднявшись на хребет между двумя железными дорогами, перед спуском в долину, по другой стороне которой на командных высотах находится Гольдап, увидали, что над Гольдапом рвутся шрапнели. Одновременно сбоку влево – увидали сильную пыль от кавалерийской колонны не менее полка, на рысях шедшей наперерез 4-му эскадрону и вскоре различили, что с кавалерийской колонной идет и батарея. Как теперь известно (по дневникам от 29 августа германских полков), это был 8-й Германский уланский полк с батареей 52-го артиллерийского полка и пулеметной ротой, продвигавшиеся с ночлега на Гольдап.
Ротмистр Раевский повел эскадрон на рысях в сторону Гольдапа, выслав в разные стороны четыре разъезда. Все разъезды донесли о присутствии противника, и почти сразу же эскадрон попал под обстрел справа неприятельских пулеметов. Произошло замешательство.
На что решиться? Сзади лес, занятый неприятельской пехотой с артиллерией: было видно, как батарея занимала уже позиции на опушке леса. Справа, в направлении на Гольдап, пулеметный огонь. Слева – заскакивающая наперерез эскадрону кавалерия (не менее полка). Оставалось направление на северо-запад, но впереди болото, и в этом же приблизительно направлении быстро движется кавалерийская неприятельская колонна.
Единственная надежда – это проскочить через остающийся не занятым еще противником коридор, но сильно болотистый и с широкими, обрывистыми осушительными каналами; и если идущая наперерез колонна успеет перерезать путь, то пробиваться через нее.
Штаб-ротмистр Волков скомандовал: “3а мной!” – и повел эскадрон вдоль ручья в обход западного холма, чтобы прикрыться от пулеметного огня к поселку между Клессуовен и Гольдапом. С севера и юга поселка – болото. Южное – лугового вида с озерцами и каналами, а к северу от поселка – покрытое зарослями кустарника. Обогнув холм вдоль ручья, дорога поворачивала на запад к задам поселка через узенький мост и терялась в болотистом лугу, пересеченном каналами и ямами. Подошли к болоту – единственный выход из мешка! В то время как эскадрон подходил к мостику, неприятельская батарея (очевидно, 4 орудия) с открытой позиции на холме открыла по эскадрону огонь.
Штаб-ротмистр Волков скомандовал: “Эскадрон за мной, врозь!” Эскадрон пошел прямо вдоль поселка по топкому лугу. Взводы рассыпались по топи, стремясь к заманчивым холмикам, казавшимся и только казавшимся сухими. Часть взводов свернула за ротмистром Раевским по проселочной дороге в поселок, а остальные продолжали идти в северо-западном направлении под огнем батареи.
Снаряды, попадая в болото, рвались плохо. Появились все-таки раненые. Эскадрон под непрестанным обстрелом артиллерии и звуках шлюпающих в болото снарядов еще продвигается вперед, идти можно только шагом: болото по брюхо коням. Гусары часто получают души от недолетов и перелетов снарядов, зарывающихся в болото. Лошади и люди после большого перехода и бессонной ночи ослабли, ослабли и подпруги, и многие седла переворачиваются под брюхо коней. Шинели промокли, затрудняют движение спешенным гусарам, потерявшим лошадей, завязших и затянутых болотом.
Стакан снаряда попадает в круп (оторван левый круп) кобылы Аллы штаб-ротмистра Волкова. Оба падают. Кобыла медленно затягивается болотом… К штаб-ротмистру Волкову добирается его вестовой гусар Ковалев, берет его к себе на коня, и вдвоем на одном коне они продолжают бороться с топью. Лошади ротмистра Раевского и поручика Тиран убиты также целыми, неразорвавшимися снарядами.
Подходя к осушительным каналам, кони, бредущие по брюхо в вязком болоте, не могут перескочить с шагу и с места широкие канавы, обрываются, падают на топкое вязкое дно и не в силах подняться остаются лежать, постепенно затягиваются топью и исчезают… Обесконенные гусары ползут по болоту, некоторых больше не видно на поверхности… Батарея продолжает обсыпать снарядами луг и поселок, но потери от огня незначительны: снаряды зарываются в топи. Шрапнельной пулей ранен в спину гусар Макаров, которому штаб-ротмистр Волков делает перевязку, вылив предварительно в рану флакончик йоду.
Часть гусар вместе с корнетом Кисловским стала выбираться за деревню на сухие, как казалось, места, но там они еще более завязали. Конь Добрый Кисловского ловко шел по болоту и выбирался сравнительно легко, но, ошеломленный непрестанными перелетами и недолетами снарядов у самых почти ног, запнулся; корнет Кисловский с седлом сполз ему случайно под брюхо и, не будучи в состоянии выправить седло, так как сам увяз в болоте, повел его в поводу, ища твердой почвы, но ее не оказалось; кусты, к которым он пробирался, скрывали еще большую топь. Впереди оказалась канава, переходя которую корнет Кисловский завяз по пояс. Пришлось бросить коня и выбираться самому, что и удалось не без большого труда. Конь, сделав несколько усилий, погряз по горло…
Рядом с корнетом Кисловским ранен гусар Марьин, – снаряд попал в лошадь, а осколок в ляжку гусара. Кисловский помог ему выбраться на сухое место, но так как перевязочных средств не было (они остались на седле с затонувшим конем), то Кисловский довел Марьина до дороги и велел идти в деревню, а сам стал собирать пеших гусар. По пути из болота корнета Кисловского нагнал унтер-офицер Пономарев и хотел дать ему свою лошадь, но Кисловский отказался и пошел дальше пешком.
Князь Игорь Константинович после команды “Врозь” – остановился и стал пропускать всех людей взвода вперед и, пропустив последнего, двинулся направо от поселка, вдоль канавы. Ротмистр Раевский шел в это время по дороге на поселок.
Князь Гавриил Константинович, желая выйти на дорогу, хотел перепрыгнуть канаву, но его конь стал вязнуть и взять канаву не мог. Его высочество слез с коня и перетащил своего Парнеля через канаву. Когда князь уже подъезжал к домам поселка, почти выбравшись из болота, ехавший сзади него вольноопределяющийся Эрдели доложил ему, что Игорь Константинович остался позади один, пеший перед канавой и перейти ее, видимо, не может. Гавриил Константинович со своим вестовым Манчуком и Эрдели повернули назад, чтобы помочь Игорю Константиновичу. Близкий разрыв шрапнели заставил их лошадей инстинктивно рвануться обратно, но, овладев ими, они вновь кинулись к князю Игорю Константиновичу, который совершенно один ходил по ту сторону канавы, держа свою лошадь в поводу и не зная, как перейти канаву.
В этот момент влево от них появился шедший рысью прусский уланский разъезд. Расстояние до разъезда было так невелико, что ясно можно было различить бело-черные флюгера на пиках. Князь Гавриил Константинович стал кричать брату, чтобы тот скорее переходил канаву, иначе их всех заберут в плен. Игорь же Константинович вместо того, чтобы попробовать перейти канаву, хотел обогнуть ее слева, чтобы выбраться на дорогу, но стал увязать и медленно погружаться в топь вместе со своей любимой рыжей лошадью…
Когда, наконец, с неимоверными трудностями и опасностью добрались до князя Игоря Константиновича, он был затянут в болото уже до самого подбородка, торчали над топью только голова и поднятые руки… Лошади уже не было видно… Когда голова его любимой лошади начала окончательно опускаться в болото, его высочество перекрестил ее…
Наконец, выбрались на более или менее твердую почву. По счастию, германский разъезд исчез. Вероятно, увидев, что эскадрон увязает в болоте, немцы решились идти дальше.
Гусар Кертович дал князю Игорю Константиновичу своего коня, а тот посадил Кертовича к себе на переднюю луку. Князь Гавриил Константинович также взял к себе на переднюю луку безлошадного гусара Рябых. И, таким образом, двинулись к поселку.
Когда мы добрались до домов, то эскадрона не было видно. Стали собирать отдельных потерявших в болоте своих коней гусар и, собрав человек 10–15, в том числе и нескольких гусар из разъезда 6-го эскадрона, взяли направление на предполагаемое местонахождение наших войск. По дороге из поселка были опять обстреляны. Вскоре увидали всадника, оказавшегося казаком. На душе сразу стало легче: казак мирно ехал по дороге, следовательно, не так уже далеко и свои. Дальше вышли на свою пехоту, оказавшуюся одним из полков 29-й пех. див. 20-го армейского корпуса. В полку всех весьма радушно приняли и накормили”.
Когда мы, наконец, измученные, добрались на бивак, выяснились потери: семь гусар пропали без вести – вероятно, убиты либо засосаны болотом, убиты двое, посланные с донесениями, пятеро ранено, 37 коней убито или потонуло в болоте…
На следующее утро мы двинулись на соединение с полком. Мы двигались медленно, временами попадая в гущу других отступающих колонн. В это время русские войска начали отходить из Восточной Пруссии к своим границам. Одно время мы шли среди колонны, которую замыкали донские казаки. Они были панически настроены.
Совершенно не помню, где мы ночевали, во всяком случае лошадей не расседлали. На следующий день прошли через Тракенен и Гумбинен. В одном из этих городков мы попали в дом, из которого только что ушел противник. На кухне оказалась вареная курица под белым соусом. Мы с Игорем с удовольствием ее съели.
В Тракенене, известном прусском конном заводе, я пошел искать себе лошадь. Я выбрал себе две больших рыжих лошади, на одну из них сел, а другую взял с собой, к большому неудовольствию одного из старших заводских служащих, который смотрел зверем, но не решался ничего сказать. В этот день, то есть 30 августа, мы проходили мимо штаба армейского корпуса, которым командовал генерал Хан-Алиев, производивший симпатичное впечатление. Начальник его штаба послал Игоря в разъезд, – мы совсем не были ему подчинены, но эти штабные господа любили пользоваться кавалерией, когда она им бывала нужна.
Вокруг нас и вместе с нами шли отступавшие войска. Мы устали, но усталость как-то мало чувствовалась. Уже совсем стемнело, кругом пылали пожары. Мы встретились с каким-то офицером, товарищем Раевского. Он предложил Раевскому поджигать немецкие дома. Раевский приказал мне поджечь находившийся неподалеку от нас дом, но я отказался исполнить это нелепое и жестокое приказание, считая его бесчеловечным. По счастью, Раевский не настаивал.
Наконец, за Вержболовым мы встретились с нашим полком. Я страшно устал и надеялся отдохнуть и поспать после бессонных ночей. Офицеры нашего полка лежали на полу в халупе. Между ними было трудно проходить, и кто-то наступил на голову командиру полка генералу Шевичу.
Однако вместо отдыха полковник Звегинцев послал меня в сторожевое охранение и велел связаться с лейб-драгунами. Я с заставой поместился у амбара с сеном. Амбар находился возле шоссе из Вержболова в Ковно. Всю ночь по нему двигались наши отступающие войска. Я лег в амбаре на сено и все же поспал. На следующее утро я присоединился со своими гусарами к полку, и мы продолжали отступать и снова шли весь день и всю ночь.
Наша дивизия, отступая из Восточной Пруссии, двинулась на юг вдоль нашей государственной границы по направлению к озеру Выштынец, имея в авангарде лейб-драгун. В арьергарде шли уланы ее величества. В это время по всем дорогам, идущим на восток, двигались части 1-й армии генерал-адъютанта Ренненкампфа и их обозы, преследуемые немцами.
Около 10 часов утра 31 августа лейб-драгунский головной эскадрон столкнулся с противником. Началась перестрелка, и колонна остановилась. Командир лейб-драгун граф Нирод получил приказание от генерала Рауха нарядить несколько эскадронов для прикрытия отступавших пеших батарей, оторвавшихся от своих частей. Не успел граф Нирод отдать соответствующее приказание, как лейб-драгуны были обстреляны шрапнелью, причем лошадь графа была ранена пятью шрапнельными пулями.
Генерал Нирод не был осведомлен генералом Раухом, куда направлялась наша дивизия. Картина была не из веселых. Вдали пылали деревни, и зарево освещало всю местность. Слышны были разрывы снарядов и крики погонщиков обозных лошадей, выбивавшихся из сил. Все дороги были сплошь запружены обозами. Хаос стоял невероятный. При этом моросил мелкий дождь. Наша дивизия медленно двигалась на измученных лошадях, неоднократно останавливалась, так как ей приходилось проскакивать через пересекавшие ее путь обозы.
Моя лошадь была под седлом уже вторые сутки и качалась от усталости. Во время привалов, когда мы спешивались, я садился у борта дороги и на минуту засыпал. Из-за того, что приходилось отступать, настроение у нас было подавленное. Наконец, в Шильвишках можно было отдохнуть. Я здорово устал, но, несмотря на утомление, все же пошел на телеграф, который был далеко, отправить А.Р. телеграмму. Я посылал ей телеграммы, когда только было возможно. Обычно Рымарь давал их мотоциклистам штаба дивизии, которые очень добросовестно доставляли их на телеграф.
Каждый день генерал Раух далеко отводил нас на ночлег, потому что боялся оставаться на ночь вблизи противника. Эти переходы на ночлег были всегда большие и потому утомительные. Мы шли в темноте, на хвосте друг у друга, усталые, и дремали, сидя верхом.
Глава XXX. Сентябрь 1914
Последние записи в дневнике брата Олега
Между 20 августа и 11 сентября братом Олегом не сделано в дневнике ни одной записи. Пропущен также бой под Каушеном 6 августа. Правильнее всего предположить, что записи делались в другой тетради, но что эта тетрадь в походе утеряна.
Сперва Олег был при штабе полка. Но он все время стремился в строй. Наконец, его перевели во 2-й эскадрон, однако ответственных поручений ему не давали и берегли его, потому что, несмотря на всю свою добросовестность и старание, он службы еще не знал. Офицеры эскадрона очень полюбили Олега и были с ним в самых дружеских отношениях.
11 сентября Олег записывает: “Утром, в 8 часов, получено было приказание строиться за деревней на поле оставшимся эскадронам ввиду приезда командующего армией. Люди, оставшиеся с больными лошадьми ушедших на разведку эскадронов, тоже выстроены. Вскоре было приказано перевести полк на другую сторону деревни и встать около драгун. Погода стояла хорошая. Между шоссе и Кошанами на поле мы ожидали приезда генерала Ренненкампфа. Он поздоровался с полком и поблагодарил нас за усердную работу. После молебна, который был отслужен протоиереем Шавельским, была раздача орденов”.
Когда приезжал генерал Ренненкампф, полк был выстроен в пешем строю, в резервной колонне. Я стоял на 4-м взводе. Ренненкампф приехал в сопровождении князя Белосельского-Белозерского, командовавшего при объявлении войны 1-й бригадой нашей дивизии. Но как только началась война, Ренненкампф прикомандировал его к себе. У Ренненкампфа был, как всегда, очень бравый вид. Офицеров он не собирал и отдельно с ними не разговаривал.
Решительное наступление русских войск прекратилось только 11 августа на линии Лабиау – Типиау в 30 верстах от Кенигсберга. Ко времени последовавшего затем отступления армии на Олитскую позицию, полк, равно как и вся 2-я Гвардейская кавалерийская дивизия, был переведен на левый фланг с целью задержать наступление громадных сил противника. Гусары блестяще выполнили свою боевую задачу, хотя и бывали иногда в довольно тяжелом положении, как, например, под Гольдапом.
В десятых числах сентября началось новое наступление, а к 20-му русские войска, беспрерывно сражаясь, подошли вновь к германской границе. О том, что переживал в это время Олег, живо говорит его письмо отцу:
“Не знаю, как и благодарить вас, наши милые, за все, что вы для нас делаете. Вы себе не можете представить, какая радость бывает у нас, когда приходят сюда посылки с теплыми вещами и с разной едой. Все моментально делится, потому что каждому стыдно забрать больше, чем другому, офицеры трогательны. К сожалению, только многие забывают, что нас много и потому какая-нибудь тысяча папирос расхватывается в одну минуту и расходуется очень, очень скоро. Надо посылать много. У солдат нет табака, папирос, на что они очень часто жалуются: “Вот бы табачку али папирос! ” Мы живем только надеждой, что на нашем фронте немцы скоро побегут, – тогда дело пойдет к концу. Так хочется их разбить в пух и со спокойной совестью вернуться к вам. А иногда к вам очень тянет! Часто, сидя верхом, я вспоминаю вас и думаю, вот теперь вы ужинаете, или ты читаешь газету, или Мама вышивает. Все это тут же поверяется взводному, который едет рядом.
Взводный мечтает в это время о том, что Бог поможет разбить немцев, а потом скоро придет время, когда и он, наконец, увидит семью. Такие разговоры с солдатами происходят часто. Иногда очень хочется увидеть вас, побыть с вами.
Я теперь так сильно чувствую это и думаю, и знаю, что вы там, далеко, вспоминаете нас, стараетесь нам помочь. Это очень нас всех ободряет. Я становлюсь “пипс”, и мне стыдно перед товарищами, которые могут заметить, что на глаза у меня навернулись слезы.
Были дни очень тяжелые. Одну ночь мы шли сплошь до утра, напролет. Солдаты засыпали на ходу. Я несколько раз совсем валился на бок, но просыпался, к счастью, всегда вовремя. Самое неприятное – это дождь. Очень нужны бурки, которые греют больше, чем пальто.
Где Костя? Что он? Ничего не знаем. Слыхали и читали у тебя или у Татианы в письме, что его товарищ Аккерман ранен около него. Да хранит его Бог! Все за это время сделались гораздо набожнее, чем раньше. К обедне или ко всенощной ходят все. Церковь полна.
Маленькая подробность! Недавно я ходил в том же белье 14 дней. Обоз был далеко, и все офицеры остались без белья, без кухни, без ничего. Варили гусей чуть не сами. Я сам зарезал однажды на собрание двадцать кур. Это, может быть, противно и гадко, но иначе мы были бы голодны.
Никогда в жизни не было у нас такого желания есть, как теперь. Белого хлеба нет! Сахару очень мало. Иногда чай бывает без сахару. На стоянках картина меняется. Там мы получаем вдруг шоколад, даже какао, чай, папиросы и сахар. Все наедаются, а потом ложатся спать. Часто во время похода ложимся на землю, засыпаем минут на пять. Вдруг команда: “К коням!” Ничего не понимаешь, вскарабкиваешься на несчастную лошадь, которая, может быть, уже три дня не ела овса, и катишь дальше. Расскажи все это Климову (наездник отца), которому мы все кланяемся и часто жалеем, что он не с нами. Скажи ему, что Диана сделала подо мной около 1000 верст по Германии. Она немного хромает на правую переднюю, так как случайно растянула связки пута. Иногда хромота проходит. Ей пришлось прыгать в день по сотне канав, и каких канав! Идет она великолепно, и я всегда сам ставлю ее в закрытое помещение. Все наши люди здоровы. Передайте это, пожалуйста, их семьям. Макаров, Аверин, Кухарь (прислуга моих братьев) получили письма, первый даже несколько писем. У меня вестовой – столяр Мраморного дворца, шурин Румянцева-маляра. Вот совпадение!
Молитесь за нас. Да поможет Бог нашим войскам поскорее одержать победу”.
Под 12 сентября Олег записывает: “Эскадроны его величества в 4 уходят на разведку. В 81/2 часов выступаем по шоссе Езно на Вирбилишки. Я ищу еды и белого хлеба в штабе 4-го корпуса. Приехал Николаус (Ермолинский). Жратва: какао, бисквиты, омары и т. д. Вечером пели песенники 2-го эскадрона…”
И далее (13 сентября): “…Пришли в Сивиляны в 3 часа. Весь полк в разведке, кроме 2-го эскадрона…”
Наконец – 20 сентября: “Сегодня, 20 сентября 1914 года, обновляю эту книжку, снова увидев немецкую границу”.
20 сентября был день ангела Олега. Я помню, что утром, когда полк строился, Игорь и я его поздравили. Было холодно, и Олег был в полушубке. Офицеры полка называли Олега, Игоря и меня “братьями Константиновичами”. Как-то на одном из биваков, во время завтрака, полковник Звегинцев сказал так, что все это слышали:
“Братья Константиновичи хорошо служат”… Конечно, нам это было очень приятно, тем более что похвалы в нашем полку раздавались очень скупо.
Возвращаюсь к записям Олега:
23 сентября: “…На север от Владиславова, впереди, ночью и утром гремят пушки. Мы отбили Ширвиндт, который сейчас занят нашей стрелковой бригадой. По словам прошедшего только что мимо нас раненого, немцы пытались вчера овладеть Ширвиндтом два раза”.
24 сентября: “Идет бой под злополучным Ширвиндтом… Раух находится с главными силами где-то сзади и копается. Нам нужны еще пушки… Ночевали сегодня в Жарделе… Наш маршрут: Жарделе, Печиски, Блювы, Гудойце, Раугали, Рудзе, Бойтеле и Атмонишки…”
25 сентября: “Сегодня мы выступили в 8 час. Мороз. Делали рекогносцировку на Радзен. Шел только один наш полк со взводом артиллерии. Передовые части вошли в город, из которого в это время выехало несколько велосипедистов. Дозорные по собственной инициативе поехали вплотную на велосипедистов. Убиты двое. Совсем непонятно, отчего вся дивизия не принимает участия в этой совсем бестолковой операции”.
26 сентября: “Выступили в 8 час. утра. Предположено идти в Дайнен затыкать дыру, образовавшуюся между Стрелковой бригадой и 56-й дивизией, с целью зайти немцам, сидящим в Шукле, в тыл. Конечно, мы знали, что это не будет сделано. Мы сейчас сидим в одном фольварке уже 11 часов, не дойдя еще до Владиславова. Слышны пулеметы и артиллерийские выстрелы… Стрельба чаще. Пехота отходит. Команда: “К коням!” Нам было приказано прикрывать лавой отходящую пехотную дивизию. Когда подошли лавой, то заняли фольварк… Додик и я на третьем, Голицын на втором, а Кушелев на первом (взводе)”.
На этих словах оканчивается запись Олега.
Глава XXXI. Сентябрь 1914
Смертельное ранение великого князя Олега Константиновича
27 сентября Олег был смертельно ранен и скончался в госпитале в Вильне 29 сентября. Вот как это описывает генерал Н.Н. Ермолинский:
“В ночь с 27 на 28 сентября получена была в штабе армии из 3-го армейского корпуса срочная телеграмма такого содержания: Раух доносит, что сегодня при лихой атаке на неприятельский разъезд ранен в ногу князь Олег Константинович. Чагин.
Садясь в автомобиль, я совершенно недоумевал, куда ехать. Телеграмма, составленная, очевидно, наспех, не сообщала никаких подробностей. Самым логичным казалось отправиться первоначально в штаб 3-го корпуса, что я и сделал.
После семи часов беспокойного пути удалось, наконец, дотащиться до Вильковишек. Вблизи шел бой. Вследствие редкого упорства противника, Е. (генерал Епанчин) против обыкновения нервничал, а добрый Ч. (Чагин) старался меня успокоить, уверяя, что рана князя Олега, наверно, легкая, и тревожиться нечего. Где находился раненый? Этого пока никто не знал. Вдруг Е. озарила счастливая мысль, и он посоветовал мне сговориться с полком по искровому телеграфу. Мне долго пришлось соединяться с гусарами и еще долее ждать ответа. Наконец, писарь расшифровал телеграмму следующего содержания: “Князя Олега повез дивизионный врач в Пильвишки. Оттуда поездом Вильно – Павловск. Выехал вчера ночью. Корнет граф Игнатьев”. Получив такой тревожный ответ, я отправился на автомобиле не в Пильвишки, а прямо в Ковно, надеясь предупредить поезд с раненым и ждать его там. Около шести часов заблестели огоньки железнодорожного пути, и мотор подкатил к вокзалу. Я бросился к начальнику станции и узнал от него, что поезд с раненым прошел в Вильно еще утром, но зато приехавший с ним уполномоченный Красного Креста Бутурлин остался и в настоящее время пьет чай в буфете. Дойти туда было делом минуты.
На вопрос, какова рана, Бутурлин отвечал, что рана серьезная, так как пробита прямая кишка, и князя повезли только до Вильны, где будут тотчас оперировать. Ко всему этому он добавил еще успокоительную весть, что раненого сопровождает его брат Игорь Константинович.
В 6 часов 30 мин. отправлялся пустой состав до Кошедар. Мне не стоило большого труда уговорить начальника станции дать паровоз еще дальше, до Вильно.
В тяжелой неизвестности путь казался бесконечным. В 12 часов ночи я был в Вильне и тотчас отправился по адресу Витебской общины, в местное реальное училище. Князь Игорь Константинович уже спал. Я разбудил его и, наскоро справившись о состоянии только что уснувшего князя Олега, попросил рассказать все сначала.
Ранение князя случилось при следующих обстоятельствах. 27 сентября после полудня 2-я Гвардейская кавалерийская дивизия, имея в авангарде два эскадрона Гусарского полка, наступала в направлении Владиславова. Проходя недалеко от деревни Пильвишки, боковая застава заметила неприятельский разъезд и начала его обстреливать. Немцы шарахнулись в сторону и наскочили на четвертый эскадрон Гусарского полка, шедший в голове колонны главных сил. Тотчас же был открыт огонь. Разъезд повернул опять, но встретил заставу его величества эскадрона под командой корнета Безобразова. Как раз в этот момент князь Олег, давно стремившийся в дело, стал проситься у эскадронного командира, графа Игнатьева, чтобы ему позволили с его взводом захватить зарвавшихся немцев. Эскадронный командир долго не соглашался его отпустить, но, наконец, уступил. Все остальное произошло очень быстро. Преследуя отступающий неприятельский разъезд, князь Олег вынесся далеко вперед на своей кровной кобыле Диане. Вот они настигают отстреливающегося противника… Пятеро немцев валятся, прочие сдаются; но в это время в князя Олега целится с земли раненый всадник… Выстрел, и князь Олег валится с лошади…
Первыми подскакали к раненому князю вольноопределяющийся граф Бобринский и унтер-офицеры Василевский и Потапов. Первые два принялись перевязывать рану, а Потапов был услан за фельдшером и с докладом эскадронному командиру. На вопрос, не больно ли ему, князь Олег ответил отрицательно. Общими усилиями раненого перенесли в близкий хутор, где фельдшер Путь сделал ему первую настоящую перевязку. Увидав прискакавших на хутор братьев, раненый обратился к князю Гавриилу Константиновичу со словами: “Перекрести меня!” – что тотчас же было исполнено”.
Когда началась стрельба, ротмистр Раевский послал меня со взводом вправо от дороги, по которой мы шли. Я спешил взвод у какой-то изгороди и открыл стрельбу по противнику. После этого я прискакал на хутор, возле которого Олег лежал на животе на земле. Я дал ему образок. Олег страдал, и я подал ему яблоко, которое он стал грызть от боли. Я оставался при нем очень недолго, потому что мне надо было вернуться в эскадрон. Я был ужасно расстроен… Игорь оставался при Олеге. Это было моим последним свиданием с Олегом.
“В это время, – продолжает генерал Ермолинский, – приготовляли арбу. Раненого положили на солому и в сопровождении дивизионного врача Дитмана и князя Игоря Константиновича повезли в Пильвишки. В течение этого долгого переезда князь Олег сильно страдал от тряски и беспрестанно задавал вопрос: “Скоро ли?” В Пильвишках, по собственной инициативе, он приобщился св. Тайн, говоря, что тогда, наверное, легче будет”.
На станции поезд уже ожидал. Сопровождать раненого по железной дороге был назначен уполномоченный Красного Креста В.А. Бутурлин. Тут же со станции была дана телеграмма ковенскому коменданту.
Комендант вызвал к приходу поезда в Ковно находившегося там профессора Военно-медицинской академии В.А. Оппеля, консультанта Красного Креста. В своих воспоминаниях профессор Оппель рассказывает подробно о своей встрече с князем Олегом, о его положении, операции и последних минутах жизни:
“27 сентября, – пишет профессор Оппель, – я проработал в Ковенских госпиталях до ночи. В 9 часов утра 28-го я должен был выехать в Вильну. Однако меня разбудили в начале шестого утра и сказали, что по телефону требуют сейчас же на вокзал, что прибудет “князь”. Зачем меня требуют, кто меня требует – все это было для меня неизвестно. Ясно было одно, что я нужен для прибывающего. Я быстро оделся и отправился на вокзал.
Еду по улицам, день чуть занимается. Подъезжаю к вокзалу, спрашиваю, в чем дело. Оказывается, меня вызвал комендант вокзала. Он получил известие, что в 6 часов утра в Ковну прибудет раненый князь Олег Константинович, и, зная, что я в Ковне, решил меня вызвать на вокзал. Теперь все это я понял…
Не успели сделать распоряжение (о доставке носилок), как к вокзалу подошел паровоз с одним вагоном первого класса. Вагон я сейчас узнал. Это был вагон, предоставленный уполномоченному Красного Креста В.А. Бутурлину.
Действительно, на площадке вагона я увидел самого Бутурлина, который вез раненого из Пильвишек. Я вошел в вагон, в отделение, в котором лежал князь Олег Константинович. Он встретил меня приветливой улыбкой.
Раненый лежал на спине. Он был очень бледен, губы пересохли. Пульс прощупывался частым и слабым… Я предложил высадить раненого в Ковне, но общее желание – как самого раненого, так и его брата (Игоря Константиновича) и д-ра Дитмана, – склонялось к тому, чтобы сразу ехать в Вильну, дабы проконсультироваться с профессором Цеге фон Мантейфелем. Так как переезд предстоял небольшой, то возражать против него не было причин. Моя помощь могла выразиться в сопровождении его высочества до Вильны.
Ровно в 7 часов утра мы тронулись из Ковны. Я поместился в отделении князя Олега Константиновича. Последний, несомненно, страдал. За время стоянки в Ковне пульс несколько улучшился, но как только поезд пошел, пульс опять упал. Князь Олег Константинович бодрился, улыбался, временами говорил, временами закрывал глаза и погружался в полусон, но, тем не менее, его постоянно беспокоили ноги: в правой ноге не только имелись боли, но было и особенно беспокоившее раненого чувство онемения.
Такое же чувство онемения тревожило левую ногу. Последнее обстоятельство было подозрительно и не вполне объяснялось наличием правосторонней раны. Как бы ни было, осматривать рану, делать для этого перевязку в вагоне было, понятно, невозможно. Следовало пока лишь облегчать положение раненого без перевязки.
Кое-что можно было сделать в этом отношении. Начать с того, что князь Олег Константинович очень неудобно лежал: под ним была постлана бурка, под головой ничего не было. Нашлась подушка. Этим маленьким удобством раненый остался очень доволен. Нашлось одеяло, которым укутали его высочество. Для подкрепления сил я поил раненого вином.
Чуть успокоившись, его высочество пытался весело разговаривать, интересовался сведениями из газет, слушал чтение газеты вслух, но все это делал отрывочно.
В Вильну мы приехали ровно в 10 часов утра. На вокзале приезда поезда ожидал профессор Цеге фон Мантейфель, профессор Бурденко и доктор Фомилиант. Явился вопрос, как вынести раненого из вагона, причинив ему наименьшие страдания. Нашли, что наиболее просто сделать это, воспользовавшись окном. Князя Олега Константиновича бережно укутали, через опущенное окно вдвинули в отделение носилки, осторожно положили на них раненого и вынесли его на платформу. Затем носилки были поставлены на автомобиль, рядом с носилками в автомобиле поместились мы с профессором Цеге фон Мантейфелем и через несколько минут мы уже были в Витебском госпитале Красного Креста.
В госпитале его высочество был встречен профессором Мартыновым. Там была уже готова операционная и отдельная палата. Раненого сразу внесли в операционную и положили на операционный стол для исследования. Сестры милосердия заботливо сняли с раненого одежду и все тело обтерли спиртом. Затем началось исследование.
Как было установлено д-ром Дитманом сейчас же после ранения, на правой ягодице имелось маленькое входное пулевое отверстие. Правая ягодица припухла. Справа около заднепроходного отверстия имелась маленькая ранка, как бы выходное отверстие пули. Кругом заднепроходного отверстия было сплошное кровоизлияние. Из ранки около заднепроходного отверстия вытекала коричневатая, с гнилостным запахом, жидкость. Пульс был част, мал и слаб. Стало сразу понятно, что общее тяжелое состояние объясняется гнилостным заражением пулевого канала и начавшимся гнилостным заражением крови. Вставал вопрос, каким образом произошло заражение.
Исследование пальцем прямой кишки обнаружило, что кишка пробита навылет и подкожно почти оторвана от жома. В правой стене кишки определялось входное, в левой – выходное отверстие пули. Данные исследования разъясняли всю картину: пуля, войдя в правую ягодицу, прошла по ней, пробила прямую кишку и застряла где-то в левой ягодице. Теперь понятны стали болезненные ощущения в левой нижней конечности. Ранку справа от заднепроходного отверстия следовало рассматривать как добавочную, образованную или осколком пули, или, быть может, осколком отскочившей кости.
Спрашивалось, что делать? На совещании, в котором приняли участие профессор Цеге фон Мантейфель, профессор Мартынов, д-р Дитман и я, прежде всего было признано, что состояние его высочества тяжелое, что вследствие ранения развилось заражение раны и заражение крови. Было признано, что для спасения его высочества возможно прибегнуть к операции, хотя и оперативное вмешательство не может гарантировать излечения. На операцию надо было смотреть как на последнее средство, которое, быть может, остановит заражение.
Само собой разумеется, результат совещания не мог быть сообщен раненому князю Олегу Константиновичу. Князь Игорь Константинович первый должен был выслушать грустный приговор о своем брате, с которым делил все радости и тяготы похода. Князю Олегу Константиновичу сообщили только, что операция нужна; на нее он охотно дал свое согласие.
Ввиду слабой деятельности сердца было желательно произвести операцию без общего усыпления. И действительно, операция была начата под местным обезболивающим новокаином. Однако первый разрез через ранку около заднепроходного отверстия показал, что клетчатка прямой кишки омертвела, что омертвение клетчатки идет в глубину пулевого канала, что, следовательно, требуется большой разрез, произвести который под местным обезболиванием невозможно. Потому перешли к хлороформному усыплению.
Операцию его высочество перенес очень хорошо. После операции он перенесен был в отдельную светлую палату, где вскоре пришел в себя.
Около трех часов дня раненый чувствовал себя очень хорошо. В это время он получил телеграмму от государя императора о пожаловании ему Георгиевского креста и телеграмму от Верховного главнокомандующего. Нужно было видеть радость его высочества! Он с гордостью показывал мне обе телеграммы, и я рад был принести ему свои поздравления.
К вечеру состояние здоровья раненого не ухудшилось. Надежда на благополучный исход заболевания чуть усилилась”.
Вечером же раненого посетил начальник Виленского военного училища генерал-майор В.А. Адамович, который в письме к великому князю Константину Константиновичу так описывает свою встречу с князем Олегом:
“Его высочество встретил меня как бы “не тяжелый” больной. Приветливо, даже весело, улыбнулся, протянул руку и жестом предложил сесть. Я заботился только увидеть состояние, чтобы сообщить Вам и сделать посещение возможно короче. Войдя, я поздравил князя с пролитием крови за Родину. Его высочество перекрестился и сказал спокойно: “Я так счастлив, так счастлив! Это нужно было. Это поддержит дух. В войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь царского дома”. Его высочество мне сказал, что вчера причастился. “Но вы скажите дома, что мне никто не предлагал. Это было мое личное желание. Я причастился, чтобы мне было легче”. Оба князя сказали мне несколько восторженных слов о поведении солдат с ними вместе в боях. Князь Игорь прочитал брату телеграмму от Верховного главнокомандующего. Выслушав, Олег Константинович перекрестился. Его высочество был оживлен и сиял в счастливом для него сознании своих страданий. Мгновениями же были видны подавляемые им мучения”.
Дальнейший рассказ о событиях опять находим в воспоминаниях Н.Н. Ермолинского:
“Около часу ночи мне сообщили, что раненый проснулся. Я тотчас отправился в соседнюю палату и при свете лампады увидел моего дорогого князя. Он был бледен, как смерть. При виде меня приветливая, но крайне болезненная улыбка озарила его полудетское лицо.
– Наконец-то, Николаус!.. Господи, как я рад!.. Теперь уже никуда не отпущу! Никуда!
– Никуда и не уйду, – ответил я с волнением. – И здесь будем вместе и поправляться вместе поедем.
– Да, да будем вместе… И в Домнихе будем… Помните, как тогда?.. Хорошо это было!..
Он был убежден в своем скором выздоровлении. Приходилось глотать слезы, чтобы себя не выдать.
– Рассказал ли все Игорь? Ведь государь мне пожаловал Георгия… Я так счастлив! Вот телеграмма… Там на столе… И от главнокомандующего тоже…
Я сел возле кровати, поправил ему ноги, как он просил, начал разговаривать, но вскоре заметил, что он погружается в забытье. Не могу назвать наступившее состояние сном, так как настоящий сон не приходил еще долго. При всякой моей попытке встать и выйти из комнаты он открывал глаза и останавливал меня на полдороге:
– Ну вот! Уже ушел… Только что начал рассказывать… Ведь сказал же, что не отпущу, и баста!
Я опять возвращался, садился у кровати и продолжал свои рассказы. Полчаса спустя дыхание раненого стало ровнее. Мне удалось незаметно встать и, несмотря на скрипучие полы, тихонько выйти из комнаты. Я прилег и заснул часа на три. Настало ужасное утро, вечно памятное 29 сентября.
Около 11 часов утра пришла телеграмма, что великий князь и великая княгиня прибывают в Вильну к 5 часам вечера. Это известие очень обрадовало раненого: “Вот хорошо! Вот хорошо!” – повторял он беспрестанно. Вскоре ему захотелось мороженого. Послали в кондитерскую. Пока его приготовляли, князь Олег беспокоился и, по крайней мере, раз десять нетерпеливо спрашивал, принесли ли его. Наконец мороженое пришло, и он поел его из моих рук с ложки. Около 12 часов дня профессор Оппель, остававшийся после перевязки у постели князя, осмотрел его еще раз и подтвердил, что надежды увеличиваются, так как пульс хорош и явных признаков заражения не заметно.
Обрадованный его словами, я воспользовался минутой, когда раненый задремал, и отправился на вокзал, чтобы узнать точное время прибытия великокняжеского поезда.
Утешительного оказалось мало: весь путь был настолько загроможден, что опоздание являлось неизбежным. Мне не оставалось ничего другого, как возвратиться в Общину. Но в это время к станции подошел поезд, в котором ехал в ставку Верховного главнокомандующего великий князь Андрей Владимирович. Я решил войти в вагон и доложить его высочеству о тяжелом положении его троюродного брата. Выслушав доклад, великий князь тотчас же отправился со мною к раненому. Он оставался в Общине часов до 3-х. Вскоре после того в госпиталь стали собираться врачи для дневного осмотра князя Олега.
Начиная с 4-х часов дня положение больного значительно ухудшилось: дыхание стало чаще, пульс ослабел, появились признаки сепсиса, бред. Все утро он не находил себе места, теперь же на вопрос о самочувствии отвечал неизменно: “Чувствую себя ве-ли-ко-леп-но”. При этом язык его не слушался, и он с трудом выговаривал слова. Как только сознание князя прояснялось, он тотчас же требовал меня к себе, держал рукою за шею, не отпускал никуда, но потом опять начинал заговариваться, кричал, чтобы ловили какую-то лошадь или бросались на бегущего неприятеля.
Поезд, привозивший августейших родителей, сильно запаздывал и мог быть в Вильне лишь около 8 часов, а силы раненого падали ежеминутно. Пришлось каждые четверть часа давать сердечные средства, делать подкожные впрыскивания и поить шампанским. Чтобы не подавать больному вида о безнадежном состоянии, его уверяли, что пьют с ним за скорое выздоровление, и заставляли с ним чокаться. Это было поистине ужасно! Мне никогда не забыть этих глотков вина в присутствии умиравшего князя.
Ясное сознание перемешивалось с бредом. Часов в 7 раненый обхватил своей худенькой рукой мою шею и прошептал: “Вот так… вот так… встретим… встретим… вместе встретим…”
Я подумал сначала, что он бредит, но нет, он говорил со мной о встрече родителей.
Вскоре, не зная, чем еще поднять падавшие силы, профессора решили попробовать новое мучение для умирающего, а именно вливание в вену руки солевого раствора. Пришлось держать раненому руки. Операция кончилась, когда приехали августейшие родители. На минуту он узнал их. Великий князь привез умирающему сыну Георгиевский крест его деда.
– Крестик Анпапа! – прошептал князь Олег. Он потянулся и поцеловал белую эмаль. Крест прикололи к его рубашке.
Вскоре больной стал задыхаться. По его просьбе ему подымали ноги все выше и выше, но это не помогало. Обратились к кислороду. После третьей подушки стало ясно, что бедный князь умирает. По приказанию великого князя я позвал священника (отца Георгия Спасского) читать отходную, но по дороге успел его убедить делать это потише, чтобы умирающий не слышал. Началось страшное ожидание смерти: шепот священника, последние резкие вздохи… Великий князь, стоя на коленях у изголовья, закрывал сыну глаза; великая княгиня грела холодевшие руки. Мы с князем Игорем Константиновичем стояли на коленях в ногах. В 8 часов 20 минут окончилась молодая жизнь…
Вечером собрался семейный совет. На нем было решено бальзамирования не производить, отпевать в местной Романовской церкви и, во исполнение воли почившего, испросить высочайшее соизволение на похороны тела в бозе почившего князя в его любимом Осташеве, на берегу реки Рузы.
К 10 часам тело усопшего было омыто, одето в китель и положено в той же палате под образами. На груди белел приколотый Георгиевский крест. С этих пор начали беспрерывно поступать венки от разных воинских частей, учреждений и обществ, так что к ночи весь катафалк утопал в цветах и Георгиевских лентах.
Августейшие родители решили ночь проводить в вагоне. После их отъезда из Общины я лег на кровать, но заснуть не мог. В голове вставали образы минувшего.
Через час невмоготу было лежать. Я встал, оделся и, пройдя через большую полуосвещенную палату, вошел в комнату, где лежало тело.
В углу стоял какой-то человек и тихо плакал. Я узнал камердинера князя Олега Макарова.
Светлое, детски чистое лицо князя было отлично освещено верхней лампой. Он лежал спокойный, ясный, просветленный, будто спал. Белая эмаль, к которой он прикоснулся холодеющими губами, ярко выделялась на груди.
На следующий день в 2 часа состоялся вынос. Перед литией в присутствии августейших родителей тело усопшего было положено в гроб. Служение совершал высокопреосвященнейший Тихон, архиепископ Литовский и Виленский. По окончании литии гроб с останками покойного был на руках перенесен в Романовскую церковь. Народ сплошными массами теснился по улицам и площадям. Многие плакали. По пути следования были расставлены войска.
Вечером, перед последней панихидой, гроб был запаян. На следующий день, 2 октября, происходило отпевание. К началу богослужения в церковь прибыли августейшие родители и братья покойного: князья Иоанн, Гавриил, Константин и Игорь Константиновичи, а также начальствующие лица.
После отпевания гроб был на лафете перевезен на вокзал. Войска стояли шпалерами, многотысячная публика расположилась на тротуарах. Около 2-х часов дня гроб был поставлен в приготовленный вагон и поезд отбыл в Москву. Отъезжая из Вильны, великий князь Константин Константинович поручил виленскому губернатору передать искреннюю, сердечную благодарность жителям г. Вильны, всем учреждениям и лицам, выразившим свое сочувствие его семейному горю.
При прохождении траурного вагона многие крестьяне становились на колени и клали земные поклоны. Духовенство на станциях служило панихиды.
На следующий день на Волоколамском вокзале собрались: королева эллинов Ольга Константиновна, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Дмитрий Константинович, княгиня Татиана Константиновна Багратион-Мухранская, княгиня Елена Петровна, князь Георгий Константинович и многочисленные депутации. На перроне был выстроен почетный караул. Вокруг вокзала – тысячная толпа окрестных крестьян и прибывшие для отдания воинских почестей части пехоты и артиллерии.
Когда поезд подошел, войска взяли “на караул”. Братья и дядя почившего вынесли на руках гроб. Под звуки “Коль славен” гроб был вынесен на площадь и поставлен на лафет. Тысячная толпа обнажила головы.
В торжественной тишине тронулся печальный кортеж, предшествуемый духовенством и хором певчих. По всему пути стояли крестьяне. Свыше ста венков везли на колесницах.
За гробом следовали августейшие родители, прибывшие на погребение особы императорской фамилии, должностные лица и все депутации. Впереди погребального шествия несли на подушке пожалованный князю Олегу орден Св. великомученика Георгия 4-й степени. Пехота и артиллерия замыкали шествие.
По прибытии в имение печальное шествие направилось к месту последнего упокоения почившего. Это место для могилы он сам себе избрал при жизни в поэтическом уголке, на высоком, обрывистом кургане, где растут тополя и заросшая мхом старая лиственница. С кургана, господствующего над всей округой, открывается великолепный вид на причудливые изгибы реки Рузы, на поля, уходящие в безбрежную даль, и на далеко синеющий лес.
Гроб опустили в могилу… Над ней быстро образовался холм, покрытый венками, цветами и увенчанный простым деревянным крестом.
Многообещавшая жизнь князя Олега кончилась”.
Было ужасно тяжело и печально, когда гроб Олега опустили в могилу и стали засыпать землей. Я стоял рядом с дяденькой и в этот момент под наплывом чувств взял его под руку. В другое время я не решился бы это сделать. На следующий день почти все, в том числе и я, уехали из Осташева. Остались родители и тетя Оля.
Глава XXXII. Осень 1914 – зима 1915
В Ставке Верховного главнокомандующего в Барановичах – В Петрограде – Поездка в Осташево и Москву – Князь Владимир Палей
Вскоре по приезде в Петербург мы с Игорем ездили к императрице Марии Федоровне. Она жила в то время на Елагином острове, во дворце, в котором я до тех пор никогда не был, так как в нем в мое время никто из семейства не жил. Я лишь помню, что в 1898 году перед Елагиным дворцом был церковный парад Преображенскому полку по случаю их праздника. Государь и государыня, а также некоторые члены семейства, и в их числе моя матушка, в нем ночевали.
Елагин дворец был очень красивый, в чистом стиле ампир. Перед подъездом дорога слегка поднималась и снова потом опускалась, так что, подъезжая ко дворцу, автомобиль въезжал на горку, а отъезжая – съезжал. По сторонам въезда стояли большие белые шары, по одному с каждой стороны.
Императрица была очень мила с нами. Возвращаясь перед самой войной из Дании в Россию, она проезжала в своем царском поезде через Германию и приехала в Берлин, когда война уже началась. Император Вильгельм II не заехал к ней и не пустил ее дальше в Россию под предлогом, что мосты взорваны. Императрице пришлось вернуться обратно в Данию и уже оттуда приехать в Россию другим путем. Она нам сказала, что Вильгельм ее обманул, ибо мосты взорваны не были.
В конце октября Игорю и мне надо было возвращаться в полк, который был послан на отдых в Ставку Верховного главнокомандующего, в местечко Барановичи, где он нес охранную службу.
Мы с Игорем ходили являться великому князю Николаю Николаевичу, жившему в Барановичах в собственном поезде. Он очень любезно нас принял и между прочим сказал, что очень жалеет, что гвардейская кавалерия не была вместе с гвардейской пехотой в начале войны: в Восточной Пруссии гвардейская конница действовала не со знакомыми ей гвардейскими частями, а с незнакомыми армейскими; насколько было бы лучше, если бы вся гвардия была вместе. Но Верховный главнокомандующий не принимал участия в составлении плана войны.
В одном поезде с Николаем Николаевичем жил его брат Петр Николаевич. В отделении, которое служило спальней Николаю Николаевичу, был большой порядок, что мне врезалось в память.
Часто по вечерам мы ходили в поезд Верховного, к Петру Николаевичу, которого мы любили и называли дядей Петюшей. Нас сближало с ним то обстоятельство, что покойный Олег был женихом его младшей дочери, княжны Надежды Петровны. Кроме того, дядя Петюша был другом детства нашего отца и дяденьки, с которыми он постоянно виделся, когда был холостым. Дядя Петюша и дядя Георгий (вел. кн. Георгий Михайлович) часто встречались с дяденькой в молодости. Дяденька был старше их по годам и по службе. Однажды они подарили дяденьке жетон с надписью “Нашему Дядьке”.
Мы как-то сидели в вагоне у дяди Петюши. Вдруг влетает Верховный главнокомандующий, именно влетает, а не входит, и радостно объявляет, что Варшава спасена, что немцы отражены. Как раз в это время приехал в Ставку государь император.
По случаю спасения Варшавы в церкви Ставки был отслужен в высочайшем присутствии благодарственный молебен. На молебне были все начальствующие лица, находившиеся в Ставке. Мы с Игорем тоже были в церкви. На молебне также был великий князь Андрей Владимирович, приезжавший в Барановичи вместе с командующим Северо-Западным фронтом генералом Рузским, при котором он в то время состоял.
Государь император пожаловал в этот день генералу Рузскому Георгия 2-й степени. После молебна мы с Игорем и некоторыми нашими офицерами пили чай на вокзале и видели проходившего генерала Рузского с красной коробкой в руках, в которой лежали пожалованные ему орден и звезда.
Мы с Игорем получили приглашение к высочайшему обеду в царском поезде. В назначенное время мы пришли в салон-вагон, бывший рядом с вагоном-столовой. Я предполагал, что Игорю и мне государь что-нибудь пожалует, и решил, что в таком случае я поцелую в благодарность государя в плечо, как это делали при Александре II. Государь принял меня в отделении своего вагона, служившем ему кабинетом. Он вручил мне Георгиевский темляк и маленький Георгиевский крестик на эфес шашки, а также орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Этот орден и теперь у меня. Вручая мне орден, Государь сказал, что дает мне ордена, которые я заслужил. Как я был счастлив! И я поцеловал государя в плечо.
Когда я вернулся обратно в салон-вагон, Николай Николаевич сам привязал мне Георгиевский темляк к шашке. После меня к государю был вызван Игорь и получил те же награды, что и я.
За обедом Николай Николаевич сидел справа от государя, я – напротив них, рядом с состоявшим при государе профессором Федоровым, известным петербургским хирургом. У Николая Николаевича было кольцо с замечательно красивым рубином этуаль. С этим кольцом произошел однажды забавный случай. Живя в своем имении Беззаботное, рядом со Стрельной, Николай Николаевич кормил как-то уток, плавающих в пруду, бросая им кусочки хлеба, и потерял это самое кольцо, которое упало в воду. Великая княгиня Анастасия Николаевна решила во что бы то ни стало найти кольцо. Она приказала спустить пруд, стала на берегу, а егерь вынимал ил и перебирал его. Тетя Стана ему помогала, смотря в лорнетку. Как это ни покажется необыкновенным, но кольцо было найдено, за что егерь получил сто целковых.
В эти дни я получил громадную поздравительную телеграмму от графини М.Э. Клейнмихель, в которой она говорила, что во время русско-турецкой войны поздравляла моего отца с получением Георгиевского креста и очень рада поздравить меня теперь с получением Георгиевского оружия. Иоанчик тоже получил Георгиевское оружие и Владимира с мечами и бантом, но, к сожалению, – не лично от государя.
Я послал А.Р. восторженную телеграмму, сообщая ей о полученных наградах. Телеграфная барышня, передававшая телеграмму, сохранила на память ее оригинал, написанный моей рукой, и в Париже, находясь в эмиграции, прислала ее в подарок А.Р., которая стала моей женой. Мы оба были ей сердечно благодарны за такое милое внимание и такой ценный для нас подарок.
Будучи в Барановичах, государь смотрел наш полк. Полк построился в пешем строю, в шинелях и без оружия. Государь обошел нас и благодарил за службу. Церемониального марша не было. Затем государь снялся в группе с нашими офицерами. В этот день – 24 октября – я в последний раз был в строю родного полка. Как тяжело и грустно об этом вспоминать!
Мы встретились в Ставке, подле вагона Верховного, с великим князем Михаилом Александровичем. Миша являлся к Верховному по случаю своего назначения командующим Туземной дивизией. Он был в черкеске. Его произвели в генерал-майоры и зачислили в свиту. Мы с Игорем были очень рады его видеть. Он был очарователен, как всегда.
Находясь в Ставке, я стал плохо себя чувствовать. Николай Николаевич сказал мне, чтобы я возвращался в Петербург. Мне было неловко уезжать из полка, но что было делать? Государь тоже разрешил мне уехать. Игорь поехал вместе со мной.
В Петербурге, то есть в Петрограде (к этому времени Петербург уже переименовали в Петроград), ко мне приехал личный врач дяди Петюши Сергей Михайлович Варавка и передал мне по повелению Верховного главнокомандующего, что последний поручил меня его наблюдению и что я смогу вернуться в полк лишь тогда, когда Варавка найдет это возможным. Меня это смущало, и временами мне казалось, что Варавка увлекается, не пуская меня обратно в полк.
Потекла довольно скучная и однообразная жизнь, и я не знал, как найти себе применение. Я жил в Петрограде и наезжал в Павловск к родителям. Отец временами чувствовал себя неважно, но, как обычно, не подавал виду. Вскоре мне пришлось снова быть дежурным флигель-адъютантом в Царском Селе. Вечером государь уезжал вместе с наследником на фронт. Перед их отъездом был молебен в нижнем храме Федоровского собора, в царском. Я в первый раз был в нижнем храме. Мне приходилось бывать лишь в верхнем. Нижний храм был поразительно красивый, в чисто русском стиле, и замечательно уютный. Он очень располагал к молитве и понравился мне больше, чем верхний храм.
Из собора государь, государыня и наследник поехали на станцию железнодорожной царской ветки. Я поехал провожать государя. Перед самым отходом поезда, когда государь и наследник сели уже в вагон, государыня, оставшаяся на платформе, что-то строго говорила дворцовому коменданту генералу Воейкову.
Отец чувствовал временами удушье, и 1 января 1915 г. ему стало совсем нехорошо. В этот день мы все были приглашены вечером обедать к императрице Марии Федоровне в Аничков дворец. Он, приехав из Павловска в Петроград, слег и, конечно, не мог поехать к императрице. Матушка, как всегда, осталась при отце. Эти удушья оказались припадками грудной жабы.
На обеде в Аничковом были тетя Оля, дяденька, дяди Николай и Георгий Михайловичи, Костя, Игорь и я. После обеда Костя расшалился и хлопал по животу Николая Михайловича, который, к счастью, был в хорошем настроении, а иначе Косте бы попало. Странный был человек толстый Николай Михайлович, дядя Бимбо, как мы его называли. У него постоянно менялось настроение, и он то бывал, как в данном случае, очень мил, то через пять минут становился раздражительным и неприятным, к нему нельзя было подступить.
Бедный отец довольно долго пролежал в постели в своей спальне в Мраморном дворце. Матушка неотлучно находилась при нем. Когда отец встал, он еще недели две не возвращался в Павловск. Я был очень этим доволен, потому что сам жил в Петербурге и мне было гораздо удобнее навещать родителей в Мраморном, чем ездить в Павловск. Кроме того, пребывание родителей в Мраморном мне так живо напоминало мое детство, когда мы все жили в Петербурге. Мы снова, как в те годы, завтракали в столовой родителей, в которой висела картина: шведская гвардия несет на носилках убитого Карла XII. Снова я ходил по тем же милым комнатам. Живя в Павловске с 1905 года, отец только наезжал в Мраморный, и мы очень редко бывали там все вместе.
Каждый год на Рождество приезжала в Петроград моя старая няня Атя. Она была монахиней Леснинского монастыря в Польше, основанного игуменией Екатериной, в миру графиней Ефимовской. Атя была в монастыре матушкой казначеей, то есть занимала один из самых больших постов. Конечно, приезжая в Петроград, она приходила к нам. И на этот раз она была у родителей. Отец долго с ней разговаривал и проводил ее до передней, он ее просил молиться за него. Это было их последним свиданием, про которое Атя потом трогательно рассказывала.
12 января был день рождения матушки – он праздновался в один день с именинами моей сестры Татианы. В этот день родители пили утренний кофе вдвоем в приемном кабинете отца подле большого камина, перед которым лежала шкура белого медведя, которой так боялся в детстве Иоанчик. Мне кажется, что мысль пить в этот день кофе вдвоем принадлежала матушке. Родители были очень в духе. Кто мог подумать, что через несколько месяцев отца не станет и что матушка в последний раз в жизни празднует с ним вместе день своего рождения!
Перед своим возвращением в Павловск отец получил знак за 35-летнюю беспорочную службу на Георгиевской ленте. Он был очень этим доволен.
Здоровье отца было неважно. Когда мы причащались в субботу, на первой неделе Великого Поста, у него снова начались удушья. Он очень плохо выглядел и еле стоял в церкви.
Этим же Великим Постом я ездил в Осташево с Костей и Игорем на могилу Олега по случаю полугодового дня его смерти. Мы выехали в Москву вечерним поездом. В Москве переехали на другой вокзал и поехали в Волоколамск, а оттуда на своих лошадях – в наше милое Осташево.
Я Осташево знал мало, потому что был в нем всего лишь несколько раз, тогда как мои братья живали в нем подолгу. Мы служили панихиду на могиле Олега. В Осташеве жил его камердинер, симпатичный Макаров с женой. Мы радостно с ним встретились. Мы остановились в нашем детском флигеле, который был так уютен, и Макаров кормил нас вкусным обедом.
На следующий день мы уехали в Москву и остановились лишь до вечера в Большом кремлевском дворце в комнатах, в которых мы жили в 1912 году во время торжеств по случаю столетия Отечественной войны.
Я поехал в Лефортово, часть Москвы, довольно отдаленную от Кремля, в которой находился 1-й Московский кадетский корпус. Мы встретились с директором корпуса, генералом Римским-Корсаковым, и оба обрадовались встрече. Мы обошли корпус, я осмотрел корпусный музей и помещения, которых в мое время еще не было. В корпусе жили также кадеты другого корпуса, кажется Суворовского, эвакуированного из Варшавы, а, может быть, также и Полоцкого.
Мы обедали у директора Исторического музея князя Щербатова, который жил в здании музея против часовни Иверской Божьей Матери. Щербатовы были очень милые люди. Княгиня была когда-то личной фрейлиной императрицы Марии Федоровны.
Я вернулся в Петербург и узнал, что врачи запретили отцу подниматься во второй этаж, где в Павловске была наша церковь. Перед Пасхой пришлось для него поставить походную церковь рядом с его комнатами на первом этаже. Во время церковных служб отец часто присаживался – долго стоять ему становилось все труднее. Очень тяжело было видеть отца больным.
Во время войны жена великого князя Павла Александровича и их дети получили фамилию Палей и княжеский титул.
Сын великого князя Павла Александровича и княгини Палей Владимир, или Ботька, был по окончании ускоренных классов военного времени Пажеского корпуса произведен в прапорщики и поступил в наш полк. Ботька не был военным в душе, но дядя Павел хотел, чтобы он обязательно стал офицером. В этом отношении у него были старые взгляды. Ботька был красив, мил и в высшей степени талантлив: он писал замечательные стихи, как по-русски, так и по-французски. Самым лучшим из его произведений был его перевод на французский язык драмы моего отца “Царь Иудейский”. 24 марта 1915 года, перед Благовещенской всенощной, Ботька прочел свой перевод моему отцу. Мои братья и я помогали отцу расставлять мебель в его кабинете, чтобы слушать чтение Ботьки. Он приехал со своими родителями. Кроме них и нас, не было никого. Перевод превзошел все ожидания моего отца, он был в восторге и даже прослезился.
В полку Ботьку любили; он служил в 6-м эскадроне. Когда дядя Павел был назначен командиром 1-го Гвардейского корпуса, он взял его к себе ординарцем.
Глава XXXIII. Весна 1915
Слухи об изменах – Гибель на фронте Кости Багратиона
На фронте у нас начались неудачи и поползли зловещие слухи об “изменах”. Генерал-адъютант Ренненкампф, как и Сухомлинов, подали в отставку, чтобы не быть уволенными. Ренненкампфа обвиняли в неудачах на фронте и в том, что он выпустил окруженную нами армию Гинденбурга. Конечно, мнения разделились, и одни были против него, а другие за. Так, генерал Ермолинский, находившийся в его штабе, стоял за него и утверждал, что Ренненкампф несправедливо осужден. Говорили, между прочим, что Ренненкампф – немец и что будто его родной брат командует немецкими войсками против нас. Все это были досужие выдумки.
Был казнен обвиненный в измене жандармский полковник Мясоедов. Также и тут одни были за него и говорили, что он невиновен, а другие утверждали противное. Я лично так и не знаю, был ли он изменником. Обвиняли великого князя Николая Николаевича, что он его несправедливо осудил.
Поползли гнусные слухи, что императрица Александра Федоровна продает Россию немцам. Эти слухи фабриковались в Германии, чтобы довести Россию до смуты. Все это было вместе и тяжело, и грустно, и жутко.
Пасха 1915 года была последней Пасхой в жизни моего отца. Заутреня и обедня были в походной церкви, внизу. Отец причащался. Дяденька не захотел, чтобы отец причащался один, и, зная, что отцу будет приятно, если и он причастится вместе с ним, так и сделал.
Моя старшая сестра Татиана со своими маленькими детьми, Теймуразом и Наталией, жила в то время в Павловске. Наталье только что исполнился год, а Теймуразу шел третий. Он был прелестный ребенок. Помню, как за обедней он протянул ручку и дотронулся до диакона, который стоял перед ним очень близко, так как церковь была маленькая.
Временами в здоровье отца наступали ухудшения, когда появлялись приступы грудной жабы. Тогда он очень страдал и, ослабевший, лежал в постели в своем большом кабинете, в малиновой стрелковой рубашке, с Георгиевским крестом.
Во время одного из таких припадков Иоанчику прислали мантию св. Серафима Саровского, и он принес ее отцу. Когда отцу становилось лучше, он снова вставал и выходил в сад и там занимался. Я помню, что как-то он вышел в сад в фуражке и серой накидке, в руках у него были какие-то бумаги. Он сел на скамейку. В это время к нему подошел какой-то крестьянин, и отец с ним разговорился. Оказалось, что это был бывший измайловец, служивший в государевой роте под командой отца. Отец его тотчас вспомнил, так как память у него была замечательная.
Весной приехал с фронта Костя Багратион, муж Татианы, служивший в Кавалергардском полку. Он мечтал перейти на время в пехоту, потому что, благодаря страшным потерям, в пехоте недоставало офицеров. Так как в кавалерии потери были незначительны, кавалерийских офицеров прикомандировывали к пехотным полкам. Конечно, Татиане желание мужа перейти в пехоту было не особенно по душе, но она согласилась. Костя Багратион был замечательный офицер. Он имел Георгиевское оружие.
Он устроил как-то в своих комнатах под куполом, где он жил с Татианой в Павловске, вечер для раненых офицеров Эриванского гренадерского полка, которые лечились в царских госпиталях в Царском Селе. Их собралось довольно много. В это время у моих родителей сидел дядя Георгий Михайлович, родившийся и проведший все детство на Кавказе, когда его отец, великий князь Михаил Николаевич, был кавказским наместником. Он пришел наверх поговорить с эриванцами, которые в мирное время стояли на Кавказе.
Вскоре Костя уехал на фронт, и так я больше никогда его и не видел. 20 мая утром я получил записку от матушки, в которой она сообщала, что Костя убит. Генерал Брусилов, командовавший Юго-Западным фронтом, телеграфировал отцу, что Багратион пал смертью храбрых 19 мая под Львовом. Он командовал ротой и был убит пулей в лоб, чуть ли не в первом бою.
Отцу не сразу сообщили о смерти Багратиона. Матушка не решалась ему об этом сказать и просила дяденьку приехать из Стрельны, чтобы подготовить отца. Дяденька сразу же приехал и осторожно сообщил об этом отцу. Когда я остался с отцом один, на нем лица не было. Я, как мог, старался его утешить.
Когда я пришел к Татиане, она сидела в Пилястровом зале и была очень спокойна. Слава Богу, она очень верующий человек и приняла постигший ее тяжкий удар с христианским смирением. Она не надела черного платья, а надела все белое, что как-то особенно подчеркивало ее несчастье.
В тот же день вечером была панихида в церкви Павловского дворца, на которую приехали их величества с великими княжнами и много публики. Отец, конечно, не мог присутствовать на панихиде.
Татиана уехала с Игорем на Кавказ, на похороны мужа. Костю Багратиона похоронили в старинном грузинском соборе, в Мцхете. Я провожал Татиану на станцию.
Когда я был у знакомых под Лугой, мне сообщили по телефону, что отцу нехорошо. Это было 2 июня. Я моментально заказал экстренный поезд из луги до Александровской станции. Поезд очень быстро, без остановок, примчал на Александровскую станцию, где меня ждал большой автомобиль родителей. Увы, шофер Ланге мне сказал, что “нашего благодетеля не стало”.
Таким образом, от него первого я узнал о кончине отца. Было очень тяжело, но в первые минуты как-то не осознаешь своего горя. Когда я вошел в переднюю Павловского дворца, дяденька и тетя Оля спускались по лестнице. Мы обнялись.
Матушка сидела у себя в кабинете, рядом с кабинетом отца, и писала. Мы обнялись с ней. Она была спокойна, но в тяжком горе.
Отец лежал на постели в своем кабинете в стрелковой малиновой рубашке. Я, как полагается и как учил меня сам отец, сделал два земных поклона перед его прахом, приложился к нему и снова сделал земной поклон. Я не могу описать свои чувства в это время, потому что они были очень сложны.
Первая панихида состоялась до моего приезда, в присутствии государя и государыни.
Я просил мою сестру Веру описать, как произошла смерть отца, потому что в это время она была одна с отцом в его кабинете. Я привожу здесь выдержку из ее письма от 1941 года:
“Помню, что вечером тетя Оля читала папа′ и мне по-русски, кажется, чтобы ознакомить меня с русской словесностью. Папа′ лежал в постели после последнего припадка грудной жабы. 15 июня мы с папа долго ждали тетю Олю, которая задержалась в своем лазарете при операции раненого. Я сидела на диванчике, который стоял у рояля, перед вольерой, знаешь, в большом уютном кабинете папа′ в Павловске. Как сейчас помню книжку “Хитролис”, русский перевод Гете “Рейнеке Фукс”. Вдруг я слышу, что папа′а задыхается. Послушав три, четыре раза эти страшные звуки одышки, я стремглав бросилась к мама′ в спальню, где она примеряла новое цветное платье, вероятно, для Осташева, куда мы собирались ехать, так как папа′ было уже гораздо лучше и он поправлялся после очень сильного припадка грудной жабы. В такие минуты страха человеку даются особые силы. Мама′ никогда не могла понять, каким образом я так быстро смогла открыть тяжелую дверь с зеркалом и зелеными растениями перед ней, дверь между кабинетами папа′ и мама′. Прибежав к мама′, я, запыхавшись, закричала: “Папа′ хат кейне луфт!” Мама′ побежала за мной, но все уже было кончено. Она позвала Аракчеева (старый камердинер отца), который с глупой улыбкой не двигался с места, вероятно, оцепенев от ужаса”.
Вере в это время было девять лет.
Матушка любила отца от всего сердца, нежно и глубоко. Она была искренно верующая, и ее вера была главной опорой в ее безысходном горе. Она в тот же день вызвала к себе пастора и причастилась.
На следующий день дяденька отправил меня к государю в Царское Село спросить указаний, во что одеть отца: в мундир или китель. Отец завещал похоронить себя в форме 15-го Гренадерского полка. Приехав в Александровский дворец, я просил доложить о себе государю. Он принял меня в своем кабинете и приказал одеть отца в китель.
От государя я заехал к обер-гофмаршалу графу Бенкендорфу, тоже по поручению дяденьки, чтобы спросить, следует ли надевать на отца Георгиевский крест. Бенкендорф сказал, что Георгиевский крест надевать не надо. Бенкендорф жил в Большом Царскосельском дворце, в так называемом Лицейском флигеле, в котором в первые годы своего существования помещался Императорский Александровский лицей и в котором жил Пушкин, будучи лицеистом.
Отца бальзамировали в антресольном помещении, рядом с кабинетом императора Павла; в этом помещении, кажется, была его камердинерская. Доктора обнаружили в сердце язву. Теперь стали понятны слова отца, что иной раз он ощущает “раны в сердце”. Впрочем, он редко жаловался на свои страдания и все таил в себе.
После одной из панихид в кабинете отца дяденька, братья и я, чины нашего двора, положили отца в гроб. Гроб перенесли во второй этаж в великолепную ротонду. Ровно за год до того родители давали в ней парадный семейный обед в честь приезжавшего в Петербург Саксонского короля.
В изголовье отца поставили три флага: адмиральский, вице-адмиральский и контр-адмиральский, так как отец числился в Гвардейском экипаже. По обеим сторонам гроба стояло дежурство от военно-учебных заведений, а также от частей, в которых отец числился.
К сожалению, тело отца плохо набальзамировали, и выражение его лица изменилось.
Он был покрыт золотым парчовым покрывалом, отороченным горностаем. Вокруг гроба стояли паникадила с зажженными свечами. Обстановка была очень торжественная. Во время одной из панихид конногвардеец, стоявший часовым у гроба с винтовкой за плечом, упал в обморок.
На панихиды приезжало очень много народа. В самой ротонде стояло семейство, а публика стояла рядом, в Греческой зале и на площадке лестницы.
Вынос тела отца из Павловского дворца и перевезение его в Петроград, в Петропавловскую крепость, состоялся на восьмой день по его кончине. Вынос происходил после завтрака, часа в три. Приехали государь, Павел Александрович и Георгий Михайлович. Другие члены семейства встречали тело отца в Петрограде на Царскосельском вокзале, на царской ветке. Государь прошел за гробом по двору дворца и затем уехал в Царское Село. Все же остальные провожали гроб до Павловского вокзала и вместе с ним поехали в Петроград в специальном поезде.
По шоссе, по которому везли в Павловск гроб отца, стояло много народа. Когда мы подходили к вокзалу, оркестр, дававший в зале вокзала концерты, заиграл траурный марш.
Наш поезд подошел в Петрограде к платформе царской ветки, на которой была приготовлена встреча. Государь стоял на платформе вместе с обеими государынями. Они были в креповых черных платьях и Андреевских лентах. Под звуки “Коль славен” гроб вынесли из вагона и поставили на лафет Константиновского артиллерийского училища, в котором отец числился. Ездовыми были юнкера училища. По сторонам гроба шли пажи с факелами.
Императрицы и великие княгини ехали в парадных траурных каретах. Матушка и девятилетняя сестра Вера ехали в одной карете с императрицей Александрой Федоровной. По пути следования печального шествия стояли войска. Иоанчик и я шли по сторонам дяденьки.
На следующий день по перевезении тела отца в Петропавловскую крепость было отпевание и похороны. Гроб стоял высоко под балдахином. Кругом него стояло дежурство. Справа от семейства, рядом с великим князем Георгием Михайловичем, стоял английский посол Бьюкенен, тот самый, который способствовал нашей “великой и бескровной” революции.
Матушка держала себя спокойно и, как всегда, с большим достоинством. Когда медленно закрывали крышку гроба, матушка все ниже и ниже наклонялась, чтобы видеть лицо усопшего до последнего мгновения.
Похоронили отца в новой усыпальнице, там же, где похоронены дедушка и бабушка и моя сестра Наталья. Гроб опустили в очень глубокий и узкий колодец. Слава Богу, камердинер отца Фокин, который был при отце еще с русско-турецкой войны, вспомнил, что отец всегда возил с собой коробочку с землей Стрельны, где он родился. Он принес ее с собой в усыпальницу, и эту землю насыпали на крышку гроба, когда его опустили на место упокоения. На крышке этой металлической коробочки были выгравированы почерком матушки слова Лермонтова: “О родине можно ль не помнить своей?”
Колодец закрыли плитой, такой же, какие были и на других могилах. До похорон отца я не думал, что гробы опускаются в такие глубокие и узкие колодцы. Надгробные плиты сделаны заподлицо с каменным полом. Раньше всех лиц династии хоронили в самом Петропавловском соборе, и над каждой могилой ставились высокие белого мрамора саркофаги с золотым крестом. Можно было стать перед саркофагом на колени, опереться о него и так помолиться. Таким образом, вы чувствовали себя вблизи дорогого вам усопшего. А в усыпальнице дорогие вам усопшие были где-то под ногами. Как к ним подойти и как почувствовать себя вблизи них?
Глава XXXIV. Осень 1915 – зима 1916
Поездка в Крым – Плохие дела на фронте – Николай II принимает на себя пост Верховного главнокомандующего
Осенью 1915 года я решил поехать в Крым, куда уехал доктор Варавка. Он был врачом великого князя Петра Николаевича и жил в его имении Дюльбер, недалеко от Ялты. Варавка нашел мне дачу в Новом Мисхоре, рядом с Алупкой. Найти подходящую дачу на южном берегу Крыма было делом нелегким: дач там было немало, но большинство из них было лишено всякого комфорта.
Я был рад поездке в Крым, потому что перед отъездом в Павловске мне все время нездоровилось. У меня было что-то вроде малярии. В Крыму я быстро поправился. Стояла дивная осень. Ежедневно я ходил гулять пешком вместе с Мишей Долгоруковым, бывшим артистом Петербургского балета. Он был внебрачным сыном князя Сергея Долгорукова, родного брата княгини Юрьевской (морганатической жены Александра II), и балетной артистки Александровой. Поэтому Миша долгое время носил фамилию Александров. Мечтой его жизни было получить фамилию Долгоруков. В 1914 г. государь даровал ему эту фамилию без княжеского титула. У Миши было много юмора и дар изображать разных людей. Лицом же он был очень похож на Петра Великого.
В Дюльбере жила жена моего дяди Петра Николаевича Милица Николаевна со своими детьми Романом и Надеждой.
Погода стояла очень жаркая, и поэтому я надевал теннисный костюм. Офицеры не имели права носить штатское платье, но для спортивных упражнений они могли надевать спортивные костюмы с двуглавым орлом на рубашке.
Новый Мисхор был на границе Алупки, при въезде в которую стоял большой обелиск, на котором было два герба: со стороны Алупки – герб князей Воронцовых, а со стороны Мисхора – герб князей Долгоруких. Мисхор принадлежал Долгоруким.
Конечно, я осматривал мой любимый Алупкинский дворец. Его мне показывал все тот же татарин, у которого были часы с портретом Николая Николаевича Старшего. Я также гулял в Алупкинском парке.
С тех пор как построили в 1911 году новый дворец в Ливадии, их величества стали ежегодно ездить в Крым. Дороги были расширены, и устроены удобные для автомобилей виражи. Южный берег Крыма во многом переменился с 1903 года, когда я его увидел в первый раз.
Дяденька купил себе имение рядом с Ай-Тодором, со стороны Ливадии. Оно находилось подле нижней дороги, которая вела из Ливадии в Алупку. Дяденька назвал его Кичкинэ, что, кажется, по-татарски значит “маленький”. Имение действительно было небольшое, но, по-моему, место было выбрано неудачно, на склоне горы и не защищенное от ветров. Дяденька построил себе очень симпатичный дом и другой – для гостей, который предназначался для моих родителей. Они жили в нем весной 1914 года. Там же, в Кичкинэ, в первый день Пасхи, 6 апреля 1914 г., у моей сестры Татианы родилась дочь Наталья.
Дяденькин дом мне очень понравился. Лично у дяденьки был как бы особый уголок в доме и даже маленький отдельный садик, – все было очень уютно и удобно. Сад был тоже прелестный. Дом и сад стояли над обрывом, круто спускавшимся к морю.
Между тем дела на фронте продолжали оставаться весьма плохими. Наши армии отступали. Винтовок не хватало, снарядов тоже. Конечно, в связи с этим и настроение в стране было подавленное. Ставку Верховного главнокомандующего пришлось перенести из Барановичей в Могилев. Государь решил взять на себя пост Верховного главнокомандующего, назначив Николая Николаевича своим наместником на Кавказе. Николай Николаевич продолжал быть очень популярным, и многие осуждали царя за этот шаг.
Я лично думаю, что государю не следовало становиться во главе наших армий, потому что он брал на себя слишком большую ответственность и отрывался от управления страной, то есть тылом, который имеет огромное значение во время войны. Мне кажется, что во главе своих армий могут становиться лишь монархи вроде Фридриха Великого или Наполеона – бесспорные военные авторитеты.
Уже год как я не являлся в полк, и мое положение по отношению к полку было неловким. Мне это было страшно неприятно, но доктор Варавка продолжал меня не пускать на фронт. Поэтому я решил отчислиться в свиту государя. Это означало бы, что я считаюсь на службе в свите государя, оставаясь в списках полка и производясь по полку, но без права носить мундир полка.
Николай Николаевич, покинув Могилев, поехал в свое имение Першино, а оттуда – в Тифлис. Вместе с ним поехал и его брат Петр Николаевич со своей семьей. Во время войны Петр Николаевич находился неотлучно при своем старшем брате.
В это время доктор Варавка ушел от Петра Николаевича, и я предложил ему быть моим врачом и получать то же жалованье, которое он получал. Варавка принял мое предложение, он стал бывать у меня теперь ежедневно. Практика у него все росла, и через некоторое время он отказался от моего жалованья.
Я пробыл в Крыму около двух месяцев, когда получил известие, что брат мой Игорь серьезно заболел воспалением легких и что его привезли с фронта в Петроград. Я очень взволновался и выехал обратно в Петроград, торопясь на свидание с ним.
Меня встретила сумрачная октябрьская погода. Как мне показалось нехорошо в Петрограде после чудесного и солнечного Крыма! Игорь перенес серьезную болезнь, и врачи запретили ему, как и мне, продолжать службу в строю. Оправившись от болезни, Игорь поехал к государю доложить ему о решении врачей. Он не знал, что ему делать, раз он не может служить в строю. Ему очень хотелось, чтобы государь назначил его флигель-адъютантом и чтобы он был отчислен в свиту. Он так повернул разговор (один только Игорь умел это делать), что государь тут же назначил его флигель-адъютантом и отчислил в свиту, разрешив ему продолжать носить полковой мундир.
В это время я был в Павловске у всенощной по случаю кануна одного из двунадесятых праздников. Вернувшись от государя, Игорь пришел прямо в церковь и с большой радостью сообщил нам о монаршей милости. Конечно, мы все были на седьмом небе от восторга. Будучи уже в Петрограде, я узнал и о своем отчислении от полка в свиту его императорского величества с правом носить мундир полка.
20 октября была в Петропавловском соборе панихида по случаю дня кончины Александра III. После панихиды я благодарил государя за то, что разрешил мне носить полковой мундир.
Во время войны несколько раз бывали панихиды в Петропавловском соборе в присутствии государя и членов Императорского дома. Если приезжал в собор принц А.П. Ольденбургский, стоявший во главе санитарной части и работавший не покладая рук, то он, здороваясь с государем, обычно просил его разрешения не оставаться на панихиде, так как он очень занят. Государь всегда его отпускал. Принцу А.П. Ольденбургскому было тогда семьдесят лет, но, несмотря на свой преклонный возраст, он был чрезвычайно деятельный, сам во все входил и на всех наводил страх и трепет. Он много принес пользы России.
Когда государю был поднесен Георгиевский крест, я решил подарить ему копию Георгиевского креста, какой носил Александр I. Крест этот хранился в Эрмитаже. Я пошел в Эрмитаж, но оказалось, что та зала, в которой хранился крест, почему-то закрыта. Я никогда не видел этого креста, но знал о нем, потому что, когда отец получил Георгия на Турецкой войне, он просил заказать ему такой же. Он был меньшего размера, чем обычно, и плоский.
Тогда я отправился в Артиллерийский музей, напротив Петропавловской крепости: там хранились ордена Николая I. Действительно, придя в музей, я нашел Георгиевский крест Николая Павловича. Он находился там же, где были мундиры Александра I и Николая I. У Николая I был Георгий не за боевые отличия, а за 25 лет службы. Мне надо было его взять с собой, чтобы заказать ювелиру Фаберже его копию. Для этого следовало получить разрешение заведующего музеем, но его не оказалось, и сторож выдал мне крест по собственной инициативе. Крест этот отличался от боевого Георгиевского тем, что на нем было написано “Двадцать пять лет”. В наше время Георгиевских крестов за 25 лет службы больше не давали.
Фаберже сделал мне копию этого креста Николая I, но, конечно, без надписи. Я написал государю письмо и послал его вместе с крестом с очередным фельдъегерем. Игорь как раз дежурил тогда в Ставке в Могилеве. Государь велел Игорю передать мне свою благодарность.
В Артиллерийском музее хранилась также Андреевская звезда Николая I и его лейб-гусарский ментик, но почему-то без меха. Там же были его эполеты 1-го Кадетского корпуса, а также – каски Александра I. Я взял в руки одну из этих касок польского кавалерийского полка, шефом которого был Александр I. Каска была кожаная, с небольшим волосяным гребнем. Я думал, что она должна быть очень тяжелой, но, к моему большому удивлению, она оказалась совсем легкой.
Я позвонил по телефону директору 1-го Кадетского корпуса генералу Григорьеву и посоветовал ему взять эполеты Николая I в музей корпуса. Не знаю, удалось ли генералу Григорьеву их получить.
С самого моего детства, с того времени, как моим воспитателем был граф Н.И. Татищев, я очень люблю музеи, в особенности – военные. Когда какая-нибудь вещь, хранящаяся в музее, меня интересует, мне всегда хочется докопаться до ее происхождения и вообще узнать о ней побольше.
Я упомянул, что Игорь дежурил в Ставке при государе. Государь очень хорошо относился к нему. Обычно после завтрака в Ставке государь с наследником и ближайшей свитой делал прогулки на автомобиле. Часто они ездили на берег Днепра, где наследник возился в песке. Государь и Игорь принимали деятельное участие в этом и помогали наследнику, копая для него песок лопатами.
Игорь всегда очень громко говорил, за что дома ему часто попадало. Однажды в Ставке за завтраком он тоже слишком громко говорил, и государь ему сказал: “Я говорю!” Игорь не смутился и ответил государю, что когда он родился, он был синим и его начали бить, чтобы привести в нормальное состояние, и вот он с тех пор и кричит.
Играя в Ставке в лаун-теннис, Игорь вывихнул себе ногу и должен был некоторое время лежать в гостинице, в которой квартировал. В этот день приехала в Ставку графиня Е.К. Зарнекау (Тина), дочь покойного принца К.П. Ольдсенбургского. Она была сестрой милосердия при Уссурийской конной дивизии и по собственной инициативе приехала просить государя, чтобы он приказал выдать дивизии необходимые для нее пулеметы. Начальник дивизии генерал Крымов, несмотря на все хлопоты, никак не мог их получить. Вечером государь зашел к Игорю, у которого сидела Тина, и они втроем поговорили, и благодаря этому разговору Уссурийская конница получила пулеметы. Во время разговора с Тиной государь сидел на кровати Игоря. Как я был счастлив, если бы государь сидел у меня на кровати!
Во время дежурства Игоря приезжал с Кавказа в Ставку Николай Николаевич. Игорь как-то проходил мимо его вагона и увидел его в окне. Николай Николаевич сделал ему знак: будь, мол, бодр! Очевидно, он считал необходимым подбадривать людей в связи с тем, что в это время стали сгущаться тучи на нашем политическом горизонте.
Перед Пасхой 1916 года приехал из Греции в Павловск мой двоюродный брат королевич Христофор Греческий. Он приехал навестить свою мать, тетю Олю, которая с 1914 года жила в России и ухаживала за ранеными в госпитале, устроенном в казармах лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, в Павловске. В это время Христофор был влюблен в богатейшую американку Лидз и хотел на ней жениться. Он стремился получить разрешение своей матери на брак и, кажется, его получил. Он несколько раз обедал у А.Р. на Каменноостровском проспекте и быстро подружился с ней.
А.Р. призналась ему, что мечта нашей жизни – обвенчаться, но что мы не хотим вступать в брак без разрешения государя. Но как его получить? Христофор понял наше положение, так как сам был в таком же и добивался получить разрешение от своего брата греческого короля Константина на брак с Лидз, что было тоже не легко. Христофор обещал А.Р. поговорить с добрейшей тетей Олей и попросить ее ходатайствовать перед государем, чтобы он дал свое согласие на наш брак. Действительно, когда тетя Оля была у их величеств в Царском Селе, она сказала о нас государю, но он ей ответил, что не может разрешить нам жениться, так как это может послужить предлогом для других членов Императорского дома просить о том же. Таким образом, эта попытка не увенчалась успехом, и нам приходилось вооружиться терпением и ждать более подходящего случая.
Христофор был умный человек, и так же, как Игорь, умел уговаривать своего отца и добиваться от него, чего хотел. Другие же его братья, как и мои, и я сам, этого совершенно не умели.
Глава XXXV. Лето – осень 1916
Приезд в Россию моего кузена, королевича Николая Греческого – Я поступаю в Военную академию и становлюсь в 29 лет полковником – Новоселье у великого князя Дмитрия Павловича
Летом 1916 года приехал в Царское Село муж великой княгини Елены Владимировны, королевич Николай Греческий (Ники). Его сопровождал адъютант греческого короля морской офицер, красивый брюнет с бородой. Ники остановился у своей тещи великой княгини Марии Павловны. Я думал, что вместе с ним приехал и его брат Андрей, и поехал к Марии Павловне, чтобы их повидать. Оказалось, однако, что Андрей поехал в Лондон, с поручением от греческого короля к английскому – так же, как Ники приехал в Царское Село с поручением к государю императору.
Положение греческого короля было очень трудное, потому что союзники нажимали на него, чтобы Греция вступила в войну с Германией, а король Константин не хотел войны. По-моему, он был совершенно прав: какой король может желать войны своей стране?
Через некоторое время Ники переехал в Павловский дворец, чтобы быть вместе со своей матерью тетей Олей. Мне кажется, что он не любил Павловска и очень в нем скучал. Конечно, ему гораздо приятнее было жить в Царском у Марии Павловны, жизнь при дворе которой была веселее, чем в Павловске. Матушка, тетя Оля и Елена Петровна вели очень однообразную жизнь в своем тесном кругу, и у них почти никто не бывал. Ники бродил печальный по Павловскому парку. Иной раз я с ним встречался и подсаживался к нему на скамейку. Мы говорили с ним о политике; он не выносил знаменитого греческого политического деятеля Венизелоса, который, конечно, был очень умным человеком.
Ники написал письмо государю в Ставку. Адрес он написал по-русски, хотя по-русски говорить не умел. Он ездил в Ставку к государю. Почему-то ему пришлось долго пробыть в России. Когда он, наконец, мог выехать и уже доехал до Выборга, он получил телеграмму от греческого короля и был принужден вернуться в Петроград, что было ему весьма неприятно.
Когда он уезжал во второй раз, то накануне отъезда переночевал в моих комнатах в Мраморном дворце. Он очень опасался, что его снова вернут с дороги, но на этот раз этого не случилось.
К большой моей радости я узнал, что открываются подготовительные курсы первой очереди военного времени при Императорской Николаевской военной академии, и решил, с высочайшего разрешения, на них поступить. Перед поступлением на курсы я явился к исполняющему должность начальника академии генералу Петерсу. Во время моего учения в академии он из Петерса превратился в Каменева, должно быть потому, что Петр значит “камень”. Во время войны 1914–1918 гг. у нас в России было стремление переделывать немецкие фамилии на русский лад. Я считаю, что те люди, которые таким образом перекрашивались, не уважали своего прошлого.
В октябре, в день открытия курсов академии, в академической церкви был молебен. Поехал я в академию в сопровождении барона Э.Ф. Менда, который в то время управлял делами моих братьев Константина и Игоря и моими. Я волновался. На молебен собралось много офицеров, поступавших на курсы, и профессоров, которым предстояло нас просвещать в военных науках.
По окончании молебна мы пошли завтракать в здание академии и расселись в столовой за большими столами, как в училище или корпусе. Рядом со мной сел штабс-капитан Иконников, лейб-гвардии Финляндского полка, Георгиевский кавалер. Он предложил, чтобы офицеры гвардии сидели вместе, и просил меня поддержать его, что, к сожалению, я сделал. Я говорю “к сожалению”, потому что в академии не было обычая делать различие между офицерами гвардии и армии, что во всех отношениях было совершенно правильно.
Между всеми нами сразу установились товарищеские отношения.
Я был счастлив поступить на курсы, потому что очень скучал без дела и тяготился, что не нахожусь на фронте. Каждый день я ездил на лекции в академию, которые начинались в 9 часов. В это время на улицах едва светало. Лекции происходили в большом, светлом зале младшего курса академии. В переменах между лекциями мы выходили в большой коридор или в столовую. К завтраку я возвращался домой и после завтрака снова ехал в академию. Занятия заканчивались около пяти часов.
Фамилии некоторых офицеров, учившихся вместе со мной, я запомнил, а именно: штабс-капитаны Мунтянов и Верховский. Мунтянов был крайне симпатичный, и я был с ним в хороших отношениях. Мы снова встретились с ним в Париже в 1922 году. Он был в то время вдовцом, его первая жена, бывшая сестрой милосердия, умерла еще в России. Впоследствии он женился на Вуич и жил с ней в Финляндии, где и умер от последствия ранения, полученного на войне 1941 г. Он мне писал из Финляндии, и я его вспоминаю с теплым чувством.
Бывший паж Верховский был очень старательный, но физически слабый и болезненный.
Я уже упоминал об Иконникове. Он был веселый и милый, но лентяй и провалился на экзаменах. После революции он оказался в Холливуде, и я слышал, что он там и умер.
Вспоминаю с теплым чувством гвардейской конной артиллерии штабс-капитана Гершельмана и многих других, фамилии которых, к сожалению, забыл.
Хочется также вспомнить наших профессоров. Всех, к сожалению, я не помню. Общую тактику читал генерал Марков, впоследствии герой Белой армии. Он был талантливый и энергичный. Его лекции были чрезвычайно интересны. Ему можно было задавать вопросы, на которые он охотно отвечал.
Службу Генерального штаба читал полковник Андогский. Тактику кавалерии читал сам начальник академии генерал Петерс-Каменев, которого я сразу же невзлюбил. Он очень хотел казаться строевым офицером, каковым совсем не был. Я думаю, что для войны он мало годился, командуя бригадой в 14-й кавалерийской дивизии.
Полковник Плющевский-Плющик читал нам тактику артиллерии. Он хорошо преподавал, и мы его любили. Я как-то его встретил, уже в эмиграции, на одном вечере в Париже, и был очень рад его видеть. Вскоре после этого он умер. До этого мы встретились однажды весной 1917 г. в Петрограде, на Дворцовой набережной, и с большой симпатией друг друга приветствовали. Я спросил его, что происходит на фронте. Он мне печально ответил, что наша армия разлагается. Я в то время еще верил, что, несмотря на революцию, наша армия выдержит. Слова Плющевского-Плющика произвели на меня в ту минуту тяжелое впечатление, и я их запомнил до сих пор.
Полковник В. Поляков, бывший офицер лейб-гвардии 3-го Стрелкового полка, читал администрацию. Он был бравый на вид, и на его большой шашке висел Анненский темляк. Читал он ясно и толково. Я с ним несколько раз потом встречался в Бельгии, где он поселился после революции.
В академии служил с незапамятных времен генерал Даниловский. Он преподавал в академии топографию. Нам же он топографию не преподавал, а заставлял чертить палочки, которыми на картах обозначаются возвышенности. Это было совершенно ненужное занятие, и непонятно было, почему нас заставляли терять время на такую чепуху. Это только доказывало неспособность начальника академии генерала Петерса-Каменева организовать дело.
Настроение в Петрограде было неспокойное. Общественное мнение было возбуждено против государя и государыни, особенно против государыни, за ее якобы вмешательство в государственные дела и за склонность к Распутину. Государя же обвиняли в слабости характера и в том, что он находится всецело под влиянием государыни. Всюду слышны были толки об этом. Говорили, что государыню следует заточить в монастырь, говорили и шумели, шумели и говорили, не сознавая, что своими разговорами роют яму монархии и самим себе, помогая этим революционерам в их работе по свержению монархии.
Будучи на курсах, я получил два следующих чина, потому что во время войны производство было ускорено. Я был очень счастлив надеть на себя полковничьи погоны и нашить на гусарские чакчиры широкий золотой полковничий галун.
Мне было всего 29 лет. Мой отец был произведен в полковники 32 лет, так же, как и дяденька. Последний за отличие по службе, с назначением командующим лейб-гвардии Конно-гренадерским полком, а я по линии. Когда я рассказываю, что я попал в полковники 29 лет, все думают, что я получил этот чин не по линии, а как член династии. Правда, в прежние времена великие князья производились быстрее своих товарищей по службе, но в мое время этого больше не делалось, за редкими исключениями.
Великий князь Дмитрий Павлович жил в своем дворце на Невском проспекте у Аничкова моста. Дворец этот перешел к нему от великой княгини Елизаветы Федоровны, которая уступила его ему, когда стала диаконисой.
Дмитрий устроил себе во дворце прекрасную квартиру, но он боялся в нее переезжать из своей старой квартиры, бывшей в том же дворце, потому что ему казалось, что если он переедет во время войны, то с ним обязательно случится какое-нибудь несчастье. К тому же, когда квартира устраивалась, один из рабочих был убит свалившейся балкой. Обе его квартиры – и старая, и новая – были на первом этаже, а во втором, в парадных комнатах, помещался английский лазарет для раненых.
Когда же, наконец, Дмитрий решился переехать на новую квартиру, то в день переезда заказал молебен, на котором присутствовали великие княгини Мария Павловна и Виктория Федоровна, управляющий его делами генерал Лайминг с женой, адъютант Дмитрия ротмистр Шагубатов и я. Но молебен как-то не клеился: что-то случилось с кадилом и диакон напутал, произнося ектению.
Приблизительно за неделю до убийства Распутина Дмитрий обедал у А.Р. на Каменноостровском с состоявшим при мне полковником Хоцановским и его прелестной женой Софией Николаевной, рожденной Философовой. Покойный отец С.Н. состоял при тете Оле в продолжение многих лет и потому жил в Афинах. Мой отец очень любил Философовых и бывал в Петрограде у Хоцановских. Конечно, за обедом у А.Р. был и я.
После обеда Дмитрий, опершись о рояль, таинственно и очень увлекательно рассказывал, что он ездил на автомобиле в окрестности Петрограда по какому-то делу. Конечно, нам не могло прийти в голову, что, как впоследствии выяснилось, он ездил искать место, где можно было бы скрыть тело Распутина, которого князь Феликс Юсупов собирался убить. Мы об этом проекте ровно ничего не знали и ничего не подозревали.
Я с большим удовольствием продолжал свои занятия в академии и вспоминаю это время как одно из счастливейших в моей жизни. Я надеялся быть зачисленным по окончании ее в списки Генерального штаба, где бы здоровье позволило мне служить.
Я несколько раз простужался в ту зиму и болел. Кстати, о здоровье. Доктор Варавка часто навещал меня по-прежнему. Он теперь лечил императрицу Марию Федоровну и ездил в Царское Село лечить А.А. Вырубову. Варавка по-прежнему был моим большим другом и говорил с Вырубовой об А.Р., и просил за нас, чтобы нам разрешено было обвенчаться. Он даже говорил об этом с императрицей Александрой Федоровной. Вопрос нашей свадьбы был совсем “на мази”. Императрица ответила, что пускай мы повенчаемся – сперва нас для видимости накажут (должно быть, прикажут на время уехать), а потом простят. Оставалось лишь поставить точки над “i”, но в это время убили Распутина. Я всецело был на стороне Дмитрия Павловича, чем навлек на себя недовольство государыни, и вопрос о нашей свадьбе больше не поднимался.
Глава XXXVI. Декабрь 1916
Убийство Распутина – Наши попытки облегчить участь Дмитрия Павловича
В ночь с 16 на 17 декабря был убит Распутин. Конечно, весь Петроград только и говорил об этом. Говорили, что он был убит князем Юсуповым в его доме и Дмитрием Павловичем. В городе было страшное волнение и ликование. Публика сделала Дмитрию Павловичу овацию в Михайловском театре.
Императрица, оставшаяся одна в Царском Селе (государь был в Ставке в Могилеве), отдала распоряжение, чтобы тело Распутина было непременно найдено. Ходили самые разнообразные слухи. Полиция нашла тело Распутина подо льдом у Петровского моста, в притоке Невы, благодаря калоше Распутина, плававшей на поверхности. Тело Распутина отвезли в Чесменскую богадельню на Царскосельском шоссе. При вскрытии тела обнаружили, что Распутин был еще жив, когда его сбрасывали в воду.
Государь вернулся в Царское Село. Распутина похоронили в Царскосельском парке.
Дмитрий был арестован у себя дома по приказу императрицы. Я очень волновался за него и был чрезвычайно огорчен случившимся.
На следующий день на курсах в академии только и говорили, что о Распутине, и я даже сцепился с ротмистром Дубенским, споря о роли Дмитрия в этом убийстве: Дубенский уверял, что Дмитрий убивал Распутина, а я утверждал, что не убивал.
Из академии я поехал к Дмитрию Павловичу. Он сидел в своей спальне перед туалетом, и его стриг парикмахер. Дмитрий был в духе и уверял, что в убийстве Распутина он неповинен.
Вскоре до меня дошел слух, что приверженцы Распутина собираются убить Дмитрия. Я, очень взволнованный, полетел во дворец великой княгини Марии Павловны, у которой завтракал великий князь Андрей Владимирович. Вызвал его вниз, в переднюю, и мы решили, что он, Кирилл Владимирович и я поедем к Дмитрию. Это было 19 декабря. На подъезде у Дмитрия стоял часовой. В кабинете у Дмитрия мы застали Феликса Юсупова, который переехал к нему. Дмитрий был взволнован, а Феликс совершенно спокоен. Мне кажется, что Дмитрию поставили часового не только потому, что он был арестован, но также и для того, чтобы его охранять. Дмитрий опять отрицал свое участие в убийстве, но проговаривался. Юсупов же был непроницаем, как стена. После нас приехал великий князь Николай Михайлович. Он был очень возбужден.
Вот что пишет обо всем этом великий князь Андрей Владимирович в своем дневнике, опубликованном в “Красном Архиве” (том 26, 1928 г.):
“19 декабря, понедельник. Кирилл, Гавриил и я – мы заехали к Дмитрию заявить ему, что, не вникая вовсе в вопрос, виновен ли он или нет в убийстве Распутина, мы все стоим за него и он может вполне на нас рассчитывать. Что бы ни случилось, – мы будем за него. Дмитрий был очень растроган и благодарен за моральную поддержку, причем торжественно поклялся, что в эту знаменитую ночь он Распутина не видал и рук своих в его крови не марал… Феликс Юсупов рассказал про свое знакомство с Распутиным, которое носило характер интереса с точки зрения изучения его психологии, но после одной беседы, которая происходила недавно, он так непочтительно и грязно отозвался о Ники и Аликс (государь и государыня), что он перестал у него бывать. Переходя к знаменитой ночи, Феликс говорил, что Дмитрий пожелал поужинать у него, в его новой квартире, и было решено ужин назначить на 16 декабря, то есть накануне отъезда Феликса в Крым. Кто был на ужине, ни Феликс, ни Дмитрий не говорили и называли одного Пуришкевича. Во время разгара ужина Феликс был позван к телефону, его вызвал Распутин и уговаривал ехать к цыганам. Феликс ответил, что у него гости и ехать не может. Распутин настаивал, чтобы он бросил гостей и что у цыган будет веселее. Феликс слышал в аппарат шум голосов и веселье и спросил Распутина, откуда он говорит. Он ответил: “Ты слишком много знать хочешь”, – и прекратил разговор. Ужин шел своим чередом. После ухода Дмитрия с двумя дамами Феликс слышал выстрел во дворе и послал лакея узнать, в чем дело, но тот сообщил, что ничего нет и что ему, вероятно, послышался выстрел.
Тогда Феликс вышел во двор и застал городового, который прибежал на выстрел и нашел убитую собаку. Феликс позвонил Дмитрию узнать, он ли убил собаку, и, получив утвердительный ответ, пошел провожать гостей, которые около 5 часов утра уже все разъехались. Затем Феликс вернулся во дворец Сандро (тесть Юсупова – великий князь Александр Михайлович), где он жил. На следующее утро у него был полицмейстер по поводу ночного выстрела, и, не желая раздувать такой пустяк, в котором замешан Дмитрий, Феликс поехал к градоначальнику, а затем к министру юстиции Макарову. Вечером он поехал на вокзал, чтобы ехать в Крым, но на вокзале полицмейстер просил его вернуться домой с обязательством о невыезде из столицы.
После этого Дмитрий рассказал нам, как было с его арестом. 18 декабря утром к нему звонит генерал Максимович и говорит следующее: “Ваше императорское высочество, для вас будет большим ударом то, что я должен вам сообщить: прошу вас не выезжать из дому и ждать меня”.
Затем он прибыл и передал Дмитрию, что получил от Аликс приказание арестовать его домашним арестом, хотя, сознался Максимович, без высочайшего приказа он не имеет права это делать, но, принимая во внимание его личную безопасность, он просит его сидеть дома. Таким образом, фактически Дмитрий был арестован по приказанию Аликс. Затем он уехал.
21 декабря, среда. В 5 часов у меня собрались: мама, дядя Павел, Кирилл, Борис, а позже и Сандро (вел. кн. Александр Михайлович). Собрались по инициативе дяди Павла, который хотел нам сообщить следующее: 19 декабря он был у Ники в 11 часов вечера. На просьбу дяди Павла освободить Дмитрия Ники сказал, что не может сейчас дать ему ответ, но пришлет завтра утром. И действительно, дядя Павел получил от Ники письмо примерно следующего содержания, которое дядя Павел нам прочел: “Отменить домашний арест Дмитрия не могу до окончания следствия. Молю Бога, чтобы Дмитрий вышел из этой истории, куда его завлекла его горячность, чист”.
Затем дядя Павел передал про свое свидание с Дмитрием и как он на образе и портрете матери поклялся, что в крови этого человека рук не марал. Цель совещания заключалась в том, посылать ли Ники или нет заготовленный ответ, и прочел письмо, которое мы все одобрили.
С приходом Сандро мы обсуждали, что же будем делать дальше, ежели Ники все же не освободит Дмитрия, и потечет следствие до конца. Тогда решили, что дядя Павел снова поедет к Ники и покажет всю опасность создавшегося положения…”
Я ездил к новому министру юстиции Добровольскому просить его смягчить участь Дмитрия. Я надеялся, что он исполнит мою просьбу, так как мы были с ним знакомы – он бывал у А.Р. Добровольский принял меня на своей частной квартире. Он не откликнулся на мою просьбу, и я понял, что помогать Дмитрию он не желает. Говорили, что он принадлежал к распутинской клике и что, благодаря этому, он был назначен министром юстиции. Ясно в таком случае, почему он не пожелал помочь Дмитрию.
Андрей Владимирович пишет далее в своем дневнике:
“22 декабря, четверг. Сандро был в Царском Селе, но ровно ничего не добился: ни освобождения Феликса, ни Дмитрия, хотя высказал все, что мы решили вчера.
23 декабря, пятница. Я лежал в постели весь день и чувствовал себя очень плохо. Около 10 часов вечера, когда я уже засыпал, ко мне по телефону звонил Гавриил и сообщил, что в 2 часа ночи Дмитрия высылают в Персию, в отряд генерала Баратова. Он едет в экстренном поезде в сопровождении генерала Лайминга и флигель-адъютанта графа Кутайсова, который получил личную инструкцию от государя везти Дмитрия и не давать ему возможности сообщаться с внешним миром ни телеграфно, ни письменно. Я немедленно позвонил Кириллу и хотел ехать к нему, но он сказал, что мама, Даки (великая княгиня Виктория Федоровна, жена Кирилла Владимировича) и он сам приедут ко мне сейчас. Я просил тоже Гавриила приехать и сам стал быстро одеваться. Скоро все приехали, вероятно, это было около 11 часов с минутами, и надо было решить, что предпринять. Решили предоставить событиям идти своей дорогой. Но все же мы хотели иметь мнение председателя Государственной Думы М.В. Родзянко, но он отказался приехать из-за позднего часа (было уже 12 ч.), боясь вызвать излишние толки. Затем приехал ко мне Сандро. Он тоже находил, что в данную минуту ничего нельзя сделать. Феликс тоже сослан под охраной в Курскую губернию, в свое имение.
После этого мы решили ехать немедленно к Дмитрию проститься с ним, что и выполнили, оставив мама и Даки у меня. Дмитрия застали спокойным, но бледным, как полотно…
В 11/2 Кирилл, Гавриил и я поехали проститься с Дмитрием, потом все вернулись ко мне пить чай”.
У Дмитрия мы застали великого князя Александра Михайловича. Все были очень взволнованы и огорчены отъездом Дмитрия. Мы не стали ждать его отъезда, а уехали раньше, трогательно с ним простившись. Великие князья Николай и Александр Михайловичи провожали его на вокзал.
Когда мы уходили, в передней стоял адъютант Дмитрия, Шагубатов, и плакал. Проходя мимо него, Кирилл ему сказал: “Du courage!” [Мужайтесь!] В этот день я послал Дмитрию запонки, которые он должен был получить на елку.
Борис Владимирович был у себя в Царском Селе и потому не был на совещании у Андрея Владимировича и не ездил с нами проститься с Дмитрием.
Совещание происходило у Андрея Владимировича потому, что он был нездоров и не выезжал из дому. Когда мы ездили ночью прощаться с Дмитрием, он был в компрессе и, следовательно, рисковал своим здоровьем. Вскоре он уехал лечиться в Кисловодск, и в Петроград больше не вернулся, так как началась революция.
29 декабря почти все члены семейства, находившиеся в Петрограде, собрались у великой княгини Марии Павловны, чтобы подписать наше коллективное письмо государю, в котором мы просили облегчить ссылку Дмитрия и разрешить ему пребывание в одном из его имений, Усове или Ильинском, вместо Персии, где условия жизни были трудные. Письмо гласило:
Ваше императорское величество!
Мы все, чьи подписи Вы прочтете в конце этого письма, горячо и усиленно просим Вас смягчить Ваше суровое решение относительно судьбы великого князя Дмитрия Павловича. Мы знаем, что Вы – бывший его опекун и верховный попечитель – знаете, какой горячей любовью было всегда полно его сердце к Вам, Государь, и к нашей родине. Мы умоляем ваше императорское величество, ввиду молодости и действительно слабого здоровья великого князя Дмитрия Павловича, разрешить ему пребывание в Усове или Ильинском. Вашему императорскому величеству должно быть известно, в каких тяжких условиях находятся наши войска в Персии ввиду отсутствия жилищ и эпидемий, и других бичей человечества. Пребывание там великого князя Дмитрия Павловича будет равносильно его полной гибели, и в сердце вашего императорского величества, верно, пронесется жалость к юноше, которого Вы любили, который с детства имел счастье быть часто и много возле Вас, и для которого Вы были добры, как отец. Да внушит Господь Бог вашему императорскому величеству переменить свое решение и положить гнев на милость.
Вашего императорского величества горячо преданные и сердечно любящие
Ольга (Королева Эллинов)
Мария (вел. Кн. Мария Павловна)
Кирилл
Виктория
Борис
Андрей
Павел
Мария (вел. Кн. Мария Павловна младшая)
Елисавета (вел. Кн. Елизавета Маврикиевна)
Иоанн
Елена
Гавриил
Константин
Игорь
Николай Михайлович
Сергей Михайлович
29 декабря 1916 года
31 декабря письмо вернулось со следующей высочайшей резолюцией:
Никому не дано право заниматься убийством, знаю, что совесть многим (не знаю, на кого намекал государь) не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь вашему обращению ко мне.
Николай.
Моя матушка, тетя Оля и великий князь Павел Александрович не были у великой княгини Марии Павловны и подписали это письмо позже. Тетя Оля сомневалась, не нарушает ли она присягу, подписывая письмо, но ее успокоили, что против присяги она не поступает, что и было на самом деле.
На Кавказе Дмитрия очень хорошо приняли. Я слышал, что государь и государыня были этим недовольны. Дмитрий был героем дня.
Оглядываясь на прошлое, я сознаюсь, что мы ошибались, радуясь убийству Распутина. Убийство Распутина оказалось сигналом к революции. Не следовало русскому великому князю пятнать себя участием в убийстве, по каким бы мотивам оно ни происходило. Не христианское это дело. По-видимому, впоследствии Дмитрий это сознал и, как я слышал, одно время не решался причащаться, считая себя недостойным приступать к Таинствам.
1 января 1917 года у государя императора был прием в Царском Селе, в Большом дворце. Члены семейства, как всегда, поздравляли государя в числе лиц свиты.
Дяденьки в то время не было в Петрограде. Он был у себя в Кичкинэ на южном берегу Крыма вместе с моей сестрой Татианой и ее малолетними детьми. Татиана мне говорила, что дяденька был очень рад, что в то время его не было в Петрограде и что таким образом его никто не убеждал подписать письмо членов семьи к государю, навлекшее на подписавших неудовольствие их величеств. Я думаю, что если бы дяденька был в то время в Петрограде, он бы и сам не подписал, и не допустил, чтобы матушка, тятя Оля, мои братья и я подписали это письмо. Не знаю, послушался ли бы я его, так как тогда я горой стоял за Дмитрия, не оправдывая убийства как такового.
Когда дяденька вернулся в Петроград, он, как полагалось, явился к государю. Это было в воскресенье, и он был приглашен к обедне в Федоровском соборе в Царском Селе, а затем к завтраку. Он стоял на правом клиросе, как и государь со своей семьей. Их величества, как всегда, были с ним очень любезны.
Никаких неприятных разговоров о происшедших событиях не было. Государь и государыня прекрасно знали, что дяденька ни во что не вмешивался, а занимался своим Дубровским конным заводом. Они также знали, как и все, каким глубоко религиозным человеком он был.
Глава XXXVII. Начало 1917
Экзамен в академии – Начало всероссийской революции
В начале 1917 года в академии были экзамены. Страшная, но вместе с тем приятная пора. Я сдал экзамены четвертым. Первым сдал лейб-егерь Верховский. Гершельман в самый разгар экзаменов заболел гриппом, но так как он был прекрасным слушателем, ему поставили хорошие баллы, даже и по тем предметам, по которым он экзаменов не сдавал по болезни.
Не совсем удачно прошел у меня экзамен по фортификации, хотя я и хорошо к нему подготовился. Но на экзамене я что-то забыл и потому не получил полного балла, а лишь десять. Очень удачно прошел мой экзамен по войсковой разведке, потому что во время ответа я прибавил от себя о Петре Великом во время Полтавского боя, должно быть, об укреплениях, что не входило в наш курс, и полковник Гущин поставил мне полный балл. Во время экзамена по тактике кавалерии произошло недоразумение: спрашивал сам начальник академии генерал Петерс-Каменев, мнивший себя знатоком кавалерийского дела. Предмет я знал хорошо, но когда я, стоя у доски, начал отвечать, оказалось, что я отвечаю не по билету, так как с ним произошла какая-то путаница. Генерал это заметил, недоразумение было сразу же выяснено, я так же смело и решительно продолжал отвечать по другому билету и получил полный балл.
24 января все окончившие ускоренный курс академии являлись государю в Царском Селе в Александровском дворце. В этот день был страшный мороз. Мы все приехали на Царскосельский вокзал на царскую ветку, где нам был подан экстренный поезд. Во дворце мы разместились в двух или трех залах. Нам пришлось очень долго ждать государя, потому что он принимал французского генерала де Кастельно, который, идя к государю, прошел мимо нас.
Наконец, вышел государь с государыней и великими княжнами. Государь был в черкеске Пластунского батальона, шефом которого он назначил себя во время войны. Государь стал нас обходить и каждому из нас говорил несколько слов. Когда государь кончал говорить со стоящим в передней шеренге, последний делал шаг вправо, а стоявший ему в затылок становился на его место. Когда очередь дошла до меня, я смутился и вперед не встал, а остался стоять на своем месте, несмотря на то, что начальник академии сделал мне знак. Государь посмотрел на меня, улыбнулся и обратился к следующему. Увы, таким образом государь со мной не поговорил. Мне тем более досадно, что в этот день я видел его в последний раз в жизни.
Уезжая из Александровского дворца обратно в Петроград, мог ли я думать, что через несколько недель будет революция и что государь со всем своим семейством будет арестован в этом самом дворце!
26 февраля 1917 г. я был, как всегда, в академии. Днем, перед концом занятий, А.Р. передала мне по телефону, что просит меня немедленно вернуться домой и повернуть мой вензель на автомобиле, так как в городе происходит что-то неладное и на улицах собираются толпы народа. Я сел в автомобиль и поехал к себе.
На набережной Невы я встретился с великой княгиней Ксенией Александровной, которая тоже ехала на автомобиле, и мы друг друга приветствовали. У Троицкого моста меня остановил служащий моей конторы С. и передал мне дрожащим от волнения голосом, чтобы я скорее возвращался домой, так как начались уличные беспорядки. Шофер предложил мне, чтобы не обращать на себя внимания толпы, перевернуть бывший на автомобиле мой вензель, на обратной стороне которого был номер машины, но я не согласился. Троицкий мост был запружен толпами народа. Я благополучно доехал до дому.
В этот день началась всероссийская революция, которую ее творцы назвали “великой и бескровной”.
Мой брат Игорь несколько раз звонил по телефону в Царское Село в Александровский дворец и говорил с одной из великих княжон, кажется, Марией Николаевной, которая тогда еще не была больна корью, как ее сестры. Игорь спрашивал, что у них происходит, и предлагал наши услуги, так как государь был в Ставке и царская семья была одна. Нас благодарили, но от услуг отказались.
Мне позвонил дяденька, чего никогда не случалось, и велел передать Игорю, чтобы он возвращался в полк, к месту своего служения. Мне пришлось объяснить дяденьке, что Игорь больше в полку не служит и отчислен в свиту государя. Как ни странно, дяденька об этом не знал.
Через несколько дней пришло ужасное известие об отречении государя. Мне было очень тяжко и больно.
Я не буду здесь распространяться о кошмарных днях начала революции, о которых так много писалось. Скажу только, что никто не предвидел всех трагических последствий переворота с его роковым концом.
В эти тревожные и мрачные дни я сидел дома и никуда не показывался. Разумеется, не ездил и на курсы, но когда через несколько дней я снова появился в академии, товарищи встретили меня по-старому.
В первые же дни революции у меня был отнят автомобиль. Он оказался у военного министра Временного правительства Гучкова, и он даже на нем поехал в Псков, к государю, чтобы потребовать его отречения. Дороги, впрочем, оказались столь плохи, что ему пришлось вернуться и ехать поездом.
Через несколько времени мой великолепный автомобиль вернулся ко мне обратно, но в каком ужасном виде! Сиденья были запачканы кровью, всюду были вши, и вся внутренняя отделка была в грязи.
Великим постом мы, как всегда, говели в церкви Мраморного дворца. На ектениях вместо государя, государыни и наследника поминали Временное правительство. Дяденька, который раньше при этом крестился, теперь перестал это делать. На Пасху мы были у заутрени у себя в Мраморном. Дяденька из-за революции не пожелал надеть орденов, и мы были просто в кителях. Генерал Ермолинский явился во всех регалиях, но увидя, что дяденька без оных, снял их. Разговлялись мы в столовой, у матушки.
Глава XXXVIII. Весна – лето – осень 1917
Я продолжаю настаивать на свадьбе – Тайное венчание – Решение выйти в отставку – На даче в Финляндии – Моя жена встречается с Керенским, чтобы получить разрешение уехать за границу – Большевики свергают Временное правительство – Поездка на Рождество в Финляндию и возвращение в Петроград
Перед самой революцией, когда дяденька был у себя в Крыму, я как-то пришел к матушке и просил ее разрешить мне обвенчаться с А.Р. Матушка была в это время нездорова и лежала в постели у себя в спальне. Она дала свое согласие, но потом жалела об этом и считала, что дала его в минуту слабости, тем не менее она не считала возможным взять его обратно. Все же она хотела знать дяденькино мнение по этому вопросу. Она написала ему в Крым и поручила барону Менду, бывшему адъютанту моего покойного отца, отвезти письмо. Менд рассказывал, что дяденька сперва как будто был склонен дать свое согласие на брак, но затем переменил намерение и ответил матушке, что не согласен. Я помню, что матушка дала мне прочесть это письмо и что я его прочел при ней. К ответу дяденьки я отнесся хладнокровно, и матушка была этим удивлена, так как думала, что я буду очень расстроен и рассержен. Спокоен я был потому, что решил, что так или иначе, а мы все-таки обвенчаемся, и потому мнение дяденьки не могло изменить моего решения.
В начале апреля позвонил мне Сандро Лейхтенбергский и спросил, как я отношусь к вопросу о своей свадьбе – он тоже собирался жениться на Надежде Николаевне Игнатьевой, рожденной Каралли. Сандро сообщил, что его двоюродная сестра, Тина Зарнекау, знает священника, который может нас обвенчать. А.Р. и я согласились. Конечно, мы могли бы обвенчаться в любой церкви, но так было удобнее.
Нашу свадьбу мы назначили на 9 апреля по старому стилю, на Красную Горку. Сандро Лейхтенбергский также назначил свою свадьбу на это число, сразу после нашей.
Я никому не сообщил о нашем намерении, кроме близких нам людей. Я ничего не сказал даже матушке, чтобы нам не помешали. О дяденьке и говорить нечего. Только очень незадолго до свадьбы я сказал Иоанчику и просил никому не говорить. Сперва он сочувственно отнесся к предстоящему моему браку, но затем переменил свое мнение и на свадьбе не был.
Я очень волновался в день свадьбы и, хотя она была в воскресенье, не пошел к обедне в Мраморный дворец, боясь, как бы чего-нибудь не случилось и свадьба не расстроилась.
Наше венчание состоялось в 3 часа дня. Я поехал в церковь с сестрой А.Р., Л.Р. Чистяковой, братом Игорем и моим сослуживцем по полку штабс-ротмистром князем Барклаем де Толли-Веймарном. На Троицком мосту я увидел баронессу Менд, жену бывшего адъютанта отца. Я уверен, что она пошла по мосту, чтобы поглядеть, как А.Р. и я поедем венчаться. Я не помню, был ли сам барон Менд на нашей свадьбе, но, во всяком случае, он о ней знал.
По дороге в церковь я также увидел на Морской улице прогуливающихся братьев Константина и Георгия. Они тоже меня видели.
Приехав в церковь св. царицы Александры, я дал шоферу письмо к матушке и приказал сразу же отвезти его. Я писал ей, когда она будет читать это письмо, я буду венчаться с А.Р., и что я прошу ее помолиться за нас.
А.Р. поехала в церковь в автомобиле А.И. Путилова со своей теткой и В.Я. Чистяковым. Она тоже встретила Константина и Георгия. Костя по венчальному платью А.Р. догадался, что она едет венчаться. Поэтому он поспешил вернуться домой и затем приехал на свадьбу. Не помню, как он узнал, в какой церкви мы венчаемся.
Рымаря я отправил в церковь заранее, чтобы он не пускал никого из посторонних. На нашей свадьбе, как и на свадьбе Сандро, пел квартет брата Игоря.
Костя и Игорь остались на свадьбу Сандро и были его шаферами. Мы с Ниной (теперь я буду так называть мою жену, Антонину Рафаиловну) поехали домой на Каменноостровский. По дороге шофер Игоря (мы ехали на его автомобиле) спросил меня, чья была свадьба, и крайне удивился, когда я сказал, что моя.
После обеда в тот же день я поехал к матушке. Не помню, вызвала ли она меня или я поехал по собственному почину. В передней меня встретил управляющий двором матушки князь Шаховской и сказал: “Вас можно поздравить?” В самой форме обращения почувствовалось критическое отношение к моему браку, и это мне было очень неприятно.
Матушка меня встретила, если не ошибаюсь, в кабинете отца. Она была расстроена, что весьма понятно, принимая во внимание ее воспитание и взгляды, а также, конечно, влияние окружавших ее людей. Но она меня благословила и обняла. Я просидел с матушкой несколько минут и вернулся обратно на Каменноостровский в квартиру Нины, которая отныне стала и моей.
На следующий день я отправился в Петропавловскую крепость помолиться на могиле отца, дедушки и бабушки, а также императоров Павла Петровича и Николая Павловича, чтобы испросить их благословения нашему браку.
В Петропавловском соборе я встретил диакона, который меня поздравил с законным браком и спросил, почему моя свадьба была не в Мраморном дворце. В газетах уже появилось описание нашей свадьбы в то утро.
Дяденька был очень недоволен, что наша свадьба была отпразднована, по его мнению, слишком громко и с гостями (хотя их было очень мало). Я не решался к нему ехать, а он меня к себе не звал.
Как мне представляется, матушка и дяденька были особенно недовольны тем, что я повенчался, не испросив предварительного разрешения государя. Но неофициально я это разрешение имел уже несколько месяцев тому назад, благодаря доктору Варавке, который говорил с императрицей Александрой Федоровной. Только в то время матушка и, конечно, дяденька, об этом не знали. Моя сестра Татиана мне говорила уже после смерти дяденьки, что он ничего не имел против того, чтобы мы повенчались с Ниной тайно, но он был против того, чтобы наш брак был признан официально.
Ввиду того, что государь, отрекшись, передал бразды правления великому князю Михаилу Александровичу, и он таким образом стал главой Императорского дома, я написал ему письмо, в котором сообщал, что женился. Это письмо я послал с камердинером в Гатчину, где тогда жил Михаил Александрович. В ответ я получил милую поздравительную телеграмму.
На курсах мои товарищи меня поздравляли. Вскоре должны были начаться экзамены. Я был совершенно уверен, что их выдержу, и решил перейти на службу в Генеральный штаб. Однако судьба решила по-иному. Революция развивалась, и положение в стране становилось все хуже и хуже. Доблестная императорская армия, покрывавшая себя неувядаемой славой со времен Петра Великого и до наших дней, распадалась. При таких условиях я решил не держать выпускных экзаменов в академии и уйти в отставку.
Приняв это решение, мы с Игорем поехали к бывшему военному министру генералу Поливанову, чтобы спросить его совета. Поливанов был близок к А.И. Гучкову, который в то время был военным министром. Он нас любезно принял и посоветовал на службе не оставаться. Теперь я думаю, что мы напрасно к нему ездили, так как он принадлежал к тем людям, которые рыли государю и монархии яму. Дяденька тоже не одобрил нашего визита к Поливанову.
Затем предстояло поехать к военному министру Гучкову. Он принял меня в своем большом министерском кабинете и разрешил выйти в отставку. Тут же была написана бумага о моем увольнении со службы и подписана Гучковым. С этого дня я больше формы не носил, а ходил в штатском.
Дяденька тоже вышел в отставку, но продолжал носить форму с отставными погонами. Когда же погоны больше нельзя было носить и за их ношение жестоко преследовали, дяденька надел штатское платье. Обыкновенного платья он, однако, носить не хотел, потому что терпеть его не мог, и придумал себе костюм вроде того, как носят шоферы, то есть однобортную тужурку со стояче-отложным воротником, штаны вроде бриджей и обмотки. Он велел отрезать голенища от своих высоких сапог и сделал из них штиблеты. Тужурка, штаны и фуражка с козырьком были коричневого цвета. Получилось оригинально и прилично. Он мог так ходить, не привлекая к себе ничьего внимания.
В академии атмосфера стала сильно портиться. В ней даже был устроен большой завтрак, на котором присутствовал старый анархист князь Кропоткин, бывший когда-то в Пажеском корпусе фельдфебелем и следовательно – пажом государя императора. Было это в начале царствования Александра II. За этим завтраком штабс-капитан Гербель произнес речь в духе революции. Значительно позже я узнал, что он погиб где-то на востоке в какой-то командировке.
Наступило лето, и мы с женой во что бы то ни стало хотели уехать на дачу, чтобы не оставаться в душном городе. В Павловск, на дачу Нины, мы не хотели ехать, потому что боялись, что нам там будет небезопасно, так как там нас знала “каждая собака”. Поэтому жена сдала свою дачу актрисе Н. Бакеркиной, а сами мы сняли дачу в Финляндии. Наша дача находилась в нескольких верстах от станции Перкиярви, по Финляндской ж.д., и принадлежала некоему Снесареву, бывшему служащему в редакции газеты “Новое время”. К сожалению, мы заплатили сразу всю наемную плату, около 8000 рублей, что было очень дорого по тому времени, и когда Снесаревы начали нас притеснять, не могли уехать, а продолжали жить в оплаченной даче. В доме была интересная библиотека, которой мы с увлечением пользовались.
Сандро Лейхтенбергский купил себе усадьбу возле станции Перкиярви, перевез туда все свои вещи и поселился там со своей женой. Свой дом в Петрограде, на Английском проспекте, он продал. Таким образом он спас все свое имущество. Мы хотели поступить так же, но наш проект так и остался проектом.
Мы раза два или три были у Сандро и однажды у него ночевали. И он, и его жена были прекрасными хозяевами и очень мило устроили свой дом. У Сандро было много красивых вещей, принадлежавших когда-то его бабке, великой княгине Марии Николаевне. Были хорошие картины и семейные портреты работы Гау, которые я очень любил. Впоследствии дом Сандро сгорел, но вещи удалось спасти.
К нам часто приезжали гости из Петрограда. В конце мая приезжал брат Игорь, а также венчавший нас батюшка. Карлуша его полюбил, брал в зубы концы его рясы и так ходил с ним рядом, что было высшим проявлением его любви и радости. Батюшка любил ходить на озеро, ловить рыбу.
Был и князь Барклай и вместе с Чистяковым купался с лодки в озере, а я сидел на веслах.
Но в общем мне было скучно и тянуло обратно в Петроград, в котором оставались матушка и братья.
Живя на даче, мы с ужасом узнали, что по распоряжению революционных властей государь и государыня с наследником и великими княжнами отправлены в Тобольск.
Мы стали серьезно подумывать о выезде за границу. Взвесив все обстоятельства, жена решила побывать у А.Ф. Керенского и попробовать, не отпустит ли он нас за границу.
В августе мы с женой поехали в Петроград, куда мы попали очень не вовремя, потому что наш приезд совпал с неудавшимся выступлением генерала Корнилова против Временного правительства. В связи с этим арестовали великого князя Михаила Александровича и перевезли из Гатчины в Смольный институт. Затем был арестован великий князь Павел Александрович. Оставаться в Петрограде нам было небезопасно, поэтому, переночевав в квартире Чистяковых, мы вернулись обратно в Финляндию. Жена все же успела побывать у Керенского.
В своих воспоминаниях она описала свидание с Керенским, которое я здесь и привожу:
“Однажды, проезжая по набережной Зимнего дворца, мой муж остановил извозчика у одного из подъездов дворца, вызвал швейцара, старого дворцового служащего, и сказал ему: “Голубчик, не в службу, а в дружбу, нельзя ли устроить, чтобы Керенский принял мою жену?” Зная моего мужа, швейцар немедленно исчез и скоро вернулся, доложив, что премьер-министр меня ждет. Мы подъехали к личному подъезду государя. Войдя в дверь, я увидела двух солдат на часах и бежавшего навстречу мне швейцара: “Министр Керенский вас ожидает, ваше высочество!” Солдаты взяли на караул.
Я совершенно растерялась, как от данного мне швейцаром титула, так и от этой помпы со стороны солдат. Когда швейцар меня уговаривал сесть на скамейку лифта, на которую садился государь, я отказалась это сделать, так как мне тяжело было пользоваться скамейкой, которая служила царю. “Какая русская революция странная!” – подумала я.
Наверху меня встретил матрос, который меня так же приветливо титуловал, а за матросом – лейтенант Кованько, адъютант Керенского. Все это было весьма помпезно. Кованько провел меня по анфиладе комнат. Войдя в какую-то большую гостиную, я увидела несколько офицеров. При моем появлении они все встали и поклонились. Вдруг слышу тихий голос: “Здравствуйте”. Возле меня стоял Керенский, среднего роста человек с бегающими глазами и желтым цветом лица. Он провел меня в соседнюю комнату. По моим рассказам муж предполагает, что это были апартаменты Александра III. Керенский любезно предложил мне кресло.
– Чем могу служить?
– Я хотела бы посоветоваться с вами. Как нам быть дальше? Говорят о наступлении немцев, о голоде и о большевиках. Куда нам ехать?
Керенский сделал серьезное лицо и сказал, что все не так страшно. Немцы сейчас не пойдут, голод всюду одинаков, а большевики сплошная ерунда, их не много, они не имеют поддержки в народе.
На мой вопрос о возможности отъезда за границу, подумав, он сказал:
– Куда же вам ехать? Франция, Англия, Япония вас к себе не примут, в Швеции под королем уже давно колеблется трон, так же, как и в Дании. Вам остается только Норвегия, куда вы можете поехать совершенно свободно, тем более что вы живете в Финляндии и ваш выезд может пройти незамеченным.
– Но для этого нужно иметь ваше разрешение на выезд, – сказала я, – и деньги, которых у нас нет.
– По поводу разрешения вы пришлите кого-нибудь к моему адъютанту, а что касается денег, то сегодня вечером состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о всей семье Романовых, и если все министры согласятся, то через два-три дня вы получите официальную бумагу о ваших деньгах.
Разговор был закончен. Керенский проводил меня до порога, передал своему адъютанту и с той же помпой, с солдатами на караул, я вышла из дворца”.
Я ожидал жену, сидя на извозчике, подле Зимнего дворца.
Когда мы вернулись обратно на дачу, у нас начались столкновения с Снесаревыми, которые стремились нас выжить с дачи. Когда мы протестовали против крыс, бегавших по дому, они говорили, что их крысы ручные и даже имеют свои имена. Снесаревы придирались ко всему. Конечно, если бы мы сразу вперед не заплатили им все деньги за дачу, они бы этого не делали. В конце концов, нам пришлось уехать до срока. Нам обоим очень не хотелось возвращаться в город, но мы не нашли другого пристанища в Финляндии.
Тем временем в Петрограде становилось все хуже и хуже. Временное правительство оказалось в руках Совета солдатских и рабочих депутатов и 25 октября было, наконец, свергнуто большевиками.
В этот вечер я выходил (несмотря на протесты жены, которая очень боялась за меня) в подворотню нашего дома слушать стрельбу крейсера “Аврора” по Зимнему дворцу и смотреть на зарево пожара.
Мы сидели дома и мало кого видали. Я ходил в Мраморный дворец навещать матушку. Наши друзья и знакомые по-прежнему бывали у нас. Стало трудно с деньгами, приходилось распродавать свои вещи. Дивный альбом коронации императора Александра II ушел за 50 000 рублей одному московскому купцу.
6 ноября вечером, в день полкового праздника, я надел форму моего полка. Мне хотелось в этот знаменательный день быть в полковой форме. На улицу я, конечно, не мог показаться, так как ношение погон преследовалось.
На Рождество нас пригласили наши знакомые Головины к себе в Финляндию. Вместе с нами поехали Чистяковы и московская балерина Вера Каралли, приехавшая погостить у нас. Мы остались у Головиных до Нового года. 1 января 1918 г. мы уехали обратно в Петроград вместо того, чтобы воспользоваться пребыванием в Финляндии и постараться там устроиться. Жене очень не хотелось возвращаться, но она уступила мне и Каралли. Как показали впоследствии обстоятельства, жена была совершенно права и правильно предвидела всю опасность, которая нам угрожала в Петрограде.
Из Финляндии мы везли много провизии и мясо, которое было уже трудно достать в Петрограде, но на границе финны у нас отняли почти все. Видимо, кто-то выдал нас финским таможенникам.
Не успели мы войти в нашу квартиру, как нам начали звонить по телефону наши друзья и упрекать, что мы вернулись. Время было тревожное, начались аресты. Кроме того, мы узнали, что в ночь на 1 января застрелилась графиня Адлерберг, жена улана ее величества. Мы ее знали, и потому это печальное известие произвело на нас очень тяжелое впечатление. Мы стали жалеть, что вернулись.
У нас в гостиной висел прекрасный портрет Екатерины II, который я купил в магазине Фельтена, на Невском проспекте. Как выяснилось много позже, он был кисти М. Шибанова, крепостного художника графа Потемкина. Шибанов был послан графом в Академию и работал там под руководством Левицкого. Портрет был им написан в 1787 г. в Киеве, когда Екатерина остановилась там на пути из Петербурга в Крым. Она была так довольна портретом, что заказала несколько копий.
В свое время я купил этот портрет у Фельтена за 200 рублей. Теперь пришло время с ним расстаться: настали тяжелые времена, и мы решились его продать. После многих перипетий с бесчестными людьми, которые хотели нас надуть, мы продали портрет датскому генеральному консулу М. Ланбергу за 12 000 рублей. Мы едва не плакали, расставаясь с портретом, и просили Ланберга продать его нам, если наши дела поправятся.
Много лет спустя мне удалось узнать, что портрет был вывезен Ланбергом за границу и выставлялся на выставках старинных картин. С этого портрета сделаны гравюры, с него снимались копии пастелью и акварелью. На нем Екатерина изображена старушкой, с седеющими волосами, но нежным цветом лица, в дорожной меховой шапочке и темно-красном кафтане.
На первой неделе Великого поста мы говели. Ходили в домовую церковь института принцессы Терезии Ольденбургской, а также в Иоанновский монастырь, на Карповке, в котором похоронен протоиерей Иоанн Кронштадтский. В этом монастыре говели дяденька и тетя Оля, которая в то время жила у дяденьки, в его новом доме на Песочной набережной, купленном незадолго до революции.
По окончании службы, когда дяденька выходил из собора, я подошел к нему поздороваться. Мы подали друг другу руку и разошлись: так дяденька был недоволен мною за мою женитьбу. Это было первым нашим свиданием после моей свадьбы.
Глава XXXIX. 1918
Под властью большевиков – Предписание о высылке – На приеме у Урицкого на Гороховой – Братья отправлены в ссылку в Вятку, мы пока остаемся в Петрограде – Обыски и попытки ареста два раза в сутки
Дальнейшие события я привожу по воспоминаниям моей жены, княгини Антонины Рафаиловны[2], священную для меня память которой я благоговейно чту и буду чтить до самой смерти:
“Не могу передать того гнетущего, кошмарного состояния, которое нами овладело после переворота, устроенного большевиками. Ленин стал во главе России. Мы были под властью большевиков. Скажу по правде, что в первые дни наша жизнь совсем не изменилась: все шло так же скверно, как и прежде: еды было мало, безумная дороговизна и полное отсутствие денег.
Но вот весть о действиях большевиков: арестован в Гатчине великий князь Михаил Александрович и увезен в Смольный институт. За что арестован великий князь и его секретарь Джонсон, было неизвестно. Их продержали несколько дней в Смольном и под конвоем солдат выслали в Пермь, причем говорили, что на Николаевском вокзале великого князя и Джонсона втолкнули в вагон 3-го класса и заставили ехать стоя.
Некоторое время прошло спокойно, но скоро в газетах появился декрет: всем Романовым явиться в комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (Чека). Мой муж отправился туда. Со всех Романовых была взята подписка о невыезде и их отпустили по домам. Нас всех это страшно встревожило, и мы терялись в догадках. Но скоро все разъяснилось: появился новый декрет – в течение трех дней все Романовы должны были явиться в комиссию для получения инструкций по поводу высылки их из Петрограда. Порядок высылки был установлен следующий: великие князья Николай Михайлович, Дмитрий Константинович и Павел Александрович должны были выехать в Вологду, Иоанн, Гавриил, Константин и Игорь Константиновичи, Сергей Михайлович и князь Палей – в Вятку или Пермь. Из Москвы великая княгиня Елизавета Федоровна и из Финляндии великий князь Георгий Михайлович, арестованный там же, должны были присоединиться к высылаемым.
Я не могу передать моего ужасного состояния. Это было 11 марта (1918 г.). Телефон звонил не переставая. Все предлагали свои услуги, – кто в Петрограде, кто в Сибири. Днем приехали три брата мужа (у мужа была легкая инфлуэнца). Стали совещаться, как быть, когда идти на регистрацию. Между прочим, князь Константин Константинович сообщил мне, что сегодня он видел Н.К.К., который сказал, что хорошо знает одного члена комиссии, большевика Б.[3], и что, если нужно будет, то Н.К.К. в комиссии может похлопотать. (Н.К.К. был преподавателем русской литературы у моего мужа и его братьев.) Как я впоследствии узнала, Н.К.К. много помог в свое время благодаря своим связям с Константиновичами большевику Б. в его скитаниях и сидении по тюрьмам до революции.
Константин Константинович дал нам телефон Н.К.К., и мы стали его повсюду искать. Звоня по всем данным нам номерам, мы его нигде не находили, но, наконец, какой-то симпатичный женский голос ответил, что его найдут и он сам придет к нам. Так и было. Вечером того же дня пришел Н.К.К., и мы стали его просить нам помочь. После долгих разговоров и размышлений Н.К.К. решил меня познакомить с сестрой большевика Б. и на утро, перед поездкой на Гороховую, я должна была с нею встретиться на улице. Затем мы пришли к заключению, что будет лучше, если на Гороховую вместо мужа поеду я, а Н.К.К. меня там встретит и во всем, что можно, поможет.
Подъезжая к Гороховой на следующее утро, вижу на углу улицы жену князя Иоанна Константиновича, взволнованно, быстро ходившую по панели. Вхожу в подъезд и первое, что бросается в глаза: пулемет в окне и страшная грязь. Спрашиваю, где выдают пропуски для приема у Урицкого? Мне показывают дверь налево. Вхожу в маленькую комнату, битком набитую разношерстной публикой. Крик, гам, какой-то длинноволосый господин ругает порядки. Вкрадчивым голосом я прошу пропустить меня к Урицкому. Грубо спрашивают мою фамилию и по какому делу. Понизив голос так, чтобы не слышали окружающие, как преступница, я отвечаю:
– По делу Романовых.
Мне немедленно выдают пропуск, и я по грязной лестнице мимо вооруженных солдат поднимаюсь на третий этаж. Там выхожу на широкую мраморную белую площадку с такой же лестницей (бывший парадный подъезд градоначальника). Минуя лестницу, иду прямо и вхожу в большую комнату, столовую, всю обтянутую коричневыми обоями, с панелью из темного дуба, и буфетами; посредине – громадный стол, покрытый грязной скатертью. На окнах темные от грязи, изорванные тюлевые занавески, по стенам продырявленные стулья. В этой столовой я нахожу много своих: трех братьев мужа, князя Палей, полковника барона Менда, князя Шаховского и генерала Хоцановского, раньше состоявшего при муже и прибывшего сюда, чтобы быть с нами. Вдали я вижу Н.К.К., который сейчас же подошел ко мне.
Через несколько секунд сюда же вошел мужчина, с которым Н.К.К. меня познакомил. Это был большевик Б. Удивительно симпатичное, болезненное лицо с прекрасными глазами. Он был высокого роста и страшно худой. Одет в русскую рубашку черного цвета и мягкие, широкие большие сапоги. Ни он, ни я ничего не сказали друг другу. Он немедленно вышел в одну из многих дверей и вернулся через несколько секунд, сказав, что Урицкий меня вызывает.
Сильно волнуясь, я пошла за ним. Урицкий встретил меня на пороге. Это был прилично одетый мужчина в крахмальном белье, небольшого роста, с противным лицом и гнусавым сдавленным голосом. Б. сейчас же вышел из комнаты. Урицкий подвинул мне мягкое кресло и стал возле меня.
– Чем могу служить вам, сударыня? – задал он мне вопрос.
Я вспомнила совет сестры Б. и, собрав все свое спокойствие, сказала:
– Мой муж, Гавриил Константинович, в данное время лежит больной инфлуэнцей. Он страдает туберкулезом, и я пришла заявить, что мой муж ни в коем случае никуда не может ехать, так как всякое передвижение грозит для него открытием туберкулезного процесса, что подтверждают доктора и принесенные мною свидетельства.
Он слушал молча, стоя передо мной, и пытливо смотрел мне в глаза.
– Сколько лет вашему мужу?
– Тридцать, – ответила я.
– В таком случае его туберкулез не опасен, – услышала я скрипучий голос Урицкого, – во всяком случае, я пришлю своих врачей и буду базироваться на их диагнозе. Больного я не вышлю, в этом вы можете быть спокойны, – сказал он, взял докторские свидетельства и записал наш адрес.
Я вышла от него окрыленная надеждой. В той же столовой меня ждали братья мужа. Рассказав им, как все произошло, я увидела на их лицах радость за брата. Оказывается, Урицкий приказал им через неделю выехать. Мне хотелось подождать результатов ходатайства княгини Палей, которая тоже привезла Урицкому свидетельства о болезни своего мужа.
Через несколько минут вышла княгиня Палей. На наш вопрос она ответила, что Урицкий ей сказал то же самое, что и мне, но только сыну ее велел выехать через неделю. Поговорив еще некоторое время, мы вышли из этого застенка.
Я поехала к Н.К.К., чтобы рассказать ему результат моего визита к Урицкому и просить его дальнейшей помощи у Б. Возвратясь домой, я рассказала все мужу, который ждал меня с большим волнением.
В скором времени братья мужа уехали к месту своей ссылки. Когда они пришли к нам прощаться, им взгрустнулось, особенно был печален Константин Константинович. В Петрограде из семьи Романовых остались только великий князь Павел Александрович и мой муж.
25 марта была дивная солнечная погода. Муж не выходил более десяти дней, ожидая осмотра большевистского врача. Мы пили чай в библиотеке, которая была первой комнатой от передней. Раздался сильный звонок. Я слышу, как горничная ведет с кем-то через цепочку разговор. Подойдя к ней, слышу чей-то мужской голос, требующий открыть дверь, так как он доктор чрезвычайной следственной комиссии.
Я вбежала в библиотеку, сказала мужу, в чем дело, и потащила его в спальню, сорвала с него платье и белье, чтобы успеть уложить его в постель и придать ему вид больного. Вернувшись в гостиную, я увидела, что доктор уже сидит там с моей сестрой. Доктор был ужасен: грязный, в смазных сапогах…
– Проведите меня к больному, – сказал он и немедленно встал.
Едва выслушав мужа без всяких инструментов, доктор заявил, что он совершенно согласен со свидетельствами докторов Малухина и Иванова и, кроме того, считает, что у мужа плохо работает сердце. Мы были в восторге от заключения доктора, который, уходя, заметил, что подпишется под свидетельством наших домашних врачей, которое я отвезла Урицкому.
По уходе врача я позвонила сестре Б. и рассказала ей подробно о его визите и назвала его фамилию – Изачек. Она обещала сейчас же позвонить брату, чтобы узнать, какое заключение дал врач Урицкому. Через несколько дней она мне сообщила, что доктор Изачек доложил Урицкому так, как сказал мне, но добавил, что нужно будет переосвидетельствовать больного через две недели. Меня и мужа это страшно расстроило, так как надо было все время сидеть дома ждать “приятного” визита. Опять началось наше томление. Каждый раз, как к дому подъезжал автомобиль, мы прислушивались и волновались, думая, что это к нам.
В это время мы узнали, что великий князь Михаил Александрович бежал якобы из Перми, что его будто бы выкрали. Последствием этого был арест его жены, Н.С. Брасовой. Ее посадили на Гороховую.
Сестра Б. позвонила мне и сказала, что мы должны быть ко всему готовы, и, кроме того, сообщила мне, что она с Н.К.К. уезжает на Украину. Зная, однако, мое положение, она просила своего брата разрешить мне, в случае какого-либо несчастья, обратиться лично к нему, на что он дал свое согласие.
Не могу передать того тяжелого чувства, которое овладело нами после их отъезда. Мы остались беспомощны, совершенно одни. За нас некому было заступиться. В один из таких дней, когда мы мирно сидели дома, раздался звонок и горничная после долгих переговоров, пришла сообщить, что снова приехал доктор, но не прежний, а новый, по фамилии Бунин. Придя в страшное волнение, я приказала его просить. Вошел молодой человек красивой наружности. Поздоровавшись вежливо, он начал с того, что сообщил неприятную весть: ему приказано освидетельствовать мужа и во что бы то ни стало отправить его в Вологду. На мой вопрос, не существует ли какая-либо возможность оставить мужа в Петрограде, он заявил, что это совершенно невозможно, и об этом нечего говорить. Тут же он рассказал, что только что был у Павла Александровича в Царском Селе, и показал нам составленную им бумагу, по которой великий князь должен был через 10 дней выехать в Вологду. У меня на сердце что-то оборвалось, и я расплакалась. Он начал успокаивать меня и уверять, что поездку мужа в Вологду обставят с комфортом. Я сказала, что у нас уже был доктор Изачек, который дал свое заключение о невозможности выезда для мужа.
– Изачка уже выгнали, и ко мне перешли все его функции, – сказал доктор Бунин.
После долгих слез и молений Бунин обещал, что задержит, насколько только возможно, отъезд мужа из Петрограда и что приедет к нам завтра, чтобы рассказать нам о результатах своего доклада Урицкому.
В большом волнении мы едва дождались следующего дня, когда приехал Бунин и сказал, что все улажено, и что муж отдан под его наблюдение. Тут же он сообщил, что Н.С. Брасова переведена с Гороховой в клинику Герзони, но что это большая тайна”.
На Страстной неделе мы снова говели, а перед Пасхой к нам снова приехала Вера Каралли, и мы вместе с ней и Чистяковыми пошли к пасхальной заутрене и обедне. Я участвовал в крестном ходе внутри здания Института. Каралли привезла из Москвы целую кучу разной провизии, так что наш пасхальный стол был и богатый, и вкусный.
Моя матушка и тетя Оля были в пасхальную ночь в церкви лейб-гвардии Павловского полка, в казармах, которые находились как раз против Мраморного дворца. Офицеры полка, бывшие в церкви, получили от них по яичку. Мне об этом рассказывал сын бывшего священника Григория Петрова, который был офицером Павловского полка и впоследствии был убит.
Наступило тяжелое лето 1918 года. Мою матушку с братом Георгием и сестрой Верой выселили из Мраморного дворца. Она с детьми поселилась на Дворцовой набережной в квартире Жеребцова. Изредка я заходил к матушке. Она была очень бодра морально и с истинным христианским смирением переносила все невзгоды революции.
Мы с Ниной выходили иногда подышать свежим воздухом поблизости от нашего дома. При этом мы стали замечать какого-то субъекта, который за нами следил.
Возвращаюсь опять к воспоминаниям моей жены:
“Как громом поразило нас известие об аресте великого князя Павла Александровича. К нам позвонил по телефону из Царского Села состоящий при великом князе генерал Ефимович и сообщил эту потрясающую новость. Немедленно пронеслась в голове мысль, что неизбежен арест и моего мужа. Мы теперь пугались каждого звонка, шума автомобиля. Арестовали князя Барклая де Толли и увезли в Кронштадт. Его жена, убитая горем, часто заходила к нам. Через пять дней Барклая выпустили, он рассказал много ужасных случаев, которым был свидетель.
Муж все время лежал в постели. Настроение было подавленное, и мы буквально каждую минуту ждали приезда солдат из Чрезвычайки. Как раз в эти дни в газетах появилось известие о якобы бегстве братьев мужа. Это еще больше убедило меня в неизбежности его ареста. И этот день настал.
Я была на кухне. Сестра моя вошла и сказала мне:
– Ради Бога не волнуйся. Сейчас идут к нам с обыском.
Я кинулась в комнату моего мужа, чтобы уложить его в кровать. Затем побежала в кабинет, схватила золотые портсигары и портрет государя Николая II и дала все это горничной. В этот момент с лестницы раздался звонок. Я сама вышла навстречу.
– Кого вам надо?
– Гавриила Романова, – ответил один из солдат, предъявляя мне бумагу.
Когда я читала эту бумагу, у меня помутилось в глазах: это был ордер на обыск и арест Гавриила Романова, подписанный Урицким.
После того как они побывали в комнате мужа, они прошли в библиотеку и перерыли все книжные шкафы, откладывая в сторону все, что решили взять с собой. Взяли всю переписку мужа за 25 лет, затем прошли в кабинет и там вывернули все ящики. Набрали всего понемногу, конфисковали книги и целый ящик писем. Взяли также бинокль и сказали, что нам он не нужен, а “у большевиков громадная нужда”. Надо отдать справедливость, что во все время обыска они были вежливы. Я же не помню, как держалась на ногах.
Обыск по всей квартире длился два с половиной часа и не дал результатов. Затем они позвонили на Гороховую по телефону. К телефону подошел секретарь Урицкого.
– Товарищ, – сказал наш комиссар, – я говорю из квартиры Гавриила Романова, где произвели только что обыск и сделали выемку документов. Как быть с арестом Романова? Он болен и лежит в постели.
Ответа я не слышу.
Когда разговор кончился, комиссар вернулся в библиотеку и, когда все уселись за стоп, заявил:
– Сейчас я составлю протокол, и ваш муж должен его подписать. Возьму с него подписку в том, что по выздоровлении он немедленно обязан явиться на Гороховую, а пока мы его оставим дома.
Меня охватила волна счастья. Я никогда не забуду этого момента… Я с радостью согласилась на всякие подписки, и они начали составлять протокол. Как одну характерную черту “наших властей” отмечу: наш комиссар слово “подписка” писал “под писка”. Протокол был составлен в высшей степени безграмотно и заключал в себе следующее: “По ордеру номер такой-то в квартире Гавриила Романова был произведен обыск с выемкой документов. Конфискован бинокль”.
Затем они все направились к мужу и велели ему написать следующее: “Я, нижеподписавшийся Гавриил Романов, обязуюсь по выздоровлении явиться на Гороховую, 2, в Чрезвычайную комиссию”.
Когда они уходили, я спросила их, не собираются ли они вновь беспокоить нас, на что получила ответ:
– Не знаем, может быть, придется вернуться за вашим мужем.
На следующую ночь, около двух часов, раздались три отрывистых, сильных звонка. Вооруженные люди ворвались и бросились к черному ходу. Всюду были расставлены часовые, из-под мужа начали выдергивать простыни и подушки. Я пыталась объяснить, что у нас накануне уже был обыск и целый ящик документов был увезен. Офицер потребовал у дворника копию протокола. Солдаты и офицеры были в фуражках. Не могу забыть чувства глубокого возмущения, овладевшего мною, когда я увидела русского офицера в фуражке, развалившегося в кресле, с папироской во рту, под образами с горящими лампадами.
Возвратясь, дворник передал протокол офицеру. Тот начал его читать и в конце чтения расхохотался. Подозвал одного из своих солдат и начал вместе с ним издеваться над орфографией комиссара и словом “под писка”.
Вид офицера был так вызывающе груб и дерзок, что было жутко, но лицо его было очень знакомо: у нас с мужем мелькнула мысль – мы его видели в жандармской форме когда-то. Очевидно, это был жандармский офицер одной из пограничных станций.
Офицер, видимо, остался доволен протоколом и, прочтя его, подошел к мужу с подлой, насмешливой улыбкой:
– Раз вас не арестовали сегодня агенты Чрезвычайной комиссии, то и я вас не арестую, но вы мне должны дать подписку о том, что вы по выздоровлении немедленно явитесь к нам в комиссариат на Монетную улицу.
Муж тут же дал требуемую подписку, и вся ватага грубо, шумно ушла производить обыски и аресты в других квартирах. Пережить дважды в сутки такой кошмар было тяжело.
Глава XL. 1918. Арест
«Ночь прошла в волнении и без сна. Наутро я встала совершенно разбитая и больная. Долго думала: не поехать ли мне к Б., воспользовавшись разрешением посетить его в случае крайней нужды, о чем меня предупредила его сестра при отъезде на Украину? Я решила отправиться к Б., позвонив ему предварительно по телефону и просив его выслать мне пропуск.
Приехав на Гороховую, я спросила у вооруженного солдата, есть ли пропуск к Б. для Нестеровской (я всегда называлась там своей девичьей фамилией). Переспросив несколько раз, солдат долго рылся в пропусках и, наконец, выдал мне мой. Пока происходили поиски моего пропуска, мне пришлось пробыть довольно долго в этой отвратительной, грязной трущобе, с солдатами, среди которых находился старый священник, умоляющим голосом спрашивавший их, не знают ли они, где находится его сын, офицер? Но вот, наконец, среди солдат и пулеметов, по знакомой лестнице прошла я в бывшую столовую градоначальника. Б. принял меня очень скоро. В его кабинете находились: его помощник Иоселевич и большевистский градоначальник Шахов. Рассказав ему подробно обо всем, я просила защитить нас, так как мой муж больной человек и волнения тяжело отражаются на его здоровье.
– Ничего не могу для вас сделать, – сухо ответил Б. – я сам себя не могу защитить от подобных обысков. В любой момент могут прийти ко мне и сделать обыск. Разве вы можете гарантировать, – продолжал он, – что через час после обыска к вам кто-нибудь не принесет оружие и не спрячет его у вас?
Его сухой, холодный тон окончательно подорвал мои силы. Я не выдержала и расплакалась, за что мысленно стала бранить себя. Затем, взяв себя в руки, я спросила:
– Собираетесь ли вы арестовать моего мужа?
– Пока нет, – сухо ответил он, и я вышла.
По моей просьбе мне вернули ящик с письмами и документами, и мой муж очень был рад, получив их обратно. Дома мы сейчас же начали совещаться о дальнейших шагах. Нужно было во что бы то ни стало избежать ареста, а потому мы решили нанять комнату в клинике Герзони и переехать туда, как только эта страшная минута приблизится. На следующее утро я поехала в Герзони и предупредила, что время приезда еще не решено, но чтобы нас ждали каждый день.
Так прошло несколько дней, во время которых усиленно циркулировали слухи о приходе немцев.
В один из таких дней, встав из-за стола после завтрака, я подошла к окну и увидела у нашего подъезда автомобиль. Почему-то я сразу почувствовала, что это к нам, и бросилась к мужу в столовую, прося его немедленно раздеться и лечь в постель. Не успел он это сделать, как на лестнице раздались три резких звонка. Я бросилась сама открывать дверь. Вошли два солдата и штатский в костюме шофера.
– Романов дома? – был их вопрос.
– Дома. Он лежит больной, – ответила я. – Что вам угодно?
– Арестовать Гавриила Романова, – ответил мне один из вошедших и протянул бумагу – ордер на арест мужа, подписанный Урицким. В этот момент у меня все помутилось в глазах. Я до сих пор дрожу при этом воспоминании.
– Проведите нас к Романову, – вывел меня из оцепенения голос одного из солдат.
Муж сидел в кровати, когда мы все вошли в спальню. Комиссар в костюме шофера объявил мужу, что он должен встать и ехать на Гороховую.
Я начала их умолять, чтобы моего больного мужа не поднимали с постели и протелефонировали в Чеку. Комиссар был человек приличный и согласился позвонить. Он соединился с Б. и стал его спрашивать, нельзя ли больного мужа оставить дома. Видимо, оттуда последовал вопрос: “Какая температура? ” Получив ответ: тридцать семь и пять десятых, комиссар вскоре положил трубку. Затем он повернулся ко мне и сказал:
– Вашего мужа мы бы не тронули, если бы его температура была не менее сорока.
С дрожащими руками и сердцем, готовым разорваться, вошла в спальню мужа, чтобы объявить ему об его участи. Муж принял эту весть спокойно. Мы все и наша прислуга были убиты. Солдаты в это время начали обыскивать квартиру.
Никогда не забуду момента отъезда мужа. Я не могла остаться одна, а потому упросила комиссара взять и меня в Чеку. Мы сели внутрь автомобиля с комиссаром и солдатом, настаивавшим на аресте. Рядом с шофером сел другой, с винтовкой. Вся наша прислуга, швейцар и некоторые из жильцов вышли нас проводить, и было такое впечатление, как будто оплакивали дорогого покойника. Мы ехали молча.
Приехав на Гороховую, наш комиссар объявил солдатам, что ведет арестованного Романова, и нас немедленно пропустили. Мы поднялись наверх и вошли в приемную, куда ежеминутно приводили вновь арестованных. Сели. На муже лица не было. Просидели мы так более часа. Вдруг какой-то писарь вызывает меня, спрашивает фамилию, звание, адрес и все записывает в книгу. На мой вопрос: “Зачем все это? ” – он отвечает: “Да ведь вы арестованная?”
– Я сопровождаю арестованного мужа, – объясняю я ему, и он меня отпускает.
Время идет. Мы сидим более двух часов. Никто нас не вызывает. Вдруг я вижу, входит Б. Чтобы не подвести его, осторожно подхожу к нему, делая вид, будто вижу его в первый раз, и спрашиваю:
– Моего мужа посадят в тюрьму или есть возможность положить его в частную лечебницу?
– Я думаю, что Урицкий на это согласится, – сказал он спокойным тоном.
Тогда, не будучи в силах дольше ждать, я пошла в кабинет к Урицкому, просить его дольше не мучить нас и допросить мужа. Урицкий ответил через секретаря, что он нас не примет, что муж арестован и пока посидит у них на Гороховой, а потом будет отправлен в тюрьму.
Зная, как кошмарно быть заключенным на Гороховой, я побежала в приемную за мужем, и мы вместе влетели в кабинет Урицкого.
Увидев нас, он даже оторопел:
– Зачем вы здесь? Нам не о чем говорить! Вы арестованы, должны сидеть и ждать, пока вас отправят в тюрьму, – волновался Урицкий.
– Прошу и требую, – взяв себя в руки, заговорила я громко и смело, – не издеваться над больным человеком. Больных не сажают в тюрьму, а посылают в больницу.
Кроме нас в кабинете Урицкого было еще трое мужчин.
– Что вы желаете от меня, сударыня? – задал мне вопрос Урицкий. – Ваш муж арестован и должен быть препровожден в тюрьму.
Я вытащила докторские свидетельства и показала ему.
– Мне не нужны свидетельства. Я по лицу вашего мужа вижу, что он болен.
– Какой ужас! – воскликнула я. – Вы видите, что он болен и, несмотря на это, сажаете его в тюрьму? За что? Ответьте мне!
– За то, что он Романов. За то, что Романовы в течение 300 лет грабили, убивали и насиловали народ, за то, что я ненавижу всех Романовых, ненавижу всю буржуазию и вычеркиваю их одним росчерком моего пера… Я презираю эту белую кость, как только возможно. Теперь наступил наш час, и мы вам мстим, и жестоко!..
– Позвольте, моему мужу всего тридцать лет, он не мог ни грабить, ни убивать…
– А разве дети не ответственны за грехи родителей? Но, мадам, мы слишком много теряем времени даром, – перебил он самого себя. – Вы желаете, чтобы я освободил вашего мужа? Хорошо, я его освобожу. Но мы сейчас же вместе выйдем на площадь, и я объявлю народу, что я, Урицкий, освободил Романова, и вы увидите, что получится: толпа на месте растерзает вашего мужа. Вы этого хотите?
Урицкий говорил, чтобы понравиться присутствующим в кабинете товарищам, те хохотали, с восторгом ловя каждое его слово.
– Чего вы хотите? – повторил он. – Чтобы я положил в больницу вашего мужа и чтобы караульные солдаты убили его так, как это сделали с Шингаревым и Кокошкиным? Вы хотите этого? – продолжал злорадствовать Урицкий. – Хорошо, я на это согласен. Вот вам бумага и перо, и вы сейчас же, здесь, напишете, что принимаете все последствия на свою ответственность. – Он протянул мне бумагу и перо.
– Перестаньте глумиться, господин Урицкий. Я прошу, я умоляю вас положить, как вы сделали с Брасовой, моего мужа в лечебницу, но без стражи.
– Нет, я этого не сделаю, – ответил он мне. – Брасова, как я убедился, неповинна в бегстве Михаила Романова, потому я ее держу в больнице на свободе. Ваш же муж арестован и должен отправиться в тюрьму.
Когда он произнес слово “тюрьма”, я почувствовала, как холод побежал по моей спине. Муж мой во время этого диалога сидел молча. Я просила его не говорить. Видя, что все мои попытки не дают результатов, я застыла в ужасе. Наступило молчание, которое вдруг прервал скрипучий голос Урицкого.
– Да, между прочим, вы засвидетельствовали свой брак по-большевистски? – обратился он ко мне. – Ваш церковный брак для нас не действителен. Я вам советую пойти и сделать это, а затем я пошлю к вам конфисковать ваше имущество и забрать романовские деньги… Наш народ этим еще обогатится.
– Как вам не стыдно смеяться! – воскликнула я. – Что вы можете еще взять? Брать с меня нечего. Сегодня вы берете самое последнее и дорогое для меня – моего мужа.
Слезы брызнули из моих глаз.
– Скажите, где мои братья, сосланные в Вятку? – спросил Урицкого мой муж.
– Все понесли должное наказание и, очевидно, расстреляны, – ответил спокойно Урицкий.
– А моя свояченица, Елена Петровна Сербская?
– Тоже не избежала своей участи, – прогнусавил этот изверг.
На мою последнюю попытку сжалиться я опять получила категорический отказ:
– Я вам только могу предложить выбрать себе тюрьму: Кресты или Предварительное заключение на Шпалерной.
Муж мой сам должен был выбрать себе тюрьму! При этой мысли мозг холодел, замирало сердце.
Мы с мужем начинаем выбирать тюрьму. Сначала мы узнаём, что в Крестах хорошая больница, но потом нам сообщают, что в Предварительном заключении находятся все дяди моего мужа: великие князья Дмитрий Константинович, Павел Александрович, Николай и Георгий Михайловичи. Тогда мы решаем, что мой муж поедет в Дом предварительного заключения.
Урицкий вызвал комиссара тюрьмы.
– По каким дням и сколько раз я могу бывать у мужа? – спросила я Урицкого.
– Хоть каждый день, – ответил он.
Вошел комиссар тюрьмы, противный, грязный тип, и начал писать какую-то бумагу.
– В какие часы я могу бывать у мужа? – задала я вопрос комиссару.
– Раз в неделю, – гаркнул он на меня.
– Что? – заволновалась я. – Урицкий разрешил каждый день.
– Ничего подобного, – опять завопил комиссар. – Получайте разрешение бывать два раза в неделю.
Урицкий, стоявший тут же, прогнусавил:
– Хватит с вас два раза в неделю.
Дальнейшие разговоры ни к чему не привели. Нужно было примириться.
Пока они писали, мы с мужем сидели, глядя друг на друга глазами, полными слез, не будучи в силах примириться с предстоящей разлукой и тем несчастьем, которое выпало нам на долю. Никогда не забуду этих минут! И теперь – этот леденящий кровь ужас! Тюрьма. Может быть, ссылка. А, может быть, и расстрел! Мы сидели, держа друг друга за руки… Безысходное горе томило нас. Как тяжело было сознавать эту убийственную действительность и беспомощность… В это время кто-то вошел в комнату.
– Романов! Идите! – услышали мы голос Урицкого.
Нас буквально оторвали друг от друга. Мужа увели. Я бросилась за ним вся в слезах, в последний раз обняла его и благословила. Постояв минуту на месте, ничего не видя из-за слез, я бессознательно пошла к выходу.
На улице я увидела автомобиль. С двумя вооруженными солдатами; проезжал мой муж. Автомобиль едва не задел меня. Я стала бежать за автомобилем, что-то шепча, крича и спотыкаясь. Вдруг автомобиль остановился. Я бросилась и еще раз обняла моего мужа…
Остановилась ли машина сама, или же у шофера заговорили человеческие чувства, я не знаю, но этот момент почему-то сильно врезался мне в память.
Я едва добрела до извозчика. Оказалось, что мы с мужем провели на Гороховой четыре часа.
Как я могу передать словами все то, что я чувствовала и переживала? Да и есть ли слова, которые могли бы передать эту ужасную действительность? Слов таких нет. У меня отняли самое дорогое, самое близкое, отняли то, чем я жила…
Ужас щемил мне сердце. Отчаяние овладело мною. Бросившись на кровать, я заплакала. Но мысль о муже не оставляла меня ни на минуту. Вскочив, я начала собирать нужные ему вещи: белье, подушки, еду… Все это мы отправили с горничной на Шпалерную. Затем, собрав последние силы, я отправилась к великой княгине Елизавете Маврикиевне, матери моего мужа, чтобы рассказать ей о нашем общем горе.
Вернулась домой поздно вечером усталая, разбитая физически и нравственно, с сильной головной болью. Меня уложили в постель. Как сквозь сон помню, что у нас дома было много людей, но я никого не видела и ничего не сознавала.
Наутро, вскочив чуть свет, я начала обдумывать, что мне нужно делать и к кому бежать. Я решила ехать на Гороховую к Б. Позвонив по телефону и получив разрешение приехать, я немедленно отправилась туда. Опять прошла по лестнице, уставленной пулеметами и солдатами, и вошла в столовую-приемную.
Здесь у меня явилась мысль во что бы то ни стало повидать Урицкого. Послав ему листок бумаги с моей фамилией, я ждала, но скоро получила отказ в приеме. Тогда я сама без доклада вошла в его кабинет. Он очень грубо велел мне уйти, сказав, что нам не о чем разговаривать. Не теряя надежды с ним переговорить, я узнала, что у него в кабинете имеется другая дверь и, не долго думая, я вошла вторично без доклада к этому извергу. Он был ошеломлен моей назойливостью, но и вторично не пожелал разговаривать со мной. Третьей двери, к сожалению, не было, в две предыдущие меня уже не пускала стража. Тогда я решила направиться к Б. Написав свою фамилию, я послала через сторожа записку. Каково же было мое удивление, когда сторож вернулся и сообщил, что Б. не знает меня и спрашивает, по какому делу. Вспомнив, что большевики знают меня только под девичьей фамилией, а не в качестве Романовой, я немедленно исправила свою ошибку и, вручив сторожу сорок рублей, просила его устроить мне прием. Вскоре сторож вернулся и сообщил, что Б. меня примет. Прождав около часа, я, наконец, попала в кабинет Б. Рассказав ему о муже (он, конечно, все уже знал), я начала просить его помочь мне перевести мужа в больницу. Б. был строг и холоден, но в его глазах порой светились лучи доброты и сердечности.
– К сожалению, помочь вам ничем не могу: все Романовы находятся в ведении Урицкого.
Разбитая, униженная, я вернулась домой”.
Глава XLI. 1918
Убийство Урицкого – Тюрьма и попытки освобождения – Перевод в лечебницу Герзони, а оттуда – на квартиру к Горькому – Разрешение выехать в Финляндию
Продолжаю рассказ-воспоминания жены:
“Мысль о необходимости помочь моему мужу меня не оставляла ни на минуту. Я продолжала обдумывать каждую мелочь. У меня мелькнула мысль позвонить жене Б. – телефон мне оставила, на всякий случай, его сестра, уехавшая с Н.К.К. на Украину. По телефону, однако, я ее не добилась и решила написать ей письмо.
Ночь прошла опять без сна. Утром я немедленно направилась на Гороховую: ночью у меня явилась мысль просить Б. разрешить нашему домашнему врачу, доброму и милому И.И. Манухину, посещать моего мужа в тюрьме. На это Б. согласился и просил, чтобы доктор Манухин приехал к нему для переговоров. Я дала знать Манухину, и он сейчас же отправился в Чека.
Следующий день был днем свидания в тюрьме. Не могу передать того чувства скорби и тревоги, которое овладело мной при виде тюрьмы. Кабинетом начальника тюрьмы была небольшая комната с одним окном с решеткой, письменным столом, кушеткой и двумя стульями, между которыми стоял столик. Начальник тюрьмы был симпатичный маленький старичок. В этой комнате я застала княгиню Палей, разговаривающую с тюремной сестрой милосердия. В это время вошел доктор Манухин и показал начальнику тюрьмы бумагу, согласно которой ему разрешались свидания с моим мужем. Начальник очень любезно ответил, что он, к сожалению, бессилен что-либо сделать, так как всеми свиданиями заведует комиссар тюрьмы, который должен скоро явиться.
Разговаривая, мы прождали комиссара полтора часа. Наконец с шумом отворилась дверь и вошел какой-то тип. На нем был смокинг с галстуком из грязной красной тряпки, на ногах – сбитые туфли с белыми, необыкновенно грязными носками. На голове – котелок с проломанным боком. Ярко-рыжее непромокаемое пальто своею грязью вызывало отвращение.
– Что это здесь за собрание? – заорал комиссар неистовым голосом.
– Комиссар Б. сказал, что на основании этой бумаги я могу навещать больного Г.К. Романова, – сказал доктор Манухин.
– Ни в коем случае не допущу никаких докторов к Романовым.
Доктору пришлось уйти.
Мне было больно сознавать, что доктор из-за нас подвергся оскорблениям, но я была бессильна.
Комиссар сел разбирать бумаги, а мы с княгиней ожидали стоя. Наконец он куда-то вышел и, возвратясь, сказал, чтобы меня отвели в канцелярию. Там я прождала ровно 15 минут – время свидания великого князя Павла Александровича с его женой, княгиней Палей. Когда я опять вошла в кабинет начальника тюрьмы, то застала моего мужа, стоящего посреди комнаты с двумя тюремными служителями по бокам. Со слезами я бросилась ему на шею. Мы сели. Нас разделял столик, сесть рядом нам не разрешили. Так много хотелось сказать, но слов не было. Наконец, собрав силы, я начала что-то говорить и в это время услыхала рев комис– сара:
– Говорите громко, я тоже желаю слушать, что вы говорите.
Его неправильная русская речь и истерический крик действовали на мои истерзанные нервы. Он подвинул свое кресло и сел поближе к нам. Начальник тюрьмы в это время отошел подальше.
15 минут прошли как одно мгновение. Нам приказали прощаться. Как во сне, я вышла на улицу и опять поехала в Чека. Б. обещал сделать все, чтобы доктору Манухину были разрешены визиты.
И, действительно, на следующий день Манухин был допущен к моему мужу.
Но мысль об освобождении мужа не давала мне покоя ни днем, ни ночью. А дело в этом направлении не подвигалось. Урицкий меня не принимал, Б. не о чем было просить. К кому обратиться? Что делать? Жены Б. все еще не было в Петрограде, и я не находила себе места. Не зная, что предпринять, я поехала к нашему милому доктору Манухину посоветоваться, и он предложил мне начать хлопоты у М. Горького, так как последний знаком со всеми видными большевиками.
При содействии Манухина мне удалось получить письмо от Горького к Ленину, которое кто-нибудь из нас должен был доставить в Москву. Наша горничная немедленно отправилась туда.
В это время жена Б. вернулась в Петроград и позвонила мне, прося приехать к ней на службу на Аптекарскую набережную, в бывшее здание министерства торговли и промышленности. Придя туда, я увидела маленькую женщину, в чем-то красном, жгучую брюнетку армянского типа – это была жена Б. Мы стали ходить по коридору, и я рассказала ей свое положение и просила ее помочь. Сначала она показалась мне женщиной с большим самомнением и апломбом, но потом я заметила, что она не чужда добрых чувств, и наше свидание закончилось ее обещанием помочь мне в моих хлопотах по освобождению моего мужа.
С разрешения Урицкого свидания в тюрьме происходили теперь совместно со всеми Романовыми. В кабинете у начальника тюрьмы, кроме меня и мужа, находились также княгиня Палей и великий князь Павел Александрович. К остальным великим князьям не приходил никто.
Каждый день я с большим волнением и нетерпением ждала возвращения моей горничной из Москвы. Ко мне заходило много знакомых и каждый предлагал свои услуги. Заехал однажды и доктор Манухин и предложил с ним вместе отправиться к Горькому. Я немедленно согласилась.
Большая, чудная квартира в богатом доме. В квартире с утра до ночи толпится народ. Меня просили подождать и, видимо, забыли обо мне. Наконец, вышла жена Горького, артистка М.Ф. Андреева, красивая, видная женщина, лет сорока пяти. Я стала ее умолять помочь освободить мужа. Она сказала, что не имеет ничего общего с большевиками, но что ей теперь как раз предлагают занять пост комиссара театров, и если она согласится, то думает, что по ее просьбе будут освобождать заключенных. Во время этого разговора вошел Горький. Я обратила внимание на его добрые глаза, Он поздоровался со мной молча. Ушла я от них окрыленная надеждой. Меня приглашали заходить и обещали уведомить о дальнейшем.
Время идет. Я ослабеваю с каждым днем, не ем, не сплю и, просыпаясь, каждое утро с ужасом думаю: жив ли мой муж? Утешительных известий никаких. Наконец, приезжает из Москвы горничная, но без результатов, так как сын Горького, который должен был взять у нее письмо с тем, чтобы вручить его Ленину, сказал, что ответ последует официальный. Бегаю к жене Б. – она все обещает мне помочь. Бегаю в Чека – провожу там по шести часов в день – без всякого результата. Звоню и захожу к Горькому – ответа от Ленина нет. М.Ф. Андреева говорит, что Урицкий обещает освободить моего мужа…
Идут дни за днями. Наконец, узнаю через Манухина, что Горький сказал ему, что Ленин дал свое согласие на освобождение мужа и официальную бумагу об этом везет из Москвы сам Луначарский.
Моей радости не было предела. Я кинулась к жене Б., и она мне тоже подтвердила эту новость, добавив, что Урицкий дал свое согласие на освобождение моего мужа, но нужно подождать несколько дней.
Боже, что это была за радость! Наш доктор улучил минуту и сообщил об этом в тюрьму моему мужу и подбодрил его. Прошло четыре дня, пять дней, а Луначарского с бумагой все не было. Стали говорить о том, что он приехал, но никакой бумаги не привез.
Я бросилась к Горькому. Там мне ничего не могли сказать. Я бросилась к жене Б. Она просила не волноваться и еще несколько дней подождать. Через день она позвонила мне: она была очень взволнована и сообщила мне, что комиссар Урицкий убит и что заместителем его назначен ее муж. Кроме того, она сообщала мне, что комиссар тюрьмы ранен при перестрелке у Английского посольства. Я была потрясена этими известиями, не зная, что предпринять. Вслед за этим начальник тюрьмы сообщил мне по телефону, что ввиду ранения комиссара сегодня отменяются свидания.
Несмотря на это, я решила сделать все возможное, чтобы добиться свидания. После телефонного разговора с Б. я получила разрешение увидеться с моим мужем. Я поехала в тюрьму. Княгиня Палей была уже там. Ликование наше было полным: вместо 15 минут начальник тюрьмы разрешил нам целый час! Мы, грешные, радовались отсутствию грубого комиссара. Мужу я все подробно рассказала и подбодрила надеждой скорого освобождения, так как с назначением Б. на место Урицкого мои хлопоты должны увенчаться успехом.
В газете появился портрет Урицкого и некролог. В одном из некрологов было сказано, что Урицкий страдал туберкулезом и царское правительство, ввиду его болезни, заменило ему ссылку и тюрьму высылкой за границу. Я обвела это сообщение красным карандашом и вырезала.
Жена Б. позвала меня к себе. Я была поражена бедностью, в которой они жили. Три маленькие темные комнаты на грязном, вонючем дворе с помойными ямами. Жена Б. была чрезвычайно мила, просила меня не горевать и верить в скорое освобождение мужа.
Все слухи о разрешении Ленина замерли, и никто уже не говорил о них. Все были заняты убийством Урицкого и его похоронами. Город украсился черными флагами, даже в тюрьме висел большой черный флаг.
По совету жены Б. я написала прошение в Президиум, приложила четыре докторских свидетельства и все отнесла на Гороховую. Жена Б. во всем принимала горячее участие, и я каждый день или бывала у нее, или звонила ей.
Никогда не забуду одного дня.
В связи с убийством Урицкого в городе шли аресты и обыски. Жена Б. казалась мне очень взволнованной. Когда я уехала от нее, у меня было предчувствие чего-то страшного. Успокоить я себя ничем не могла. Утром машинально взяла газету и вскрикнула: ужас овладел мною. На первой странице крупным шрифтом было напечатано, что ввиду убийства Урицкого и других комиссаров, большевики объявляют всех заключенных заложниками и если будет убит хоть один комиссар, то за одного большевика будут расстреляны несколько заложников. Ниже был приведен список содержащихся в тюрьме, причем в первой группе были все великие князья и мой муж. Затем следовали списки заложников: генералов, офицеров и политических деятелей различных партий. Все эти списки были подписаны комиссаром Чека – Б. Когда я это увидела, я поняла весь ужас моего положения.
Я бросилась к Горькому искать у него защиты. Придя к нему и рассказав в чем дело – Горький еще не успел прочитать газету, – я от слабости и волнения упала в обморок, а затем у меня началась истерика. Горький и его жена были буквально ошеломлены известием. Видя, что они мне помочь не могут, я от них позвонила Б. и просила его меня принять. От Горького я поехала на Гороховую.
Пропуск мне выдали немедленно, и, как лунатик, я вошла в кабинет Б. и там потеряла сознание. Очнулась в объятиях жены Б. – она случайно пришла к мужу.
– Антонина Рафаиловна, – заговорила она, – я нарочно пришла сюда, так как была уверена, что вы будете здесь, прочтя список. Глеб, – обратилась она к мужу, – довольно издеваться над бедной женщиной: ты обещал спасти ее мужа, и мы должны это сделать.
– От меня ничего не зависит, – ответил он. – Сегодня вечером я соберу президиум, и мы разберем ваше дело…
Жена Б. вытащила меня из кабинета.
На свидании в тюрьме в разговоре с мужем я старалась подбодрить его, как могла, и уверила, что день его освобождения близок. Сказать всего я не решилась, боясь, что опять могут появиться непредвиденные обстоятельства и мои надежды рухнут. Однако предупредила его, что если придут за ним и поведут на допрос, то чтобы он этого не боялся.
Когда свидание кончилось, я подошла к комиссару, заменившему раненого, и спросила:
– Не говорил ли вам чего-нибудь Б. относительно моего мужа?
– Товарищ Б. предупредил меня, – ответил приветливо комиссар, – что ваш муж будет на днях освобожден, но об этом никто не должен знать. Мы его увезем потихоньку.
– Товарищ, – обратилась я к комиссару, – возьмите от меня записочку для мужа. Вы ее передадите ему тогда, когда повезете из тюрьмы.
– Хорошо.
Я написала: “Не бойся, иди смело за этим комиссаром. Это твое освобождение”.
День прошел, как сон. Одна мысль не покидала меня: завтра в 6 часов вечера будет решена судьба мужа.
Вечером позвонила мне жена Б. и спросила, куда мы предполагаем поместить мужа?
– В лечебницу Герзони, – ответила я и вместо того, чтобы успокоиться, стала еще больше волноваться. Ночь провела кошмарную: мне казалось, что моего мужа освободили, но толпа узнала его и растерзала. Что убили Троцкого, и муж как заложник накануне своего освобождения расстрелян. Вообще не было той ужасной мысли, которая бы не терзала меня в ту ночь. Я встала совершенно больной. За месяц пребывания мужа в тюрьме я потеряла полтора пуда, буквально не могла двигаться от слабости, но энергия во мне развилась чудовищная.
В день освобождения мужа я отправилась в церковь и горячо помолилась. Из церкви поехала на Смоленское кладбище на могилу блаженной Ксении, которую всегда поминала в своих скорбях. Вернулась домой с облегченной душой, взяла книгу чудес блаженной Ксении, заперлась одна в комнате и стала читать. Никогда не забуду этого момента. Мне стало вдруг так легко на душе, как будто я поднялась куда-то ввысь. Никогда ни до, ни после я не испытала такого чувства.
Домашние меня уговорили прилечь, и я, измученная, заснула. Вдруг зазвонил телефон. Сонная, шатаясь, беру трубку и слышу: “Антонина Рафаиловна, ура! освобожден!” Это была жена Б. Я начала кричать в телефон слова благодарности… и неожиданно после подъема наступил упадок сил. Я опять легла в постель и в первый раз за долгое время уснула крепким сном.
На следующее утро Б. сказал мне по телефону, что мой муж будет в 3 часа в клинике Герзони. Я отправилась туда и просила приготовить для нас отдельную комнату. С трех часов ждала, в пять мною овладела сильная тревога, и я уже хотела бежать на Гороховую, как увидела моего мужа в сопровождении комиссара в автомобиле. Я бросилась ему на шею, а затем мы оба расцеловали комиссара. Комиссар вызвал заведующую и толково ей объяснил, что муж арестован и из тюрьмы по болезни переводится в лечебницу, и никто, кроме служебного персонала и жены, не имеет права его видеть.
Когда комиссар уехал и явилась фельдшерица, чтобы записать нашу фамилию, мой муж ответил: “Романов”.
– Романов? – переспросила она. – Какая у вас неприличная фамилия!..
Я осталась с мужем. Чувство радости смешивалось с гордым сознанием, что это я вырвала мужа из когтей смерти.
На третий день пребывания нашего у Герзони я поехала на Гороховую к Б. поблагодарить его и купила по дороге цветы: жена его сказала мне, что цветы он обожает и это единственный подарок, который он примет.
Я сияющая вошла в его кабинет и в первый раз увидела на лице Б. улыбку.
– Я отпустил вашего мужа к Герзони, – сказал он, – под одним условием, которое если вы нарушите, муж ваш и вы будете арестованы. У Герзони живет освобожденная мною Брасова. Ни вы, ни ваш муж ни под каким видом не имеете права встречаться и разговаривать с ней.
Дав ему слово, я уехала сейчас же в лечебницу и там узнала, что Н.С. Брасова хотела видеть моего мужа. Через Герзони я просила передать Н.С. Брасовой мой разговор с Б.
Вскоре затем М.Ф. Андреева сказала мне, что наше проживание по соседству с Брасовой в клинике может грозить нам арестом, и предложила мне переехать с мужем на квартиру к Горькому. Без разрешения Б. я этого сделать не могла. Он дал мне его, и я прямо из его кабинета позвонила Горькому по телефону. Начав разговор, я затем передала трубку Б. Он переспросил Горького о нашем переезде и хотел кончить разговор. Но Горький, по-видимому, его еще о чем-то просил, и я услышала:
– Нет, Павла Александровича я не выпущу. Он себя не умеет вести. Ходит в театры, а ему там устраивают овации.
На следующий день мы оба переехали к Горькому.
Горький нас встретил приветливо и предоставил нам большую комнату в четыре окна, сплошь заставленную мебелью, множеством картин, гравюр, статуэтками и т. п. Комната эта скорее походила на склад мебели, которая, как мы потом узнали, вся продавалась, и в ней часто бывали люди, осматривавшие и покупавшие старину. Устроились мы за занавеской.
Здесь началась наша новая жизнь. Я выходила из дома редко. Муж ни разу не вышел. Обедали мы за общим столом с Горьким и другими приглашенными. Бывали часто заведомые спекулянты, большевистские знаменитости и другие знакомые. Я видела у Горького Луначарского, Стасова, хаживал и Шаляпин. Чаще всего собиралось общество, которое радовалось нашему горю и печалилось нашими радостями. Нам было в этом обществе тяжело.
В это время М.Ф. Андреева была назначена управляющей всеми театрами Петрограда, и я, пользуясь ее положением, начала хлопотать о получении разрешения на выезд в Финляндию. Подала также через Финляндское Бюро прошение в Сенат о позволении нам въехать в Финляндию.
Дни тянулись, и мы оба томились. Я изредка ходила на нашу квартиру и выносила некоторые вещи – платье, белье. Выносить было запрещено, и потому я надевала на себя по несколько комплектов белья мужа и других вещей. В один из моих визитов на квартиру я узнала, что ее реквизируют, а обстановку конфискуют. Муж в это время болел, а затем слегла и я.
Оправившись после испанки, я снова начала письменно хлопотать о разрешении на выезд и об освобождении также великого князя Дмитрия Константиновича из тюрьмы. Я добилась того, что доктор Манухин осмотрел его в тюрьме и нашел его здоровье сильно пошатнувшимся.
Горький обещал нам содействовать, и действительно хлопотал за нас, и получил разрешение от Зиновьева на наш выезд. В это время большевики уволили со службы Б. и на его место назначили некую Яковлеву, которая решила не выпускать Романовых. Одновременно была получена телеграмма из Москвы от Ленина: “В болезнь Романова не верю, выезд запрещаю”. К какому Романову относилась эта телеграмма, выяснить было невозможно, во всяком случае Чека отнесла ее к нам и запретила нам выезд в Финляндию. В это же время мы получили отказ от финляндского Сената нас впустить. Мы тотчас же вторично подали туда прошение.
М.Ф. Андреева рекомендовала нам бросить все хлопоты об отъезде и лучше начать работать в России. Мне она предлагала начать танцевать, а мужу заняться переводами.
В эти мучительные дни, полные огорчений и отчаяния, мой муж получил повестку из Чека с приказанием явиться по делу. Что за дело? Мы не знали. Муж был так слаб, что о выходе из дома не могло быть и речи. Вместо него хотела идти я. Спросила совета у М.Ф. Андреевой.
– Я справлюсь у Зиновьева, в чем дело, – ответила она, – едемте со мной.
У гостиницы “Астория”, где жил Зиновьев, я в автомобиле ждала М.Ф. Андрееву более часа. Когда она вернулась, я боялась спросить о результате. Наконец, после продолжительного молчания, когда мы отъехали довольно далеко, она заговорила:
– Ну, можете ехать в Финляндию. Сегодня получено разрешение: ввиду тяжелого состояния здоровья вашего мужа выезд разрешен. Дано уже распоряжение о выдаче всех необходимых для вас документов. В Чрезвычайку можете не являться, Зиновьев туда сам позвонил.
Радости моей не было конца. Я поспешила обрадовать мужа. Затем поехала в Финляндское Бюро и там на наше счастье было получено разрешение на въезд в Финляндию.
Для того чтобы получить выездные документы, я должна была явиться в Министерство иностранных дел. Оно помещалось в Зимнем дворце. Когда я вошла туда, меня поразило необыкновенное количество крестьян, запрудивших лестницы и залы. Дворец представлял картину полного разрушения: дорогая мебель почти вся поломана, обивка порвана, картины лучших мастеров продырявлены, статуи, вазы разбиты. Весь этот наполнивший дворец люд приехал со всей России на какие-то лекции.
Мы собирали вещи, прощались с родными и знакомыми. Приходила милая, симпатичная Б., которую я искренне полюбила. Со стороны Горького и его жены мы видели полное внимание и желание нам помочь. Как мы им благодарны! Накануне отъезда, когда я получила в долг деньги, я расплатилась со своей прислугой. До последнего момента нас преследовали всевозможные трудности, из которых главная была та, что мы не имели письменного разрешения Чека на выезд, – но все прошло благополучно: 11 ноября 1918 года в 5 часов утра я с больным мужем, моя горничная и бульдог, с которым мы никогда не расставались, поехали на вокзал. От волнения ехали молча. На вокзале я подошла к кассе и спросила билеты до Белоострова. К моему изумлению, мне выдали их беспрепятственно. Радоваться я все-таки еще боялась.
Муж был очень слаб. Пришлось долго ожидать разрешения сесть в поезд. Наконец, мы заняли места. Вагон наполнился солдатами, и мне все казалось, что эти солдаты подосланы, чтобы убить моего мужа. Эти моменты были, пожалуй, самые тяжелые из всех, пережитых нами. Поезд тронулся.
Приехали в Белоостров. Более часу ожидали в буфете. Наконец, нас вызвали.
– Где ваш паспорт? – спросил комиссар.
– Наши паспорта остались в Чека, – ответила я.
Пока он не снесся по телефону с Гороховой, мне казалось, что все потеряно: нас могли отослать обратно, нас могли арестовать. Это были ужасные моменты. Но вот нас попросили в различные комнаты, раздели, обыскали, затем осмотрели багаж, и мы получили разрешение выехать в Финляндию.
Лошадей не было. Больного мужа усадили в ручную тележку. Дошли до моста, на котором с одной стороны стояли солдаты финны, а с другой – большевики. После недолгих переговоров финны взяли наш багаж. В это время строгий комиссар, который только что почти глумился над нами, подошел ко мне, и я услышала его шепот:
– Очень рад был быть вам полезным…
Я растерялась. Комиссар скрылся. В ту минуту мне показалось, что он не сносился по телефону с Гороховой и выпустил нас без разрешения этого учреждения и что вся его грубость была напускная.
В Финляндии мы остановились в санатории близ Гельсингфорса, где восстановили здоровье, но мысли наши были и всегда остались на нашей дорогой родине, на долю которой выпало столько страданий”.
Глава XLII. 1918
Воспоминания о жизни в тюрьме
На этом заканчивается повествование моей жены о том, как она меня спасла из лап Чека и этим спасла мне жизнь.
В то время, как моя бедная жена боролась за мое спасение и преодолевала невероятные препятствия, я томился в тюрьме, на Шпалерной. Это продолжалось около месяца.
15 августа 1918 г., когда меня арестовали, я был отвезен в Дом предварительного заключения. Везли меня на гоночном автомобиле, и я сидел рядом с шофером. Сзади поместился “товарищ коммунист” с винтовкой. Когда мы выезжали из ворот, то проехали мимо бедной моей жены, которая стояла взволнованная, убитая горем. Выехав на Адмиралтейский проспект, шофер вдруг остановился и начал поправлять что-то в моторе. Жена успела подбежать ко мне, и мы еще раз расцеловались. Она ужасно плакала.
Проезжая по Дворцовой набережной, мы встретили князя М.С. Путятина. Я ему поклонился совершенно машинально и только потом сообразил, что своим поклоном мог его подвести.
Мы остановились у тюрьмы, “товарищ коммунист” вошел в ворота. Шофер, везший меня, был в военной форме, и я спросил его, где он служил.
– В санитарном отряде императрицы Марии Федоровны.
Меня поразило, что этот чекист сказал: “Императрица Мария Федоровна”.
В этот момент возвратился “товарищ коммунист” и повел меня в тюремную канцелярию. Мы проходили через двор мимо большой иконы. Я снял шапку и перекрестился.
Тюрьма произвела на меня удручающее впечатление. Особенно теперь, в такое тяжелое время и в полном неведении будущего; мои нервы сдали. Пришел начальник тюрьмы, господин с седой бородой и очень симпатичной наружностью. Я попросил меня поместить в лазарет, как обещал сделать Урицкий. Но постоянного лазарета в Доме предварительного заключения не оказалось, и начальник тюрьмы посоветовал мне поместиться в отдельной камере.
Меня отвели на самый верхний этаж, в камеру с одним маленьким окном за решеткой. Камера была длиной в шесть шагов и шириной в два с половиной. Железная кровать, стол, табуретка – все было привинчено к стене. Начальник тюрьмы приказал положить мне на койку второй матрац.
В этой же тюрьме сидели дяденька и мои двоюродные дяди: Павел Александрович, Николай и Георгий Михайловичи.
Вскоре мне из дому прислали самые необходимые вещи, и я начал понемногу устраиваться “на новой квартире”. В этот же день зашел ко мне в камеру дядя Николай Михайлович. Он не был удивлен моим присутствием в тюрьме, так как был убежден, что меня тоже привезут сюда. Дяденька помещался на одном этаже со мной, но его камера выходила на север, а моя на восток. Дядя Павел Александрович, Николай и Георгий Михайловичи помещались этажом ниже, каждый в отдельной камере.
Первую ночь я спал плохо: было неудобно лежать, болела голова, нервы шалили вовсю. Заснул под утро.
На следующий день меня вывели погулять во двор, и, выйдя из камеры, я встретился с дядей Георгием, возвращавшимся с прогулки. Мы успели обменяться только несколькими словами. Кончая прогулку, я встретился с Павлом Александровичем, который страшно обрадовался нашей встрече.
В этот же день мне удалось пробраться к дяденьке. Стража смотрела на это сквозь пальцы, прекрасно сознавая, что мы ни в чем не виноваты. Я подошел к камере дяденьки, и мы поговорили в отверстие в двери. Я нежно любил его, он был прекрасным, добрым человеком и являлся для нас как бы вторым отцом. Разговаривать пришлось недолго, потому что разговоры были запрещены.
Так началась моя жизнь в тюрьме. К режиму я стал постепенно привыкать. Вставали в 7 часов утра. Слышался шум шагов, хлопанье дверей, лязг ключей. До обеда, то есть до 12 часов, нас выводили на прогулку. Других арестованных выводили партиями, нас же в одиночку и позволяли гулять только вдоль восточной стены тюремного двора. В 12 часов давали обед, состоявший из супа и куска хлеба. В первые дни я ел этот суп и хлеб, но потом жена мне и дяденьке стала присылать столько провизии, что я не дотрагивался до тюремной пищи. В 6 часов разносили ужин, а между обедом и ужином можно было пить чай. В 7 часов тюрьма переходила на ночное положение и опять, как и утром, начиналась ходьба, лязганье ключей, щелканье замков. Затем становилось тихо, гасили большинство огней, и наступала жуткая тишина.
Мне прислали из дому книги, и я читал, полулежа на кровати, положив под спину пальто и подушки. Ложе получалось очень удобное и давало мне возможность много читать. Я читал книги религиозного содержания, а также с увлечением перечитывал “В лесах” и “На горах” Мельникова-Печерского.
Камеру мою за плату убирали арестованные рядом со мной шофер и какой-то солдат, социалист-революционер. Это были премилые люди, очень услужливые, и я подолгу разговаривал с ними.
Тюремная стража относилась к нам очень хорошо. Я и дяденька часто беседовали с ними, и они выпускали меня в коридор, позволяли разговаривать, а иногда даже разрешали бывать в камере дяденьки. Особенно приятны были эти беседы по вечерам, когда больше всего чувствовалось одиночество.
С разрешения большевиков ко мне приходил доктор Манухин. Мы встречались с ним в лазарете, куда меня вызывали. Однажды при нашем свидании был дядя Павел Александрович, явившийся для медицинского освидетельствования. Меня поразила его худоба. Я редко встречал таких истощенных людей. Эти свидания с Манухиным были, разумеется, большим утешением и поддержкой в моей тюремной жизни.
Очень были также интересны разговоры с тюремными сторожами. Больше всего я беседовал с одним из них, уроженцем балтийских провинций. Он останавливался у моей двери и в окошко долго беседовал со мною. Был также другой сторож, очень симпатичный, бывший солдат лейб-гвардии Гренадерского полка. Он мне много рассказывал про свою жизнь, про полк. Относился ко мне прекрасно и даже иногда помогал мне одеваться. Нередко навещал меня также начальник тюрьмы. Он приносил мне открытки от моей жены, присланные по почте. Начальник тюрьмы просил меня ни в коем случае не пользоваться нелегальными способами переписки. Я ему дал слово в этом.
Самым большим удовольствием, которого я ждал всегда с большим нетерпением, были свидания с женой. В первый раз она пришла на второй день после моего ареста. Настал уже час свидания, а меня все не вызывали. Я сильно волновался. Наконец, пришел служитель и повел меня по бесконечным галереям и коридорам в кабинет начальника тюрьмы. Трудно передать, как мы с женой были счастливы увидеться после всего пережитого. Но говорить свободно было нельзя: тут же сидел комиссар тюрьмы, отвратительный тип, всегда невероятно грязный; он хотел все слышать и требовал, чтобы мы говорили громко. Свидание продолжалось четверть часа, обстановка была тягостной.
Жена меня навещала два раза в неделю. Через некоторое время я начал ходить на свидания вместе с дядей Павлом Александровичем, конечно, в сопровождении сторожей, которых мы в шутку называли “няньками”. В кабинете начальника тюрьмы нас ждали княгиня Палей, моя жена и тюремный комиссар. Дядя с женой сидели у одной стены, а мы – у противоположной. Дяденька часто давал мне деньги для передачи жене, с просьбой купить свечей и поставить их перед иконой Спасителя, в домике Петра Великого, или у гроба отца Иоанна Кронштадтского. Мне удавалось незаметным образом исполнять его поручения. Однажды в одно из таких свиданий комиссар ушел и мы остались под наблюдением начальника тюрьмы. Он был так добр, что продлил нам свидание почти на час.
Ввиду моего болезненного состояния меня часто навещала тюремная сестра милосердия. Этим визитам я бывал очень рад. Я иногда вызывал ее, когда у меня начинались боли или бывало особенно тяжело на душе.
Встречи с моими дядями продолжались. Мы обычно встречались на прогулках и обменивались несколькими фразами. Странно мне было их видеть в штатском платье: всегда носившие военную форму, они изменились теперь до неузнаваемости. Внешне они были всегда веселы и шутили со сторожами. Дядя Николай Михайлович (историк) часто выходил из своей камеры во время уборки, а иногда вечером, во время ужина, стоял у громадного подоконника в коридоре и между едой неизменно продолжал разговаривать и шутить со сторожами. Он был в защитной офицерской фуражке без кокарды и в чесучовом пиджаке. Таким я его помню в последнее наше свидание в коридоре. Другие дяди почти не выходили из своих камер.
Помню, как дядя Николай Михайлович прислал мне в камеру свою книгу об утиной охоте. Он был большой охотник, и когда узнал, что я не охочусь, даже обругал меня. Но так как я терпеть не могу убивать зверей, то эту книгу я даже не читал, а только просматривал иллюстрации.
Однажды вечером, после ужина, в тюрьме поднялась суматоха и большой шум. Оказалось, что приехал гроза Петрограда – сам Урицкий. Меня спросили, хочу ли я, чтобы он зашел ко мне. Я ответил утвердительно. Вскоре Урицкий вошел в мою камеру в сопровождении нескольких лиц, среди которых были большевистский градоначальник Шахов и наш симпатичный начальник тюрьмы. Когда вошел Урицкий, я остался в кровати в полулежачем положении и спросил его:
– Нельзя ли разрешить моей жене чаще навещать меня?
– В наше время нам этого не разрешали, – заметил Шахов.
“Наше время”, по-видимому, нужно было понимать как время, когда товарищ Шахов сидел по тюрьмам. Урицкий ничего не ответил, и моя просьба осталась неисполненной. После меня он посетил всех дядей. Дяденька так удачно переговорил с ним, что нам были разрешены совместные прогулки и увеличена их продолжительность. Началась новая эра в нашей тюремной жизни. Мы гуляли в большой компании и вместо четверти часа – час, что было для всех большой радостью. Вместе с нами гуляли генерал-адъютант Хан-Нахичеванский, под начальством которого я был на войне, князь Д., два брата А. и многие другие. Многие незнакомые арестованные нас приветствовали, а сторожа иногда даже титуловали. Они нам соорудили из длинной доски большую скамейку во дворе тюрьмы, и мы часто сидели, греясь на солнце.
Однажды на прогулке один из тюремных сторожей сообщил нам, что убили комиссара Урицкого. Офицер, который предлагал мне в самом начале моего тюремного сидения свои услуги по пересылке писем (от которых я отказался), обрадовался. Я был другого мнения и оказался прав. Скоро начались массовые расстрелы, а на одной из прогулок до нас дошло известие, что мы все объявлены заложниками. Это было ужасно. Я сильно волновался. Дяденька меня утешал:
– Не будь на то Господня воля, – говорил он, цитируя “Бородино”, – не отдали б Москвы! – а что наша жизнь в сравнении с Россией, нашей родиной?
Он был религиозным и верующим человеком, и мне впоследствии рассказывали, что умер он с молитвой на устах. Тюремные сторожа говорили, что когда он шел на расстрел, то повторял слова Христа: “Прости им, Господи, не ведают бо, что творят”…
Я не мог успокоиться, и мои нервы сильно пошаливали. Я вызывал к себе начальника тюрьмы, сестру милосердия и даже у них спрашивал: не грозит ли мне, как заложнику, опасность? Наивный вопрос! Но он становится понятен, когда подумаешь, что мы все тогда переживали. Они успокаивали меня, как могли. Это было в первые дни. Затем, так как человек ко всему на свете привыкает, я свыкся со своим положением заложника.
Дяденька ободрял меня, как мог, и как-то написал для меня на клочке бумаги псалом “Живый в помощи Вышнего”, который я и выучил наизусть. Заботы обо мне дяденьки трогали меня, он никогда не забывал передать мне слова бодрости и утешения, даже через сторожа.
Вскоре после убийства Урицкого шофер, мой сосед по камере, вошел ко мне и сообщил, что солдата социалиста-революционера увели на расстрел. Жуткие были моменты, когда ранним утром в тюрьме поднимался шум, ходьба, а затем все опять стихало. Это выводили на расстрел, может быть, тех, с которыми только вчера еще гулял и говорил на тюремном дворе. Но в тюрьме люди иначе относятся к своему неопределенному положению: утром вставали под впечатлением шума, вызванного уводом на расстрел, а в полдень, на прогулке, начинались шутки и смех. Кто-то из арестованных постоянно кричал и звал: “Леля, Леля! ” – причем голос был какой-то надтреснутый, хриплый. Дядя Павел Александрович хотел однажды изобразить зов этого несчастного и тоже крикнул: “Леля! Леля! ” – но это вышло не трагично, а смешно. Вообще дядя Павел был бодр и не поддавался унынию. Он всегда очень радовался свиданию с княгиней Палей. Других дядей никто не навещал, и это было мне больно сознавать. Мне и дяде Павлу было все-таки легче: к нам приходили, к ним же – никто.
В одно из свиданий жена сообщила мне, что меня скоро должны выпустить, и указала даже приблизительно срок, но просила держать это в строгой тайне.
С большим волнением ждал я этого срока, несколько приободрился и перестал унывать. Наконец, обещанный день наступил, а меня никто не вызывал. Я почувствовал невероятный упадок сил и сильные боли. Вызвал сестру милосердия, и когда она собралась было поставить мне компресс, меня вдруг вызвали вниз. Так как я был предупрежден и ждал этого вызова, то пришел в такой восторг, что расцеловал сестру милосердия.
Начальник тюрьмы сообщил мне, что меня зовут на допрос. Он тоже не знал правды. Когда вместе с начальником тюрьмы я спустился в канцелярию, то застал там комиссара Богданова. Улучив момент, когда начальник тюрьмы вышел, комиссар показал мне бумагу, в которой значилось, что меня из тюрьмы перевозят в клинику Герзони. Радости моей не было границ. Я отправился опять в свою камеру, чтобы приготовиться к отъезду. Шофер, сосед по камере, страшно испугался за мой вызов, думая, что меня вызывают на расстрел. Я его успокоил, отдал ему всю свою провизию и просил его передать остальные мои вещи тому, кто за ними приедет. На прощанье мы с ним расцеловались. Я также зашел в камеру к дяденьке проститься. Он благословил меня, обнял и был растроган до слез. Слезы потекли и из моих глаз… Это было последнее наше свидание в этой жизни.
Я описал свою жизнь, начиная от моего появления на свет и до того дня, когда мне пришлось, спасая свою жизнь, переступить границу родной России и перейти в Финляндию.
Молю Бога, чтобы Он сподобил меня великого счастья еще раз увидеть Родину. Но да будет на все Его воля!
Приложения
Мой дед великий князь Константин Николаевич 1827—1892
28 мая 1881 года мой дед, отдыхавший тогда в своем крымском имении Орианда, получил из Петербурга от своего старого сотрудника и друга статс-секретаря А.В. Головнина письмо следующего содержания:
“Ваше императорское высочество!
Получив высочайшее повеление явиться 23 мая к Государю императору в Гатчину, я был принят в 111/2 утра. Его императорское величество изволил приказать мне написать Вашему высочеству с морским курьером и по получении ответа представить оный его величеству.
Государь изволил сказать мне, что нынешние совершенно новые обстоятельства требуют новых государственных деятелей, что, вследствие этого состоялись по высшему управлению новые назначения и что его величество желает, чтобы Вы облегчили ему распоряжения, выразив готовность Вашу оставить управление Флотом и Морским ведомством и председательствование в Государственном Совете. Государь находит весьма благородной и достойной уважения мысль, что великие князья должны служить всю жизнь, полагает, что великие князья не могут проситься в отставку, но, конечно, вправе выражать желание оставить ту или другую должность. Звание генерал-адмирала, как пожизненное, генерал-адъютанта, члена Совета, Председателя комитета о раненых и вообще все почетное должно оставаться. По получении ответа Вашего высочества на это письмо, Государь сам будет писать Вам. Его величеству весьма не хотелось бы произвести тяжелое впечатление, не сказав в указе: “согласно желанию”. Сверх того. Государь желал бы, чтобы Вы отдохнули, успокоились, чтоб обстоятельства изменились и чтобы Ваше высочество, вполне располагая своим временем, не считали себя обязанным торопиться приездом в Петербург.
Смею надеяться, что Ваше императорское высочество поймете чувства покорности и скорби, с которыми я исполняю данное мне повеление”.
Мой дед немедленно ответил (28 мая):
“Любезнейший Александр Васильевич!
Письмо твое от 24 мая, в котором ты мне передаешь твой разговор накануне с Государем, я получил через моего адъютанта Гуляева сегодня утром. Всем происходившим, начиная с несчастного 1 марта, я уже был подготовлен к этой развязке и успел вполне к ней приготовиться. Если его величество находит, что ввиду теперешних новых обстоятельств нужны и новые государственные деятели, то я вполне преклоняюсь перед его волей, нисколько не намерен ей препятствовать и поэтому желаю и прошу его ни в чем не стесняться в распоряжениях его об увольнении меня от каких ему угодно должностей.
Занимал я их по избранию и доверию покойных двух незабвенных Государей: моего отца и моего брата. Морским ведомством я управлял 29 лет, в Государственном Совете председательствовал 16 с половиной лет. Крестьянское дело вел 20 лет, с самого дня объявления Манифеста. Если ввиду теперешних новых обстоятельств эта долговременная, 37-летняя служба, в которой я, по совести, кое-какую пользу принес, оказывается ныне более ненужной, то, повторяю, прошу его величество ничем не стесняться и уволить меня от тех должностей, какие ему угодно. И вдали от деятельной службы и от столицы в моей груди, пока я жив, будет продолжать биться то же сердце, горячо преданное Матушке-России, ее Государю и ее Флоту, с которым я сроднился и сросся в течение 50 лет. Моя политическая жизнь этим кончается, но я уношу с собою спокойное сознание свято исполненного долга, хотя с сожалением, что не успел принести всей той пользы, которую надеялся и желал”.
А.В. Головнин, положение которого в этих своеобразных переговорах державного племянника с не соответствующим духу времени дядей было, конечно, не из легких, – вскоре за этим, 7 июня, пишет снова в Орианду:
“Настоящее письмо пишу для отправления Вашему высочеству с Милютиным в дополнение к посланному сегодня по почте о поездке моей вчера в Петергоф. Государь приказал мне прочесть Ваше ответное мне письмо и потом мое письмо, и, по-видимому, остался доволен, сказал, что понижает, что все это должно быть Вам неприятно, но надеется, что обстоятельства изменятся, Ваше раздражение успокоится и Вы будете полезны на разных должностях, а что вследствие Вашего письма можно будет сказать: “согласно желанию”. Я доложил, что в моем письме сказано, что Государь сам изволит писать Вашему высочеству, что я не знал, как его величество полагает писать: письмом или рескриптом и что, поэтому, я привез материалы для последнего, а именно копии с рескриптов покойного государя и описание приема Государственного Совета покойным государем, когда его величество назвал ваше высочество своим главным помощником по крестьянскому делу. Государь сказал, что напишет Вам теперь сам и оставил у себя Ваше письмо, копию моего письма и материалы и спросил, нужно ли возвращать мне эти материалы. Я, конечно, отвечал отрицательно, но прибавил, что осмеливаюсь faire une indiscre′tion [быть откровенным], – что мне известно давнишнее желание Ваше получить в 50-летний юбилей генерал-адмиральства для ношения в петлице портрет великого деда его величества, того Государя, который пожаловал Вам звание генерал-адмирала. Государь как-то оживился и спросил, и прежде ли Вы имели это желание, на что я отвечал утвердительно.
Затем я сказал, что Вашему высочеству неясно выражение в моем письме “не торопиться возвращением” – и что Вы изволите спрашивать: означает ли это свободу на зиму, или намек на то, чтобы не приезжать к юбилею. Государь отвечал, что не может мешать Вашему возвращению, но полагает, что Вам самим это было бы в настоящее время неприятно. Тем аудиенция кончилась… К этому я осмелюсь от себя прибавить, что, по собственному опыту, знаю, как тяжело министру на первых порах после оставления должности находиться в Петербурге и близко видеть, как ломается все, что он сделал, критикуется то, что сделано, что время успокаивает и дает равнодушие. Поэтому лучше приобрести несколько равнодушия и тогда приехать. Если бы я мог вернуть прошедшее, то поступил бы таким образом и сохранил бы тем самым много здоровья и спокойствия. Мне кажется, что Милютин хорошо делает, что не хочет теперь же возвращаться”.
Переписка продолжалась. А.В. Головнин держит моего деда в курсе своих докладов государю и посылает ему копию своей записки и приложения к ней, посланных императору Александру III 29 июня 1881 г.:
“Великий князь генерал-адмирал в письме статс-секретарю Головнину из Орианды от 20–22 июня 1881 г., которое Головнин получил в Москве 26 июня, выражает желание быть поскорее уволенным и находит ожидание и неизвестность мучительными. Он говорит: “Особенно не желал бы я теперь, чтобы мое увольнение приурочили к моему юбилею. Не томите меня, ради Бога, долгим бесполезным ожиданием, а решайте дело скорее”.
Далее дед писал:
“Для того, чтобы мне жить в покое, необходимо, чтоб было как-нибудь и где-нибудь выражено, что я имею право жить, где мне угодно, как в России, так и за границей. Ты ведь знаешь, что у меня денег очень немного и что и при обыкновенной жизни мы едва сводили концы с концами. Теперь же приходится мне очень жутко. Чтоб иметь достаточные средства, необходимо мне иметь возможность упразднить в Петербурге большую часть двора, прислуги и конюшни, а для этого и необходимо получить право жить мне где угодно. Все лето и всю осень, разумеется, я намерен остаться в Орианде, но где жить зиму? That is the question. [Вот в чем вопрос.] Полагаю остановиться на выборе Ниццы. Об этом мы долго говорили с Ив. Шестаковым, который, кажется, лет 9 там прожил и говорит, что там можно жить и дешево, и скромно, но в то же время и приятно”.
Головнин, как выше сказано, не скрыл перед генерал-адмиралом своей нескромности, а именно, что проговорился о желании деда получить к юбилею портрет государя Николая Павловича. На это дед пишет: “Я желал бы получить портрет двойной: батюшки и брата, потому что при одном я получил звание генерал-адмирала, а при другом его исполнял 26 лет. А ты говорил государю только про портрет его деда. Нет, – не одного деда, но непременно и отца. Tirеz moi cеla au clair [просветите же меня]”.
13 июля 1881 г. был, наконец, опубликован следующий именной высочайший указ государственному Совету:
“Снисходя к просьбе его императорского высочества государя великого князя Константина Николаевича, всемилостивейше увольняем его высочество от должностей Председателя государственного Совета, председательствующего в Главном комитете об устройстве сельского состояния и председателя Особого Присутствия о воинской повинности, с оставлением в званиях генерал-адмирала и генерал-адъютанта, а также в прочих должностях и званиях”.
В тот же день был опубликован высочайший рескрипт, отмечающий все заслуги моего деда, причем на подлиннике собственною императора Александра III рукою было написано: “Искренне любящий Вас Александр”.
Опубликование высочайшего указа и рескрипта и затем сердечное празднование в Кронштадте и Ялте 50-летнего юбилея деда в звании генерал-адмирала вызвали повсеместный отклик в печати. В “Санкт-Петербургских ведомостях”, в передовой статье в самый день юбилея, 22 августа, между прочим, было сказано:
“Многочисленны были преобразования и улучшения, совершенные в морском ведомстве по личному почину великого князя. Начинания его были совершенно самобытны, серьезное направление мысли, жажда знания и блестящие дарования, в силу которых его высочество не ограничивался поверхностным знакомством с вверенным ему делом, но каждою специальностью, входящею в состав этого сложного дела, овладевал в совершенстве, – вот что обусловливало самостоятельность его убеждений и энергию в их осуществлении”.
Газета М.М. Стасюлевича “Порядок”, коснувшись подробнее вопроса о реформах в морском ведомстве, произведенных по почину моего деда, отметила, что “до 1855 года наше морское ведомство носило на себе характер крепостной, помещичий и даже в действительности было помещиком, так как имело настоящих крепостных своих крестьян на Охте и близ Николаева, а сверх того – кантонистов, даровая человеческая сила была потому нипочем, так что в 1855 году наш флот представлял ужасающее общее число нижних чинов морского ведомства, а именно – более 125 тысяч человек, из которых самое ничтожное количество расходовалось на прямое дело матроса на корабле, остальные же руки, около 100 тысяч человек, служили часто одному комфорту, под разными наименованиями, до денщиков включительно: были даже целые конюшенные роты морского ведомства. Охтенские крепостные были освобождены от крепостной зависимости еще в 1859 году, почти одновременно с уничтожением несчастных кантонистов, в конце же периода, в 1879 году, общее число нижних чинов в морском ведомстве вместо прежних 125 тысяч не достигало и 27 тысяч человек, из них почти 94 проц. составляют прямую боевую силу флота и только 6 проц. с небольшим уходит на такую косвенную службу, где вольнонаемные люди были бы неудобны. Береговая команда в 1855 году поглощала сверх 63 тысяч человек, а в конце 1879 г. – ограничивалась 8000. Наличность офицеров в 1855 г. без соответственной надобности для самого флота превышала 3900 человек, а теперь – 3200, главным образом – для прямой морской службы. При начале периода, морская администрация требовала для себя более 1100 чиновников, в настоящее время она состоит из 500 человек с небольшим”.
Дед, родившийся в 1827 году, был вторым сыном императора Николая I и с самого детства был предназначен к морской службе. Когда ему было пять лет, к нему был назначен воспитателем заслуженный моряк Ф.П. Литке (впоследствии граф и президент Академии наук). Литке был очень строг и требователен. Ему в воспитании деда помогал наш знаменитый поэт В.А. Жуковский. Василий Андреевич так сблизился с дедом, что переписывался с ним до самой своей смерти.
Переписка возникла так: каждое воскресенье до обедни дед должен был писать для упражнения письма к окружающим. Когда очередь дошла до Жуковского, то ответ последнего так порадовал деда, что он захотел продолжать переписку с ним.
Жуковский считал, что революция есть “шаг из понедельника в среду” и был против насильственных действий и всецело за реформы. Литке держался того же взгляда, что видно из слов, сказанных дедом Государственному секретарю Е.А. Перетцу: “Благодаря Федору Петровичу Литке я с молодых лет питал уважение к наукам и верил в необходимость поступательного движения на пути просвещения”.
Дед много учился, благодаря чему из него вышел очень образованный человек. Притом он был человеком больших дарований. Но было у него одно качество, которое вредило ему в жизни и создало много врагов: он был горяч, пылок, часто несдержан, по выражению одного из сановников царствования Николая I, это был “паровик”.
Граф В.А. Соллогуб в своих воспоминаниях описал случай с моим дедом: “Государь Николай I каждый вечер играл в карты, партию его составляли приближенные ему сановники или особо отличенные им дипломаты. Государь, как известно, был очень нежный отец и любил, чтобы августейшие его дети окружали его вечером: Цесаревич (Александр Николаевич) тогда уже замечательно красивый юноша, великие княжны Ольга и Мария Николаевна и великий князь Константин Николаевич. Младшие дети оставались во внутренних покоях. Великий князь Константин Николаевич был нрава очень резвого и любил всякого рода шалости. Однажды вечером, после того, как Государь, отпив чай и обойдя по обыкновению всех присутствующих с милостивыми словами, сел за карточный стол, к другому такому же столу, невдалеке стоявшему, подошли четверо из приглашенных Государя, намереваясь также вступить в бой. В ту минуту, когда они, отодвинув стулья, собирались сесть за стол, великий князь Константин Николаевич, тогда еще отрок, проворно подбежал и выдернул стул, на который собирался сесть Иван Матвеевич Толстой (впоследствии граф и министр почт). Толстой грузно упал на ковер и, огорошенный этим падением, поднялся с помощью М.Ю. Виельгорского. Великий князь, смеясь, выбежал из комнаты, но Государь заметил это маленькое происшествие, он положил на стол свои карты и, обращаясь к Императрице, сидевшей невдалеке, возвысив голос для того, чтобы все присутствующие могли расслышать, произнес: “Madamе, levez-vous” [Мадам, встаньте]. Императрица поднялась. “Allons demander pardon а Иван Матвеевич d’avoir si mal e′le′ve′ notre fils! ” [Попросим извинения у Ивана Матвеевича в том, что так плохо воспитали нашего сына.]
6 февраля 1848 г. состоялось обручение деда с моей бабушкою принцессой Александрой Саксен-Альтенбургской. В своем дневнике дед записал, что в 1847 г., когда бабушка направлялась в Россию невестой, государь Николай I приехал встречать ее в Варшаву, где он сделал смотр войскам. Объезжая полки, государь неожиданно остановился перед Волынским уланским полком. Мой дед ехал за государем в свите. Думая, что государь остановился, чтобы “разнести” улан, дед поспешил отъехать, потому что ему бывало не по себе, когда строгий Николай Павлович делал замечания. Но вдруг государь подозвал его к себе и объявил полку о назначении деда его шефом. Во время церемониального марша дед проводил полк перед государем. В своем дневнике он нарисовал себя едущим перед полком.
30 августа 1848 г. состоялась свадьба дедушки и бабушки. В этот день дедушка был произведен в контр-адмиралы, назначен шефом Морского корпуса и командиром лейб-гвардии Финляндского полка, шефом которого он уже состоял. С этого дня Финляндский полк стал чрезвычайно дорог для сердца моей бабушки.
В 1849 г. дед находился в Венгерском походе, участвовал в сражении под Вайценом при устройстве переправы через реку Тиссу и в сражении под Дебречином. От главнокомандующего армией князя Паскевича он получил орден Георгия 4-й степени.
Из этого похода дед писал обстоятельные письма своему отцу. Государь говорил, что именно на основании их он составил себе наиболее полное и верное представление об этой кампании. Свою государственную деятельность дед начал двадцати трех лет в 1850 году, когда был назначен членом государственного Совета и в то же время председателем высочайше утвержденного комитета для составления Морского устава. В 1852 г. он уже представил государю проект этого устава.
Император Александр II сразу по вступлении своем на престол призвал моего деда к фактическому управлению Флотом и Морским министерством на правах министра. Для деда начались годы тяжелого, полного разочарований и огорчений труда, а для флота – светлая заря возрождения. Из парусного он стал паровым, а затем – броненосным. Оба эти перехода были сопряжены с немалыми трудностями. Но благодаря энергии и настойчивости деда, его умению подбирать себе сотрудников эти препятствия были преодолены.
Как известно, дед принимал ближайшее участие в уничтожении в России крепостного права. Еще задолго до объявления манифеста он освободил своих личных крестьян. Вот какую оценку его деятельности дал один из его сотрудников, сенатор, впоследствии член Государственного Совета, П. Семенов-Тян-Шанский. В год смерти моего деда, в 1892 г., он сказал: “Не доживем мы до той поры, когда суд истории и потомство оценят спокойно и беспристрастно всю эту живую и знаменательную эпоху русской истории, но, как свидетели деятельности великого князя Константина Николаевича, скажем мы единогласно, что в осуществлении великого дела обновления России он вносил всю энергию своего высокого ума, всю силу своих выдающихся дарований, всю любовь свою к родной земле”. И далее: “Не забудет Россия, как это всенародно было выражено Царем-Освободителем, и того участия, которое принимал в великом деле освобождения народа великий князь Константин Николаевич, и навсегда свяжут наши потомки его имя с вечной памятью о великом дне 19 февраля 1861 г.”.
В 1862 г. дед был назначен наместником Царства Польского. Император Александр II первоначально хотел назначить своего младшего брата, великого князя Михаила Николаевича, но последний уклонялся, мой же пылкий и увлекающийся дед, наоборот, хотел этого. Оба брата поговорили с государем, и государь согласился назначить в Польшу моего деда.
На второй же день по приезде в Варшаву в него стреляли, и он был ранен, слава Богу – легко. Вот как в своем дневнике от 21 июня он описывает этот случай: “…Потом один в театр Страделла. Не слишком дурно. После второго акта хотел отправиться. Только сел в коляску, выходит из толпы человек, я думал – проситель. Но он приложил револьвер мне к груди в упор и выстрелил. Его тотчас схватили. Оказалось, что пуля пробила пальто, сюртук, галстук, рубашку, ранила меня под ключицей, ушибла кость, но не сломала ее, а тут же остановилась, перепутавшись в снурке от лорнетки с канителью от эполет. Один Бог спас. Я тут же помолился. Какой-то доктор мне сделал первую перевязку. Телеграфировал Саше (император Александр II). Общее остервенение и ужас. (Покушавшийся – Людовик Ярошинский, портной-подмастерье, сандомирский мещанин, 19 лет, должен был произвести покушение еще накануне, в момент приезда деда. Но его остановило присутствие бабушки. Организовано было покушение Игнатием Хиелинским.) В 11 часов в карете с сильным эскортом воротился в Бельведер. Сказал жинке (обычное выражение деда) так, чтобы не было испуга. Дома другая перевязка, и лег. Дрожь скоро прошла. Долго приходили разные донесения и ответный телеграф от Саши. Хорошо спал”.
О последовавшей затем работе деда в Государственном Совете М.И. Семевский замечает: “Есть много свидетелей того непрерывного большого и упорного труда, каковой нес на себе в Государственном Совете великий князь Константин Николаевич. Каждое сколько-нибудь важное дело изучаемо было им лично нередко без посредства докладчика. Занимая председательское место, великий князь всегда приступал к заседанию лишь после тщательного ознакомления со всем тем, что подлежало обсуждению и решению. Вначале его служения на посту председателя Государственного Совета пылкость и страстность характера великого князя несколько порывисто проявлялись, но с течением времени он овладел собой и был вполне на высоте своего положения, быстро усваивая суть обсуждавшихся докладов, личными разъяснениями рассеивая возникавшие вопросы и недоумения, сглаживая оттенки разномыслия и превосходно приводя собрания к единогласным решениям”.
Дед был разносторонний человек и рядом с государственными делами интересовался и русской литературой, и наукой, и музыкой. В своем дневнике от 19 апреля 1862 г. он пишет: “Вечером у меня в кабинете для жинки – Шуберт, Венявский и Кюндингер играли два трио Бетховена. Прелесть, и весь вечерок очень хорошо удался”.
В Петербурге у него играли по пятницам в Белой зале Мраморного дворца несколько музыкантов, бывал и известный виолончелист Вержбилович. Дед играл на виолончели, сидя рядом с ним.
Однажды в Мраморном дворце был большой концерт. Играл оркестр консерватории (дед был президентом Русского музыкального общества). Дед играл на виолончели, отец играл на рояле вместе с оркестром, а герцогиня Елена Георгиевна Мекленбург-Стрелицкая пела.
В 1883 г. дед пишет из Парижа:
“За завтраком была у нас знаменитая пианистка Есипова, которая здесь гостит и приводит своей игрой французов в совершенный восторг. В 2 часа собрались у меня прошлогодние артисты, постоянно со мной по пятницам игравшие, и мы музицировали до половины пятого, и с Есиповой. Сыграли мы три вещи: квартет Моцарта, секстет Мендельсона и квинтет Бетховена. Все это, к нашему удивлению, было Есиповой совершенно неизвестно и ей приходилось играть, что называется, с листа, дешифрировать, что она делала, разумеется, мастерски”.
С особенной ясностью облик деда вырисовывается в обширной, до сих пор неопубликованной переписке 1882–1883 гг. со статс-секретарем А.В. Головниным. Их связывало долголетнее сотрудничество и установившиеся за время этого сотрудничества дружеские отношения.
Когда вчитываешься в эти многочисленные, обширные письма деда из Орианды, Штутгарта, Вены, Венеции, Флоренции, Рима, Ниццы, Парижа, Афин, наглядно, живо ощущаешь его душу, такую благожелательную и простую, ясно видишь его духовный облик, такой многогранный, широкий, отзывчивый на все. Тут, в этих письмах, и религиозные размышления, и крестьянский вопрос, и землеустройство, и вопрос о целесообразности парламентского строя, резкое осуждение революционных настроений и действий, и одновременно признание и отрицательных явлений в самодержавной России, неустанные заботы и мысли о родном флоте, и любовь к искусству и литературе, дружба с И.С. Тургеневым, и астрономия, и география, и археология, и даже эпиграфика.
При всем этом перед нами из этих писем встает не просто любитель, интересующийся разнообразными вопросами, – это разносторонне образованный человек, имеющий на все свой собственный, в рамках знаний и разумности, самостоятельный взгляд и, что главное, имевший смелость подчеркивать эту самостоятельность даже тогда, когда она явно расходилась с мнением влиятельных кругов, безразлично – правительственных или общественных.
Я позволю себе привести здесь несколько кратких выдержек из этой обширной переписки:
Париж, 4 февраля 1882 г.
“Тургеневу, кажется, у меня понравилось, потому что он уехал в 12-м часу. Все время разговор был такой оживленный, что о каком-либо чтении не приходилось даже и заикаться. Жаль было бы променять на оное наш разговор. И разговор был в высшей степени приятный, натуральный, не то, чтоб один только Тургенев все время разглагольствовал и был как бы на сцене, как бы эксплуатированный нами. Нет, разговор был совершенно общий, все в нем принимали участие, и Тургенев, никем не эксплуатируемый, играл в нем совершенно натурально – преобладающую и главную роль. Много интересного он рассказывал о своей жизни, из своих наблюдений. Особенно интересны были его рассказы, как в 1852 г. его засадили на месяц в Казанскую часть за письмо о смерти Гоголя и как ему здесь (в Париже) на днях пришлось таскаться по разным мытарствам, канцелярским, чиновничьим и полицейским, чтобы добиться разрешения для выставки картин наших художников. Все это он рассказывает так умно, так живо, как будто в лицах, так что видишь все в живой картине перед собой. Время прошло прелестно и совсем незаметно и оставило всем неизгладимое воспоминание”.
Париж, 22 февраля 1882 г.
“В письме твоем я встретил, как слух, мысль, которая совершенно сходится с моей старой и задушевной мыслью насчет Петропавловской крепости. Меня всегда коробила мысль, что Царская усыпальница окружена тюрьмами. Как сравнить Петропавловский собор среди тюремной крепости с Архангельским собором среди Кремля? Моя мысль именно состояла в том, чтобы тюрьмы заменить богадельными и инвалидными домами. Ты к этому прибавляешь мысль устроить succursale [филиал] Невской Лавры. И это весьма хорошо, но интересно знать, действительно ли этим занимаются или это просто слух?”
Орианда, 17 июня 1882 г.
“Все эти места по Черноморскому прибрежью суть чудный, благодатный материал, но имеют только будущность перед собой, настоящего не имеют за совершенным отсутствием рабочих рук и способов сообщения. Эти места были густо заселены горцами и весьма тщательно возделаны, так что они питали весьма крупное население. После же окончания войны и полного покорения Кавказа они обратились в непроходимую глушь, заселенную одними кабанами и медведями. Я никогда не мог понять Кавказского начальства, которое с самого 1864 г. постоянно поощряло выселение туземцев в Турцию, стремилось к совершенному обезлюдению этих богатых местностей. Что не эмигрировало в Турцию (и там, кажется, совершенно сгибло), то было принуждено выселиться в самые высокие, неприступные горы. Когда этому оставшемуся скудному населению стало невмоготу жить в горах, то стали их селить в равнинах, по северную сторону хребта и в Кубанской области, на Черноморское же прибрежье никого не пускали, наложив на него какое-то странное и непонятное табу…
Тут жило прежде воинственное племя убыхов. Не выселившаяся в Турцию часть этих убыхов ушла в горы неприступные и проживала там охотой за куницами. Когда им стало там невмоготу, они стали проситься на свои старые места. Кавказское начальство не соглашалось и поселило их около Майкопа, на северном склоне хребта, к стороне Кубани. Получили они, правда, хорошие земли, но их все тянуло назад, на любезное им Черноморское побережье. Хотя Кубанские земли были и плодородны, и хлебопашество доставляло им безбедное существование, но эта жизнь была им не по нутру, или они не могли с ней свыкнуться и еще менее с нашими чиновниками и административными порядками. Они как-то узнали, что их старые земли на Черноморском берегу принадлежат теперь мне, и в прошлом году обратились ко мне с просьбой о позволении воротиться на свои старые пепелища. Эта просьба пришлась мне по сердцу, и в прошлом же году, когда я на “Ливадии” ходил за братом Михаилом в Батум, это дело было, наконец, обделано и мы добыли у Кавказского начальства согласие на их переселение ко мне. Убыхи теперь очень довольны”.
Париж, 15 января 1883 г.
“Вчера я весь день от 2 до 8 1/2 час. просидел в Палате Депутатов, в заседании, в котором пало министерство Гамбетты. С одной стороны, это было страшно утомительно, потому что сиденье короткое и неловкое на скамейке и невозможно вытянуть ног, так что просто судороги делались в коленях от 6-часового скорченного сиденья (а я сидел в трибуне Президента Республики), но, с другой стороны, это было несказанно интересно и выкупало все утомление. В заседании декорума дисциплины нет никакой. Когда говорили депутаты неинтересные, то происходил шум и гам, более, чем неприличные. Депутаты вели себя, как школьники, вставали, гуляли, разговаривали, шумели, ножиками стучали по столам. Председатель, несмотря на все свое старание, никак всего этого неприличия остановить не мог. Из подобных речей мы не слышали ни слова и узнали про них только сегодня по стенографическим отчетам. Когда же говорил Гамбетта, внимание было большое и его хорошо было слышно. Он произнес речь великолепную, одну из самых красноречивых во всей его жизни. Несколько раз были единодушные взрывы аплодисментов. И все-таки он пал. У него огромное большинство в Палате, и это большинство, несмотря на всю симпатию к нему, от него отказалось, за ним не пошло, и он пал. Произошло это от того, что вопрос был поставлен на невыгодной почве. Речь шла о полной или частичной ревизии конституции и о способе избрания депутатов (scrutin d’arrondissement ou de liste – по административному признаку или по спискам). Принятие scrutin de liste было бы самоубийством теперешних депутатов. На это у них не хватило гражданского мужества, эгоизм превозмог. Большинство захотело себя самих спасти, и Гамбетта пал, хотя видно было, какою огромною симпатиею он пользуется; но пал благородно, великолепно, достойно”.
Париж, 8 февраля 1883 г.
“Посетил я бедного Ив. Серг. Тургенева. Операция удалась превосходно, но он опять, бедный, невыразимо страшно страдает своим старым недугом – грудной жабой, болезнью неизлечимой, от которой он может когда-нибудь совершенно неожиданно вдруг умереть. Ужасно его жаль”.
Афины, 9 марта 1883 г.
“В воскресенье после обедни мы отправились на мыс Фемистокла и вернулись оттуда к 6 часам. Мыс этот есть продолжение левого берега Пирея (если смотреть с материка), выдающегося в море и загибающегося потом далее еще налево к Мунихии и Фалеру, двум древним гаваням Афин. Назван он именем Фемистокла потому, что, по преданию и описанию Павзания, он был на этом мысу похоронен, что вполне вероятно. Действительно, место для этого выбрано превосходно, потому что оно находится как раз против Саламина, места его знаменитой победы над Персидским флотом Ксеркса, в расстоянии не более трех или четырех миль.
…Местность эта подарена несколько лет тому назад королю городом Пиреем. Начинается она непосредственно от той древней могилы, на оконечности которой стоял тот знаменитый Пирейский мраморный лев, который теперь в Венеции у ворот арсенала и покрыт руническими надписями. Здесь он заменен теперь портовым цветным огнем. На этом мысу король старается развести теперь сад, что, однако, плохо удается по причине скалистой почвы, отсутствия пресной воды и близости морской воды.
…Вторая прогулка была в понедельник. В этот день мы осматривали театр, открытый под Акрополисом лет 20 тому назад, но уже после нашего пребывания здесь в 1859 г. Он находится по южную сторону Акрополиса, у самого его подножия, так что сиденья, расположенные полукругом в виде амфитеатра, высечены в самом косогоре южного склона Акрополиса. На этот раз и самая неверующая нигилистическая критика германцев, все уничтожающая и ничего не созидающая, принуждена была спустить флаг и признать, что это есть, действительно, тот знаменитый театр цветущего времени Афин пятого века, современный блестящей эпохе Перикла, на котором происходили представления трагедий Еврипида и Софокла и комедий Аристофана.
…Поразительнее же всего то, что мы теперь бы назвали первым рядом кресел. Это действительно суть мраморные кресла со спинками и с некоторым выемом для более ловкого сиденья. Так как сидеть на голом мраморе было бы холодно и, вероятно, нездорово, то на эти кресла накладывались подушечки или тюфячки; и теперь еще прекрасно сохранились в передней части сиденья сквозные небольшие дыры, через которые снурками эти подушечки привязывались к мрамору, дабы они не съезжали и не двигались. Но что еще интереснее – это что на каждом кресле под сиденьем находятся высеченные в мраморе надписи о том, кому кресло предназначалось… Первый ряд кресел был весь от края до края занят жрецами тогдашних богов. Надписи эти означают должности, которым места принадлежат, как у нас кресла генерал-губернатора, обер-полицмейстера и т. д.”.
Афины, 21 марта 1883 г.
“Познакомился я с известным Шлиманом, открывшим развалины Трои и могилы в Микене, подле Аргоса, которые наделали так много шума и возбудили столько споров во всем ученом мире. Он очень оригинальная личность. Был он сперва купцом и долго проживал, лет 30 тому назад, в Петербурге, занимаясь торговлею индиго en gros [оптом]. В 1848 г. он даже был в Зимнем Дворце, в фельдмаршальском зале, на моей свадьбе в числе приглашенного почетного купечества. И теперь он еще не забыл по-русски. Нажив весьма порядочное состояние, он вздумал сделаться ученым, археологом, научился древнегреческому языку и отправился на Восток делать археологические раскопки. Он, должно быть, действительно, обладает каким-нибудь удивительным археологическим чутьем и имел неимоверное счастье. Его раскопки и в Трояде, и в Арголиде увенчались неожиданным успехом, и его имя сделалось известным всему ученому миру и возбудило общее внимание и интерес”.
Конечно, было бы трудно не согласиться с тем, что дед был одним из культурнейших людей своего времени, а по моему мнению, – и самым умным и образованным из лиц императорской фамилии. Он верил в прогресс и всегда смотрел вперед, что многим в России тогда было непонятно и недоступно.
Я слышал от матушки, что дед хотел, чтобы мой отец и дяденька (великий князь Дмитрий Константинович) поступили в Московский университет, но, к сожалению, поступить в университет им не удалось. К этому оказалось слишком много препятствий, а главное – желание деда расходилось с придворными взглядами того времени. Если брату Олегу нелегко было поступить в 1910 г. в Александровский лицей, то что же говорить о моем отце и дяденьке!
Но при всех положительных качествах, у деда был тяжелый и резкий характер, и потому многие его не любили. К сожалению, в их числе был и сам император Александр III, с которым, как я слышал, дед порой обращался резко, когда тот был наследником.
С воцарением императора Александра III окончилась государственная служба деда, которую он добросовестно нес в продолжение тридцати семи лет. С тех пор он почти всегда жил в своем имении Орианда, на южном берегу Крыма. Иной раз уезжал за границу, а также наезжал в Петербург и Павловск.
Помню, как в Павловске, в детстве, нас с моим старшим братом Иоанчиком приводили к деду здороваться по утрам, когда он пил кофе. Он давал нам кусочки сахара, предварительно опуская их в кофе и называл меня “совушкой”, потому что я моргал глазами. Когда мне было года два, деда разбил паралич. У него отнялась левая сторона и он, бедный, лишился речи. Его возили кататься в шарабанчике, запряженном лошадью Мишкой. Мишка шел шагом, а рядом шли управляющий двором деда генерал П.Е. Кеппен, дедушкины адъютанты и доктора, а иной раз – мы с Иоанчиком.
Так как дед был шефом лейб-гвардии Финляндского полка и Гвардейского экипажа, то знамена этих частей стояли в Мраморном дворце в специально сделанных для них гнездах. После кончины деда знамена унесли. Когда знамена уносили, бабушка пришла проститься с ними. Привели и нас с Иоанчиком. У бабушки тогда болели глаза, поэтому красные портьеры были закрыты и в комнате стоял полумрак. Вошли адъютанты Финляндского полка и Гвардейского экипажа со знаменщиками, и знамена, стоявшие в нашем доме в продолжение стольких лет, были унесены.
Русский императорский Флот не забыл своего генерал-адмирала. На представление морского министра последовало 22 ноября 1913 года соизволение государя императора на сооружение памятника великому князю Константину Николаевичу в одном из военных портов – базе или столице. К сожалению, памятник поставлен не был, так как в 1914 г. началась война, а затем вспыхнула революция.
В 1931 г. русские эмигранты в Париже почтили память великого князя генерал-фельдмаршала Николая Николаевича Старшего, по случаю 100-летия со дня его рождения, а в 1932 г. – память великого князя Михаила Николаевича, генерал-фельдмаршала и генерал-фельдцейхмейстера, также по случаю столетия со дня его рождения.
В 1927 г. исполнилось сто лет со дня рождения великого князя генерал-адмирала Константина Николаевича, но о нем не вспомнили. Надеюсь, что в будущем вспомнит о нем Россия.
Судьба лиц императорской фамилии после революции 1917–1918 гг. (Справка к 1 июля 1953 г.)
Государь император Николай II отрекся 2 марта 1917 г. от престола за себя и за наследника цесаревича Алексея Николаевича, передав престол своему брату великому князю Михаилу Александровичу.
Из Ставки главнокомандующего в Могилеве государь был 8 марта перевезен в Царское Село уже в качестве арестованного, по распоряжению Временного правительства от 7 марта, причем это было ему объявлено начальником штаба Ставки генералом Алексеевым в вагоне, перед самой отправкой поезда; сделано это было по поручению прибывших тогда в Могилев и возвращавшихся в том же поезде членов Государственной Думы Бубликова, Вершинина, Грибунина и Калинина.
По прибытии в Царское Село государь был оставлен у себя в Александровском дворце вместе с арестованными того же 8 марта императрицей Александрой Федоровной и их детьми: цесаревичем Алексеем Николаевичем и великими княжнами: Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией Николаевными.
В августе 1917 года царская семья была перевезена в Тобольск. Ранней весной 1918 г. их увезли в Екатеринбург, где в ночь с 16 на 17 июля все они были зверски убиты большевиками, а их тела сожжены в шахте близ деревни “Коптяки”, в урочище “Четырех Братьев”, в 25 верстах от Екатеринбурга.
Великий князь Михаил Александрович, не приняв престола, жил у себя в Гатчине. В августе 1917 г. он был арестован Временным правительством, но затем освобожден. В феврале 1918 г. большевики сослали его в Пермь. В ночь с 12 на 13 июля Михаила Александровича с его секретарем Николаем Николаевичем Джонсоном большевики увезли в соседний с Пермью Мотовилихинский завод, где они оба и были убиты.
Вдова великого князя Михаила Александровича княгиня Н.С. Брасова проживала в эмиграции, в последнее время в Париже, где и умерла в 1952 г. в крайней бедности на больничной койке. Незадолго до Второй мировой войны ее постигло новое тяжкое горе: трагическая смерть единственного сына Георгия, погибшего при автомобильной катастрофе.
Великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, а также князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и с ними князь Владимир Павлович Палей, сын великого князя Павла Александровича от его брака с княгиней Ольгой Валерьяновной Палей, были ранней весной 1918 г. сосланы в Вятку, а затем в Екатеринбург. Летом 1918 г. короткое время содержались в г. Алапаевске Верхотурского уезда Пермской губернии. В ночь на 18 июля их всех повезли из Алапаевска по дороге в Синячиху. Вблизи этой дороги были старые шахты. В одну из них их сбросили живыми, кроме великого князя Сергея Михайловича, который был убит пулей в голову, а его тело сброшено тоже в шахту. Затем шахта была забросана гранатами. Следственная экспертиза потом установила, что смерть узников произошла главным образом от полученных ими при сбрасывании в шахту кровоизлияний.
В первые месяцы большевистской революции великого князя Павла Александровича, больного, не трогали, и он жил со своей семьей в Царском Селе. В конце лета 1918 г. его арестовали и посадили в Дом предварительного заключения в Петрограде. Великий князь Дмитрий Константинович и великие князья Николай и Георгий Михайловичи, сосланные зимой 1918 г. в Вологду, где пользовались относительной свободой, в конце лета 1918 г. были также арестованы и перевезены в Петроград и, как и Павел Александрович, посажены в Дом предварительного заключения. В январе 1919 г. все они были расстреляны в Петропавловской крепости и там же похоронены во дворе.
После трагической кончины великого князя Павла Александровича его вдове княгине О.В. Палей с дочерьми удалось перебраться в Финляндию, откуда они уехали во Францию, где она и скончалась.
Сын великого князя Павла Александровича от первого брака, великий князь Дмитрий Павлович, после убийства Распутина, в заговоре против которого он принимал участие, был в конце декабря 1916 г. сослан в Персию, в отряд генерала Баратова. Когда вспыхнула революция, он перешел на английскую службу в Персии; затем, оставив службу, сперва поселился в Лондоне, а потом переехал во Францию и жил в Париже. В 1926 году он женился в Биаррице на Одри Емери, американке, перешедшей в православие и получившей титул светлейшей княгини Романовской-Ильинской. В 1927 г. у них родился сын Павел, получивший титул светлейшего князя Романовского-Ильинского. Он живет в Соединенных Штатах.
В 1939 г. Дмитрий Павлович заболел туберкулезом и уехал в Швейцарию, в санаторию Шатцальп, над Давосом. Он поправился от туберкулеза, но неожиданно скончался от уремии 2 марта 1942 г.
Дочь великого князя Павла Александровича (также от первого брака) великая княгиня Мария Павловна (Младшая) была сестрой милосердия в Пскове, когда вспыхнула революция. В августе 1917 г. она вторично вышла замуж за капитана лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии полка князя Сергея Михайловича Путятина. В 1918 г. Марии Павловне с мужем удалось перебраться через границу. Они жили в Англии и Франции. Мария Павловна переехала затем в Соединенные Штаты, а оттуда в Аргентину, где живет и сейчас, в Буэнос-Айресе.
Вдовствующая императрица Мария Федоровна жила в 1917 г. в Киеве, где ее и застала революция. Она ездила в Ставку, в Могилев, повидаться с государем и простилась с ним, увы, навсегда. Затем императрица уехала на Южный берег Крыма и поселилась в имении Ай-Тодор у великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Там же жили и сыновья последних: князья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав и Василий Александровичи. Их дочь княгиня Ирина Александровна со своим мужем князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым и с их малолетней дочерью Ириной жили тоже в Крыму, по соседству от Ай-Тодора, в их имении Кореиз.
Затем, в 1918 г., императрица Мария Федоровна, великий князь Александр Михайлович, великая княгиня Ксения Александровна и их сыновья подверглись домашнему аресту, были переведены в Дюльбер, имение великого князя Петра Николаевича, который тоже был там арестован со своей семьей. Княгиня Ирина Александровна не была арестована. Там же, в Дюльбере, который находился вблизи Ай-Тодора, были арестованы великий князь Николай Николаевич со своей супругой великой княгиней Анастасией Николаевной и ее сыном князем Сергеем Георгиевичем Романовским, герцогом Лейхтенбергским.
Все они находились под большевистской стражей и не были убиты лишь благодаря преданности, уму и ловкости начальника стражи моряка Задорожного, который лишь прикинулся большевиком.
По миновании опасности императрица Мария Федоровна переехала в имение великого князя Георгия Михайловича Харакс, рядом с Ай-Тодором. Ее охранял конвой из белых офицеров. Великая княгиня Ксения Александровна с семьей вернулась к себе в Ай-Тодор. Великих князей Николая Николаевича и Петра Николаевича с их семействами в Дюльбере охраняли также белые офицеры.
Весной 1919 г., когда большевики подходили к Крыму, английский король предоставил в распоряжение императрицы Марии Федоровны дредноут “Мальборо”, чтобы уехать из России. Но императрица согласилась на это лишь под условием, чтобы и все, кому угрожала в Крыму опасность, тоже были эвакуированы. Союзники прислали за ними свои корабли, и таким образом лишь благодаря императрице Марии Федоровне они были спасены.
Императрица Мария Федоровна проехала, остановившись на короткое время на острове Мальта, в Англию. За исключением коротких пребываний в Англии, у своей сестры, вдовствующей королевы Александры, императрица прожила остаток своей жизни в родной Дании и скончалась 14 октября 1928 г. на своей даче в Хвидере, в окрестностях Копенгагена. Она похоронена в королевской усыпальнице в Дании.
Вместе с императрицей Марией Федоровной, с 1920 года, проживала со своей семьей ее дочь великая княгиня Ольга Александровна, вышедшая в 1916 году замуж за полковника Куликовского. По смерти императрицы ими была приобретена возле Копенгагена ферма, где они занялись сельским хозяйством. В последнее время переехали в Канаду.
У них два сына: Тихон и Гурий, оба получившие образование в Русской гимназии в Париже.
Когда вспыхнула революция, великая княгиня Мария Павловна и великий князь Андрей Владимирович были в Кисловодске. Андрей Владимирович командовал в то время лейб-гвардии конной артиллерией и был в отпуску.
Летом 1917 г. к ним приехал великий князь Борис Владимирович, освобожденный из-под ареста. В марте 1917 г., как только вспыхнула революция, Борис Владимирович, бывший тогда походным атаманом, был арестован Временным правительством в своем доме в Царском Селе и до лета находился под стражей.
Одно время великие князья Борис и Андрей Владимировичи были арестованы большевиками в 1918 г., но очень скоро освобождены. Им также пришлось спасаться от большевиков в горы, и они жили в ауле Конова. Когда опасность миновала, вернулись в Кисловодск.
Когда Кисловодск был на короткое время освобожден от большевиков отрядом генерала Шкуро, великая княгиня Мария Павловна уехала с сыновьями в Анапу.
Борис Владимирович покинул Россию в 1919 г. и через Константинополь проехал в Париж. Из Парижа он поехал в Италию, в Сан-Ремо, и женился там на Зинаиде Сергеевне Елисеевой, урожденной Рашевской, дочери инженерного полковника Рашевского, убитого одновременно с известным генералом Кондратенко в Порт-Артуре. Вскоре Борис Владимирович снова вернулся во Францию и жил там до своей смерти, то есть до 8 ноября 1943 г. Он похоронен в Контрексевилле.
Великая княгиня Мария Павловна и великий князь Андрей Владимирович не желали покидать Россию и в мае 1919 г. снова вернулись в Кисловодск. Когда больше нельзя было, не рискуя собственной жизнью, оставаться в России, Мария Павловна и Андрей Владимирович покинули Кисловодск, проехали в Новороссийск, а оттуда на юг Франции. Из Канн Мария Павловна поехала в Швейцарию, в Цюрих, на свидание со своим старшим сыном великим князем Кириллом Владимировичем и его семьей.
Там же, в Цюрихе, были в то время великая княгиня Елена Владимировна с семьей и великая княгиня Мария Александровна, герцогиня Кобург-Готская, единственная дочь императора Александра II. Она не видела русской революции, живя в своем Кобург-Готском герцогстве, в Кобурге. Скончалась она в Цюрихе 14 октября 1920 г.
Из Швейцарии великая княгиня Мария Павловна поехала снова во Францию в Контрексевилль для лечения и там скончалась 6 сентября 1920 г. Она похоронена в местной русской православной церкви, выстроенной по ее инициативе. Рядом с ней впоследствии, в 1943 г., похоронен и великий князь Борис Владимирович.
Великий князь Кирилл Владимирович, когда вспыхнула революция, жил в Петрограде и командовал Гвардейским экипажем. Летом 1917 г. он со своей супругой великой княгиней Викторией Федоровной и двумя малолетними дочерьми, княжнами Марией и Кирой Кирилловнами, переехали в Финляндию, в имение Эттер, Хайко, возле города Борго. 30 августа 1917 г. у них в Борго родился сын князь Владимир Кириллович, нынешний глава Русского Императорского дома. В 1924 г. великий князь Владимир Кириллович был возведен своим отцом в великокняжеское достоинство так же, как и его сестры, и стал называться наследником-цесаревичем. В августе 1948 г. он женился на княжне Леониде Георгиевне Багратион-Мухранской и как глава Императорского дома возвел ее в великокняжеское достоинство.
В 1920 г. Кирилл Владимирович с семьей поехал в Швейцарию на свидание с великой княгиней Марией Павловной и бывшими там родственниками. Из Швейцарии они переехали в Кобург, где у великой княгини Виктории Федоровны был собственный дом. Затем они переехали во Францию в Сен-Бриак, в Бретани, где купили небольшое имение. В 1922 г. Кирилл Владимирович, как старший член Русского Императорского дома, принял звание блюстителя Русского Императорского престола, а в 1924 г. титул русского императора.
Великая княгиня Виктория Федоровна приняла в 1924 г. титул государыни императрицы. Она скончалась 2 марта 1936 г. в Аморбахе в Германии от воспаления легких и похоронена в Кобурге в семейной усыпальнице герцогов Кобург-Готских.
Великий князь Кирилл Владимирович скончался в Париже 12 октября 1938 г. от склероза и также похоронен в Кобурге, в одной усыпальнице с Викторией Федоровной.
Великая княжна Мария Кирилловна вышла 24 ноября 1925 г. в Кобурге замуж за принца Карла Лейнингенского. У них было шестеро детей. Принц Карл попался в плен Красной армии во время войны 1939–1945 гг. и скончался в плену от голодного тифа. Великая княгиня Мария Кирилловна скончалась в Мадриде 27 октября 1952 г. от грудной жабы и похоронена в Лейнингене.
Великая княжна Кира Кирилловна вышла 2 мая 1938 г. замуж за второго сына германского кронпринца Фридриха-Вильгельма и кронпринцессы Цецилии принца Людовика-Фердинанда Прусского. У них семеро детей и семья живет по-прежнему в Германии, в Бремен-Дорсфельд-Вуменхоф.
Великий князь Андрей Владимирович женился 17/30 января 1921 г. в Каннах на известной балерине императорского русского балета Матильде Феликсовне Кшесинской. Великий князь Кирилл Владимирович как глава Императорского дома пожаловал ей титул светлейшей княгини Романовской-Красинской. 27 ноября 1925 г. княгиня Красинская перешла в православие и наречена Марией.
Сын великого князя Андрея Владимировича и княгини Красинской Владимир Андреевич получил от великого князя Кирилла Владимировича титул светлейшего князя Романовского-Красинского, а теперь именуется светлейшим князем Романовым.
Великий князь Андрей Владимирович с семьей жили в Кап д’Ай до 1929 г., откуда переехали в Париж, где проживают и сейчас.
Вдова великого князя Константина Константиновича великая княгиня Елисавета Маврикиевна в начале революции жила у себя в Мраморном дворце со своими младшими детьми: князем Георгием Константиновичем и княжной Верой Константиновной. Когда большевики захватили власть, она принуждена была покинуть Мраморный дворец и поселилась на Дворцовой набережной, в доме Жеребцова. В ноябре 1918 года она уехала на пароходе в Стокгольм к шведским королю и королеве вместе с князем Георгием Константиновичем, княжной Верой Константиновной и детьми князя Иоанна Константиновича и княгини Елены Петровны: князем Всеволодом Иоанновичем и княжной Екатериной Иоанновной.
Из Стокгольма великая княгиня Елисавета Маврикиевна переехала в Брюссель с Георгием и Верой, а оттуда в Германию, на свою родину, в город Альтенбург близ Лейпцига, где и скончалась 24 марта 1927 г.
Княгиня Елена Петровна, не будучи сама арестованной, сопровождала своего мужа князя Иоанна Константиновича в ссылку, причем дети оставались на попечении их бабушки великой княгини Елисаветы Маврикиевны. За несколько дней до убийства алапаевских узников Елена Петровна уехала обратно в Петроград, чтобы навестить своих детей. По дороге ее арестовали и заключили в тюрьму в Перми, откуда она освободилась только в 1919 г.
Ей удалось, хотя и с большими трудностями, уехать в Швецию, где в это время находилась великая княгиня Елисавета Маврикиевна. Затем Елена Петровна с детьми уехала в Сербию, оттуда во Францию и, наконец, в Англию, где дети получили образование. В настоящее время Елена Петровна проживает в Риме.
Князь Всеволод Иоаннович женился в 1939 г. на англичанке Мэри Лигон, принявшей до свадьбы православие.
Княжна Екатерина Иоанновна вышла в 1937 году замуж за маркиза Фераче – итальянца.
Княгиня Татиана Константиновна, княгиня Багратион-Мухранская, не будучи сама арестованной, сопровождала своего дядю великого князя Дмитрия Константиновича в ссылку в Вологду вместе со своими малолетними детьми: князем Теймуразом и княжной Наталией Багратион-Мухранскими. Когда великого князя Дмитрия Константиновича перевезли в Петроград и посадили в Дом предварительного заключения, она сама поселилась в Петрограде на частной квартире. Оттуда осенью 1918 года с детьми, в сопровождении управляющего делами великого князя Дмитрия Константиновича полковника Александра Васильевича Короченцова, переехала в Киев, из Киева в Одессу, а оттуда в Румынию. Пробыв некоторое время в Румынии, она переехала в Швейцарию, где жила до 1946 года. В 1920 году она вышла вторично замуж за полковника Короченцова. Он умер от последствий дифтерита в 1921 г.
В 1946 году княгиня Татиана Константиновна постриглась в Женеве в монахини, приняв имя Тамары, и уехала в Иерусалим. Сейчас она настоятельница русского Елеонского женского монастыря в Иерусалиме.
Князь Георгий Константинович уехал из Брюсселя в Швейцарию, оттуда в Англию, а затем в Нью-Йорк. Всюду работал. Умер в ноябре 1937 г. в Нью-Йорке после операции аппендицита.
Княжна Вера Константиновна после смерти своей матери великой княгини Елисаветы Маврикиевны поселилась в Лондоне, но прожила там недолго и снова вернулась в Альтенбург. Перед приходом туда большевиков перебралась в Гамбург, откуда в 1951 г. переехала в Нью-Йорк.
Сестра великого князя Константина Константиновича королева эллинов Ольга Константиновна была в России, когда началась война 1914–1918 гг. Она работала в Павловске, в госпитале, ухаживая за ранеными. В Павловске же ее застала революция. Она не хотела уезжать из России и покинула ее лишь в 1918 г., потому что ее сын, греческий король Константин, смещенный с престола союзниками и живший в Швейцарии, заболел.
В 1920 г. скончался ее внук – греческий король Александр. После его смерти королева Ольга Константиновна стала регентшей Греции, пока король Константин не приехал снова в Грецию.
После отречения короля Константина она жила во Франции и в Англии, а затем поселилась в Риме у своего младшего сына принца Христофора. Она скончалась в Риме в 1926 г.
Великий князь Александр Михайлович уехал из России со своим старшим сыном князем Андреем Александровичем и его супругой еще до общей эвакуации Крыма и направился в Париж, чтобы защищать интересы России перед союзниками: как раз в это время проходила мирная конференция в Версале. Но союзники великому князю не вняли. Великий князь Александр Михайлович остался жить в Париже и скончался в Ментоне, где и похоронен.
Князь Андрей Александрович с женой сперва жил во Франции, а затем в Англии. У них трое детей: Ксения, Михаил и Андрей. Его супруга, княгиня Елизавета Фабрициевна, скончалась в Хемтон-Корте, близ Лондона в 1940 г., а князь Андрей Александрович женился вторично на Надин Дугал. Он живет в Англии и от второго брака имеет дочь Ольгу.
Великая княгиня Ксения Александровна поселилась сперва в Лондоне со своими остальными сыновьями. Затем английский король Георг V предоставил ей Фрогмор-коттедж в Виндзоре, а теперь она живет в окрестностях Лондона в Хемтон-Корт, в доме, предоставленном ей королем Эдуардом VIII.
Князь Федор Александрович женился в 1923 г. на дочери великого князя Павла Александровича и княгини О.В. Палей княжне Ирине Павловне. У них сын Михаил Федорович Романов. Теперь князь Федор Александрович живет во Франции у своей сестры Ирины Александровны, княгини Юсуповой.
Князь Никита Александрович женился в 1922 г. на графине Марии Илларионовне Воронцовой-Дашковой. У них два сына: Никита и Александр. Они жили то во Франции, то в Англии. Когда началась война 1939–1945 гг., переехали в Рим, затем в Чехословакию. Оттуда во время наступления большевиков перебрались в Германию, много пережив тяжелого. Из Германии переехали во Францию, а теперь живут в Калифорнии. Князь Никита Александрович преподает русский язык и русскую историю в Монтерее. Никита Никитович учится в университете в Калифорнии, а Александр Никитович – в университете в Нью-Йорке.
Князь Дмитрий Александрович, живущий в Париже и служащий в одной торговой фирме, женился на графине Марине Сергеевне Голенищевой-Кутузовой. У них дочь Надежда.
Князь Ростислав Александрович, живущий в Англии, от двух браков (первый раз на княжне Александре Павловне Голицыной, а второй на Алис Бакер) имеет двух сыновей: от первого – Ростислава, от другого – Николая.
Князь Василий Александрович живет и работает в Калифорнии, в Сан-Франциско; женат на княжне Наталии Александровне Голицыной. У них дочь Марина.
Сын великого князя Михаила Николаевича (внук императора Николая I) великий князь Михаил Михайлович с супругой графиней Торби и детьми: графом Михаилом Торби и дочерьми Анастасией и Надеждой, графинями Торби – всегда жили за границей, в Англии и во Франции, и революции не видели.
Михаил Михайлович скончался в 1929 г., лишь ненадолго пережив свою жену.
Жена другого сына Михаила Николаевича, великого князя Георгия Михайловича, великая княгиня Мария Георгиевна, рожденная греческая принцесса, была во время войны 1914–1918 годов в Англии с дочерьми, княжнами Ниной и Ксенией Георгиевнами. Они тоже не видели революции. Великая княгиня Мария Георгиевна в 1922 г. вышла вторично замуж за греческого офицера капитана 2-го ранга Перикла Иоанидиса и, таким образом, перестала быть великой княгиней, но осталась греческой принцессой. Она скончалась в Греции в 1940 г.
Княжна Ксения Георгиевна в 1921 г. вышла замуж за американца Лидза. От этого брака у нее дочь Нанси. Затем развелась с Лидзом и вышла замуж за американца Германа Джан. Они живут под Нью-Йорком.
Княжна Нина Георгиевна вышла в 1922 г. замуж за князя Павла Александровича Чавчавадзе. Они живут в Вельфлут, Кап-Код, в Северной Америке. У них сын Давид.
Дочь великого князя Михаила Николаевича великая княгиня Анастасия Михайловна, вдовствующая великая герцогиня Мекленбург-Шверинская, жила постоянно во Франции. Во время войны в 1914–1918 гг. она была в Швейцарии, затем снова вернулась во Францию и скончалась у себя в Эз на юге Франции в 1922 г.
Великие князья Николай и Петр Николаевичи с семействами дошли с императрицей Марией Федоровной на дредноуте “Мальборо” до Принкипо, где пересели на “Лорд Нельсон” и высадились в Генуе. Сперва они жили в Италии, затем переехали на юг Франции, в Антиб. Из Антиба великий князь Николай Николаевич и великая княгиня Анастасия Николаевна переехали под Париж, в Шуаньи. Великий князь Николай Николаевич скончался в Антибе в 1929 г. Великая княгиня Анастасия Николаевна скончалась там же в 1935 г.
Сын великой княгини Анастасии Николаевны князь Сергей Георгиевич Романовский герцог Лейхтенбергский вернулся из Италии в Добровольческую армию, откуда принужден был уехать по политическим причинам.
Он возвратился затем снова в Италию, где проживает и до сих пор.
Дочь великой княгини Анастасии Николаевны графиня Тышкевич с мужем проживали то в Польше, то в Италии.
Великий князь Петр Николаевич по переезде из Италии на юг Франции, в Антиб, купил себе там имение, где и скончался в 1931 г.
Сын его князь Роман Петрович, живущий теперь в Италии, женился в 1921 г. на графине Прасковье Дмитриевне Шереметевой. У них два сына: Николай и Дмитрий.
Вдова Петра Николаевича великая княгиня Милица Николаевна перед Второй мировой войной переехала с сыном Романом Петровичем и его семьей в Италию (покойный итальянский король Эммануил III – муж ее младший сестры Елены), откуда после отречения короля уехала в Египет, где и скончалась в 1951 г.
Старшая дочь Петра Николаевича Марина Петровна замужем за князем А.Н. Голицыным и проживает во Франции, возле Тулона.
Младшая дочь Надежда Петровна в 1917 г. после революции вышла замуж за князя Н.В. Орлова. У них две дочери: Ирина и Ксения.
Князь Александр Георгиевич Романовский герцог Лейхтенбергский находился во время начала революции в 1917 г. в Петрограде. В апреле того же года он женился на Надежде Николаевне Каралли, затем продал свой дом в Петрограде и купил имение в Финляндии, куда перевез все свои вещи. Дом в Финляндии сгорел, но вещи удалось спасти. Александр Георгиевич переехал во Францию, жил с женой в Париже и Биаррице; затем он открыл пансион для детей в Салис де Беарн, подле Биаррица. Скончался в Салис до Беарн в 1942 году.
Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, рожденная княжна Романовская герцогиня Лейхтенбергская, внучка императора Николая I, дочь великой княгини Марии Николаевны, разбитая параличом, проживала в Петрограде. В самом начале революции она была перевезена в Финляндию, а затем во Францию, где в Биаррице и скончалась в 1925 г. Ее муж, известный всей России своей выдающейся, кипучей деятельностью на поприще народного здравия принц Александр Петрович Ольденбургский, проживал вместе со своей женой в Биаррице, где и скончался в 1932 г.
Сын их, принц Петр Александрович Ольденбургский, в 1922 году вступил во второй брак с Ольгой Владимировной Серебряковой, рожденной Ратьковой-Рожновой, – вдовой отставного полковника Кавалергардского полка. Петр Александрович скончался на юге Франции в 1924 г.
* * *
В 1924 году, рассказывает современный историк, автор книги “Красота в изгнании” Александр Васильев, Гавриил Константинович и его жена Антонина Нестеровская, ставшая в замужестве княгиней Романовской-Стрельнинской, открыли в Париже дом моды “Бери”. После его закрытия в 1936 году супруги довольно скромно жили в парижском предместье, где великий князь для заработка организовывал партии в бридж, а княгиня изредка давала уроки танцев. В интервью А. Васильеву Н.А. Оффенштадт вспоминала: “В их квартире весь коридор был увешан семейными фотографиями. Гавриил Константинович как-то сказал: “А мне и здесь тоже начало нравиться!” Жили они дружно и часто устраивали чаепития. В пожилом возрасте Антонина Рафаиловна напоминала больше русскую простолюдинку, чем княгиню. Но как только она начинала говорить, сразу чувствовалась близость к великокняжеским кругам с их изысканными оборотами речи. Она была настоящая светская дама. Видимо, жизнь среди Романовых сделала ее такой. А как только она закрывала рот, то опять начинала походить на русскую бабу с косой вокруг головы. Она всегда приносила моим детям шоколадные конфеты, за это мы прозвали ее “шоколадная княгиня».
Антонина Рафаиловна умерла весной 1950 года, почти в день своего 60-летия. Ее муж не только пережил ее, но и женился вторично в 1951 году на 48-летней княжне Ирине Куракиной, которая также стала называться княгиней Романовской. Великий князь Гавриил Константинович скончался в Париже 28 февраля 1955 года.
Фотовклейка
Император Павел I
Дети Императора Павла I
Императрица Мария Федоровна, супруга Павла
Павловский дворец
Император Александр I
Император Николай I. Художник Д. Доу
Великий князь Константин Николаевич
Великий князь Николай Николаевич
Император Александр II
Император Александр II c детьми – Ольгой и Сергеем
Великий князь Сергей Александрович
Великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной
Великий князь Павел Александрович
Великий князь Владимир Александрович в костюме русского боярина XVII в.
Императрица Мария Федоровна
Мария Федоровна с сыновьями Николаем и Георгием
Император Александр III
Великий князь Александр Александрович
Император Александр III среди членов Императорской семьи. Дания, 1893 г.
Памятник Александру III. Скульптор П. Трубецкой
Будущий Российский Император Николай II сразу после крещения
Великая княгиня Мария Федоровна с сыном, будущим Императором Николаем II
Александра Федоровна в детстве
Император Николай II
Александра Федоровна с дочерью Анастасией
Император Николай II и цесаревич Алексей на молебне в войсках
Великий князь Константин Константинович
Великий князь Олег Константинович
Князь Гавриил Константинович
Великий князь Константин Константинович в роли Иосифа Аримафейского в драме «Царь Иудейский»
Икона Святых Царских мучеников
Николай II с семьей
Князь Иоанн Константинович
Князь Игорь Константинович
Князь Константин Константинович
Великая княгиня Елизавета Маврикиевна с детьми – Верой и Георгием
Примечания
1
Дорогой Костя!
(обратно)2
Ее воспоминания были первоначально опубликованы в 1934 году в №№ 35–40 парижского еженедельника “Иллюстрированная Россия”: Княгиня Антонина Романова. “Как был спасен князь Гавриил Константинович”. – Примеч. ред.
(обратно)3
Чекист Г.И. Бокий – Примеч. ред.
(обратно)
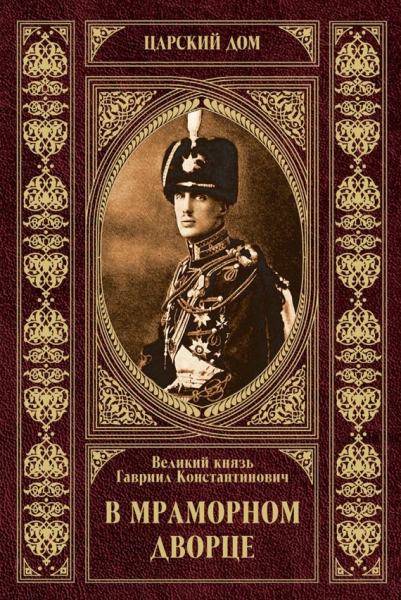
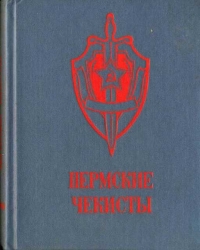
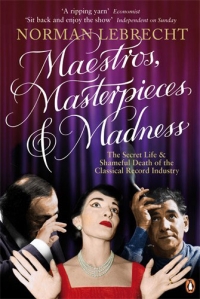


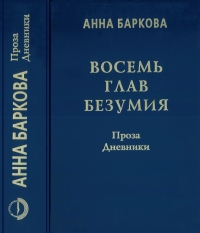

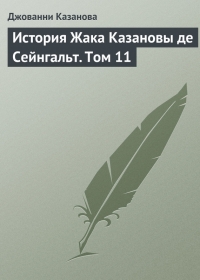
Комментарии к книге «В Мраморном дворце», Великий Князь Гавриил Константинович Романов
Всего 0 комментариев