Полина Чех Александр Григорьевич Столетов 29 июля (10 августа) 1839 – 15 (27) мая 1896
Серия «Великие умы России»
Редактор серии Владимир Губарев
© АНО «Ноосфера», 2016 год.
© ИД «Комсомольская правда», 2016 год.
* * *
Детство
1839 год. В желтом двухэтажном каменном купеческом поместье во Владимире на стене висит календарь. В нем отец семейства Григорий Михайлович Столетов записывает различные события, погоду и даже свои сны. В конце июля, прямо под толкованием снов: «первый сон – справедливый, второй – скоро сбудется и при том в радости, третий сон – пустой», появляется короткая заметка: «1839 год, 29 числа сего месяца, в 11 часов ночи родился сын Александр».
Александр Григорьевич Столетов
Род Столетовых жил во Владимире с очень давних времен. По одной из версий, Столетовы прибыли в город в XV в., куда их сослали из Новгорода. «Того же лета князь великий перевел из Великого Новгорода в Володимер лучших гостей Новгородских пятьдесят семей», – пишут в летописи.
По другой, более масштабной версии, в 1489 году семь-восемь тысяч бояр и купцов были сосланы во Владимир-на-Клязьме, Нижний Новгород, Кострому, Муром и другие города по обвинению в заговоре.
В третьей версии говорится, что, когда Иван Грозный вел тяжелую войну с Турцией и крымскими татарами, он получил донесение, что в Новгороде организовалась сильная группировка, выступающая за присоединение к великому княжеству Литовскому. Грозный прибыл туда и учинил расправу над изменниками. Кара его обрушилась на головы духовенства, купечества и приказных людей. Многих сослали в другие города. Среди них оказались купцы Столетовы.
Так или иначе, похоже, бунтарство и неповиновение царизму было у Столетовых в крови. Как и долголетие – ведь, по преданию, они отличались тем, что доживали до весьма преклонного возраста, за что и получили прозвище «столетовых».
Саша, один из шестерых детей Григория Михайловича и Александры Васильевны, растет общительным и жизнерадостным вопреки слабому здоровью. «Он был очаровательным ребенком», – сказал К. А. Тимирязеву один из тех, кто знал его в детстве. Деятельного и веселого, его любит вся семья, особенно мать, у которой он был любимцем. Саша отдает это обожание с лихвой – до самых последних лет он, как может, помогает родственникам, на рождественские, пасхальные и летние каникулы приезжает домой и постоянно поддерживает связь с братьями и сестрами.
Мать Александра Васильевна Столетова
Отец Григорий Михайлович Столетов
Будни семейства проходят в атмосфере уюта и взаимопомощи. Старший сын четы Столетовых Василий в свое время не пошел в университет, чтобы помогать отцу, стал купцом и теперь всей душой стремится к тому, чтобы у младших было достойное образование. Саша по многу часов проводит возле второго брата – Николая, своего лучшего друга и наставника, в ту пору студента Московского университета. Николенька подбирает книги для мальчика, самостоятельно овладевшего чтением уже в пять лет, и учит его языкам. Получив работу по переводу книги, Николай просит его отыскивать в словаре нужные слова, а вечерами заставляет пересказывать свои уроки на французском. Бойкий мальчик схватывает все налету и незаметно для себя овладевает новым языком. Позже он выучивает еще и немецкий и английский.
Наблюдая за тем, как старшая сестра Варя сидит за роялем, Сашенька тоже начинает тайком музицировать. Он даже подумывает над тем, чтобы стать профессиональным музыкантом. И вот Саша уже может играть на слух и самостоятельно настраивать инструмент. Однажды за этим занятием его ловит учитель Вареньки, и с тех пор Саша тоже берет у него уроки. Музыка становится верной спутницей Александра на всю жизнь – после тяжелой лекции или напряженных опытов в лаборатории он частенько будет отдыхать за роялем.
Братья и сестры Столетовы
Сам Саша, в свою очередь, становится учителем для младших сестер и брата. В их глазах он – непререкаемый авторитет. «Если бы Саша сказал, что в какой-нибудь книге я не должна читать какой-нибудь страницы, я на эту страницу и не взглянула бы», – рассказывала его младшая сестра Аня.
Семья Столетовых очень любит русскую литературу, особенно сочинения революционных демократов. Из года в год они выписывают передовые журналы и газеты, зачитываются Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Островским, Салтыковым-Щедриным, Радищевым, Белинским, Герценом, Чернышевским, Некрасовым, Шевченко.
Столетовы
Аня пишет в своем дневнике: «Читаю в „Современнике“ „Растение и его жизнь“. Это очень хорошо, только мне много попадается латинских названий. Я помню, летом Саша мне читал некоторые места из этой книги, он также много рассказывал о разных деревьях и цветах, которые растут в разных далеких от нас местах, как, например, в Африке, в Америке. Митя не любит так обо всем говорить. Я часто вспоминаю далекие прогулки с Сашей, его умный, завлекающий всякого разговор. Как бывало выйдем за заставу, он вынет какую-нибудь книжку и начнет читать вслух, например, Тургенева „Записки охотника“. Он очень хорошо читает стихи, читал он мне „Анчар“ Пушкина, удивительно как хорошо».
Братья Столетовы: Василий, Николай, Александр и Дмитрий
Наделенный хорошей памятью, Саша с легкостью выучивает любые стихотворения, с выражением декламируя строки из «Хаджи Абрека» Лермонтова. Мальчику очень нравятся журналы с картинками – каждый раз, когда учитель семинарии Соколов, живущий у Столетовых в доме, получал иллюстрированный номер «Живописного обозрения», Саша выпрашивал его, а потом подолгу листал у себя в комнате разрисованные страницы. Даже в последние годы Александр в шутку говорил своим родным: «Хоть бы на Сухаревке отыскать эти номера „Живописного обозрения“, которые доставляли мне такое наслаждение!»
Помимо того, что Соколов снабжает детей журналами, он прилагает все усилия, чтобы развить их стремления, поощряет их. Когда Саша увлекается гербарием, Соколов дает ему множество книг по ботанике. А когда Николенька начинает закаляться в проруби и увлекается историями про генералов – Соколов все больше приобщает его к истории.
Соколов, учитель семинарии
Под влиянием классиков Александр сам пробуется в литературе – в девятилетнем возрасте заводит дневник, пишет стихи на все выдающиеся события семейной жизни: к именинам родителей, к появлению нового фортепиано и т. д. С ними связана и единственная ссора в дружном семействе. Старший брат без спроса взял тщательно скрываемые рукописи Саши и стал громко их декламировать, вышучивая автора. О нанесенной обиде Саша пишет в дневнике, но она очень скоро забывается.
«Памятная книжка» – так называет Александр свой дневник. Он ведет его аккуратно, без пропусков, даже во время болезней – в такие дни под диктовку пишет мать. Первые сделанные скорописью записи довольно кратки, за исключением самых ярких и памятных для мальчика событий: приезда зверинца Берга на гастроли во Владимир, больших званых вечеров и т. д., но уже в одиннадцать лет Саше хочется рассказать на бумаге гораздо больше – он описывает природу, город и события его жизни. Изредка доносятся вести из далекого мира, который станет потом роднее Владимира. «Полицмейстер рассказывал, что в Московском университете 50 студентов разжаловали в солдаты», – помечает мальчик.
Дневник Столетова
Интересно, но о своих успехах в школе Саша пишет мало, хотя учится он на отлично. Им он едва уделяет пару строк, периодически помечая коричневыми чернилами: «У нас был экзамен по русскому языку. Я получил 5 баллов», «Был экзамен по французскому языку и математике. Мне по обоим предметам поставили по 5-ти баллов», «Был экзамен по немецкому; я получил 5 баллов», «Был шестой и последний экзамен по географии; я получил 5 баллов и тем окончил экзамены».
Можно ли догадаться о будущих пристрастиях мальчика по его дневнику? Едва ли. Лишь время от времени попадаются намеки на то, чему будет посвящена вся его жизнь. «Сегодня утром забавлялся, взвешивая у маменьки на весах разные вещи», – помечает он. На другой странице Саша рассказывает, как со своим товарищем мастерил часы из свинца.
В гимназию Саша поступает в десять лет.
Столетов-гимназист
В то время гимназии, семинарии и другие учебные заведения царской России стремятся подготовить людей, преданных самодержавию и православию. Широко практикуются телесные наказания: за малейшие провинности учеников ставят на колени, сажают в карцер, оставляют без обеда, бьют розгами. «Эти наказания употреблялись смотря по важности преступления», – записывает Саша.
Но тем не менее многие учащиеся даже под страхом наказания тайком читают революционную литературу и журналы, а то и составляют свои собственные. Так же поступает и Александр. В четвертом классе он вместе со своими приятелями начинает издавать рукописный «Сборник, журнал на 1853 год, издаваемый гг. Ильинским, Грязновым и Столетовым». Под заголовками в русском готическом шрифте мальчики высмеивают произвол чиновников, тупость некоторых учителей и ненавистные порядки гимназии. Появилось всего две тетради, по 11 листов в каждой.
Сборник открывает написанная редактором Столетовым повесть «Жизнь и похождения Агафона Ферапонтовича Чушкина». Как помечает автор «это огромное описание бурного странствования по житейскому морю».
Сборник Столетова в гимназии
Все описание пронизывает глубокая ирония. Она сквозит даже через описание дяди осиротевшего Ферапонта: «Дядя мой был человек якобы приказный; служил в совестном Суде (который, к слову пришлось, вернее нужно было назвать бессовестным), любил брать взятки, или, как говорил, благодарственные приношения неимущему от доброхотных дателей, за что и был один раз под судом».
В повести высмеиваются порядки гимназии: «У нас в школе, как и во всем мире, все имело философию и политику. Сторожа, ученики, учителя – все вообще действовали согласно своим интересам. Начиная с последнего сторожа, который отпускал домой оставленного без обеда лентяя, если тот давал ему пятак серебра или гривну на водку, до смотрителя, этого важного для нас лица, но немилосердно гнущегося и унижающегося в присутствии директора или ревизора – все жило на расчетах».
Мастерски описывает Александр приезд ревизора в гимназию: «Приезд ревизора знаменовался всегда необыкновенными происшествиями. В это время смотритель собирал ясак дичью и телятиной со своих учеников. Всякому вменялось в обязанность принести с собой петуха, курицу, кувшин молока, окорок или что-нибудь подобное. Всеми этими приношениями снабжали на всякий случай ревизора для утешения его гнева. Это делалось также с политикой: смотритель приносил ревизору сперва маленькую толику и потом, если тот еще бушевал, постепенно прибавлял ему, пока наконец блюститель закона, искушенный свежей дичью и сладким молоком, утешал свое правосудное негодование. Если же он был не очень сердит и сразу поддавался, то весь остаток принадлежал смотрителю. Таким образом, смотритель удобрял ревизора, как земледелец – рыхлую почву, и он беспрекословно поддавался на эти хитрости».
Убийственную характеристику дает автор и смотрителю: «Ученикам он давал наставления самым поучительным тоном. Вообще он был с каким-то первобытным характером: любил более всего порядок; резвых мальчиков, не говоря уже про шалунов, терпеть не мог. Он всегда хотел, чтоб ученики, бывшие не старее 15 лет, думали, говорили и поступали по-книжному; ему нравилось, если ученик походил более всего на автомат, нежели на человека, одаренного разумом и волей; он любил, если ученик, приличным образом откашлянувшись, затягивал дьячковским напевом: „История в некотором смысле, при взгляде на сию науку, представляет…“ и пр. Он особенно не жаловал, когда кто рассказывает урок своими словами, и, напротив, очень любил тех, которые, безусловно следуя книге, беспристрастно повторяли: дабы, сей, оный, поелику и т. п. Сердце его радовалось и душа веселилась, когда он слушал такую речь. Сам же он, изъясняя свои мысли, так и сыпал „сими“ и „оными“».
С большим сарказмом высмеивает Столетов и учителей: «Учитель математики… был положительно глуп. Ходил очень скоро, а писал на классной доске и говорил еще скорее, словно боялся опоздать. Что же он, бывало, говорит, решительно невозможно было разобрать. Лицо у него было очень глупое, волосы черные, вечно растрепанные, черные огромные брови почти сошлись. На его физиономии ясно были начертаны знак вопроса и удивления. Он был всегда как спросонок, беспрестанно хлопал глазами и вертел головой. Учитель Закона Божьего был седой старик, священник, недалекого ума (чем отличалась вся школа)… Учитель русской грамматики был пресмешной человек. Он говорил медленно, произносил слова так, как они пишутся, и в заключение всего этого прибавлял к каждому слову „можно сказать и помалости“. „Что за дурак, – говорил он, – можно сказать, ничего не знает; хотя что-либо помалости ответил“… Учитель латинского языка до крайности любил выражаться по-русски латинским слогом. Он сам ничего не понимал из того, что приказывал учить, и любил, если ученик, ничего не понимая, прелихо отзубрит ему какой-нибудь супин и начнет городить такую чушь, что того и гляди замерзнут уши».
В школе заместо дневника из-под пера пятнадцатилетнего юноши выходит серия рассказов под общим названием «Мои воспоминания»: «Поездка в Касимов», «Свищовы и Мего», «Полоцкая тетушка». Как потом справедливо заметил профессор Московского университета А. П. Соколов, в них уже тогда проявляются черты, присущие всем последующим взрослым трудам Столетова: «сжатость и ясность слога, меткость определений и тонкий юмор, поражает также и необычайная в его возрасте начитанность в русских писателях». Перед каждым рассказом стоит удачно подобранный эпиграф из любимых будущим ученым произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей.
Иногда в своих рассказах он бывает необычайно лиричен: «День склонялся к вечеру. Дорога, вьющаяся необозримой лентой, синеющий лес и песня ямщика, всегда унылая и прерываемая его беспрестанными обращениями к лошадям, причем он дарил им более или менее приличные эпитеты, – все это мне нравилось; всю это поэзию дороги я испытывал еще в первый раз».
Но такая лирика не в стиле автора, он тут же иронично одергивает себя: «Ух! Как поэтически я разболтался». Его описания в основном шутливы. Рассказывая о комнате в гостинице, Саша подмечает: «только, кажется, и были в ней: – у одной стены диван, обитый лопотопной кожей, а у другой, противоположной, – печальная, обнаженная и вовсе не призывающая ко сну кровать. Нападение клопов и всякого рода насекомых на этот раз было еще не сильно». А вот описание Бутылицкой станции, созданное почти в гоголевской манере: «В комнате стоял стол, покрытый какой-то сальной хламиной. На нем находился изломанный подсвечник с огарком самой мизерной величины. На окошке чайник с чаем или, лучше сказать, с настоем какой-то неизвестной травы, ссохшейся, видно, с незапамятных времен. Под окошком стоял розовый диван, ничем не обтянутый, должно быть, для большей мягкости».
Но Александр не полностью становится прозаиком, он по-прежнему пишет стихи. Вот одно из них:
«Увы! Вакансия прошла, Пришел экзамен наш годичный, Теперь за целый год дела Представим мы на суд публичный! Увы! Вакансия прошла, И как она, прошед в весельи, Нам показалася мала. А тут опять за то ж засели! Прошли гулянье и игра, Прошло то время золотое, Теперь опять пришла пора Не знать ни игор, ни покоя. Экзаменов обычный срок Пройдет и… Милосердный боже! Опять мы сядем за урок И целый год долбим все то же Теперь по-прежнему страдать Пришла пора, настало время, И мы должны уже опять Нести ученой жизни бремя».А вот один из сочиненных анекдотов, довольно смелый для тех времен:
«Один помещик опрашивал крестьянина новостей о своей земле и, между прочим, спросил: „Столько ли там дураков, как и прежде?“ – „Нет, нет, сударь, – ответил крестьянин, – как вы там жили, так больше было“».
Уже в гимназии Саша отрицательно относится к классовым порядкам в обществе. Детей он делит на две группы – выходцы из верхушки общества и дети из низов. Сам он, относясь ко второй группе, не жаловал «маменькиных сынков». «У нас были, – пишет он, – еще особого рода ученики – это аристократы. Таковыми считались дети судьи, городничего, исправника и т. п. С этими господами каждый школьник положил себе за правило не связываться. Эти ученики составляли какую-то независимую, отдельную нацию. Никто не входил с ними в короткое знакомство; они не мешались в школьные игры и шалости, и, по словам одного ученика, недостойны были называться школьниками».
Конечно, не все во Владимирской гимназии так беспросветно, не везде царствуют реакция и скудоумие. Здесь есть и умные, передовые люди. Так учителем физики у Саши становится Бодров, человек, горящий своим делом, и эту черту он умеет привить своим подопечным. Он дает мальчику множество книг по физике и математике, открывавших абсолютно новый, неизведанный мир, и Саша с увлечением снова и снова повторяет физические опыты дома. Это и определяет весь его дальнейший жизненный путь.
Как и Николенька, Александр оканчивает школу с золотой медалью. Вот-вот сбудется его мечта – поступить в Московский университет на физико-математический факультет, который окончил Николай.
И вот юноше вручают свидетельство – его золотой билет в будущее: «От директора училищ Владимирской губернии дано сие свидетельство окончившему курс во Владимирской гимназии из купцов Александру Столетову, желающему поступить в число Императорского Московского Университета, в том, что он журналом Совета гимназии 16 июня сего года признан окончившим Гимназический курс с предоставлением права на поступление в Университет без вторичного экзамена и с награждением за отличные успехи в науках и благонравие золотой медалью».
Саша переезжает в Москву.
Студент
Осенью 1856 года к дверям библиотечного корпуса Московского императорского университета подходит красивый юноша и поднимает серые глаза, вглядываясь в окна на четвертом этаже.
Ему не дает покоя мысль, что он будет жить в месте, где Белинский еще студентом читал товарищам свою знаменитую пьесу «Дмитрий Калинин», дышащую революционным запалом.
Московский университет, 2-я половина XIX века
Именно общежитие Московского университета на протяжении многих лет было местом сбора студентов-революционеров. Здесь проходили тайные заседания, где молодые люди, совершенно забыв о сне, наперебой читали запрещенную литературу – Радищева, Некрасова, Герцена и Огарева, переписывали «Колокол» и прокламации Чернышевского, обсуждали методы борьбы с самодержавием.
«В 10-м нумере, – вспоминал живший в общежитии Н. И. Пирогов, – я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах и таинствах и вообще о религии, что меня, на первых порах, с непривычки, мороз по коже пробирал… Все запрещенные стихи, вроде „Оды на вольность“ и т. п. ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща и при каждом удобном случае».
В авангарде этих движений вышагивают так называемые казеннокоштные студенты – разночинцы, выходцы из бедных слоев населения, получавшие государственную стипендию. Одним из них становится и Александр Столетов, сразу же влившийся в коллектив, жадный до всего нового и передового.
Студенческие годы Александра (1856–1860) совпадают с революционным подъемом в стране. Недовольство достигает точки кипения. С ростом количества крестьянских бунтов активизируются и студенты. Появляются многочисленные кружки, землячества, кассы взаимопомощи, библиотеки, всюду печатаются студенческие журналы и газеты.
«Студенческая библиотека, существовавшая при университете, не могла удовлетворить нашей умственной жажды, – вспоминает один студент, учившийся в одно время со Столетовым. – Мы стали искать себе образование вне стен своего университета, на Никольской улице, в лавочках букинистов. Там мы рылись в разном книжном хламе, покупали журналы за старые годы, вырезали из них статьи Белинского, Чаадаева, Искандера, Салтыкова, переплетали все это в отдельные книжечки, которые и истрепывались в студенческих руках. В каждом студенческом кружке была своя маленькая библиотека из таких книжек, которые наиболее удовлетворяли потребностям, накипавшим в юных головах. Статьи в стихах или в прозе, в которых затрагивался крестьянский вопрос, собирались всеми с особенным старанием».
«Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества, – что может быть выше и вожделеннее этого», – эта цитата Чернышевского становится девизом молодежи.
Непримиримое отношение к эксплуататорам, необходимость перемен и желание помогать своему государству, двигать его вперед чувствует и Александр. Демократ и материалист, он против царского самодержавия и его вечных спутников – идеализма и поповщины.
«Не пробудись наше общество к новой кипучей деятельности, – говорил К. А. Тимирязев об этом времени, – может быть, Менделеев и Ценковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и в Ярославле; правовед Ковалевский был бы прокурором; юнкер Бекетов – эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства».
Несмотря на то, что с деньгами у студента проблемы, он принципиально избегает того, что может отвлечь его от науки, – репетиторства или переводов. Лишь раз он следует совету профессора С. А. Рачинского, своего будущего друга, и с неохотой берется за перевод книги Дарвина «Путешествие на корабле „Бигль“», периодически прерываясь и «отдыхая» за аналитической теорией теплоты.
Изо дня в день он с неподдельным интересом посещает лекции таких выдающихся ученых, как Д. М. Перевощиков, М. Ф. Спасский, Н. Е. Зернов, Ф. А. Бредихин, А. Ю. Давыдов, Н. Д. Брашман, верных материализму Ломоносова и выступавших против идеализма в науке. Столетов ведет конспекты тщательно, так, что их без единой правки можно было бы публиковать.
Особенно его увлекают опыты, которые на лекциях Спасского показывает лаборант Мазинг. Будущего ученого угнетает то, что они проводятся редко и что он не может сам попробовать провести какие-нибудь опыты. Приборов мало, некоторые из тех, что есть, дышат глубокой древностью – на одном из них даже значится церковно-славянскими буквами «Сей магнитный каминь поднимает два фунта тягости».
Существенное влияние на Александра оказывают лекции Брашмана, который читал прикладную математику, геометрию и механику. Если бы не они, возможно, лучший друг К. А. Тимирязев и не смог бы в будущем рассказать, что когда они вместе с Бредихиным возвращались с одного из научных заседаний, на котором Столетов выступил с докладом, и когда он в самых ярких выражениях восхищался экспериментальным искусством ученого, Бредихин ему ответил: «Заметьте, вы можете судить только о половине его достоинств. Если бы вы могли только оценить, какой это математик».
Умирает Спасский. Кафедру физики возглавляет Н. А. Любимов. Он закупает новые приборы для физического кабинета, увеличивает количество проводимых опытов во время лекций.
Лекции нового профессора похожи на представление. То деревянный шест, торчащий из дыры в полу, поет голосом скрипки, на которой играет лаборант в подвале – демонстрация того, что твердые тела проводят звук; то по вертикальным рельсам под потолком падает железная рама с пружинным безменом, на крючке которого висит гиря – показатель того, что падающее тело становится невесомым. С кафедры звучат анекдоты про яблоко и Ньютона, про Архимеда и «эврику».
10 августа 1860 года декан факультета Г. Е. Шуровский обращается в совет университета с просьбой «об определении кандидата Столетова при физическом кабинете в качестве хранителя кабинета и помощником прозектора при производстве». «Работая в кабинете, – поясняет Шуровский, – он приобретет много пользы для себя и, в свою очередь, будет очень полезен как студентам, занимающимся в кабинете, так и профессору в производстве и приготовлении опытов».
Совет поддерживает ходатайство и пересылает его попечителю.
Решение попечителя затягивается, но Столетов не теряет времени даром. Он пишет ректору университета А. А. Альфонскому: «Имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство разрешить мне пользоваться книгами библиотеки Императорского Московского Университета на основании существующих правил».
Ему позволяют посещать библиотеку, и Столетов радостно обкладывается до потолка книгами в снятой им комнатке в доме Жукова на Арбатской площади. Трудолюбивый характер не может позволить себе время на отдых: нужно готовиться к магистерским экзаменам.
22 февраля приходит ответ от попечителя. Отказ.
«Кандидат Столетов, как казеннокоштный студент педагогического при университете института, обязан, на основании параграфов 151 и 158 общего университетского устава, выслугой 6 лет собственно по учебной части Министерства Народного Просвещения».
Но факультет неотступен. Похоже, его заинтересованность в Столетове очень велика – ведь снова и снова посылая ходатайства, он рискует навлечь на себя гнев начальства. В переписку о студенте вовлечен даже сам министр просвещения. И спустя почти год, 5 сентября 1861 года, хлопоты увенчиваются успехом. Юноша оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.
Не терявший времени даром Столетов уже 16 октября подает прошение ректору о допуске к магистерскому экзамену.
Читая тонны литературы, Александр начинает понимать, что его образование неполное. Одно дело – знать все в теории, и совершенно другое – применять на практике. Но как, если приборов так мало?
И вот в конце второго года магистранства Столетова его друзья Сергей и Константин Рачинские жертвуют университету стипендию в 1000 рублей для двухгодичной командировки за границу достойного человека.
Кафедра физики выбирает своим стипендиатом Александра Столетова. Юноша не может сдержать восторга – в заграничных лабораториях он наконец-то сможет ставить собственные эксперименты!
Заграница
Гейдельберг. Старинный, но кипучий, живой город науки. Сюда стекается вся русская учащаяся молодежь, особенно после временного закрытия Петербургского университета. В городе постоянно существует русская диаспора, плеяда молодых ученых, то и дело сменяющаяся, но не редеющая. У многих ученых этот город навсегда остался в памяти, как время бурной и продуктивной молодости. Незадолго до приезда Столетова из города уезжают, неся в головах обновленный багаж знаний, И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, А. П. Бородин, С. П. Боткин.
Гейдельберг
На Haupt-strasse стоит узенькое двухэтажное здание с фасадом в каких-нибудь двадцать окон. Его гордо величают Natur Palast – Дворец Природы. И несмотря на то, что в действительности он не похож на нынешние огромные дворцы науки, сосредоточение умов в нем делает здание поистине выдающимся.
Под одной крышей здесь работают Гельмгольц, Кирхгоф, Клаузиус – выдающиеся ученые физики точного эксперимента и глубокого математического анализа.
Медаль в память 500-летия Гейдельбергского университета. Принадлежала Столетову
Молодежь в городе разнородная. Кто-то кутит и прожигает деньги, а кто-то серьезно работает на благо науки и собственного будущего. Видимо, студенты во все времена одни и те же!
«Русские здесь делятся на две группы, – писал Бородин из Гейдельберга, – ничего не делающие, то есть аристократы: Голицын, Олсуфьевы и пр. и пр., и делающие что-нибудь, то есть штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедом и по вечерам».
Одними из таких «штудирующих» в 1862 году были пироговцы – группа молодых русских ученых, которых отправили за границу под присмотром великого хирурга Н. И. Пирогова. К ним примыкает и Столетов.
Александр находит в пироговцах надежных товарищей на всю жизнь. Они живут дружно и весело, одной большой семьей. Далеко не все их времяпрепровождение ограничивается занятиями – сколько творят они историй, сколько поют песен во время встреч за бутылкой вина, загородных прогулок! А сколько потом будет шутливых намеков в письмах друг другу об ужине у таинственной «Его Высочества» и вечера с «шеколадом» у какой-то Навигаторши!
Саша часто бродит по улицам города и приходит в восторг от живописных развалин его исторического замка, узких улочек. Удивляет его комфорт и дешевизна жизни, которую он находит везде, сравнивая с московскими ценами.
Но все же в Гейдельберг Александра влекло не безудержное веселье, а наука. Его воодушевила возможность поработать в лаборатории Кирхгофа. Но на момент, когда Саша приезжает в город, она оказывается еще не готова к занятиям. И ему приходится на первых порах ограничиться лекциями по теоретической физике Кирхгофа и Гельмгольца.
«Многие десятки русских натуралистов и врачей, получивших известность своей общественной деятельностью и учеными трудами, обязаны своим специальным образованием Гельмгольцу, – будет потом говорить Столетов. – Значение его в качестве международного учителя, думаю, ни для одной страны (кроме родной ему Германии) не было так велико, как для России».
В статье о Кирхгофе Александр Григорьевич потом напишет:
«Простота обращения и неутомимая внимательность в отношении к учащимся, постоянная деятельность и самообладание мысли, дар сжатой, но отчетливой речи – вот что поражало нас в Кирхгофе. Во всем сказывается сильная воля, чувство долга, высокое – и чуждое высокомерия – самолюбие. Мы мало привыкли соединять в уме понятия о гении и о любви к порядку; фраза, что „гений есть высшее терпение“, также находит мало веры. Поучительно видеть аккуратность, с какой Кирхгоф ведет свои бумаги, красивым и неспешным почерком записывает in extenso (целиком, полностью (фр.)) все продуманное и сделанное. Видишь, что эта глубина и точность мысли далась не вдруг и не даром; она – плод упорной работы над собой».
Будущий русский физик сразу обращает на себя внимание великого учителя. Он выделяется в кружке слушающих лекции, как Сириус в звездном небе.
«Хотя большинство из нас были старше Столетова и многие обладали очень основательным математическим образованием, но с первых же разов, как мы стали собираться для составления лекций, он резко выдвинулся вперед; то, чего мы добивались с трудом, ему давалось шутя, и вскоре он сделался уже не простым сотрудником, а руководителем наших знаний», – будет потом рассказывать В. Ф. Лугинин, занимавшийся вместе с Сашей.
В одном из писем Кирхгоф назовет Столетова самым талантливым из своих слушателей. Его уважение отразится в том, что немец на протяжении всей жизни будет отправлять Александру Григорьевичу рукописи своих трудов до их публикации.
«Могу со своей стороны прибавить, – напишет Тимирязев, – что когда через несколько уже лет я, в свою очередь, провел в Гейдельберге несколько семестров, посещая, между прочим, и практические занятия у Кирхгофа, мне доводилось слышать еще свежее предание об одном молодом русском, с виду почти мальчишке, изумлявшем всех своими блестящими способностями».
Столетов не ограничивается одними посещениями лекциями. Он тщательно конспектирует десятки трудов по физике. Они охватывают самые разные вопросы, но больше всего молодого ученого влекут к себе электричество и магнетизм. Эти темы Столетов изучает особенно тщательно. Уже сейчас начинает проявляться то, что станет его пожизненной склонностью.
Но все же одни лишь лекции и конспекты угнетают Александра. Ему хочется проводить опыты своими руками, а не только запоминать, что сделали другие. И вот однажды к нему в гости приходит Константин Рачинский с предложением организовать небольшую лабораторию на своей квартире.
Денег Рачинского хватает на небольшое количество приборов – но все же друзья не могут скрыть выражение глубокого удовлетворения на своем лице после их закупки. Они подолгу засиживаются, ставя опыты и набивая руку в экспериментировании. Юношеская изворотливость теперь нужна как никогда: приходится постоянно изловчаться, перестраивать приборы. Мастера, наверное, пришли бы в ужас, увидев подобное кощунство. Но молодых людей это не останавливает. Какая разница, чем был прибор раньше, если все это служит во славу науки?
Лето 1853 года, открытие лаборатории Кирхгофа все еще затягивалось. Столетов с Рачинским переезжают в Геттинген к Веберу.
Познакомившись с ним, Александр пишет брату Николаю: «Вебер – преоригинальный старичок, одет довольно цинически, говорит престранно, недоговаривая, растягивая слова и проч. Взглянув на него и даже послушав его, не подумаешь, что столько дельного, нового, теоретически глубокого вышло из этой головы».
В лаборатории Вебера Александр впервые проходит большой физический практикум. Он изучает все, что было накоплено предшественниками. Много внимания Столетов уделяет изучению приборов и обработке экспериментальных данных. Но особенную подготовку ему удается получить в области магнитных и электрических измерений – как раз в том, к чему его влекло, еще когда он занимался только теорией.
Ненадолго задержавшись у Вебера, Столетов отправляется в Берлин к Магнусу. Сам город поражает его своей чистотой и образованностью всех слоев населения. Всюду так и сквозит ветер просвещения.
Лаборатория Магнуса помещается в его частной квартире. «Домашняя лаборатория Магнуса, – пишет Столетов, – первый пример физической лаборатории – становится рассадником физиков-экспериментаторов». Чуть позже она получит субсидию от правительства и станет лабораторией публичной.
«Магнус считался превосходным лектором и крайне искусным экспериментатором, – вспоминал Сеченов. – Позднее, в Гейдельберге, я слышал рассказ Гельмгольца в его лаборатории, как Магнус приготовлял для своих лекций опыты. По словам этого рассказа, он всегда старался придать опыту такую форму, чтобы при посредстве натяжения нитки или удара, или вообще какого-нибудь простого движения рукой приводить в действие показываемый снаряд или вызвать желаемое явление».
В Берлине Столетов знакомится с Францем-Эрнстом Нейманом, для которого важнее всего в науке был точный расчет. «В глазах Неймана, – рассказывает Столетов, – математика – мощное оружие изучения природы, необходимое звено между простым „элементарным законом“ и сложным явлением действительности; она проникает туда, где бессилен опыт, дает суждению отчетливость и общность». Но Нейман в своих суждениях несколько однобок, думает Александр, ведь, занимаясь со своими учениками и «проводя их через длинную и строгую школу механики и математической физики», он «не спешит знакомить их с практикой лаборатории». Нейман слишком недооценивает важность опытов, экспериментов. А Столетов уже тогда начинает понимать истины, пропагандируемые еще в свое время Ломоносовым, что важнее всего синтез теории и практики, что только тогда наука будет развиваться интенсивно и в нужном направлении.
У Магнуса Столетов встречает М. П. Авенариуса – одного из пироговцев, который потом станет известным физиком-экспериментатором, создавшим школу русских исследователей критического состояния веществ и расширения жидкостей. Авенариус почти сверстник Столетова, и именно в Берлине зарождается их многолетняя дружба, продлившаяся до самой смерти Авенариуса в 1895 году.
«Мой новый приятель был стройный брюнет, с очень изящными, симпатичными чертами лица, прекрасно владеющий немецким языком, любитель музыки (он сам недурно пел), страстный и искусный шахматист и охотник до лошадей», – рассказывает Столетов. «Весной 1864 года мы оба переехали в Гейдельберг. Здесь поселились на общей квартире, вблизи от Фридрих-Бау, и так прожили несколько месяцев до отъезда Михаила Павловича. Вместе слушали лекции и работали в институте Кирхгофа. Вместе с ним бродили по лесным окрестностям города, жили душа в душу, ни разу не было размолвки. На другой год, уже по защите магистерской диссертации и по получении места доцента в Киеве, Авенариус еще раз приехал в Гейдельберг на лето и застал меня еще там. Затем наши пути разошлись. Видеться приходилось редко. Только в 1881 году, в эпоху Парижской электрической выставки и Конгресса электриков случилось еще раз несколько месяцев жить вместе в одном небольшом отеле, еще раз совместно работать и ежедневно делиться мыслями и впечатлениями».
Открытая лаборатория Кирхгофа «по тем временам была роскошной, – напишет Столетов в 1895 году, – но, чтобы охарактеризовать тогдашние условия, достаточно сказать, что лаборатория обходилась без единого ассистента; и устройством лекционных опытов, и практикой со студентами занимался все время профессор при содействии одного служителя. Тем не менее и лекции Кирхгофа были обставлены прекрасно, и практические занятия по всем отделам физики организованы, как нигде».
И для Столетова, и для Авенариуса «лекции и указания Кирхгофа были истинным откровением». И если «у Магнуса каждый отдел представляет что-то самостоятельное, замкнутое; у Кирхгофа через все части проходит связующая нить механики, – пишет Авенариус в одном из отчетов о командировке. – У Магнуса целый ряд блестящих опытов для обнаружения одного и того же факта. У Кирхгофа – один опыт, „всегда, конечно, удачный“, отсюда экономия времени и большая полнота курса».
Александр сутки напролет проводит в лаборатории Кирхгофа. Его полностью завлекла в себя наука, но иногда приходят весточки из далекой России – письма из Владимира. Там по нему скучает вся семья. «Мне нынче как-то скучно целый день. Ученья не было, так у меня нынче вот на сердце тяжело, я все думаю о Саше, – пишет в своем дневнике его сестра Аня. – Вчера как-то я не столько тосковала, а нынче даже не могу ни лежать, ни работать, а слез нет, и этого никто не замечает».
Но время заграничной командировки подходит к концу, и в сентябре 1865 года в университетский совет посылают письмо от декана: «Сумму, отпускаемую для преподавателей, факультет находит в высшей степени полезным употребить для приобщения к своему составу магистранта Столетова, посланного за границу Университетом и известного факультету замечательным даром изложения и ревностными занятиями по предмету физики». Факультет просит «о допущении магистранта Столетова по возвращении его из-за границы к преподаванию физики по найму».
Ходатайство одобряют, и за Александром Григорьевичем закрепляют место преподавателя на кафедре физики.
В студенческие годы во время командировки Столетов постоянно терпел лишения и нужду. Это сильно расшатало его и так слабое здоровье. Вспоминая то время, он напишет в письме Михельсону: «После командировки в 1862–1865 гг. я вернулся совсем больной – с расстроенными нервами, головными болями, неисправным пищеварением и пр.».
Преподаватель
Вернувшись из заграницы, Столетов уже не застает профессора Рачинского в университете – Сергей Александрович покинул его из-за конфликта передовой профессуры с администрацией. Место преподавателя курса математической физики и физической географии свободно. И уже в феврале 1866 года Александр Григорьевич объявляет о возобновлении курсов. За неимением магистерской степени ему приходится читать их как стороннему преподавателю.
Восемь месяцев готовился молодой ученый к этому курсу. Столетов не хочет быть одним из тех реакционеров-профессоров, которые только и могут, что по бумажке рассказывать о сделанных другими открытиях прошлых веков. Нет. Готовясь к лекциям, он перечитывает множество научных журналов, изучает сотни передовых трудов, чтобы выжать из них весь максимум, который, по мнению Столетова, будет важен слушателям. Он проводит дни и ночи за книгами, скрупулезно выписывая из них новые факты, подвергая каждый строгой критике. Ученый ничего не принимает на веру.
Александр Григорьевич Столетов
В своей работе Столетов следует заповеди Менделеева: «Не тот профессор должен получать <…> одобрение, который только сообщает юношеству признанные истины, но тот, который сверх того личным примером дает образцы того, для чего назначаются высшие учебные заведения, то есть тот, который наиболее вносит в науку самостоятельного, нового. Профессоров, к этому неспособных, то есть способных лишь повторять зады и их излагать, надо мало для высших учебных заведений, хотя без них дело обойтись не может и хотя в управлении высшим учебным заведением и им надо дать известное место, однако преобладающее значение во всех отношениях должны получить лишь те профессора, которые продолжают идти вперед и заражают своими стремлениями массу потомства!»
Конспект учебной лекции Столетова «Об устройстве паровых машин». Автограф
И вот наконец в феврале 1866 года Столетов всходит на кафедру и окидывает взглядом аудиторию. Несколько десятков глаз изучают сдержанное выражение лица нового преподавателя.
– Я намерен предложить вам, – разносятся первые слова Столетова по залу, – краткий обзор различных отделов нашего предмета, еще недавно стоявших совсем отдельно друг от друга, да и теперь еще связанных не совсем прочной нитью. Я постараюсь указать на те главные, руководящие представления, которые лежат в основе современных электрических дисциплин.
Лектор, надо сказать, из Столетова получился исключительный. Его речь, спокойная и плавная, произносилась твердым, ясным голосом, без театральных жестов или пафоса. Современники не раз отмечали его ораторские данные.
«Такая, в сущности, скучная материя, как теплопроводность, излагалась Столетовым так живо и увлекательно, иллюстрировалась такими интересными примерами и искусно подобранными цифровыми данными из самых разнообразных источников, что теплопроводность слушалась как роман», – рассказывает один из учеников Столетова, Д. А. Гольдгаммер.
«Речь Столетова лилась свободно и стремительно, – вспоминает учившийся у него профессор Житков, – его словесные конструкции отличались почти угнетающей правильностью. Если бы застенографировать его лекцию, она с первого до последнего слова не нуждалась бы в редакционных поправках. Слушателям казалось, что Столетов читает им лекцию по очень хорошему учебнику».
«Публика всякий раз стекалась в изобилии на публичные чтения Столетова и приходила в восторг от его изящных и увлекательных лекций, обставленных всегда интересными опытами, которые выполнялись с безукоризненной отчетливостью», – писал профессор Соколов.
Столетов на лекции
Публика потому так любит Столетова, что он строит свои лекции сообразно их уровню. Например, во время чтения лекции «Эфир и электричество» Александр Григорьевич подчеркивает: «Не могу и не буду вдаваться ни в подробности фактические, ни в точную аргументацию; постараюсь набросать лишь главные штрихи, помочь непривычному уху схватить основные представления, имея в виду по преимуществу не физиков (им моя речь даст мало нового), а представителей других отраслей естествознания». Он любит образность, метафору. Например, одну из лекций он начинает такими словами: «Следуя за этими успехами науки о спектре, мы видим, как малый ручей становится мощной рекой, река – морским течением, и оно несет нас по тому океану неизведанного, о котором мечтал умирающий мыслитель. А у истоков ручья навеки записано все то же незабвенное имя – имя Исаака Ньютона».
«Учащаяся молодежь не могла не сознавать присутствия сильного, строгого ума, широкой культуры и энергичной воли, направляемой к тому, чтобы ценой неустанных трудов поставить науку на возможно высокий уровень, – а учащийся всем своим, может быть, несколько сдержанным, но всегда безукоризненным отношением выражал ей не заискивающее, а действительное уважение, – объяснял Тимирязев популярность Столетова у студентов. – Это уважение выражалось прежде всего в строгом до щепетильности исполнении принятых на себя по отношению к ней (молодежи. – Примеч. авт.) обязанностей, в постоянной заботе о том, чтобы доставить ей все средства для приобретения знаний; выражалось оно и в готовности сказать в ее защиту свое веское слово».
Не только лекции по математическому анализу так виртуозно даются Александру Григорьевичу. Помимо них, Столетов читает курс физической географии. В нем он прежде всего делает упор на метеорологию, подчеркивая ее важность для практиков.
Когда Столетов в 1882 году занимает пост преподавателя экспериментальной физики, он полностью реформирует ее преподавание: по его указанию перестраивается физическая аудитория университета и снабжается необходимыми приборами для опытов, а курс экспериментальной физики делится на два потока – для физиков и для медиков. Он увеличивает число часов для математиков и естественников.
«На нас, молодых студентов, – вспоминает свой первый год студентом-медиком физик Гольдгаммер, – только что вошедших в университет, эти лекции, как и лекции других товарищей Александра Григорьевича по факультету, действовали неотразимо: но мы боялись Столетова; говорили: он строг на экзамене, требует точных, положительных знаний».
Фотография Столетова
Трудясь днями и ночами, готовясь к лекциям и параллельно работая над магистерской диссертацией «Общая задача электростатики и приведение ее к простейшему виду» (которую он защитит в 1869 году), Столетов требует такого же усердия и от своих учеников.
«Не было в нем и следа той распущенности, в которой нередко думают видеть проявление широкой русской натуры, души нараспашку. Его просто коробило от той напускной простоты или искусственной патриархальной фамильярности в обращении, например, с учащимися, выражавшейся, между прочим, в пересыпании речи нелитературными словцами, примеры чего в его молодости да и позже можно было еще встречать в профессорской среде. Эта несколько сдержанная, строгая внешность была не случайною, в ней отражался нравственный склад человека», – писал Тимирязев. Но стоит упомянуть, что, как рассказывают смотрители музея Столетовых, пусть внешность Александра и строга, одежда его сшита по последнему писку моды и все сидит, как с иголочки. Молодой профессор – тот еще щеголь. Ему даже кличку по этому поводу придумали: Француз.
Александр Григорьевич терпеть не может разжевывать. Ему хочется, чтобы ученики сами, своим умом доходили до каких-то выводов. Подсказки на экзамене – это не про него.
«Профессор лишь неуклонно требовал ясного понимания содержания курса, – писал ученик Столетова академик С. А. Чаплыгин, – правда, он выслушивал ответы, не задавая наводящих вопросов, если студент начинал путать, и не помогал выбраться из затруднений, если они происходили от непродуманности и невнимательности изучения предмета».
«На экзамене Александра Григорьевича, – вспоминал Житков, – вызванный и севший около него студент делался после получения экзаменационных вопросов совершенно самостоятельным. Был покрытый сукном стол, профессор, кучка билетов и молчаливый ассистент. <…> Случалось, что перед другими экзаменами лентяй, не знавший предмета, спрашивал товарища, что ему делать, – „молчать“ (то есть сдаваться на милость) или „бормотать“ (то есть быстро говорить ученью слова – на тот счастливый случай, что профессор задремал или унесся мыслями из комнаты). Шалопаи „бормотали“ профессору ботаники, умному и доброму Ивану Николаевичу Горожанкину, прекрасные глаза которого иногда с сочувствием останавливались на студенте, моловшем вздор. Но никогда ни один опытный и доброжелательный студент не посоветовал товарищу применить этот второй способ на экзамене по физике».
Студент, подошедший к преподавателю накануне экзаменов с вопросом о списке литературы, «получал, – по словам Житкова, – холодный и точно сформулированный ответ следующего содержания: если студент в течение года не познакомился с курсом и даже с заглавиями учебников, то для него самое выгодное теперь – вовсе не готовиться».
О подобной подготовке за несколько дней до сессии вспоминал провалившийся на экзамене Столетова Ф. В. Шлиппе:
«Студенческая жизнь с ее свободой и новизной меня увлекала, я стал вращаться в обществе, а зимой частенько ездил в Таширово на охоты. <…> Перед экзаменом бессистемно поработал, даже сдал несколько экзаменов, но на физике у Столетова срезался. Столетов был известен тем, что задавал всякие мудреные вопросы, затем безучастно с каменным лицом глядел на экзаменующегося и безжалостно одного за другим проваливал. Впоследствии был назначен второй экзаменатор, который ставил свою отметку, и среднее пропорциональное двух баллов было действительно».
Еще с самого детства претят Столетову и зубрилы, те, кто заучивает по книжкам, а сами размышлять не умеют. Для таких на экзамене у него были свои умело расставленные ловушки. О них в мемуарах вспоминал Андрей Белый, сын профессора Бугаева, декана факультета:
«– Отчего блоха прыгать не может? Молчание: двойка.
Надо отвечать:
– От абсолютно гладкой поверхности.
Засада – в каламбуре смешения слов „отчего“ и „от чего“; кто поймет „от чего“ в смысле „почему“, – получит двойку.
Еще вопрос:
– Что будет с градусником, если его выкинуть на мостовую с третьего этажа?
Ответ:
– Разобьется. Двойка.
Надо было анализировать состояние ртутного столба градусника, а не стекло футляра, а тут – каламбур (градусник, как стеклянный инструмент, и градусник, как вместилище ртути)».
Тимирязев рассказывал о приеме, когда перед некоторыми экзаменами преподаватели спрашивали: «с боем или без боя?» «„Без боя“ – означало тройку без экзамена, а „с боем“ значило, что экзаменующийся желал подвергать себя всем случайностям экзамена». По мнению Тимирязева, если бы Столетов «„без бою“ выпускал целые поколения медиков, без знания физики, а следовательно, и без возможности знать физиологию, то едва ли бы мог сказать о себе qu'il a merite de la patrie (заслуживает благодарности родины (фр.))». Поэтому-то и возникло впечатление о Столетове, как о строгом экзаменаторе. «Студент-медик первых курсов должен был проглотить без малого все естествознание плюс еще известное количество своих собственных специальных предметов. И учащиеся давно сознавали невозможность этого положения, и вот с давних пор устанавливается какое-то немое соглашение, что это учение не настоящее, а так, для вида, для формы». Естественно, примириться с таким Александр Григорьевич не смог.
Журит за ошибки Столетов не только учеников. Его лучший друг Тимирязев на этот счет вспоминал: «Никогда не забуду, как в этих самых стенах он распекал меня, как школьника, за один неудавшийся в моем сообщении опыт. Тщетно представлял я себе в оправдание, что неудача произошла оттого, что во время перерыва заседания сдвинут был прибор, а я это заметил, когда было уже поздно. Он только строго повторял: „Перед публикой не может быть удач и неудач. Понимаете – не может быть“. И, конечно, он был прав, в его словаре этих слов не существовало».
Но все же Столетов строг, но справедлив. Услышав однажды, что студент, хорошо занимавшийся весь год, вдруг не решается прийти экзаменоваться, из-за страха провалиться, Столетов посылает к нему своего племянника. Тот просит ученика все же явиться на экзамен. И он проходит вполне благополучно.
Очень скоро у Александра Григорьевича просыпается талант замечать и выделять особенных, одаренных студентов.
«Особенной заботливостью пользовались со стороны А. Г. те из его учеников, которые своими способностями и прилежанием успели обратить на себя его внимание и были оставлены при университете для приготовления к профессорскому званию на кафедре физики, – рассказывал Соколов, который учился у Столетова в семидесятых, а затем стал его коллегой в Московском университете. – Он постоянно следил за их дальнейшими занятиями, как теоретическими, так и в лаборатории, живо интересовался их успехами и всеми зависящими от него средствами облегчал их первые шаги на научном поприще».
Алексей Михайлович Соколов. 1854–1928
«Физическая наука в ее идеальном виде является сочетанием творческой мысли с экспериментальным искусством», – говорит Столетов. Этими словами словно пропитана вся его первая научная работа, ставшая докторской диссертацией – «Исследования о функции намагничения мягкого железа». В ней ученый совмещает теорию и практику, вычисления и опыт.
Публикация Столетова о намагничении за рубежом
Публикация Столетова о намагничении в России
В семидесятых в жизнь Александра Григорьевича приходят новые люди, которые останутся близкими на всю жизнь.
6 октября 1872 года одна из аудиторий физико-математического факультета оказывается переполненной – на первую лекцию профессора ботаники Петровской академии Климента Аркадьевича Тимирязева пришли не только студенты, но и весь профессорский состав.
«Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, еще молодой, подвижный и нервный, – он был как-то по-своему изящен во всем… Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось на лекциях особенно по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали и он совершенно овладевал аудиторией», – вспоминал Тимирязева В. Г. Короленко, учившийся у него в те годы.
Климент Аркадьевич Тимирязев. 1843–1920
Казалось бы, что общего у спокойного, сдержанного Столетова и страстного Тимирязева. Но они сошлись в самом главном – мировоззрении – непримиримости к стагнации и произволу. Они оба упорно боролись за российское образование и просвещение. Как мог не любить Столетов человека, говорившего о великом союзе науки и демократии и твердившего, что главная цель естествознания – это борьба с реакцией?
С каждым днем они становятся друг другу все ближе. О теплоте их отношений можно судить по одному из писем Столетова в октябре 1876 года.
«Дорогой Климент Аркадьевич, – пишет Александр Григорьевич, – сердечно поздравляю Вас с избранием в экстраординарные профессоры Университета. Совет большинством в 31 голос утвердил Вас в этой должности. Радуюсь этому от всей души».
Сдружился Александр Григорьевич с адвокатом В. И. Танеевым и его братом композитором С. И. Танеевым.
Владимир Иванович – выдающийся общественный деятель и юрист, один из самых передовых людей в те годы, он выступал защитником в небезызвестном «Нечаевском» процессе. «Я с давних пор уважаю как преданного друга освобождения народов», – пишет о Танееве в одном из писем Карл Маркс, который подарил Владимиру Ивановичу свою фотографию с дарственной надписью на обороте. В нем Столетов, как и в Тимирязеве, находит своего единомышленника.
Отдых в доме Танеева. За инструментом Танеев, Столетов переворачивает ноты
Сергей Иванович, ученик Чайковского, учитель Рахманинова и Скрябина, с 1885 по 1889 года директор Московской консерватории, сближается со Столетовым на почве музыки. Александр Григорьевич становится его восторженным почитателем и частым гостем его выступлений, а Сергей Иванович часто говорит, что если бы Столетов в свое время не стал физиком, то из него мог бы получиться исключительный музыкант. Часто после обеда они даже играют в четыре руки.
Часто бывает Столетов на ежемесячных «академических» обедах у Танеевых в ресторане «Эрмитаж», где собирается весь цвет интеллигенции. Приглашение на такой обед – огромная честь. На них бывали Тургенев, Чайковский, артист Сумбатов-Южин, юристы Ковалевский и Муромцев. Помимо Столетова, завсегдатаями обедов становятся и другие преподаватели: Тимирязев, Марковников и Лугинин.
Место для академических обедов было выбрано не случайно. Именно здесь ежегодно в ночь на 12 января убранство богатого «Эрмитажа» сворачивается за считанные часы: все ковры уносят в кладовки, на столы вместо шелковых скатертей стелют клеенки, в буфеты вместо сервизов ставят дешевую посуду, а пол посыпают опилками. Метрдотель составляет особое меню для неприхотливых посетителей – с селедкой, студнем и другими блюдами небогатых сословий вместо известного по всему миру салата оливье, который придумали именно здесь.
Все для того, чтобы в день юбилея университета, который мы все знаем как Татьянин день, «Эрмитаж» наводнился студентами и профессорами, шумом и весельем. Приходят в ресторан и выпускники, которые уже многого добились в жизни, и теперь они радостно угощают молодежь, зовут ее за свои столики.
В один из таких дней Танеев знакомится и с Тимирязевым, причем при очень интересных обстоятельствах.
12 января 1877 года историк Иловайский во время празднования громко произносит речь, в которой призывает передовых деятелей протянуть руку царизму, помочь ему, поддержать.
Вдруг раздается звон стекла – это Владимир Танеев в негодовании бросил свой стакан об пол со словами: «Никогда этому не бывать!» Наступает тишина. Со своего места встает человек, подходит к Владимиру и страстно пожимает ему руку. Этим человеком оказывается Тимирязев. С этого самого момента завязалась дружба на всю жизнь.
Близкие отношения заводит Столетов с Сеченовым, Менделеевым, Бредихиным, Ковалевскими, Анучиными, Церасским, Герье, Репманом, Цингером и другими учеными.
В конце 1872 года Столетов знакомится с Владимиром Васильевичем Марковниковым, профессором из Одессы, который получает предложение занять кафедру химии в Московском университете.
Владимир Васильевич Марковников. 1838–1904
Осматривая химическую лабораторию, Марковников впадает в ужас. В прежнем университете у него была прекрасная лаборатория, а здесь же, в этом полутемном помещении, придется все начинать сначала. Долго колебался Владимир Васильевич, прежде чем принять предложение, но потом все же согласился – кто, если не он, этим займется? Негоже, если химия в первом университете страны останется на таком низком уровне.
Марковников много беседует со Столетовым, и они с удивлением понимают, насколько схожи их взгляды на преподавание. «Никогда не следует таскать в рот жареных голубей, следует пускать студента на глубокое место, кто выплывет – значит, будет толк», – утверждает Марковников. Как это похоже на методы Александра Григорьевича!
Так же остро, как и Столетов, Марковников чувствует отсутствие необходимых средств для развития русской науки: «Если бы даже кому-нибудь из нас удалось самое невероятное, например удобное получение искусственного золота и для этого потребовалась затрата значительного капитала, то пришлось бы, наверное, ехать продавать свой способ за границу». Но при этом он замечает, что даже в таких условиях русские никогда не станут продаваться. Марковников остается патриотом Родины: «Какой интеллектуальный стимул заставит русского ученого бросить интересующие его вопросы и обратиться к другим, если из удачного разрешения их извлечет пользу немецкий или французский химик или заводчик?»
Столетов находит в Марковникове такого же борца против низкопоклонства перед заграничной техникой и наукой. Однажды, когда Владимира Васильевича просят перевести его исключительный труд на иностранные языки, он, не моргнув глазом, отвечает отказом: «Если высказанная здесь мысль представляет интерес, то желающие могут пользоваться этим русским сочинением».
«Чем была химия в Московском университете до вас и чем она стала? – будет спрашивать аудиторию Тимирязев через несколько лет на чествовании Марковникова. – Я живо помню ее, эту старую химическую лабораторию, мрачную, темную, холодную, безмолвную, полуразвалившуюся – я бы сказал фаустовскую, если бы она не была лишена и тени фаустовской живописности. С вами свет и жизнь проникли в это мертвое царство. Молодые голоса нарушили чуть не вековое молчание этих угрюмых стен, а вслед за тем преобразились и самые стены, и Московский университет, благодаря Вашему упорному, настойчивому труду, получил настоящую европейскую лабораторию. Те, кто не видал сам этого превращения, не могут вполне его оценить, и им могут говорить только красноречивые цифры. Ведь не случайность, что за одинаковый период времени с Вашим появлением в Москве и с почти одновременным появлением на кафедре опытной физики А. Г. Столетова изменилась и вся судьба естественного отделения математического факультета. Число студентов, постепенно падавшее и дошедшее до 17 на факультете, до 1 на четвертом курсе, внезапно стало повышаться до 100, до 600–700».
О тандеме Столетов – Марковников – Соколов в своей фантасмагорической манере писал Белый в мемуарах:
«Профессор Марковников – стародавняя гроза профессоров физико-химического отделения факультета; и минотавр, бегающий с ревом по коридорам лаборатории: посадить на рога профессора Сабанеева в девяностых годах и профессора Зелинского в девятисотых годах; в эпоху, когда я, студент лаборатории, его видывал (в лаборатории), он был уже – гром без молнии, или вепрь без клыка; вырвав клыка у Марковникова – смерть профессора Столетова; профессор Столетов и был – клык; и не Марковников нападал, выгонял и бил копытом-ботиком, нагнув голову, а Столетов – Марковников; вернее – Столетов, спускавший с цепи Марковникова, ибо Столетов – нападал с толком, с чувством, с расстановкой, а Марковников нападал уже без толка; и – ломал клык, уступая территорию лаборатории Николаю Дмитриевичу Зелинскому; от нападений Столетова на заседаниях расстраивались сердца, случались истерики, профессора пускались в паническое бегство, а декан-Бугаев проявлял чудеса ловкости – спасти положение: защитить обиженного от обидчиков так, чтобы не получить удара в грудь клыком Марковникова и чтобы Марковников сам себе не сломал клыка, то есть чтобы Столетов сам посадил Марковникова на цепь.
При мне уже Марковников без клыка являл грустное зрелище красного апоплексического старика в меховой шапке, выскакивающего из недр коридора; выскочит, постоит, посопит; и спрячется.
Голова скандалов – Столетов; он – охотник; Марковников – спускаемый с цепи (да простит мне знаменитейший химик вульгарные уподобления)… не пес, а – …кречет.
Диада Марковников – Столетов иногда становилась триадою; Столетов – Марковников – Соколов (Соколов – профессор физики); триаде противополагался – весь факультет; но иногда весь факультет обращался в бегство перед триадою: и декан-Бугаев в длинной веренице лет так научился находиться в перманентном скандале и с таким веселым юмором рассказывал за столом о факультетских побоищах, что побоища меня перестали удивлять: и я думал, что факультетское заседание и есть побоище.
<…> Факультетские истории, взметаемые Столетовым, сплетались в сплошную „историю“ (без конца и начала): Столетов виделся мне охотником крупной дичи, спускающим двух гончих, Марковникова и Соколова; и то я видел: спасающегося в бегство Сабанеева, в виде большого верблюда, то видел я Н. Д. Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы; то сам Н. А. Умов в виде огромного, пушистого овцебыка пересекал поле зрения; за ними – мчащийся лев-Марковников; или – подкрадывающийся Столетов-тигр; и отец возвращался с заседаний оживленный, но… нисколько не возмущенный; защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и сжимал кулаки, и срывал с себя салфетку (за обедом); а приняв меры к защите, с добродушием поперчивал суп и лукаво потирал руки; не без сочувствия к скандалистам он приговаривал:
– Да-с, что поделаешь: бедный Александр Павлович! И мне не до конца верилось, чтобы отец действительно до мозга костей думал, что Александр Павлович – космический „овен“, ужаленный Столетовым-„скорпионом“; и мне думалось: „Не игра ли это в солдатики?“
Отец не ходил в театры, и потребность к зрелищам, может быть, изживалась в нем неожиданными сюжетами, подносимыми Столетовым; поздней я увидел, что Столетов – мифолог-режиссер, сочиняющий мистерии заседаний так, как сочинял каламбуры, или приводил к отцу чудаков; потом я убедился, что к Столетову отец относился и как к драматургу, скрашивающему серые будни „деловых засидов“ (до геморроя); он, как декан, возмущался Столетовым, а как зритель, любовался его молодечеством; об ученых заслугах Столетова он имел очень высокое мнение; о заслугах Марковникова – тоже.
Об Александре Павловиче Сабанееве, тащимом в профессора Усовым и отцом, может быть, он был того же мнения, как Столетов о приводимом к нам „чудаке“; Сабанеев был не столько почтенным ученым, сколько amicus ex machina (друг из машины (лат.)) для ряда деятелей; Усов и папа похохатывали:
– Чудак Александр Павлович.
Может быть, привод Столетовым к отцу чудаков означал символический разговор:
– Ваш чудак-Сабанеев и в подметки не годится этому вот чудачищу!
Отец любил Столетова; любил и Марковникова; и поздней я расслушивал в выкрике с надсадой прямо-таки нежность по адресу буянов:
– А Марковников со Столетовым опять заварили кашу.
Может быть, на его языке это означало: „А Мейерхольд-то: задумал новую постановку… Преинтересно“.
После смерти Столетова не было на факультете „буянств“; и отзывы отца о заседаниях стали небрежны; видно, ему на них стало скучно; то ли дело – „столетовские“ времена!»
Конечно, Белый в своих описаниях был не совсем объективен, так как находился по другую сторону баррикад – его отец, декан Бугаев, был на стороне реакционной профессуры, заодно с недругами Столетова.
Отнюдь не шуточные бои между прогрессивными людьми и консерваторами велись даже в стенах Московского университета.
И в авангарде физического факультета шагает Столетов.
Журналист Катков, «пес самодержавия», считающий необходимым полицейский контроль за всеми сферами жизни и лебезящий перед царской фамилией, выступает за реформу преподавания. Устав 1863 года, который дает автономию университетам, кажется ему устаревшим и нуждающимся в переработке. Катков и его верный поклонник министр просвещения Д. А. Толстой подчеркивают, что этот устав не может предотвратить студенческие беспорядки. Министерство издает целый ряд правил, которые обязывают администрации университетов и полицию сообща бороться с революционным студенчеством. В высших школах учреждают специальную инспекцию министерства народного образования, которая скорее напоминала филиал охранного отделения.
С Катковым тесно сближается профессор Любимов, который в свое время помог Столетову остаться при университете. Но когда-то прогрессивный Любимов все яростнее начинает вести борьбу против ученых, преданных идеям шестидесятых. В их числе и Александр Григорьевич. Любимов активно пишет в «Московские ведомости» Каткова и становится одним из ведущих сотрудников. Он критикует либеральные реформы Александра II, выступает за пересмотр устава университетов. «Устав 1863 года, – пишет Любимов, – в строгом смысле, не отстраняет возможности вмешательства начальствующих лиц в дела университета <…>. Нововведение в том, что всякое вмешательство этого рода должно по преимуществу носить характер отрицательный, являться как нечто ненормальное и вести к столкновениям и разрушениям. <…> Другая характерная черта <…> есть вытекающее из нее расшатывание отношений. В правильно устроенной машине одна часть не должна мешать свободному движению другой не потому, что развинчена и вследствие того не оказывает сопротивления, а потому что укреплена прочно на своем месте».
С этим не могла мириться передовая часть профессуры. В 1876 году публикуется открытое письмо Любимову, пропитанное порицанием его действий. Под ним подписываются 35 профессоров, в том числе и Столетов.
Но Александр Григорьевич на этом не останавливается. 12 января под его именем выходит статья «Г. Любимов как профессор и ученый» в газете «Русские ведомости». Столетов приурочил эту статью к юбилею ученого, и ее начало будто и не предвещает никакой беды: автор просто выписывает цитаты из брошюры Любимова:
«В чем слабые стороны наших деятелей и нашей учености? Ученость и дар производить изыскания, открытия – вот характеристические качества людей науки… В весьма заметной доле наших научных деятелей нового поколения <…> нельзя не усмотреть резкого недостатка как элементов учености, так и элементов образования, в отдельных случаях до грамотности включительно. <…> Профессора нередко уклоняются от близости к занятиям студентов именно потому, что при нашем преподавании, декоративно поднятом на высоту, вынуждены скрывать собственную неопытность».
Цитаты за цитатами, без какой-либо оценки. Казалось бы, обычный разбор трудов коллеги в честь юбилея. Но Столетов не на пьедестал возводить собирается.
«Мы надеемся показать, – вдруг пишет уже от себя Александр Григорьевич, – что наш строгий цензор с буквальной точностью олицетворяет собой начертанную им грустную картину. В его обличении есть одна бесспорная крупица правды: он живо и метко изобразил нам – самого себя.
<…> Человек, который, хвастаясь своим гражданским мужеством, выступает судьей и обличителем университетов, что такое он сам? Какой ученой репутацией заручился он, какими заслугами стяжал себе право „взглянуть на дело сверху“? Может ли он смотреть сверху вниз на своих товарищей или приходится смотреть на них снизу вверх, не видя того, что повыше? Или, наконец, он вовсе не смотрит на внешний мир, а предается самосозерцанию?»
Столетов листает учебник Любимова и приводит его ошибки и курьезы. Резко критикует его как лектора, который слишком увлекается анекдотами про Ньютона и яблоко или Архимеда и мыло и так мало рассказывает о серьезных и важных вещах. Высмеивает идеалистические суждения Любимова. В ответ на утверждение профессора, что электричество не существует, является лишь переходом, не имеющим «значения независимо от явлений, для которых он служит связью», Столетов едко замечает: «Как игриво, как туманно и как неосновательно! Какой пример преподавания, стоящего на ходулях!»
Заканчивает свой материал Столетов самыми хлесткими словами: «Быть может, руководимый с юных дней какою-то вендеттой или врожденной ненавистью к университетам и профессорам, Любимов умышленно прокрался на кафедру, умышленно притворился ученым, чтобы олицетворить в себе тот отрицательный идеал, который он сам бичует ныне, восклицая с любезным обобщением: „виноваты все мы, я так же, как и он, – вы так же, как и я“. И не этот ли блестящий результат своей двадцатипятилетней деятельности он имеет в виду, когда заговаривает о своем юбилее.
Врачу, исцелился сам! Но увы! – исцелиться слишком поздно».
Кому-то может показаться нечестным то, как обрушивается Александр Григорьевич на человека, который в прошлом очень помог ему на первых шагах в мире науки. Но для Столетова прошлое в прошлом. Важнее всего настоящее. Это через несколько лет подчеркивал Тимирязев:
«Сам непреклонный в своих нравственных принципах, он и в других людях прежде всего, выше всего ценил нравственную устойчивость. Ни уважение к уму и заслугам, ни годы дружбы, никакие другие соображения не могли его вынудить отнестись уступчиво к человеку, по его мнению, уклонившемуся от требований нравственного долга. Такой человек, такие люди для него просто переставали существовать, хотя бы ради этого ему приходилось оказываться изолированным, восстановлять против себя сильное большинство».
На следующий день после публикации статьи ректором университета историком С. М. Соловьевым собирается экстренное заседание совета. Совет решительно соглашается со словами Столетова и выражает свое недовольство Любимовым и его кампанией против университетов. За этот жест Соловьев потом дорого заплатит: правительство заставит его уйти в отставку.
Но Столетов все равно не ведет борьбу против Любимова в одиночку. Из Киева ему пишет Авенариус и подтверждает свою готовность и готовность его товарищей подписать заявления против Любимова. Столетов перед этим поделился с Авенариусом своим желанием уйти из университета, если в нем останется Любимов, на что киевский ученый ему отвечает:
«Не думаю, чтоб какой-нибудь из наших университетов был свободен от личностей, подобных Любимову, однако это не подает повода всем порядочным людям оставлять университет».
Но все это лишь самое-самое начало жестокой и кровавой борьбы. С каждым годом она будет становиться только еще тяжелее и серьезнее.
Лаборатория
В Европе физические лаборатории появились в шестидесятых. В России тех времен их не было и в помине. Да, были физические кабинеты, музеи приборов. Но.
«Физический кабинет Университета представлял собой большую комнату, вся середина которой была огорожена четырехугольной решеткой: в этом четырехугольнике помещались разные громоздкие приборы и машины. По трем стенам стояли громадные шкафы с приборами, так что между ними и решеткой оставался лишь достаточный проход. С четвертой стороны решетки идут окна и между ними и решеткой остается узкий коридор, где можно на столе готовиться к опытам», – пишет Гольдгамер.
Конечно, ни о какой действительно опытной науке речи и не идет. Поэтому Столетов, пользуясь освободившимся временем в 1871 году едет в Гейдельберг к своему великому учителю Кирхгофу. В его лаборатории Столетов занимается исследованиями функции намагничения железа.
Множество ученых занимались этим вопросом, использовали разные образцы железа. Но проблема была в том, что каждый образец был магнитом и соответственно имел два конца – северный и южный. И эти концы сбивали всю картину, так как их магнитные свойства отличались от свойств образца в целом.
Необходим был магнит без полюсов, без концов.
И русский ученый нашел ответ. Он долгое время его продумывал, так что смог завершить все сложнейшие эксперименты за одно лето. Что же он сделал?
Он обмотал проволокой железное кольцо. Кольцо! Вот он – образец без концов. Казалось бы, как все просто! Но это гениально простое решение не приходило в голову ни одному ученому до Столетова.
После возвращения из командировки Александр Григорьевич еще острее понимает необходимость физической лаборатории при Московском университете. Его крайне угнетает ее отсутствие. «Физическая наука в ее идеальном виде является сочетанием творческой мысли с экспериментальным искусством», – считает Столетов. Он даже подумывает уехать в Петербург в Медико-хирургическую академию, надеясь там попытать счастья с устройством лаборатории. Он пишет физиологу Сеченову с просьбой охарактеризовать академию. Ответ не приходит довольно долго, но вот наконец в руки Столетова попадает письмо:
«Милостивый Государь Александр Григорьевич! Я намеренно оттянул свой ответ на Ваше письмо (за которое приношу, конечно, искреннюю благодарность), чтобы дать Вам возможно более беспристрастный отзыв о Медико-хирургической академии. Имейте, однако, в виду, что я был принужден бежать оттуда… Хорошего в Медико-хирургической академии только одно: громадность материальных средств, дающая возможность работать, как, может быть, нигде. Если Вы по приезде туда не поцеремонитесь потребовать большой суммы для приведения кабинета в порядок и потребуете расширения помещения (там, сколько я помню, всего две комнаты), то можете устроить себе хорошее гнездо для работы. Истинное начальство Академии составляет одно только лицо, стоящее вне ее, – главный медицинский инспектор Козлов. Если почему-либо в его интересах будет лежать покровительство физике, он сделает больше, чем нужно, в противном случае он будет одинаково равнодушен и к процветанию, и падению ее. <…> Профессора разделены на две яростно борющиеся партии… Беды в том, что партии есть и они борются, еще нет – где этого не существует? но скверно то, что огромное большинство борцов с той и другой стороны люди невежественные, без человеческого образования, люди, которым Академия хоть пропадай, лишь бы выиграно было дело их партии. <…> В прежнее время я посоветовал бы Вам ехать туда под одним лишь условием: устроить себе лабораторию, замкнуться в ней, работать, сблизиться с натуралистами Петербургского университета».
Но Столетов не хочет замыкаться. Он не только практик и теоретик, он еще и популяризатор. Ему хочется, чтобы его слушали, чтобы появлялось все больше людей, которые заражались бы наукой так же, как он сам.
Александр Григорьевич остается в Москве.
В донесении физико-математическому факультету он отмечает, что уставом наряду с физическим кабинетом предусмотрена и лаборатория. «Без этого учебные занятия со студентами не могут иметь правильного систематического характера, с другой стороны, собственные ученые занятия преподавателей встречают непреодолимые затруднения».
Так как размеры физического кабинета не подходят для лаборатории, Столетов просит выделить четыре комнаты, а в качестве помощника в проведении лабораторного практикума он просит назначить жалованье лаборанту.
Но дело продвигается черепашьим шагом.
Его единомышленник Сеченов писал: «В учреждении лабораторий с соответственным против прежнего увеличением преподавательского персонала лежат условия, благополучные для развития. Значит, для будущего условия эти нужно или усилить, как это делается на Западе, или по крайней мере сохранять». Словно вступая в диалог, на одном из своих публичных выступлений Столетов отвечает: «Дилеммы тут нет: „по крайней мере сохранять“ – этого мало; нужно „усиливать, как это делается на Западе“, нужно созидать, где еще ничего нет. Иначе сойдем назад и с того пункта, который уже завоевали».
На Новый, 1872 год Столетов получает поздравление от своих товарищей-пироговцев Лаврентьева и Бостена: «Желаем Вам, чтобы Вы, оглядываясь впоследствии на этот год, здоровый, круглый и румяный, были уже во обладании обширною, поместительною новой физической лабораторией, сверкающей медью, деревом, стеклом и всевозможными шкалами, чтобы Вас титуловали уже доктором, чтобы Вы не гнушались вспомнить иногда наши ужины у Его Высочества и шеколад с Навигаршей! Желаем Вам весело провести день Татьяны и вспомнить, что далеко на юго-западе, за несколько тысяч верст от Москвы, будут в этот день две поднятые и вооруженные бокалами десницы заодно чокаться с Вами и желать всякого преуспевания Вашей alma mater!»
Эти загаданные на Новый год желания осуществляются один за другим, хотя и не без трудностей. Столетов блестяще защищает докторскую диссертацию по функциям намагничения железа, в мае 1872 года становится экстраординарным профессором, а в 1973 году – ординарным.
Но все же организация физической лаборатории заставляет Столетова изрядно похлопотать. В университете все время отвечают: места нет.
Сначала комиссия предлагает ученому отдать под лабораторию квартиру помощника инспектора Доброса, но Столетов приходит к выводу, что она непригодна для проведения в ней физических практикумов. Спустя некоторое время предлагают канцелярию попечителя. Но заниматься в ней тоже было бы неудобно.
Чистая случайность, везение помогают Александру Григорьевичу.
В 1872 году ректору университета предлагают новую квартиру. Столетов пытается отвоевать освободившиеся комнаты под лабораторию. В этом ему помогает заведующий кафедрой Любимов. Он пишет: «Когда впервые поднят был вопрос о лаборатории, означенная квартира представлялась единственною сколько-нибудь удобною. Так как в настоящее время свободен бывший ректорский дом, то вопрос становится иначе. Правая с подъезда половина бельэтажа этого дома была бы несравненно удобнее для измерительных физических работ». Энергичную поддержку оказывает и сам ректор С. М. Савельев.
Старый ректорский дом
Осенью 1872 года хлопоты увенчиваются успехом. Часть бельэтажа отдают под лабораторию. Безусловно, такая новость не может не окрылить, но Столетов знает: потребуется еще много времени и сил, прежде чем сюда зайдут первые студенты. Закипает работа по приспособлению помещения под нужды лаборатории. Повсюду валяется мусор, помещение не потеряло еще атмосферу жилого. Постепенно вместе с волонтерами Александр Григорьевич придает квартире новый вид: расставляет столы, переносит сюда приборы. Одну из комнат Столетов обустраивает под оптические исследования, еще одну отводят под мастерскую. Проводят воду и газ, расставляют каменные фундаменты для тех приборов, которые чувствительны к тряске.
И вот в конце 1872 года лабораторию открывают для практических занятий.
У лаборатории нет штата, а ее оборудование пополняется в основном на средства самого Столетова и на те пожертвования, которые передают некоторые профессора. Факультет смог выделить лишь 1200 рублей. Значительное число своих приборов жертвует друг Столетова Рачинский.
Вещи, которыми Столетов пользовался при лабораторных исследованиях
Через год Александру Григорьевичу удается закрепить за физической лабораторией всю старую ректорскую квартиру, включая помещения, которые раньше предназначались под ботанический кабинет. Но с каждой дополнительной комнатой все сильнее ощущается необходимость в лаборанте.
В обращении к факультету в 1874 году Столетов пишет: «В последние годы в Московском университете положено начало такому учреждению, где учащиеся имеют возможность собственной практикой знакомиться с методами физических исследований. Как результат направленных на то стараний, позволю себе привести на память работу, увенчавшуюся золотой медалью на последнем акте нашего университета, – работу, в которой под руководством профессора исполнена одна из труднейших задач измерительной физики. К сожалению, юная физическая лаборатория нашего университета не имеет особого штатного лаборанта». На это место Александр Григорьевич предлагает кандидатуру Р. А. Колли, который много лет занимается опытной физикой в домашней лаборатории. Факультет поддерживает предложение Столетова.
Ученый считает, что необходимо ежегодно выделять для лаборатории 1500 рублей независимо от денег для физического кабинета, метеорологической лаборатории и кабинета географии. Помимо этого, необходимо назначить жалованье в 1000 рублей для лаборанта и увеличить оклад состоящего при кафедре физики механика. Также 47 000 рублей, получаемых за право издания «Московских ведомостей», отдавать студентам университета, учащимся за границей, в качестве стипендии и награждать сверхштатных лаборантов и сторонних преподавателей. Министерство просвещения не приняло эти предложения. У лаборатории продолжает не хватать средств.
Конечно, какой может быть практикум без студентов. Наконец-то юным ученым не нужно выезжать за границу, чтобы поставить опыты, что несказанно радует Александра Григорьевича. В физической лаборатории студенты осваивают основные приемы измерения, определяют удельный вес тел, число колебаний камертонов, измеряют длины световых волн, знакомятся с передовыми достижениями науки: недавно открытым спектральным анализом, новыми законами электричества и так далее.
В лаборатории ведут научную работу ученики Столетова: Н. Н. Шиллер готовит здесь экспериментальную часть докторской диссертации об электрических колебаниях, Колли подготавливает свою магистерскую под названием «Исследование одного случая работы гальванического тока».
Наконец и сам Столетов может проводить опыты, не выезжая из страны. Он принимается за свою первую экспериментальную работу на Родине и ставит давно задуманный опыт по определению соотношения между электростатическими и электромагнитными единицами.
Спектрометр для лабораторных исследований. Фото из архива Столетова
Первые результаты он представляет на V съезде русских естествоиспытателей и врачей в 1876 году в Варшаве. Более подробно о своих опытах Столетов рассказывает на VI съезде в 1879 году в Петербурге.
В протоколе съезда записано: «Профессор А. Г. Столетов сообщает о своих опытах, имевших целью определить электромагнитную постоянную (v Максвелла), отношение магнитной единицы к электрической единице. <…> Референт не считает, однако, своих измерений законченными. Он убежден, что такой снаряд особенно при большом совершенстве выполнения может дать наиболее точное число для „v“».
Даже здесь легко заметить требовательность Столетова, в том числе к себе. Он ближе всех исследователей подобрался к точной величине отношения электромагнитных и электростатических единиц, получив значение, близкое к скорости света, но все равно считает, что опыты не закончены.
Однако он не смог их продолжить из-за случайной поломки установки.
В программу обучения студентов Столетов включает обязательную двухгодичную командировку в центры науки на Западе, чтобы те «имели случай воспользоваться общением с великими учеными Запада и более или менее продолжительным пребыванием в той атмосфере уважения к науке в западных лабораториях и аудиториях». Это приносит хорошие плоды, считает Александр Григорьевич: «Из числа лиц, командированных Министерством и университетами по предмету физики с 1862 года, я не знаю ни одного лица, который бы не получил ученой степени и места в одном из университетов».
К 1882 году лаборатория по своему виду совершенно не похожа на ту, что была на этом месте десять лет назад. «Это были 5 светлых комнат, – пишет Гольдгаммер. – Из них одна маленькая (библиотека), а бывшая, вероятно, кухня стала теперь передней и „химической“. В этих трех комнатах помещались весы, магнитометр Гаусса, воздушный насос Гейслера, гальванометр Мейерштейна и т. д., а небольшой угол в первой мог быть отгораживанием черной драпировкой для опытов на спектроскопе Мейерштейна перед окном, выходившим на юг и позволявшим пользоваться гелиостатом». Расходы на лабораторию все же увеличивают, и если в 1884 году в ней и в физическом кабинете было 728 приборов, то к 1896-му их стало уже 1249.
В 1882 году на факультете начинаются кадровые перестановки. Уходит в отставку Любимов, и Столетов занимает вожделенное место профессора экспериментальной физики. Теоретическую кафедру он передает своему ученику магистру А. П. Соколову.
В этот год Столетов осознает, что для продуктивной практической работы одной лишь лаборатории мало. Он бросает все силы на создание физического института при Московском университете и разработку идеального курса по экспериментальной физике, который он с огромным удовольствием читает до конца своей жизни.
Прибор Пулуя для определения механического эквивалента теплоты. Изготовлен И. Ф. Усагиным в 1886 году
Первым делом Столетов хочет объединить в единый комплекс кабинет, физическую аудиторию и лабораторию, которые находятся в разных местах, слишком далеко друг от друга. Он подает прошение в совет университета. Столетов замечает: «В настоящее время, взяв на себя чтение общей физики на физико-математическом и медицинском факультетах, я считаю необходимым знакомить слушателей и с теми снарядами, которые помещены в лаборатории. С другой стороны, при постепенном расширении практических занятий чувствуешь надобность пользоваться в лаборатории снарядами кабинета. То и другое ведет к постоянной переноске снарядов из одного помещения в другое; общее заведование становится крайне затруднительным; силы двух лаборантов, состоящих при лаборатории и кабинете, дробятся и не приносят всей той пользы, какая могла бы достигаться при более целесообразном размещении коллекции и сосредоточении занятий в одном здании». Столетов предлагает два проекта: либо совместить перестраивающуюся химическую лабораторию и физическую и создать химико-физический институт, где аудитория для химии и опытной физики могла бы быть общей; либо отдать физическому институту весь ректорский дом, чтобы переоборудовать его под большую аудиторию.
Но ученый получает отказ. Тогда, формально оставаясь заведующим лабораторией, Александр Григорьевич передает бразды правления в ней своему бывшему ученику Соколову, а сам решает действовать своим главным оружием – словом.
Физическая лаборатория Кембриджского университета, фото из архива А. Г. Столетова. Он был приглашен на ее торжественное открытие
14 декабря 1883 года Столетов выступает на заседании отделения физических наук Общества любителей естествознания с докладом «Физические лаборатории у нас и за границей». В нем он с горечью отмечает разницу между западными опытными кабинетами и нашими. Он рассказывает о состояниях петербургской, казанской, одесской, варшавской, харьковской лабораторий.
Про старейший русский университет Столетов говорит: «Под физикой около 110 саженей в один этаж (не считая аудитории, которая принадлежит одной кафедре), вся коллекция теснится на 30 кв. саженей. Эта сотня квадратных саженей представляет притом чересполосицу – два участка в двух разных домах, разделенных большими дворами и улицей <…>
Аудитория лишена солнечного света, почти лишена и дневного, имеет 140 мест – приблизительно для одной четверти наличного состава слушателей <…> и представляет как бы по особому заказу всевозможные неудобства. Коллекция бедна, и нужны многие тысячи, чтобы ее пополнить и облагообразить. <…> Обновление физических институтов, можно сказать, еще не началось у нас. Когда начнется?»
Но Москвой Александр Григорьевич не ограничивается. Единственное учреждение в России, представляющее «без сомнения роскошное заведение», – это академическая физическая обсерватория и ее филиал в Павловске («суккурзал», как язвительно называет его Столетов, намекая на аристократические гулянья). Он указывает и на то, что «русскому, желающему поучиться и поработать, трудно туда проникнуть», и говорит о противодействии «темных сил, которые ревниво затворяют двери академии перед русскими талантами».
Такой метод борьбы действует, и к 1884 году Столетову удается получить деньги пусть и не на институт, но хотя бы на перестройку аудитории. «Физическая аудитория преобразовывается, делается скоро совсем неузнаваемой, образцовой, – пишет Соколов, – в настоящем ее виде ей могли позавидовать не только все физические аудитории русских университетов, но и многие заграничные. Вместо полутемного, неуклюжего помещения мы имеем обширную, высокую и светлую залу, вмещающую в себе около 400 человек слушателей. Аудитория снабжена всеми необходимыми лекционными приспособлениями: газом, водой из городского водопровода, прекрасным электрическим освещением. Имеются большой гелиостат для солнечного света, газовый двигатель и динамо-машина для постоянных и переменных токов, большой экспериментальный стол, хорошо действующая система затемнения аудитории, экраны, доски и пр. Достаточно сказать, что во время последнего IX съезда естествоиспытателей и врачей в Москве в 1893–1894 гг. съехавшиеся к нам со всех концов России ученые, гости выражали единодушное свое удивление и восторг от нашей аудитории, и проф. Петербургского университета И. И. Боргман охарактеризовал ее одним словом – „чудная аудитория“».
«Уничтожаются старинные колонны и хоры, затемнявшие аудиторию, она делается светлее и поместительнее, – рассказывает Гольдгаммер, – под ней помещается в подвале газовый двигатель и динамо, аудитория становится равной лучшим аудиториям европейских университетов и украшается впоследствии бюстом и законами Ньютона. Эти перестройки позволили расширить немного и само помещение физического кабинета; кроме того, к нему присоединились еще две комнаты, и Столетов получил возможность работать экспериментально и в физическом кабинете, здесь же, где готовились опыты к лекциям, не перебегая несколько раз в день из старого здания Университета в новое и обратно. Но все это потребовало времени и уладилось окончательно только к 1887 году».
Конечно, на этом Столетов остановиться не мог. Осенью 1887 года он закрепляет за физической лабораторией освободившуюся квартиру Марковникова. Теперь помещение расширяется вдвое, места хватает как студентам, так и практикантам.
Но не только расширение помещения встречает трудности на своем пути. Проблемой оказывается и выделение средств на оснащение. Но Столетов не сдается, и иногда дело доходит до анекдотов.
Лаборатории очень необходим токарный станок, без него механик чувствует себя беспомощным. Столетов просит университет выделить необходимые 300 рублей на его покупку. Но счет возвращается неподписанным. Слишком велика сумма для такого «неподходящего» для физической лаборатории приспособления. И тогда смекалистый ученый вспоминает, что по-немецки «станок» – «drehbank», и пишет на новом счете, что лаборатории необходима «точная дребанка». Университет тут же выделяет деньги.
Весной 1888 года Александр Григорьевич наконец-то садится за «Актиноэлектрические исследования», идею которых он вынашивает уже давно. Дни и ночи он размышлял над тем, как превратить свет в электричество. Мечтателя влечет к себе звезда по имени Солнце. «От этого очага, – писал он, – далеко оставляющего за собой все его земные подражания, льется в пространство непрерывный поток лучистого тепла, потом энергии в форме работы волн эфира, идущих вперед и вперед подновляемых новыми толчками из центра…»
Вместе с Гольдгаммером он проводит целые дни в кабинете, кружа по нему с 10 утра до 5–6 часов вечера, едва прерываясь на завтрак. С ними работает Усагин, который делает для Столетова прибор для исследования фотоэффекта.
Дмитрий Александрович Гольдгаммер. 1860–1922
Прибор работы И. Ф. Усагина, служивший Столетову для исследований фотоэффекта
Иван Филиппович Усагин. 1855–1919
После обеда Столетов и Гольдгаммер часто отдыхают в Петровско-Разумовском, где известный физик ночевал в жаркие дни. «Эти вечера вместе <…> проходили в беседах о завтрашних опытах, о новых работах, в воспоминаниях заграничных поездок и впечатлений, – вспоминает Гольдгаммер. – Александр Григорьевич был увлекательный собеседник». Часто заходит у них речь и о будущем опытной физики в университете.
Когда наступает время занятий, Александр Григорьевич возвращается к своим лекциям, но мысли его далеко – они бегут из аудитории, полной студентов, в кабинет, к его опытам. Он пропускает встречи Общества любителей естествознания, не видно его и в Петровском парке – излюбленном месте для прогулок. Все вечера он проводит за приборами, изучая взаимосвязь света и электричества.
Крохотный прибор, который изобретает Столетов, нам известен как фотоэлемент. Именно с помощью него можно превратить свет в электричество.
Стоит еще сказать, что во время этих исследований всего одно словосочетание, которое определяет Столетов, оказывается одним из главных его открытий. «Распыление электричества», – называет он процесс, когда ток появляется без батареи. Если говорить по существу, это первый опыт в мире, доказывающий сложность строения атома и существование принадлежащих ему мельчайших частичек электричества. Впоследствии их назовут электронами.
Наступает май. В Париже собирается II Международный конгресс электриков. Ученые съезжаются со всей Европы. Здесь и швед Аррениус, французы Маскар и Липпман, норвежец Бьеркнес, итальянцы Феррарис и Рольти, англичанин Вильям Томсон, которого теперь все знают как лорда Кельвина, американец Эдисон.
В город Эйфеля приезжает и Столетов вместе со своими учениками, которые уже стали заслуженными учеными. Во дворец Трокадеро, похожий на мавританскую мечеть с двумя башнями-минаретами, Александр Григорьевич входит с Гольдгаммером, Михельсоном и Зиловым. Здесь же встречается Столетов с киевским другом Авенариусом, с которым поселяется вместе.
Конгресс открывает президент Французской Республики. По обе руки от него за столом сидят старый патриарх Томсон и глава всей новой науки об электричестве Столетов. Исследования Александра Григорьевича дарят ему всемирную славу, и конгресс единодушно признает его вице-президентом собрания.
Офицерский крест ордена Почетного легиона – награда правительства Франции Столетову в знак признания перед мировой наукой
Работа конгресса проходит в четырех секциях: измерительной и промышленной техники, телеграфии и электрофизиологии. Столетов работает в измерительной. Электротехникам всего мира необходимо договориться об общей системе измерения. Именно Александр Григорьевич предлагает сохранить обе системы единиц: электромагнитную и электростатическую – и установить практическую единицу сопротивления Ом, как наиболее близкую к теоретической. Его решение поддерживает весь конгресс.
В те дни в Париже проходит Всемирная выставка, посвященная электричеству, и Столетов завороженно ходит по павильонам, вглядываясь в сотни электрических солнц – дуговых ламп, придуманных П. Н. Яблочковым и В. Н. Чиколевым. Как на ветках груши, висят над головами гирлянды ламп накаливания, изобретенные Лодыгиным, но поставленные на производство Эдисоном, Сваном и Максимом. Стоят здесь и трансформаторы – аппараты Яблочкова и Усагина по передаче электрической энергии на дальние расстояния. К сожалению, свое применение они нашли везде, кроме родной страны.
«Посетители, впервые попавшие на выставку, не могут сначала остановиться на чем-либо одном, не могут успокоиться, не обегавши все, – делится своими впечатлениями Столетов. – Это первое знакомство поверхностно и неясно, но это – психологическая потребность. <…> Став спиной к главному входу (с Елисейских полей), попытаемся ориентироваться. Перед нами пестрая картина. Ряды павильонов всевозможных архитектур, витрины с самым разнообразным содержанием, телефонные будки, вагоны, мачты, статуи, флаги различных наций, сети проволок, неумолкающий звон сигнальных аппаратов и море электрических огней – вот элементы первого смутного впечатления. Вдоль южной стены тяжелые двигатели, машины для тока, вагоны, вообще все громоздкое. Большая лестница направо ведет наверх; там ряд отдельных зал по окружности здания: маленькая роскошная квартира с электрическими приспособлениями, театр и галерея картин, освещенные – как и все – электричеством, ряд зал с аппаратами, залы телефонов, исторический музей, зала Конгресса и две комнаты Эдисона».
Подобные командировки, помимо отдыха и оздоровления, имеют для Столетова и другое значение – именно так он может поддерживать знакомство со всеми своими иностранными друзьями учеными, с которыми в России он ведет оживленную переписку. Среди них Гельмгольц, Кельвин, Кундт, Больцман, Камерлинг-Оннес и многие другие.
Столетов (четвертый слева) среди английских физиков
За границей Александр Григорьевич пользуется особым уважением, здесь его считают добрым ангелом русской физической науки. На сохранившейся фотографии мы видим Столетова в группе английских ученых, на переднем плане Эндрюс и Стокс, позади Столетова – Джоуль. О непринужденности обстановки свидетельствует сигарета в руках русского ученого. Когда у Тимирязева спросили: «Разве Столетов курил?», Климент Аркадьевич засмеялся и ответил: «Я спрашивал об этом, мне ответили, что он не курил, но иногда баловался». Судя по тому, что Александр Григорьевич «баловался» при англичанах, они состояли в теплых, дружеских отношениях.
Личные вещи. Мундштук и очки
Письма и открытки Столетову
Вернувшись из Парижа, Столетов посылает статьи в журнал «Электричество», «Журнал Министерства народного просвещения», «Труды физического отделения Общества любителей естествознания», описывая все увиденные достижения науки. Делает доклады, каждый из которых так или иначе пропитан горечью за судьбу русских ученых и изобретателей. Лодыгин, без которого не было бы электрических солнц, вынужден жить на заработок слесаря, ничего не получив со своего изобретения. В нищете живет Яблочков. Изобретателям иногда даже отказывают в праве на имя – люди знают, кто такие Эдисон и Сван. А вот русские фамилии едва знакомы. «Вопрос об электрическом освещении нам близок особенно… – говорит Столетов. – Два русских деятеля дали вовремя толчок задаче об освещении – это Лодыгин и Яблочков, представители двух главных типов электрического света. Странно, что в русском отделе (вообще составленном довольно слабо) не позаботились выставить эти лампы – их нужно искать во французском отделе».
Сувениры, привезенные Столетовым из Парижа после выставки. Брошюра об Эйфелевой башне и нож для разрезания бумаги
После Франции Столетов планирует сразу же вернуться к своим опытам, да вот только «та неблагоприятная обстановка, в какой работал Александр Григорьевич, слишком тяжело отзывалась на его здоровье, – пишет Соколов. – Все это заставило его на время остановить свои исследования в надежде снова приняться за них при более благоприятных обстоятельствах». К сожалению, между работами по измерению скорости электромагнитных процессов и дальнейшим исследованием фотоэффекта пройдет целых семь лет.
В конце 1889 года Александру Григорьевичу приходит письмо, после прочтения которого он тут же теряет присущую ему сдержанность, бросает все дела и на следующий же день оказывается под крышей родного дома во Владимире. С колотящимся сердцем он спрашивает у первого же встречного на крыльце: «Ну как, жива?»
Но он опоздал. Любимая мать умерла.
Общество любителей естествознания и ученики Столетова
Еще в 1870 году на квартире у Столетова начинает собираться ставший знаменитым физический кружок. Его участники в дружеской атмосфере за чашечкой чая обсуждают достижения науки, делятся своими мыслями по поводу ее будущего. Здесь за одним столом рассаживаются Умов, Зилов, Преображенский, Шиллер и другие ученики Александра Григорьевича, приходят и преподаватели: астроном Ф. А. Бредихин, механик Ф. А. Слудский и В. Я. Цингер.
Отец русской авиации Н. Е. Жуковский спустя много лет будет рассказывать: «Я живо вспоминаю квартиру покойного Александра Григорьевича Столетова на Тверской улице, в которую я в первый раз пришел на заседание физического кружка <…>. Докладчиками были Умов и я. А. Г. Столетов вместе с В. В. Преображенским и Фишером составляли слушателей. Компания сидела около маленькой стенной доски. Александр Григорьевич принимал живое участие в беседе и посмеивался со свойственным ему живым юмором над необычайно длинным маятником, о котором говорил я».
Иногда даже самые умные головы устают, и тогда заседание кружка прерывается, а Александр Григорьевич садится за рояль. Нередко ему подыгрывает на скрипке, а то и играет соло, Бредихин.
С 1872 года кружок плавно перебирается в физическую лабораторию, организованную Столетовым. Для работы в университете и лаборатории Александр Григорьевич привлекает воспитанников Кундта: Б. Б. Голицына, В. А. Ульянина и В. Ф. Лугинина. Ученый делает все, чтобы обогатить умом стены родной alma mater. Активным деятелем кружка становится и Соколов, друг и ближайший коллега Александра Григорьевича.
О стиле общения Столетова с учениками пишет Гольдгаммер: «Мы являлись в физическую лабораторию, зная много теории, но не имели в руках не только ни одного физического прибора, но и не умели зарядить элемента. Столетов лично целые утра проводил с нами, устанавливая сам приборы, уча делать наблюдения.
Евграф Иванович Брюсов являлся ему в этом деятельным помощником. Умение Столетова не только самому быстро ориентироваться, но и учеников вводить сразу в курс дела доказывается тем, что те же ученики, которые вступали в лабораторию, не умея ни за что взяться, через год принимались за самостоятельные эксперименты, за обучение новых учеников».
С Брюсовым Столетов особенно заботлив. Зная, что у студента вечно не хватает денег, он устраивает его в журнал «Природа», где Евграф пишет научно-популярные статьи. После окончания университета делает своим лаборантом. В этой должности Брюсов пробудет тридцать пять лет, до самой смерти.
«В течение 28-летней службы, – писал Умов в 1904 году, – через руки Е. И. Брюсова прошло много поколений молодых людей, пользуясь его разумным, всегда спокойным и терпеливым руководством не только в лаборатории, но и на семинарах, ведение которых поручалось ему с начала 1884 года профессорами физики. Целый ряд лиц, вышедших за эти 28 лет из стен Московского университета и занявших должности лаборантов, преподавателей в средних и высших учебных заведениях, с благодарностью вспоминает это руководство».
Столетов обладает способностью видеть таланты. Дар к математической физике он разглядел в мечтательного вида голубоглазом юноше Николае Умове в 1866–1867 годах. Помимо тяги к науке, привлекло Александра Григорьевича в Умове и то, что тот еще на студенческой скамье организовал кружок лекторов, который не ограничивался академической жизнью. Участники кружка ездили к рабочим, читали им лекции по естественным наукам и истории. К сожалению, вскоре после основания он был закрыт полицией. Но деятельный Умов тут же организовал другой – математический.
Когда Николай оканчивает университет, Столетов делает все возможное, чтобы оставить студента при факультете, и вложены силы не впустую – уже в 1870 году Умов представляет работу «Законы колебаний в неограниченной среде постоянной упругости», которая обличает в нем выдающегося теоретика.
В этом же году Столетов знакомится с Колли.
Юность Колли не складывалась. Он простудился на охоте, когда был студентом, и слег с лихорадкой. И, толком не оправившись, продолжил бегать по болотам, чем заработал себе хроническое заболевание. Врачи посоветовали ему уехать на юг, из-за чего пришлось уйти из университета. Только через три года молодой человек смог вернуться в Москву и к своим естественным наукам. Постепенно Колли начинает понимать, что зоология и ботаника – не для него, его влечет к физике. Но стоит ли бросать столько лет обучения, чтобы начинать все заново? Колли принимает решение обучиться физике самостоятельно. Окончив университет, он садится за учебники по высшей математике. Самостоятельность всегда привлекала Столетова, и он просит университет разрешить Колли сдать магистерский экзамен по физике, пусть тот и был кандидатом естественных наук.
В середине семидесятых Колли уезжает из Москвы в Казань, чтобы там создать физическую лабораторию. К старому другу Столетова Авенариусу перебирается Шиллер. В Варшаву едет Зилов. Но столетовский кружок не редеет, в него постоянно вливается новая кровь. В 1882 году Александр Григорьевич ходатайствует факультету об оставлении при кафедре двух активных членов своего кружка – Д. Гольдгаммера и Б. Станкевича, а в следующем году – Михельсона. К 1885 году Гольдгаммер и Станкевич получают магистерскую степень и командируются за границу, через два года за ними следует и Михельсон.
Владимир Александрович Михельсон. 1860–1927
Столетов делает все, чтобы устроить жизнь своих подопечных за рубежом.
«Он неустанно проповедовал, что русским ученым необходимо ездить в Европу, – вспоминал через много лет Гольдгаммер, – что только там можно научиться работать, расширить свой горизонт общением с выдающимися учеными; что надо переносить готовые плоды западной цивилизации на русскую почву, а не делать запоздалые и неудачные открытия. <…> Столетов всегда старался, чтобы эти командировки приходились во время, чтобы молодые ученые поспевали в заграничные университеты к началу занятий: в этих случаях личные средства покойного были в распоряжении едущего, как и при обратном возвращении молодых ученых домой, когда они на некоторое время оказывались без заработка. Александр Григорьевич всегда интересовался в таких случаях материальной обстановкой своего ученика и делал все возможное для него, чтобы не оставить человека в такие моменты без куска хлеба. Само собой понятно, что едущий за границу ученик Столетова снабжался от него рекомендательными письмами к выдающимся ученым Европы, открывавшим перед ним двери заграничных лабораторий, посвящавших молодого ученого во все тонкости западной науки».
Посылая своих подопечных за рубеж, Столетов тщательно руководит их занятиями, а молодые ученые не перестают советоваться с учителем. Вот, например, выписка из его письма Михельсону 20 мая 1887 года: «Если вы выберете Страсбург – напишу Кундту, если Вас влечет к Гельмгольцу на его, быть может, последний семестр – напишем Гельмгольцу. Решительного совета я со своей стороны не делаю, хотя, вообще говоря, Страсбург считаю практичнее».
В судьбе этого ученого Столетов принимает наибольшее участье. Он постоянно оказывает ему материальную помощь, несколько раз навещает его в горах Швейцарии, куда Александр Григорьевич на свои средства отправил часто болеющего Михельсона, добивается продления его платного отпуска, отправляет его работы на соискание мошнинской премии. Одновременно подыскивает ему место в Киевском университете и просит факультет сразу предоставить молодому ученому степень доктора, потому что диссертация представляет собой «выдающийся труд». Александр Григорьевич посылает Михельсону книги, журналы, свои работы и труды своих учеников, чтобы тот не чувствовал себя оторванным от ученой среды. Иногда он даже просит у Михельсона совета. Однажды, затрудняясь объяснить закон о максимуме тока, Столетов пишет: «Не придет ли Вам в голову какая-то идея?»
Михельсон охотно отвечает на каждое письмо, радуясь весточкам с Родины.
«Дорогой Александр Григорьевич! – пишет он Столетову.
Очень Вам благодарен за подробности о житье-бытье нашего Общества и за другие сведения, которые Вы сообщаете. Мне поневоле приходится жить все более воспоминаниями, а потому можете себе представить, как меня все это интересует.
Но карточка Ваша, в которой Вы просите присылки нескольких экземпляров диссертации, меня сильно озадачила. Дело в том, что здесь у меня имеется всего-навсего один экземпляр, который я сохраняю для собственного употребления.
Все же остальные остались в Москве и притом по странному стечению обстоятельств пока недоступны и для Вас.
Уезжая неожиданно и поспешно из Москвы, мои родные уложили их вместе с остальными книгами моими в ящики и (так как квартира за нами не осталась) разместили их по сараям и амбарам, мне в точности неизвестным.
Я писал брату в Петербург, чтобы он, когда будет в Москве, отыскал их и доставил Вам экземпляров 10. Но когда сие будет, не знаю. Брат так погружен в свои дела и хлопоты, что даже и не пишет, и я в точности не знаю о его намерениях и распределении времени.
На днях получил книжку Н. Е. Жуковского и очень благодарен ему за присылку оной. Я получил также от Общества Л. Е. торжественное печатное удостоверение о присуждении мне премии и на днях отправлю благодарственное послание.
После моего последнего письма к Вам я еще пролежал в постели более недели, вследствие небольшого кровоизлияния. Теперь лучше. Но плеврит и проч. все еще не прошел.
Здесь все очень заняты коховским открытием. Наш врач скоро уже возвратится из Берлина и привезет с собою драгоценную жидкость неизвестного состава. Я, вероятно, также решусь подвергнуться этому небезопасному эксперименту.
Правда, не очень приятно играть в некотором роде роль морской свинки. Но что же делать! Когда терять уже нечего, становишься готовым на всякий риск.
Работать даже исподволь мне все еще не удается.
Сердечный поклон общим знакомым.
Глубоко преданный Вам В. Михельсон».
Подобное проявление заботы и участия почувствовал на себе и Соколов:
«На самом себе я имел случай испытать не раз чувства его искренней дружбы, особенно же она обнаружилась в 1888 году, во время моей болезни в Боржоми. Александр Григорьевич, случайно туда попав в то же время и узнав, что я лежу в беспомощном состоянии, взял меня на свое попечение, более недели ухаживал за мной, как нянька, лишая себя прогулки, наконец устроил для меня в одном русском семействе хороший домашний стол и пр. Вообще дружбу свою Александр Григорьевич проявлял не на словах, а на деле, в активной форме».
В 1887 году к Александру Григорьевичу приходит П. М. Голубицкий, основоположник отечественной телефонии. Он рассказывает невероятную историю о том, что в маленьком городке в Калужской губернии живет глухой учитель – изобретатель каких-то летательных аппаратов, чьи проекты постоянно отклоняются царскими чиновниками и деятелями официальной науки. Они считают его проекты чем-то невозможным, фантастическим. «Аэростат должен навсегда, силою вещей, остаться игрушкой ветров», – пишут они на зачеркнутом проекте дирижабля.
Голубицкий предлагал ему поехать с ним в Москву, представиться уже знаменитой тогда Софье Ковалевской. Но учитель отказывается. «Мое убожество и происходящая от этого дикость помешали мне в этом. Я не поехал. Может быть, это к лучшему», – будет он потом объяснять. И тогда Голубицкий предложил ему написать Столетову. В ответ на письмо учителя из Боровска Столетов приглашает его выступить на заседании Общества любителей естествознания.
Не проходит и нескольких месяцев, как в квартире Столетова раздается стук. На пороге стоит тот самый изобретатель – К. Э. Циолковский.
Константин Эдуардович Циолковский. 1857–1935
Благодаря Столетову Циолковскому удается познакомить со своими разработками и проектами Физическое отделение Московского общества любителей естествознания. Сбивчиво, взволнованно рассказывает изобретатель о своем цельнометаллическом дирижабле. На этом заседании Циолковский встречает людей, которые поверят в него. Сердечное участие в судьбе боровского учителя принимает не только Столетов, но и Жуковский, Менделеев.
«Моя вера в великое будущее металлических управляемых аэростатов все увеличивается и теперь достигла высокой степени, – пишет Циолковский Столетову. – Что мне делать и как убедить людей, что „овчинка выделки стоит“? О своих выгодах я не забочусь, лишь бы дело поставить на истинную дорогу.
Я мал и ничтожен в сравнении с силой общества! Что я могу один! Моя цель – приобщить к излюбленному делу внимание и силы людей. Отправить рукопись в какое-нибудь ученое общество и ждать решающего слова, а потом, когда ваш труд сдадут в архив, сложить в унынии руки – едва ли приведет к успеху.
История показывает, что самые почтеннейшие и ученейшие общества редко угадывают значение предмета в будущем, и это понятно: исследователь отдает своему предмету жизнь, на что немногие могут решиться, отвлеченные своими обязанностями и разными заботами. Но в целом среди народов найдутся лица, посвятившие себя воздухоплаванию и уже отчасти подготовленные к восприятию известных идей.
<…> Итак, я решился составить краткую статью (20–30 листов писчих), содержащую решение важнейших вопросов воздухоплавания; надеюсь закончить эту работу в три или четыре месяца. Но прежде чем присылать вам ее и хлопотать так или иначе о ее напечатании, позвольте мне передать резюме этой статьи, которое вам и посылаю (печатать его, конечно, некому).
Я желал бы, чтобы Як. Игн. [Вейнберг], Ник. Е. [Жуковский] и другие лица, не подвергая преждевременно критике мои идеи, прочли посылаемое мною резюме».
Но реакционные профессора смотрят на таких, как Циолковский, как на чудаков, их выдумки заставляют только фыркнуть под нос. О подобном впечатлении можно прочесть у Белого:
«У нас появлялся Столетов прередко, вполне неожиданно, безо всякого дела; и – не один, а… в сопровождении неизвестного чудака (всегда – нового, потом исчезающего бесследно); приведенная Столетовым к отцу странная личность развертывала веер юродств; а Столетов, бывало, сидит, молчит и зорко наблюдает: впечатление от юродств приведенной им к отцу личности; насладившись зрелищем изумления отца перед показанным ему чудачеством, профессор Столетов удаляется: надолго; и потом – как снег на голову: появляется с новым, никому не известным чудаком.
Почему-то явление к Столетову чудаков вызывало в нем всегда ту же мысль: надо бы с чудаком зайти к профессору Бугаеву».
Ирония Андрея Белого понятна – он жил в семье профессора Бугаева, отнюдь не положительно настроенного по отношению к Столетову. Он не знал, сколько трудов, сил и веры на самом деле вкладывает Александр Григорьевич в тех, кого автор «Двенадцати» называет в своих мемуарах «юродивыми».
«Прошу Вас не оставлять меня!» – такими словами заканчивает одно из писем Столетову Циолковский.
В 1891 году своим лаборантом устраивает Столетов П. Н. Лебедева, только что вернувшегося из-за границы. Оценив его потенциал, Александр Григорьевич в 1885 году рекомендует Лебедева в качестве приват-доцента университета. Именно он станет продолжателем дела всей жизни Столетова – создаст целую школу физиков, которые станут преподавать во многих высших заведениях страны.
Школа Столетова не была школой в привычном нам смысле этого слова. Ведь он подразумевает под собой узкую специализацию, а в случае Александра Григорьевича все его ученики могли пойти по совершенно разным дорогам: термодинамика, электромагнетизм, акустика, оптика… Но именно с него, по сути, началась физика в России. В 1889 году на обеде, данном в честь Столетова, Жуковский скажет: «Более половины московских физиков – Ваши ученики. Все выросли до ученых под Вашим руководством. Вы направляли их исследования, указывали им более целесообразные расположения их наблюдений. Вы заботились о своих учениках до мелочей».
Не зря именно Жуковский произнесет эту речь. Ведь Столетов открыл и его, своего земляка, родившегося в селе Орехово Владимирской области. Именно он потом создаст условия для развития авиации в нашей стране, разработает теоретические основы крылатых летательных аппаратов.
В 1881 году после кончины А. С. Владимирского Александра Григорьевича избирают председателем физического отделения Общества любителей естествознания. Приходит он туда, так сказать, со всем своим войском. Все члены столетовского кружка становятся членами общества и в апреле того же года образовывают там физико-математическую комиссию, созданную «следить за успехами физико-математических знаний и содействовать разработке текущих вопросов в этой области и преимущественно со стороны чисто научной». «Занятия такой комиссии, – уточняет Столетов, – доставят новый материал для рефератов, предлагаемых на заседаниях отделения».
В это же время Столетов становится директором Отдела прикладной физики Политехнического музея и получает возможность пользоваться всеми приборами, хранящимися в музее.
Слушатели публичной лекции в аудитории Политехнического музея. 1895 год
Судьбы музея и столетовской лаборатории очень схожи. Им приходилось развиваться в тяжелейших условиях самодержавия, выбивать разрешения на постройку новых помещений. Так, Общество любителей естествознания, посчитав место, выделенное под музей, тесным и неудобным, направило запрос на постройку музея на пустыре возле Лубянской площади.
Не хватало денег и на содержание музея, приходилось постоянно их искать, изворачиваться. Главным доходом, на котором держался Политех, были частные пожертвования.
Но несмотря на все хлопоты, жизнь внутри музея кипела. В просторной зале нового здания были организованы публичные чтения. Со своими лекциями здесь часто выступали Давидов, Бредихин, Тимирязев, Марковников, Жуковский… И, конечно же, сам Столетов.
Но на занятиях физического отделения до вступления в должность председателя Александр Григорьевич бывал нечасто. Дело в том, что при Владимирском эти занятия «носили более прикладной, чем теоретический, характер и представляли мало интереса для людей чистой науки, и вообще вся деятельность отдела не отличалась особенным оживлением: при отделе существовала лишь одна комиссия прикладной физики, где вопросы теоретической физики совсем не затрагивались».
Но во время руководства Столетова все начинает меняться. Поблагодарив отделение за оказанную честь, он отмечает, что, как записано в протоколе, «в этом выборе он видит желание отделения несколько усилить чисто научный элемент занятий в отделении рядом с прикладным, развивающимся преимущественно. Это обстоятельство побуждает А. Г. Столетова не отказываться от чести избрания, хотя он не может посвятить отделению столько времени и забот, как покойный Владимирский». Естественно, Александр Григорьевич здесь приуменьшает: в силу своего характера он не может пропускать сквозь пальцы такое важное дело и усердно трудится на благо отделения.
Членство в отделении один за другим получают столетовские ученики. Жуковский, Соколов, Шапошников, Брюсов, Щегляев, Преображенский, Гольдгаммер, Усагин, Михельсон, Скржинский… Так физический кружок заканчивает свое существование и, как феникс, обретает новую жизнь.
Выбирая людей для отделения, Столетов не ставит во главу вопроса титулы или дипломы «новобранцев». С самого детства он остается противником кастовости. Подтверждение этому становится его уход из Московского общества испытателей природы.
В восьмидесятые в этом обществе естественнонаучников – зоологов, ботаников, физиологов, медиков – становится значительно больше любителей точных наук, в связи с чем они начинают диктовать свои порядки. 13 января 1887 года под давлением царского правительства общество не дает членство Марковникову, Соколову, Б. К. Млодзеевскому, которые были рекомендованы прогрессивно настроенными учеными во главе со Столетовым.
Принципиальный Столетов демонстративно уходит из общества и публикует резкое обвинение в печати: «Повторяющиеся в Московском обществе испытателей природы случаи неизбрания в члены достойных ученых, принадлежавших к Московскому университету, побуждают меня устраниться от общества и возвратить мой членский диплом». Вслед за ним сдают свои дипломы Жуковский, Слудский, Церасский, Авенариус, Зилов, Преображенский и Цингер. Уходит и Тимирязев, хотя и принадлежит к числу естественнонаучников.
Столетов (сидит справа у стола) на заседании физического отделения Общества любителей естествознания. 30 октября 1889 года
На закрытых заседаниях комиссии молодые ученые читают доклады. «Кому не памятны заседания физического отделения под председательством Столетова в большой аудитории музея со всей обстановкой хороших институтов, собиравшие всегда публику, сплошь наполнявшую громадную залу, – пишет Гольдгаммер. – Как умел подбирать Александр Григорьевич лекторов, как умел он обставить лекции, каким бесподобным и лектором, и экспериментатором являлся он здесь, когда сам выступал на кафедре! Кто, например, может забыть его лекции „О кипении“, „О намагничении света“ и др., вызывающие такой восторг публики».
Жизнь бьет ключом. «Собирались сюда, – писал Тимирязев, – для обмена мыслей, для сообщения о своих текущих трудах или для того, чтобы доставлять московскому обществу возможность знакомиться в общедоступном изложении с теми завоеваниями человеческой мысли, которые привлекали в данный момент внимание ученых».
Почти ни одного заседания не проходит без разговоров об электричестве. Оно у всех на слуху, оно на повестке дня, и именно оно вдохновляет Столетова. 30 ноября 1882 года на праздновании десятилетия Политехнического музея Столетов, совсем недавно вернувшийся с Парижского конгресса электриков, произнес целую речь, посвященную этому явлению: «До недавнего времени наука об электричестве давала практике лишь телеграф и гальванопластику (что, конечно, не мало); в последние десять лет появились и электрическое освещение в практической форме, и электрическая передача работы через расстояние, и электрическая передача живого слова телефоном. И не видно конца той благодарной деятельности, которая закипела в этой отрасли прикладной физики». И, конечно, здесь мелькают русские фамилии, о которых Столетов не позволит никому забыть. Помимо Лодыгина и Яблочкова, он вспоминает, например, студента-медика П. П. Княгинского, который создал первую в мире автоматическую наборную машину, но был не оценен правящей верхушкой и умер в нищете. Рассказывает Столетов и о системе деления электрического света, которую создал Авенариус и которая, по его словам, лучше западных систем.
Заботится о русской науке Столетов не только исключительно на словах. Он ищет и материальные средства помощи. Например, в 1887 году вдова одного из членов отделения В. П. Мошнина жертвует отделению большую сумму, на проценты которой Столетов учреждает ежегодную премию имени Мошнина за лучшие работы начинающих ученых. Александр Григорьевич становится членом жюри, и со своего поста таким образом помогает в будущем многим физикам и химикам.
За исключительные заслуги перед обществом в 1884 году его члены вручают Столетову золотую медаль, а в 1886-м избирают своим почетным членом.
Но не стоит думать, что вся деятельность физического отделения заканчивается стенами Политехнического музея. Его члены помогают в устройстве электрического освещения на площадях Москвы, решают вопрос об освещении храма Христа Спасителя, организовывают Всероссийскую промышленно-художественную выставку, разрабатывают ряд правил по безопасности при работе с электрическими сетями высокого напряжения и так далее. Но стоит заметить, что электрическое освещение в музее Столетов устроил в то время, когда в столице оно почти не применялось. Видимо, родному гнездышку нужно предоставлять все самое новое и как можно раньше.
Но что же можно сказать о семейном гнездышке Александра Григорьевича?
Из родственников в гостях у него часто бывают племянники, о судьбе которых печется Столетов. Он следит за их занятиями, посылает книги.
«Дорогой дядя! – пишет ему однажды дочь любимого брата Николая Зина.
Я очень благодарна Вам за те прекрасные книги, которые Вы были так добры дать мне. Я читаю сейчас одну из них, и я нахожу ее прелестной. Как могу я описать Вам радость, которую я испытала, когда к нам приехал дорогой папа. Я так счастлива, как только это возможно. У нас прекрасная погода, солнце светит радостно. Я говорю, что это папа привез нам хорошую погоду. До свидания, дорогой дядя. Я благодарю Вас за Вашу любезность и остаюсь Вашей признательной племянницей».
Особенно любит Столетов дочь сестры Варвары Катюшу. Он отдает ее на учения в высшие женские курсы в Москве, оплачивает обучение, они живут вместе, Александр Григорьевич заботится о ней, а она о нем. Племянница говорит на нескольких языках и иногда переводит для дяди научные статьи. Однажды приехавший в Москву Николай спросит брата: «Ты что ж, так и будешь держать Катюшу при себе? Ведь ей давно пора вить свое гнездо».
Александр Григорьевич со своей племянницей Катенькой
Вскоре в квартире Столетова частым гостем становится полковник-кавалерист Евгений Краевский. Его огромная фигура занимает половину помещения, и невысокой Катюше как-то неуютно рядом с ним, поэтому Краевский все время старается занимать меньше места, вжимаясь в стены, и постоянно роняет то вазочки, то лампу, при этом страшно смущаясь. Николай как-то раз шутит, что тот однажды «унесет Катюшу в кармане».
И уже через некоторое время Александр Григорьевич благословляет девушку, и полковник увозит ее в свое смоленское поместье.
Председательство в отделении, работа в Политехе, лекции, исследования – все это отнимает у Столетова любые силы и время, до самой смерти он останется холостяком. Его семьей была и будет студенческая и ученая среда.
Но смотрители Музея имени Столетовых во Владимире рассказывают, что существует легенда, что у Александра Григорьевича была возлюбленная. Эти чувства были взаимны, дело даже шло почти к свадьбе… Пока однажды девушка не заболела инфлюэнцей и не скончалась.
То, что Столетов до конца своих дней так и не женился, означало, что он хранил верность той девушке. А ведь действительно, столько вокруг Александра Григорьевича было женщин, столько из них приходили на его публичные лекции, устраивали ему овации, донимали вопросами!..
Но Столетов остался верен. Словно лебеди, которые после смерти своих половинок уже не могут свить новое гнездо с кем-то другим.
«Голицынская история»
В 1880 году на стол к Д. И. Менделееву кладут письмо. Он с интересом берется за закрытый конверт и подносит его к глазам. Подписано: «Ваши искренние почитатели, профессора Физико-Математического Факультета Московского Университета: А. Давидов, Федор Бредихин, Анатолий Богданов, Федор Слудский, Николай Бугаев, Василий Цингер, Сергей Усов, Яков Борзенков, Михаил Толстопятов, Вл. Марковников, Александр Столетов, Николай Лясковский, К. Тимирязев, И. Архипов».
«Милостивый государь Дмитрий Иванович, ряд принадлежащих Вам исследований и учено-литературных трудов, отличающихся глубиною и оригинальностью основной мысли, с давних пор уже обратил на себя внимание русских ученых и заставил признать Вас одним из наиболее выдающихся научных деятелей России.
Ваши „Основы химии“ стали настольною книгою всякого русского химика, и русская наука гордится трактатом, не имеющим себе равного даже в богатой западной литературе. Наряду с многочисленными сочинениями долголетняя и плодотворная профессорская Ваша деятельность, а также участие в исследовании минеральных богатств России делают Ваше имя одним из самых почтенных в истории русского просвещения.
В последние годы Ваш закон периодичности химических элементов, столь блистательно оправданный открытием „предсказанных“ Вами металлов, напоминающим открытие Нептуна, доставил Вам почетное место в кругу ученых всего мира. „Это, – по выражению Вюрца, – могучий синтез, который отныне необходимо иметь в виду всякий раз, когда желаем взглянуть на предмет химии с высоты в целом его объеме“. Дальнейшая экспериментальная разработка „закона Менделеева“, без сомнения, еще более покажет, как широко обнимает он свойства вещества, и окончательно упрочит за Вами славу первоклассного ученого мыслителя.
Между тем мы узнаем, что находящаяся в Санкт-Петербурге Академия Наук при недавно происходивших выборах не приняла Вас в число своих действительных членов.
Для людей, следивших за действиями учреждения, которое, по своему уставу, должно быть „первенствующим ученым сословием“ в России, такое известие не было вполне неожиданным. История многих академических выборов с очевидностью показала, что в среде этого учреждения голос людей науки подавляется противодействием темных сил, которые ревниво затворяют двери Академии перед русскими талантами.
Много раз слышали и читали мы о таких прискорбных явлениях в академической среде и говорили про себя: „quousque tandem? (Доколе же еще? (лат.))“ Но пора сказать прямо слово, пора назвать недостойное недостойным. Во имя науки, во имя народного чувства, во имя справедливости мы считаем долгом выразить наше осуждение действию, несовместному с достоинством ученой корпорации и оскорбительному для русского общества. Такое действие вызовет, без сомнения, строгий приговор и за пределами России – везде, где уважается наука.
Примите уверение в глубоком уважении и преданности, с которыми остаемся».
Автором всего этого письма был не кто иной, как Александр Григорьевич Столетов.
Дело в том, что, отмечая заслуги Менделеева, многие российские и зарубежные университеты избрали ученого своим почетным членом – в их числе Кембриджский, Оксфордский и другие; он был членом Лондонского королевского общества и многих академий: римской, парижской, берлинской, американской и других. И вот, в городе Петра Великого ученого, признанного всем миром, вдруг забаллотировали, избрав в экстраординарные академики довольно посредственного химика Ф. Ф. Бейльштейна.
На исход дела повлияли царские чиновники.
Не допускают в Академию наук также Сеченова, Марковникова, Умова, Лебедева, Мечникова и многих других. Бои с передовой профессурой по всей России в те годы ведутся нешуточные.
На поле Московского университета за движение русской науки сражаются Столетов, Марковников и Тимирязев против реакционеров Боголепова и Некрасова. Сильнее всего обстановка накаляется в 1891–1893 годах.
«Образ его действий характеризуется следующей фразой, – очерчивает Боголепова Марковников, – сказанной мне еще в первое ректорство: „Я всегда более поверю чиновнику канцелярии, чем профессору; потому что чиновники от меня зависят, а профессора нет“. Мило и в особенности логично. Теперь он проводит этот взгляд во всей строгости, но, разумеется, не по отношению ко всем, а смотря по симпатиям. Ректор взял назад прошение, но сказал, что долго все-таки не останется. Врачи говорят, что он неврастеник. <…> Этот господин решительно не понимает, что нужно Университету. По его понятиям, нужна лишь канцелярия».
«Боголепов был сыном исправника, т. е. вырос в семье узко бюрократической, хотя он и говорит, что признает совершенно естественным оба течения общественных симпатий – и либеральное, и консервативное, но на самом деле он допускает только последнее, в самом строгом и безусловном смысле», – описывает его профессор всеобщей истории В. И. Герье.
Стычки между ректоратом и профессурой происходят на совершенно разной почве. Когда Столетов по просьбе студентов начинает читать дополнительные лекции по физике, то он получает выговор от Боголепова за то, что эти лекции никак не были утверждены начальством.
В другой раз Александр Григорьевич решает найти материальную поддержку для служащих университета, получавших в месяц всего 6 рублей и женам которых ректор запретил стирать белье – т. е. получать хоть какой-то дополнительный заработок. Тот год был неурожайным, и цены на хлеб взлетели вдвое. Из-за голода умер один из служащих. Тогда Столетов составляет протокол о положении дел попечителю учебного округа графу Капнисту. На это граф отвечает, что в «протоколе заключаются неуместные и резкие выражения относительно действий правления», и возмущается тем, что Столетов якобы добыл эти сведения «частным обращением к писцу канцелярии правления» без ведома ректора или секретаря. На что Александр Григорьевич подробно объясняет, что секретарь сам дал разрешение. Капнист удовлетворяется таким ответом, но вот Боголепов во всеуслышание принимается утверждать, что Столетов самовольно взял документы, то есть, по сути, украл. Клевета вскоре обнаруживается, но ректор отказывается извиниться перед профессором. После этого случая Столетов перестал подавать Боголепову руку.
В конце 1892 года перед студенческим концертом Боголепов получает анонимное угрожающее письмо.
«При существующей нравственной распущенности кто из нас не получал подобных писем? – пишет в своих записках Марковников. – Я долго этим возмущался, но при общем равнодушии остальных давно уже примирился. Ректор же вздумал объясняться с первокурсниками на лекции, расплакался и благодарил их за сочувствие его распоряжениям. Первокурсники затеяли адрес; все остальные студенты, особенно естественники, этого не одобрили. Началась сумятица, которая еще усилилась, когда ректор пригласил к себе распорядителей концерта, чтобы благодарить за охранение его личности. Распорядители решили ответить, что они охраняли по обязанности вообще порядок, и когда начали говорить в этом духе, то выскочил юрист и начал трогательную речь. Остальные повернулись, и один за другим ушли. Толки и смута усилились. Естественники и медики возмущаются раболепством юристов».
После этой истории Боголепов подает в отставку. Попечитель университета просит преподавательский состав подписать письмо ректору с просьбой забрать свое заявление. Столетов и другие передовые профессора наотрез отказываются добавлять туда свои фамилии.
На одном из заседаний по организации IX съезда естествоиспытателей и врачей Некрасов начинает хвалебную оду в честь ректора. Александр Григорьевич, выведенный из обычного для себя терпения этими пошлостями, высказывает то, что он думает о ректоре, и удаляется с заседания, потому что Некрасов уже принялся говорить в адрес ученого различные дерзости.
24 декабря все члены комитета получили от Некрасова торжественные письма:
«Заслуженный профессор А. Г. Столетов позволил себе во всеуслышание присоединить при упоминании о ректоре столь оскорбительные и дерзкие выражения, что по чувству приличия я не решаюсь приводить их здесь.
Находя, что эти выражения, по их буквальному смыслу оскорбительные для чести университета, вытекали, однако, лишь из личного необузданного раздражения, и сохраняя притом чувства искреннего уважения к А. Г. Столетову как к моему учителю, я тем не менее не могу не оскорбляться столь возмутительною неосторожностью его в обращении с тем, что близко затрагивает более всего для нас дорогую честь университета».
Заканчивая письмо, Некрасов грозит, что сложит с себя звание члена комитета, если комитет не выскажет свое порицание Столетову.
И тогда в Москву из Петербурга приезжает министр просвещения Делянов.
«27-го января, – вспоминал Марковников, – попечитель уведомил меня и Столетова, что министр требует нас к себе на другой день в 12 часов. При этом свидании присутствовал и попечитель. Не рассчитывая на какой-либо успех, мы со Столетовым решили, однако, откровенно указать министру на те поступки ректора, которые не позволяют его считать человеком, способным быть представителем университетской корпорации… Делянов прямо начал разговор резко поставленным вопросом: „Скажите нам, в чем вы недовольны ректором?“»
Профессора молчат. После дважды повторенного вопроса Столетов и Марковников отмечают, что «целый ряд мелких и крупных случаев достаточно ясно показывали, что г. ректор далеко не беспристрастно относится к лицам, почему-либо ему несимпатичным, и в своих отношениях к профессорам позволяет себе такой тон, с которым трудно примириться». Александр Григорьевич рассказывает, как на последней своей встрече Боголепов позволил себе повысить голос и просто-напросто накричать на Столетова.
– Я полагаю, – заключает он, – что, как заслуженный профессор, могу рассчитывать на более деликатное с собой обращение.
Марковников рассказывает о том, что ректор всем своим видом показывает, что хочет ввести в университете чисто административные порядки. Не забыта еще та фраза: «Я всегда более поверю чиновнику канцелярии, чем профессору». Из-за них, по словам Марковникова, секретари правления могут позволять себе крайне невежливое обращение с лаборантами, которых так или иначе приходится посылать в правление за различными справками.
Наконец заходит разговор и об отставке ректора. И Делянов переходит на «застращивание»:
– Если случатся какие-нибудь беспорядки и волнения между студентами, то это может отозваться для вас весьма дурно.
Столетов и Марковников потрясенно моргают. Это угроза?! Почти дрожа от негодования, Марковников отвечает:
– Что же делать! Я думал, что 30 лет добросовестно исполнял свои обязанности и служил, что называется, верой и правдой. Придется переменить убеждение и думать, что я ошибался.
«Затем мы ушли, и два сиятельных проходимца, ненавидящих друг друга, но ловко умеющих приноравливаться к обстоятельствам, остались одни для совещания».
Примерно в это же время в Императорской академии наук открывается вакансия по физике. Александру Григорьевичу приходит письмо, что он был единогласно признан единственным кандидатом. Всем передовым людям было ясно, что Столетов – первый физик России. Дело о его избрании представлялось всем настолько ясным, что здесь и обсуждать-то было нечего: его даже приглашают осмотреть физический кабинет академии и внести свои предложения по его реорганизации.
«4 августа сего года я дослуживаю 30-летие, – пишет он Михельсону, – так что переход к тому времени в Петербург являлся особенно своевременным: получив полную пенсию, я имел бы жалованье, так и надеялся остаток жизни провести без лекций (и особенно без экзаменов!) и что-нибудь сделать для академии, где кафедра физики остается без жизни со смерти Ленца».
Но когда слухи о ректорской истории дошли до президента академии, великого князя Константина Константиновича, августейшая особа приостановила дело об избрании Столетова.
Ученый пишет письмо графу Капнисту:
«Как бы ни смотреть на осенний инцидент, я полагал бы, что он не настолько важен и приписываемая мне вина не настолько тяжка, чтобы закрыть для меня двери учреждения, где я мог бы посвятить науке остаток жизни, 28 лет которой были отданы университетской деятельности (полагаю, не безуспешной). Мне пишут, что готовившееся представление обо мне не отклонено, а отсрочено. Но я весьма опасаюсь, что даже временная приостановка (принятая, быть может, в видах внушения или выжидания) может повести силою вещей к окончательному крушению дела. Ибо кто знает, в каком виде и с какими преувеличениями будет распространяться тем временем московская молва, – в каком свете будет представляться академикам всякая неделя лежащего на мне запрета».
4 марта в ответном письме попечитель уверяет Столетова, что никакого запрета на нем не лежит. И действительно, августейший князь снимает свое «veto» с кандидатуры Столетова. Баллотирование в первом отделении Академии наук назначают на 14 апреля.
В эти дни Александр Григорьевич работает над третьей статьей о критическом состоянии тел. В ней он беспощадно выступает против любых искажений этой теории и положении дел вообще. За его непримиримость его часто журят друзья и подшучивают над ним. Так, в своем письме математик Н. Я. Сонин пишет: «Прочитал Ваши четыре статьи и последнее письмо и пришел к заключению, что свойство доктрины о непрерывности и критическом состоянии выражается, между прочим, в повышенной раздражительности у ее приверженцев. Не будучи таковым, я останусь в жидком состоянии даже тогда, когда температура наших споров перейдет за критическую».
Непримиримость Столетова и огромное внимание к деталям проявляются у ученого и в рецензиях на диссертации, но при этом Александр Григорьевич всегда был, по словам Соколова, готов к диалогу и мог открыто признать свою ошибку, если таковая имела место быть.
И вот на рассмотрение кафедры предоставляет свою диссертацию «Исследования по математической физике» ученик Столетова – князь Б. Б. Голицын.
Александр Григорьевич, назначенный рецензентом, находит в ней ряд ошибок и суждений, не принятых к тому времени наукой. Да, через несколько лет положение о теплоте лучистой энергии войдет в физику, но на тот момент его правильность не мог доказать даже сам автор диссертации. И это отсутствие доказательств лишь подкрепляет рецензента в своих суждениях.
Столетов указывает на слабые места и просит студента внести ряд исправлений. Но Голицын наотрез отказывается. По просьбе первого рецензента выделяют второго, профессора Соколова, который соглашается со всеми сделанными замечаниями. Но юный князь решительно не идет на диалог. И тогда Столетов и Соколов дают на диссертацию отрицательный отзыв.
Заседание ученого совета назначается на 14 апреля (на тот же день, что и баллотировку в академию) и выливается в подлинную расправу над Столетовым.
Все с самого начала пошло не по уставу: председателем комиссии становится не декан, как должно быть, а попечитель, граф Капнист. Декан Некрасов же, в свою очередь, тоже вопреки всем правилам становится адвокатом Голицына.
Самыми первыми, по сложившемуся обычаю, слово держат рецензенты. Но на этом заседании начинает говорить самым первым адвокат Некрасов, не давая слова Соколову и Столетову. После него рецензентам тоже не дают слова – вместо этого зачитывают ответ самого диссертанта на их отзывы, любезно предоставленные Голицыну Некрасовым, что тоже является грубейшим нарушением. По правилам, молодой ученый может познакомиться с отзывами только на защите и уж точно не имеет права выступать на совете по поводу своей работы.
И только после этого слово дают Столетову.
– Весь доклад профессора Некрасова представляет собой не независимую критику диссертации Голицына, а критику отзыва уполномоченных факультетом рецензентов. Доклад ставит себе целью – по пунктам опровергнуть выраженные в нашем отзыве утверждения и не содержит ни одного указания о диссертации, не внушенного непосредственно текстом отзыва. Такого рода доклад не соответствует цели и неприличен по форме, – говорит Столетов и замечает согласный кивок Тимирязева. – Считаю ниже своего достоинства отвечать на критику профессора Некрасова антикритикой, как ни легка была бы такая задача. Неприличный памфлет профессора Некрасова есть не более как акт слепой враждебности ко мне.
Не отмалчивается в стороне и друг Тимирязев.
– Никогда еще факультет, с тех пор как я имею честь присутствовать в его заседаниях, не подвергался подобному оскорблению, – гневно произносит он, а затем с горечью иронизирует. – Заботящийся о сохранении своего достоинства профессор окажется впредь вынужденным отклонять от себя рассмотрение ученых трудов, зная наперед, что при этом исполнении самой тяжелой и ответственной служебной обязанности он не огражден, даже в заседаниях факультета, от оскорблений, всегда возможных со стороны авторов, труды которых будут признаны неудовлетворительными.
Он предлагает диссертанту передать свою работу одному из семи российский университетов, как это принято в подобных случаях.
В конце концов рассмотрение диссертации перенесут на осень.
Придя вечером домой, Столетов узнает, что баллотировка не состоялась. В протоколах заседания записано: «Назначенная согласно протоколу предыдущего заседания баллотировка в ординарные академики по физике профессора Московского университета Столетова по распоряжению Его Императорского Высочества Августейшего президента отложена на неопределенный срок».
Об этом есть запись в дневнике Константина Романова: «В академии было очередное заседание… Предполагалась баллотировка профессора Столетова в ордин[арные] академики по математической физике. Но ввиду того, что у Столетова, как человека с беспокойным нравом, много противников, и он, наверно, был бы заболотирован, я отложил голосование на неопределенный срок».
После переноса рассмотрения диссертации Голицын пишет в Одессу Умову о возможности защиты своего труда. Ему кажется, что Умов, чью диссертацию Столетов в свое время тоже раскритиковал, сможет понять настроение собрата по несчастью.
Александр Григорьевич едет в Петербург на три дня, чтобы выяснить причины задержки. По его мнению, это отголоски русско-немецкого спора вокруг «дела» ботаника Плеске, повышенного в экстраординарные академики. «Там разыгралась новая междоусобица (битва русских с немцами), которая могла бы отразиться на мне похмельем на чужом пиру, – пишет он в одном из писем. – Дело мое отложено до осени, и неизвестно, при каких условиях возобновится, и не придется ли мне самому взять назад мое согласие на баллотировку».
«В течение первого века своего существования русская наука была почти исключительно представлена академией, изолированное положение и ничножное влияние которой, помимо невежественности не только масс, но и общества, несмотря на его внешний лоск, еще увеличивалось ее чуждым, если не всегда иноземным, то почти без исключения иноязычным составом», – описывал Тимирязев. Естественно, к событиям конца XIX века состав несколько поменялся в сторону русских академиков, но прошлое так скоро не забывается, и вопрос «русской» академии стоял остро.
В конце апреля академик Вильд сообщает Столетову, что среди членов академии, и так получивших уже достаточно много доносов на Александра Григорьевича, произошел «поворот настроения» в отношении к нему и что Столетова постараются провалить на выборах. Поэтому Вильд советует московскому ученому снять свою кандидатуру. Но Столетов не соглашается. Ведь такая уступка стала бы торжеством его недругов.
События этой весны настолько расшатывают здоровье Столетова, что он вынужден уехать на курорт. И в его отсутствие враги готовят новый удар.
Все еще на отдыхе, Александр Григорьевич получает письмо попечителя, где извещается о том, что по истечении тридцатилетнего срока службы его место становится вакантным, хотя за ним и закрепляют звание заслуженного профессора, но при этом лишают прибавки в 1200 рублей, которую обычно дают в таких случаях. Не посоветовавшись со Столетовым, на освободившееся место назначают профессора Умова из Одессы и при этом просят передать ему медицинские лекции по физике.
«Далее было деканом закинуто слово, не поделить ли нам с Умовым заведывание Физ. институтом, – рассказывает Столетов в своем письме Михельсону. – На это я ответил, что делить нечего и неудобно, а передать заведывание целиком – во власти начальства, хотя я бы считал более справедливым передать Соколову, а не Умову. Прибавил к этому, что в случае передачи я лекции прекращу и оставлю Университет.
На этом, по-видимому, не настаивают (сам Умов никаких претензий не имеет), и этот пункт остается пока status quo, – надолго ли, не знаю. Думаю, что при всяком поводе его выдвинут вновь, чтобы выжить меня окончательно. С Марковниковым уже теперь поступили так: ему приказано сдать заведывание и квартиру новоназначенному химику. <…> Справедливая награда за организацию и самую постройку лаборатории!
Из Академии не имею никаких сведений, но не сомневаюсь, что это дело проиграно (почему – о том ведает Аллах) и что гг. академики теперь только придумывают, как бы приличнее от меня отделаться. Прямой путь – баллотировать и накласть черных, но это имеет свои неприятности – скандал.
Вот видите, с какими приятностями я встречаю свой „юбилей“!
P. S. Ректор Боголепов подал-таки в отставку, новым будет, кажется, Некрасов. Еще шаг вперед в том же направлении!»
Письмо Столетова Тимирязеву об Академии наук
Осенью 1893 года бурное обсуждение труда Голицына уже не возобновляется во всей своей полноте. Защита диссертации в Одессе становится невозможной, так как без Умова, переезжающего в Москву, она не имеет смысла. Но реакционерам, собственно, совершенно не важно ее научное содержание. Для них диссертация – лишь действенное средство атаки на передового профессора.
Но на этом «голицынская история» не заканчивается. А ее оборот поверг в изумление всех, не только друзей и союзников, но и врагов русского ученого.
15 октября 1893 Столетову приходит письмо от академика Бекетова, которое взволнованный не на шутку Александр Григорьевич тут же переписывает лучшему другу Тимирязеву. Он настолько ошеломлен, что его письмо остается без подписи:
«Письмо от Н. Н. Бекетова гласит:
„Дело об избрании Вашем в члены Академии не было допущено по воле президента до окончания, и была назначена новая комиссия, то есть собственно прежняя, за исключением меня, так как я отказался в ней участвовать. Эта новая комиссия уже представила кандидата в адъюнкты – кн. Голицына… Я, конечно, имел несколько объяснений с самим президентом и наконец делал заявление открыто в заседании нашего отделения, но поддержки не оказалось. По-видимому, из Москвы шла агитация против Вас – всю ответственность за ход этого дела принял на себя сам президент, разрешивший его своею властью“.
Это – во сне или наяву творится?»
Последние годы жизни
В тот же злосчастный день, 15 октября, Столетов отвечает на роковое письмо Бекетова:
«Благодарю вас за уведомление. Итак, вопрос мой решен, что во всяком случае облегчает меня после долгого напряжения. Но боже мой! Каким характерным образом он решается. Не во сне ли я вижу все это? Те же 4 лица, которые представляли меня, не затрудняются теперь представить в будущие академики того игноранта (говорю это не в пылу досады, а хладнокровно взвешивая слова), которому Московский факультет затруднился дать степень магистра ввиду отзыва о диссертации. Если гг. академикам хотелось отомстить Москве за незабвенное письмо к Менделееву (в коем один из них сам участвовал), то цель, думаю, достигается, но какой ценой.
Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, что вы (один) отклонились от этого дела. Честью уверяю вас, что мой отрицательный отзыв о труде кн. Голицына, навлекший на меня столько неприятностей и оканчивающийся таким триумфом для непризнанного мной „ученого“, что этот отзыв проистек не из какого-либо предвзятого недоброжелательства, не из отсталости моей в науке – до неспособности отличить годное от негодного. Нет. Чтобы не выражали лица малознающие, здешние и иные. Там говорила сама правда, сама наука, и мне это дело стыдиться нечего. Да будет стыдно другим.
Этот отзыв о диссертации будет вскоре напечатан в распространенном виде в наших „Ученых записках“. Тогда пришлю экземпляр. К тому времени новый кандидат, вероятно, уже возродится среди вас».
7 октября августейший президент записал в своем дневнике: «В Академии имеют в виду избрание двух новых адъюнктов: по кафедре финских языков некто Андерсона, на избрание которого я, вероятно, не дам согласия, так как число его работ незначительно. А по кафедре физики вместо Столетова, который не был бы избран, почему я и не допустил до баллотировки, предлагают князя Голицына (Бобби), сослуживца моего по флоту».
Ключевые слова в этой записи «который не был бы избран». К. Р. (поэтический псевдоним князя Константина Константиновича Романова) не верит в возможное избрание Столетова. А в связи с «междоусобицей» с немцами (Плеске, Андерсоном) не может допустить провала русского ученого на это место. И не допускает. Что касается Голицына, то князь просто не сопротивляется. Он не «пропихивал» своего друга, как считают некоторые исследователи, хотя и замолвил за него словечко уже после предложения его кандидатуры. «Бывший вахтенный мичман „герцога Эдинбургского“ <…> сумел убедить своих сочленов в высокой талантливости молодого ученого, которого репутация казалась столь жестоко поколебимой», – писал А. Н. Крылов.
Реакционные круги видят в Столетове бунтовщика, подстрекателя студенческих движений, направленных против самодержавия.
«Не правда ли, это какое-то nec plus ultra (до крайних пределов, донельзя (лат.)) дикости, какого и во сне не увидишь, – пишет Столетов В. А. Михельсону 24 октября, через девять дней после назначения кандидатуры Голицына. – Хороши академики, хороши порядки, хороша вся эта интрига, теперь обнаружившаяся во всей ее красоте! Очевидно, меня сумели очернить президенту как нечто невозможное… а почтенный ареопаг – как прикажете: сегодня все за меня, завтра все (за исключением одного из пяти) – против!»
«Незадолго перед тем, – рассказывал Тимирязев о несостоявшейся баллотировке Столетова, – в Москве разыгралась одна из так называемых студенческих историй, и был распущен слух, что подстрекателем в этой истории был Александр Григорьевич Столетов. Чудовищность этой клеветы была очевидна всякому, кто знал Столетова и его отношение к студентам, но золотое правило житейских мудрецов – Calomniez, calomniez, il en reste toujours (Клевещите, клевещите, от этого всегда кое-что останется (фр.)) – и на этот раз увенчалось успехом».
По рассказу племянника Столетова Н. П. Губского, «брат А. Г. Николай Григорьевич, генерал, известный своей отважной защитой шипкинских позиций в 1877 г., в конце 1893 года лично спрашивал у президента Академии, почему, собственно, кандидатура в академию А. Г. была снята, на что получил раздраженный и резкий ответ: „У вашего брата дурной характер!“»
Очевидно, под «дурным характером» имелось в виду мировоззрение, прогрессивные идеи и действия Столетова, а не характер в буквальном смысле этого слова.
Николай Столетов
Знамя Турецкой войны, принадлежащее Николаю
Ученые из разных уголков мира тут же откликаются на произошедшее сочувственными письмами. Профессор Петербургского университета И. И. Боргман пишет:
«Очень и очень возмущен я поступком Академии… Впрочем, так поступает наша Академия уже не в первый раз. Теперь почетнее быть забаллотированным, чем попасть в число членов ее».
Свое отношение выражает профессор Шведов из Одессы:
«То, что вы сообщаете мне в последнем письме, меня нисколько не поразило, все это в порядке вещей. Нельзя требовать, чтобы при приеме в богадельню отдали предпочтение здоровому человеку. Туда принимают преимущественно калек и нищих духом. Ведь забаллотировали же некогда Менделеева. Но вот что меня несколько удивляет, это, во-первых, что вы, кажется, считаете это неудачей для вас и как будто чувствуете себя обиженным. Ужели вы думаете, что кличка „член Петербургской Академии“ импонирует кому-нибудь, кроме швейцаров. Напротив, я бы утешался тем, что лучшие современные русские ученые – Менделеев, Мечников – не в богадельне. Быть в их компании – совсем не стыдно. Конечно, это в денежном отношении выгодная синекура, но вы, кажется, в этом не нуждаетесь».
Из Давоса отвечает Михельсон:
«Если личные связи и интриги могут заменить все остальное, даже ученые заслуги, то нашей Академии никогда не выбраться на высоту, достойную действительно ученого учреждения, и вам даже нечего жалеть, что вы туда не попали. Все это так глупо, что даже смешно и перестает уж, как мне кажется, быть обидным. Право, дорогой Александр Григорьевич, не стоит себе портить кровь из-за этого. Постаравшись, насколько возможно, исключить чисто личный элемент из размышлений об этом и взглянув на дело объективно, вы, конечно, согласитесь, что заслуживает сожаления лишь наша Академия как ученое учреждение. А она и прежде не возбуждала в нас и не заслуживала особенной любви, так что перемена чувств к ней не должна быть очень резкая».
В конце 1893 года готовится IX съезд русских естествоиспытателей и врачей. Консервативная часть профессорского состава беспокоится, что Столетов вынесет на съезд дело с диссертацией Голицына. Ректор Некрасов обращается в комитет по подготовке съезда и пишет лично председателю комитета Тимирязеву:
«Вам, без сомнения, хорошо известно, что в физической секции предстоящего IX съезда русских естествоиспытателей и врачей заявлены некоторыми лицами (например, профессором Н. Н. Шиллером) рефераты, относящиеся к диссертации князя Голицына. Вы знаете также, что ввиду еще нерешенного в факультете спора об этой диссертации есть риск обострения этого спора во время указанных рефератов, что может повести к неблагоприятным результатам либо в отношении условий гостеприимства, либо в отношении достоинства спорящих сторон, связанных с факультетом и университетом. По этим соображениям, мне казалось бы, что правила взаимной деликатности отношений, с одной стороны, лиц, принадлежащих к факультету и Московскому университету, а с другой стороны, гостей, имеющих приехать на съезд, требовали бы, чтобы по возможности вовсе не ставить в секциях съезда рефератов и суждений по таким щекотливым вопросам, как не решенный факультетом вопрос о диссертации князя Голицына. Во всяком случае считаю своим долгом покорнейше просить Вас принять те и или другие меры к тому, чтобы отстранить возможность вышеуказанных обострений на съезде, дабы гости и лица, исполняющие долг гостеприимства, не превратились в воюющие стороны.
В видах охранения деликатности отношений во время съезда я, со своей стороны, буду просить и князя Голицына не выступать с ответами на чьи-либо возражения против его диссертации, предъявленные в заседаниях съезда».
Все это письмо пропитано фальшью и двуличием. В одном из писем Голицыну тот же Некрасов замечает, что существует группа лиц (Столетов, Тимирязев, Марковников и другие), которая «ставит университет и факультет на край пропасти <…>. Теперь эта группа лиц несколько ослаблена, но она все еще сильна своей железной непреклонностью».
Голицын начинает понимать, что все попытки защитить его диссертацию превращаются в фарс, что его «союзники» желают превратить ее в последний удар по великому физику. И он запрашивает снятие своей диссертации с обсуждения. В письме от 29 ноября Некрасов уговаривает его этого не делать. Но Голицын непреклонен. 6 апреля 1894 года совет физико-математического факультета постановил: «Определено: дальнейшее суждение по делу о диссертации <…> прекратить».
В декабре 1893 года открывается IX съезд естествоиспытателей и врачей.
Столетов возглавляет его физическую секцию. Он предлагает, помимо утренних заседаний по работам членов секции, устраивать еще и послеобеденные для обзора новостей физики и демонстрации новинок.
«Сюда стекалось столько членов и публики, – рассказывает удовлетворенный Столетов Михельсону, – сколько влезет, и думаю, что многие москвичи записались в члены именно ради этого. Всего было 4 таких демонстративных заседания, всегда при полной аудитории, а именно: I) Дифракционные решетки Ролана и карты спектра (Столетов), опыты Тесла (Щелгяев), разряды в трубках без электродов (Брюсов), опыты с сильными переменными токами (Лебедев) – между прочим опыт д'Арсонваля, нечто вроде безопасного самоубийства. II) Опыты Любимова – к физике падающей и брошенной системы, к учению об атмосферном давлении (Любимов), биения верхних тонов (Столетов), динамо-машина с двухфазными и трехфазными токами (Боргман), анализ звуков по методике Фрелиха (Лебедев). III) Систематическое изложение и демонстрация опытов Гертца (Лебедев). IV) Цветные фотографии Липпмана (Столетов), фонограф Эдисона (Блох). <…> Все сошло крайне гладко и красиво, и восторгам не было конца. Особенно отличился Лебедев: его длинная лекция по опытам Герца была мастерски сказана и обставлена».
Особым успехом, конечно же, пользовались последние заседания. Вот что пишет Столетов про демонстрацию фонографа:
«Успех вышел колоссальный – нечто небывалое. Представьте себе битком набитую аудиторию. Начинаю я – кратким объяснением (около получаса), с рисунками в приложении. Затем перед нами поочередно раздаются соло на кларнете, декламация Южина, пение Nikita, английская сцена со свистом и хохотом, и пр. и пр. Затем начинаем творить новые фонограммы: певица поет романс, граф Толстой fils (студент) играет на балалайке, студенты поют „Вниз по матушке“ и „Gaudeamus“; все это по очереди записываем и воспроизводим. В заключение всего я прокричал по-английски фонограмму к Эдисону (она будет ему переслана) и отправил от имени профессоров и студентов телеграмму ему же.
Удивительное зрелище представляла аудитория в эти три вечера (8–11 ч.). Энтузиазм беспредельный; досталось и Блоху, и мне! Теперь мы нашумели на всю Москву; последние вечера к нам ломились уже посторонние лица. А снаряд действительно волшебный!»
Съезд широко освещают в печати. Например, на январском номере юмористического журнала «Будильник» изображают Тимирязева, Столетова и Сеченова, которые подбрасывают дрова в костер, разведенный для уничтожения ледяного истукана с надписью «невежество». Внизу надпись: «От пламенных речей и огня науки даже невежество начало таять… К сожалению, из членов съезда не многие растапливали костер, большинство только грелись около него».
В конце съезда Тимирязев произносит заключительную президентскую речь:
– В деятельности секций выдвинулась вперед одна особенность, встреченная общим сочувствием: это ряд блестящих демонстративных сообщений и научных выставок. Пальма первенства в этом отношении по всеобщему признанию должна быть присуждена секции физики.
Благодаря неутомимой энергии и таланту профессора Столетова и его талантливых и энергичных сотрудников члены не одной только секции физики, но и других секций могли ознакомиться с рядом блестящих новейших опытов, какие можно увидеть в такой форме разве что в двух-трех научных центрах Европы.
И только Климент Аркадьевич заканчивает, все две тысячи членов съезда, переполнившие Колонный зал, как один, встают и устраивают десятиминутную овацию Александру Григорьевичу. Стены буквально дрожат от аплодисментов.
Так Москва ответила на холод Петербурга.
«Несколько недель тому назад я было думал совсем устраниться от участия в съезде, – признается Александр Григорьевич Михельсону. – Теперь вижу, что съезд был мне полезен, да и я был полезен съезду. По правде скажу, мы себя показали и утерли нос кое-кому».
Через несколько дней физики дают обед в честь Столетова и преподносят ему памятный альбом со своими фотографиями. Это их свидетельство уважения нескольким десяткам лет трудов во славу физики.
«Это были последние приятные моменты в жизни Александра Григорьевича», – так обозначил съезд профессор Соколов.
Столетова все яростнее стараются изжить из университета.
Осенью 1894 года происходят очередные студенческие волнения. В Ливадийском дворце в Крыму скончался Александр III, профессору В. О. Ключевскому поручают надгробную речь. И когда историк принимается прославлять императора, в зале раздаются свистки. То же самое повторяется после лекции, когда профессор уходит. Начинаются разбирательства.
«Правление опросило названных студентов об участии каждого из них в произведенном нарушении порядка и, обсудив все обстоятельства дела, постановило: трех из наименованных студентов подвергнуть увольнению из университета без прошения и без права обратного поступления в тот же университет, но без воспрещения поступления в другие университеты; выговору и аресту двух студентов, одного на 7 дней, другого на 3 дня; одного аресту на 3 дня; трех выговору и одного также выговору», – записано в протоколе.
«Так как в том же заседании было рассмотрено и разрешено еще 72 дела, помимо чтения и утверждения длинного протокола предшествующего заседания, вышеприведенный судебный приговор из десятка подсудимых был, очевидно, произведен очень поспешно, – вспоминал профессор В. И. Герье. – Быстро распространившийся слух об этом приговоре взволновал студенчество, так как-де в манифестации принимало участие больше 10 лиц, пришли с других факультетов студенты, густо наполнившие широкую лестницу, ведшую в аудиторию второго этажа и обширный вестибюль. Но для всех было очевидно, что суду и каре подверглись немногие случайно замеченные при шапочном разборе.
Поэтому на следующий день, в пятницу 2-го декабря, в химической лаборатории собралась сходка. Туда была призвана полиция, переписавшая „не успевших разбежаться“, и результатом этого была высылка полицией 49 студентов из Москвы».
В конце концов московский обер-полицмейстер направляет донесение «Записка о роли „Союзного совета землячеств“» министру народного просвещения Делянову: «Как бы то ни было, „Союзный совет“ вел себя благопристойно до осени нынешнего года, когда болезнь, а затем и кончина государя императора Александра III вызвали в публике всевозможные толки и предположения. <…> Распространились самые нелепые слухи вроде отмены охраны, производилась крайне тенденциозная критика минувшего царствования, и в конце концов разговоры эти настолько взволновали и разожгли молодежь, что студенты рвали в стенах университета на глазах начальства подписные листы на венок усопшему государю императору, произнося при этом самые возмутительные речи <…>. Ввиду этого „Союзному совету“ было сделано предостережение, члены его были переписаны, но это не подействовало, появилась новая прокламация <…>. Второе предупреждение также не оказало никакого действия, и вышедшие студенты в первой же портерной собрали сходку, на которой и решили продолжать свое дело далее <…>. Администрацией решено было сорвать настроение и ходатайствовать о высылке из Москвы всех наиболее видных главарей кружков, без различия их партийных оттенков, наравне с переписанными членами „Союзного совета“, которые, выпустив вышеуказанные прокламации, утеряли тем веру, вышли из границ своей программы и явились такими же агитаторами, как и другие лица, – в общем, предполагалось выслать около 50 человек». Так, используя инцидент с освистанием профессора, правление хотело избавиться и от многих других неугодных студентов.
«Так как студентам было воспрещено участие во всех тайных обществах, хотя бы и не задававшихся преступными целями, то участие в землячестве уже само по себе являлось преступлением, – объясняет Герье. – Между тем, землячества давно существовали при Московском университете и раньше не преследовались».
Прогрессивные преподаватели стараются сделать все, чтобы вернуть сосланных студентов. В их числе Столетов, Тимирязев, Марковников. Профессора собираются на квартире и составляют там петицию московскому генералу-губернатору великому князю Сергею Александровичу. В ней они требуют возвращения студентов и осуждают произвол властей. «Многие из высылаемых, – сказано в ходатайстве, – как достоверно известно, не только не желали беспорядков, но и всеми силами старались успокоить волнения между студентами, вызванные приговором Правления от 1-го декабря; в числе пострадавших находится немало студентов, подававших большие надежды своими успешными занятиями; вина их заслуживает снисхождения, так как принадлежавшие к землячествам студенты могли считать эти общества негласно разрешенными и, наконец, их поступок принадлежит университетскому суду, а не полицейской каре».
Великий князь пересматривает приговор правления. Большинство студентов оправдывают, из 49 высланных человек 11– разрешают сразу же вернуться к учебе, 25 увольняют, но с правом поступать куда-либо еще, и лишь 13 исключают из университета с лишением права учиться или преподавать где-либо еще.
Правление университета в ярости: через их приговор просто перешагнули! Это послужило для них поводом к осуществлению кампании против петиционеров, «которых они решили доконать по пословице „Не мытьем, так катаньем“», – горестно замечает Герье.
Сначала на одном из заседаний ректор заявляет о своем уходе. Но это не возымело должного эффекта отставки всей административной верхушки университета, которого Некрасов добивался. И тогда ректор и правление ходатайствуют о привлечении к ответственности авторов петиции. Царская охранка доносила:
«Такой образ действий со стороны профессуры, подрывая в корне ту дисциплину и уважение к администрации университета, без которых немыслим никакой порядок в учебном заведении, ясно указывает на существующее среди профессуры нежелательное течение, результатом коего не раз уже были беспорядки. Я имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство, не признаете ли Вы возможным обратить свое особое внимание на профессуру Московского университета, которая из-за популярности своей уже несколько лет подряд старается игнорировать инспекцию, возбуждая тем самым молодежь; результатом подобного направления и являются только что окончившиеся беспорядки. Следовательно, корень нежелательного и уже несколько лет возникшего направления в университете лежит не в одних землячествах, но также и в направлении профессуры. Что многие из профессоров далеко не безучастны к деятельности землячеств, на это у меня имеется немало фактов <…>. В последние годы студенты устраивали так называемые вечеринки с профессорами, на коих велись подчас очень откровенные беседы, так что такие вечеринки старались держать в тайне, собираясь на них с такими предосторожностями, что можно было бы подумать, что это собирается сходка для беседы с каким-либо крайним революционным деятелем, имеющим очень серьезные поручения». На таких «вечеринках» часто бывали Столетов, Тимирязев, Марковников, Сеченов и другие передовые профессора.
Петиция 42 профессоров великому князю. 1894 год.
Из-за той петиции попечитель делает выговор 42 профессорам и выдвигает ряд обвинений, а Делянов объявляет их действия «противозаконными» и еще раз предупреждает, что в случае повторения таких волнений они будут нести полную ответственность за «дальнейшее брожение среди учащейся молодежи».
Столетова признают одним из «зачинщиков». Из-за выступлений в пользу революционной молодежи правительственные круги считают его «красным» и именуют «агитатором». На него постоянно доносят и жалуются царским властям и даже устанавливают негласный полицейский надзор.
Тимирязев рассказывал своему сыну о «совершенно дикой сцене, которая разыгралась в профессорской комнате (где выставлялись новые журналы, полученные университетской библиотекой и где профессура проводила время между лекциями)». «Один из наиболее правых, реакционно настроенных профессоров, юрист граф Комаровский, в этой комнате рассказывал о своей последней беседе с министром просвещения: „Ну, господа, теперь мы можем быть спокойны, никаких студенческих беспорядков больше не будет. Министр мне сказал, что при первой же попытке со стороны студентов вот этот молодчик (он при этом кивнул головой в сторону Столетова) вылетит из Университета…“»
Из-за всего пережитого здоровье Столетова совсем расшатывается. С горечью говорит он Тимирязеву: «Бывали у меня неприятности и похуже, да и силы были не те».
Он составляет учебник «Введение в акустику и оптику», работает в лаборатории, но люди начинают замечать: профессор как-то осунулся, ослабел. Его прямая спина уже слегка согнулась, он все реже появляется на людях – не ходит в театры, на обеды. Многие сторонятся его, боясь навлечь на себя гнев начальства за дружбу со Столетовым. Александр Григорьевич становится нервным, уходит в себя, общается лишь с очень тесным кругом людей, которые остаются верны до самого конца. Поздние вечера Столетов проводит за книгами, читает «Отверженных» Гюго, «Записки и дневник. Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетелем я был» Никитенко. В этом рассказе профессора, талантливого человека, мало-помалу впавшего в пессимизм, Александр Григорьевич, очевидно, находит себя.
«Какая-то печать гнетущего, глубоко затаенного нравственного страдания легла на все последние годы его жизни, – вспоминает Тимирязев, – как будто перед ним вечно стоял вопрос: почему же это везде, на чужбине и в среде посторонних русских ученых встречал он уважение и горячее признание своих заслуг и только там, где, казалось, имел право на признательство, там, где плоды его деятельности были у всех на виду, ему приходилось сталкиваться с неблагодарностью, мелкими уколами самолюбия, оскорблениями. Но он еще крепился, пытаясь стать выше „позора мелочных обид“».
Весной 1895 года приходит известие, что дело с физическим институтом наконец-то получает ход: приходит предложение составить смету на постройку института. Столетов и Соколов обрадованно проводят время за вычислением нужных сумм. Но дело снова заглохло. «Нет, не придется мне строить физический институт…» – вздохнув и пожав плечами, говорит Столетов Соколову.
21 декабря Столетов в последний раз выходит на сцену перед публикой с лекцией «Леонардо да Винчи как естествоиспытатель». В январе 1896 года он переносит тяжелое рожистое воспаление. «Я до сих пор не выхожу из инвалидного состояния: очень истощены силы и поправляются медленно, – делится Столетов в письме Михельсону 19 марта 1896 года. – Едва кое-как, с перерывами дочитал лекции и почти безвыходно сижу дома. Не знаю, поправлюсь ли к апрелю». В апреле обычно проходят экзамены.
В середине апреля здоровье Александра Григорьевича как будто улучшается. Столетов уже строит планы на поезду в Крым в мае. 16 апреля к нему заходит Соколов, чтобы попрощаться перед своим отъездом на юг. Друзья расстаются, надеясь встретиться через несколько недель на курорте.
7 мая Александр Григорьевич чувствует себя настолько хорошо, что принимается укладывать чемоданы, собираясь выезжать на следующий день. Но в тот же день у него начинаются сильные боли в спине. Он слег в постель. Врачи диагностируют инфлюэнцу, которая осложняется воспалением легких и ослаблением сердечной деятельности.
Ученый пишет завещание, где просит похоронить себя во Владимире, а всю свою библиотеку (6 шкафов с 865 изданиями) завещает университету. Огромные шкафы до сих пор стоят в библиотеке физического института, которой присвоено имя Столетова.
«В ночь с 14 на 15 мая, когда по улицам Москвы шумно расходились веселые толпы народа и один за другим потухали огни иллюминации, в стенах университета угасала жизнь одного из преданнейших и незаменимых его деятелей», – напишет потом Тимирязев.
Отпевание проходило 18 мая в университетской церкви, откуда скорбящие друзья и немногочисленные студенты проводили тело до станции Нижегородской железной дороги. На гроб возлагают венки от физико-математического факультета, от физической лаборатории с надписью: «Незабвенному основателю и руководителю» от учеников Столетова.
«Молча проводили его на вечный покой университет и Москва; не нашлось ни одного слова признательности или сожаления над гробом человека, потратившего на них столько таланта, – с тяжелым сердцем пишет Тимирязев. – Впрочем, нет, мне привелось услышать несколько бесхитростных слов благодарности, стоящих длинных холодных панегириков. „Даже в гробу покойник порадел за нас, – невольно вырвалось у одного из университетских сторожей, – не соберись мы его хоронить, сколько из нас, может, лежало бы теперь на Ходынке“».
Дело в том, что похороны Столетова совпали с ужасной катастрофой на Ходынском поле, когда на праздновании коронации Николая II были задавлены толпой почти полторы тысячи человек. Символичны слова сторожа. Даже после смерти Александр Григорьевич продолжил заботиться о людях и спасать их от катастрофических решений царизма.
В поездку до Владимира делегатом от университета был избран профессор Жуковский, а от лаборатории – Лебедев. Глядя на проносящиеся в окнах поезда деревушки, Лебедев всю дорогу думает о своей последней встрече с любимым учителем: «Последний раз я его видел за день перед кончиной. Он был настолько слаб, что попытался, но уже не мог протянуть мне руки – воспаленье распространилось на левое легкое, и силы изменили ему; тем не менее он заставил меня рассказать о моих занятиях за последний день и навел разговор на свою любимую тему о газовых разрядах. Он сам говорил мало, но потом оживился и слабым, чуть слышным голосом с большими перерывами стал говорить о значении подобных исследований.
Прощаясь со мною, он слабо пожал мне руку и чуть слышно добавил: „Советую заняться этими вопросами – они очень интересны и важны“. Это были последние слова, которые я от него слышал».
…оглянитесь вокруг. Зажегшиеся автоматически с наступлением темноты фонари, турникеты в метро, звук в кинотеатре, солнечные батареи, сигнализации в офисах о наличии дыма – всего этого бы не было, если бы Столетов не открыл первый закон фотоэффекта. Именно его исследования предварили открытие электрона, рентгеновских лучей, радиоактивности. Всю квантовую физику и теорию относительности. И сейчас мы можем в полной мере осознать пророческие слова Александра Григорьевича, произнесенные более ста лет назад:
«В настоящий момент у физиков одна тема господствует над прочими, одна у всех на языке. Перед нами зреет один из самых величавых синтезов нового времени».
Основные даты жизни и деятельности А. Г. Столетова
29 июля 1839 г. – Во Владимире рождается сын купца Александр Григорьевич Столетов.
1849 г. – Саша поступает во Владимирскую гимназию.
1856 г. – Саша оканчивает гимназию с золотой медалью и поступает на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета.
1860 г. – Александр оканчивает Московский университет. Его оставляют при университете для подготовки к профессорскому званию.
1862 г. – Александр уезжает в заграничную командировку (Гейдельберг, Геттинген, Берлин).
1865 г. – Столетов возвращается из-за границы.
1866 г. – Александр Григорьевич получает место преподавателя математической физики и физической географии в Московском университете.
1869 г. – Столетов защищает магистерскую диссертацию «Общая задача электростатики и ее приведение к простейшему случаю». Его утверждают в звании доцента.
1870 г. – Александр Григорьевич организовывает физический кружок у себя на квартире.
1872 г. – Столетов защищает докторскую диссертацию «Исследование о функции намагничения мягкого железа» и публикует ее. В этот же год он основывает первую в России учебно-исследовательскую физическую лабораторию.
1873 г. – Его утверждают ординарным профессором.
1879 г. – Столетов пишет и публикует «Очерк развития наших сведений о газах».
1880 г. – Столетов и другие ученые пишут письмо к Менделееву по поводу его непринятия в Академию наук.
1881 г. – Столетов едет на I Всемирный конгресс электриков в Париже. Он делает доклад о работе по определению коэффициента пропорциональности (v) и работает над утверждением системы международных электрических единиц. Вернувшись, он пишет статьи о конгрессе и электрической выставке. Его избирают председателем физического отделения Общества любителей естествознания и утверждают директором отдела прикладной физики Политехнического музея.
1882 г. – Столетов занимает кафедру опытной физики. Первая публикация «Заметок о критическом состояния тел».
1884 г. – Столетову вручают золотую медаль за деятельность в Обществе любителей естествознания и в Политехническом музее.
1886 г. – Александра Григорьевича избирают почетным членом Общества любителей естествознания.
1889 г. – Работает над «Актиноэлектрическими исследованиями» и представляет их на II Международном конгрессе электриков в Париже. Его избирают вице-президентом конгресса. Столетов участвует в организации VIII съезда русских естествоиспытателей и врачей.
1892 г. – Столкновения с ректором Боголеповым (материальная поддержка служащим, дополнительные лекции).
1893 г. – Столетова выдвигают кандидатом в Академию наук. «Голицынская истории». Кандидатуру Столетова снимают.
Декабрь 1893 г. – Александр Григорьевич участвует в IX съезде русских естествоиспытателей и врачей. В конце съезда ему устраивают десятиминутную овацию.
1894 г. – Петиция 42 профессоров по поводу исключенных студентов. Столетов пишет четвертую статью «О критическом состоянии тел».
1895 г. – Александр Григорьевич работает над учебником «Введение в акустику и оптику».
15 мая 1896 г. – Столетов умирает.

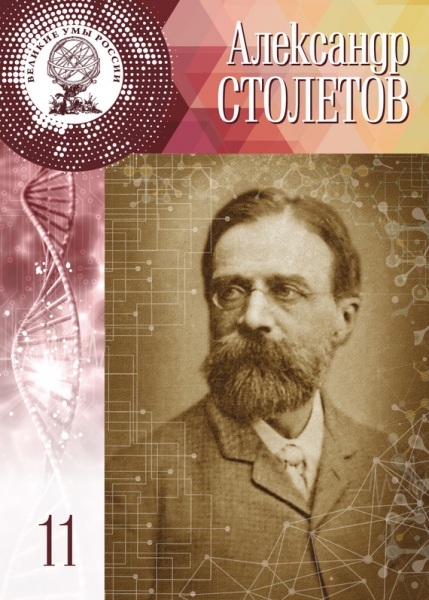
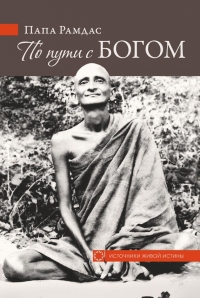

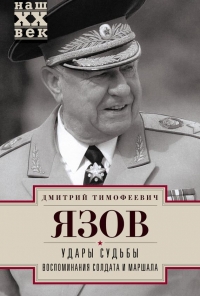
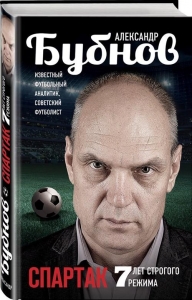
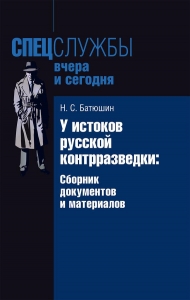
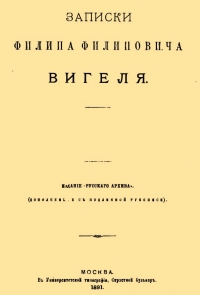

Комментарии к книге «Александр Столетов», Полина Чех
Всего 0 комментариев