Т. Э. Лоуренс, Б. Г. Лиддел Гарт ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ
Предисловие
Предлагаемый вниманию читателя сборник включает две работы, посвященные боевым действиям на Среднем Востоке в Первую Мировую войну и антитурецкому восстанию арабов, организованному британской разведкой. В центре его — легендарная фигура полковника Томаса Эдуарда Лоуренса (1888–1935), «Лоуренса Аравийского», «некоронованного короля Аравии», выдающегося британского разведчика и талантливого ученого-востоковеда, теоретика и практика партизанской войны.
Полный вариант мемуаров Лоуренса, названный им «Семь столпов мудрости», вышел в Лондоне в 1926 году малотиражным нумерованным изданием и предназначался только для ограниченного круга друзей и поклонников автора. Из-за соображений объема для настоящего сборника взят авторский сокращенный вариант, известный под названием «Восстание в пустыне». Желающих ознакомиться с полным текстом мы можем отослать к изданию, выпущенному в 2001 году «Книжным клубом «Терра», а для понимания происходившего в Палестине и Аравии в 1914–1918 годах вполне достаточно и текста, публикуемого в настоящем сборнике.
В литературном отношении воспоминания Лоуренса представляют блестящее и стилистически безупречное произведение, ставящее своей целью в киплинговском духе осветить романтику и героику колониальной войны на Востоке и «бремени белого человека». От произведенных автором сокращений оно ничуть не утратило своих литературных достоинств. Лоуренс дает не только исчерпывающую картину «восстания арабов», но и общее описание боевых действий на Ближневосточном театре Первой Мировой войны, в Палестине и Месопотамии. Помимо всего прочего, автор изнутри показывает тактику и стратегию действий Британии на Ближнем и Среднем Востоке, описывает методы работы британской разведки, дает живые и яркие описания жизни и быта местных арабов.
Работа известного английского военного историка Б. Г. Лиддел Гарта служит своего рода комментарием к воспоминаниям Лоуренса. Ведь деятельность знаменитого британского разведчика как нельзя лучше соответствовала представлениям самого Лиддел Гарта об идеальной войне, основанной на «стратегии непрямых действий. Неудивительно, что автор объявляет Лоуренса творцом новой теории войны и непревзойденным мастером в действии малыми силами на огромном пространстве. «Операции Лоуренса, — пишет он, — отличались подвижностью, повсеместностью, независимостью от баз и коммуникаций, отсутствием особенностей сухопутных войн, стратегических районов, определенных направлений, определенных пунктов».
Безусловно, тактика «бей и беги» как нельзя лучше отвечает критерию «стоимость — эффективность» и позволяет малыми силами и с минимальными потерями наносить противнику достаточно чувствительные удары. При этом нарушение коммуникационных линий — подрыв мостов, повреждение железнодорожного полотна, налет на перевалочный пункт материального снабжения — оказываются куда выгоднее непосредственного уничтожения живой силы противника.
Однако исход военного противостояния все-таки решается на фронте, а не во вражеском тылу. Очарованный своим героем и увлеченный возможностью на ярком примере подтвердить собственные теоретические взгляды, Лиддел Гарт старается не акцентировать внимание читателя на том, что развернутая Лоуренсом широкомасштабная партизанская война против турок не привела к немедленной победе англичан и не помешала союзным силам потерпеть в Палестине и Месопотамии ряд унизительных поражений.
Тем не менее, проведенная Лоуренсом кампания стала не только важным событием в истории Первой Мировой войны, но и предвосхитила многие последующие события мировой военной истории. «Ни одна страна, — пишет Лиддел Гарт, — не может долго продержаться без железных дорог или вести войну без снарядов. То, что вчера делали арабы, завтра сможет таким же образом, но гораздо быстрее, сделать авиация… Разоружить — значит проявить большее могущество, чем убивать».
Увы, понять эту мудрость оказалось под силу далеко не всем…
Из предисловия к изданию 1929 года («Восстание в пустыне»)
Автор настоящей книги, по утверждению ряда современных английских авторитетов, является «самым замечательным из живущих ныне британцев». Лоуренс известен в Англии как «некоронованный король Аравии». Однако, помимо воли автора, книга дает яркие иллюстрации циничных методов британского империализма в азиатских странах, орудием и проводником которого являлся сам Лоуренс.
Весьма характерна судьба самого автора, разрушающая миф об «аполитичности» науки в буржуазных странах. Молодой ученый-ориенталист, посвятивший себя археологическим раскопкам в Сирии и Месопотамии, с началом империалистической войны становится одним из деятельнейших участников английской контрразведки в Каире, где организует пресловутое «Арабское бюро», ставшее в дальнейшем филиалом английского Форин Офис и центром руководства британской политики в арабских странах. Романтический любитель восточных древностей становится политическим агентом британских властей в Каире, на него возлагается подготовка арабского восстания против Турции. В то время как Лоуренс, по заданиям британского верховного комиссара в Египте Мак-Магона, внушал арабским вождям идею объединенной Аравии и звал их, под лозунгами панарабской федерации, к борьбе с турками (выполняя этим программу британского империализма на ближневосточном театре войны), другие британские агенты вели переговоры о разделе арабских стран между союзниками, после того как Оттоманская империя будет разбита, и наследство «больного человека» станет добычей победителей. Характерно, что «романтический» Лоуренс, втиравший очки своим друзьям арабам, прекрасно отдавал себе отчет в том, что английские обещания арабской независимости имеют временное значение. Такого рода самопризнания имеются в ряде мест книги, которая в целом является ярким документом политики британского империализма на Востоке.
Читатель знает, какое важное значение имеют страны Аравийского полуострова в системе Британской империи. Именно здесь — через Красное море, Суэцкий канал и Средиземное море — проходит соединительное звено между Индийским и Атлантическим бассейнами, которые являются главными морскими театрами Британской империи. После постройки в 1869 г. Суэцкого канала стратегическое значение бассейна Красного моря для британского империализма чрезвычайно возросло, что и вызвало с 1882 г. оккупацию англичанами Египта и зоны Суэцкого канала, а в дальнейшем определило программу британской завоевательной политики на Аравийском полуострове, в Палестине и Месопотамии. Именно здесь находится центр имперских связей Англии, соединяющих метрополию с Индией, Австралией и британскими владениями в Тихом океане. Основной имперский морской путь, с базами в Гибралтаре, Мальте, Кипре, Суэцком канале, Периме и Адене наиболее уязвим в том пункте, где соприкасаются африканский и азиатский материки старого света. Здесь же проходит главный имперский кабель, соединяющий Англию с Индией, Австралией и Южной Африкой и проходящей только по британской территории «all red cable» («Сплошной красный кабель». На английских картах британские владения обычно изображаются красной краской.). В порте Суэц находится центральная нефтеналивная станция, снабжающая британский торговый и военный флот жидким топливом. Вблизи Каира расположена наиболее мощная имперская радиостанция (Абу Забал), через которую осуществляется связь Лондона с Канадой, Индией, Австралией, Южной Африкой и другими частями раскинувшейся Британской империи. Наконец, здесь проходит главная воздушная магистраль Британской империи: Лондон—Каир—Багдад—Басра—Карачи—Калькутта—Австралия. Здесь же должна пройти великая британская железнодорожная магистраль Капштадт—Каир—Карачи, которая должна связать воедино африканские и азиатские владения Британской Империи.
Представители «индийской школы» британской дипломатии, одним из наиболее ярких представителей которой являлся небезызвестный лорд Керзон, установили в качестве политической аксиомы, что основным условием защиты Индии как сердца Британской империи является владение подступами к ней (Тибет, Афганистан, Персия, области Передней Азии) или контроль над ними. Для представителей этой школы Каир, Суэц, Мосул, Багдад являются лишь британскими форпостами на подступах к Индии. Столпы консервативного империализма лорды Лендодаун и Керзон фактически превратили Персидский залив в английское озеро. Еще задолго до империалистической войны британские политики лелеяли планы утверждения британского господства в южной Персии, Месопотамии и Сирии, выставляя себя в качестве «наследников» в имуществе «больных людей»—Константинополя и Тегерана, когда эти последние, благодаря помощи европейских «докторов», окончательно развалятся.
Империалистическая война ускорила осуществление этих планов британской дипломатии. Известно, что, согласно послевоенному разделу, Англия получила мандат на Ирак (Месопотамию), Палестину и Трансиорданию (арабская область, расположенная к востоку и юго-востоку от Палестины и являющаяся буфером между областями центральной Аравии и зоной Суэцкого канала), а Франция получила мандат на Сирию. Остальные части Аравийского полуострова остались расчлененными на ряды независимых арабских государств (Хиджаз, Асир, Йемен, Неджд, Шаммар и т. д.), которые в той или иной степени являлись объектом британской политики и вели между собой непрерывную борьбу. Казалось, что англичанам удалось разложить национальное арабское движение и подорвать объединительные процессы и борьбу за национальное освобождение, которые эксплуатировались Англией в эпоху империалистической войны. События последних лет показали, что система британских мандатов и расчленения Аравийского полуострова — не прочна, и что в настоящее время арабское национальное движение, вырастая с каждым годом, становится наиболее опасным противником британского империализма в Передней Азии.
Военные успехи англичан на Ближнем Востоке, приведшие к разгрому Турции и разделу ее арабских областей, в значительной мере были обусловлены тем, что Англии удалось использовать рост арабского национального движения, который наблюдался еще до империалистической войны, чтобы направить его против Турции. Книга Лоуренса «Восстание в пустыне» дает ряд весьма ярких картин организации англичанами арабского фронта против Турции. Она освещает эти операции лишь под углом развития и торжества арабского национального движения, но совсем не говорит о том, как это движение эксплуатировалось британским военным штабом в его стратегических расчетах.
Вступление Турции в войну в октябре 1914 г. вызвало величайшие опасения в Лондоне. Руководители британской политики прекрасно учитывали, что война против союзников Турции, руководящей страны в мире ислама, возглавляемой султаном-халифом, может всколыхнуть против британского владычества многомиллионные мусульманские массы Индии и Египта. Благодаря принятым Англией мерам призыв к «священной войне» против неверных, выпущенный турецким халифом, не имел успеха в Индии и Египте. Англичане немедленно заняли Басру (главный порт Месопотамии, связывающий ее с Персидским заливом) и провозгласили свой протекторат над Египтом (18 декабря 1914 г.). Они приступают затем к лихорадочному укреплению Суэцкого канала, ожидая нападения на него со стороны германского флота, а также турок, и опасаясь в то же время возможного восстания в самом Египте. Эти опасения были весьма основательны. Действительно, уже в январе 1915 г. турецкая экспедиционная армия под начальством Джемаль-паши (морской министр в кабинете младотурок, член руководящего младотурецкого триумвирата) выступила из Палестины к Суэцкому каналу. Целью экспедиции являлось форсировать канал в месте расположения узлового пункта Исмаилия, произвести десант на египетском берегу канала и поднять восстание в Египте против Англии. Эта экспедиция окончилась неудачей. Поход двадцатипятитысячной армии через безводную Синайскую пустыню в условиях бездорожья и отсутствия баз (приходилось воду, продовольствие и боевые припасы везти с собой на верблюдах, на что требовалось свыше 10 000 животных) был чрезвычайно труден и обессилил экспедицию. Англичане сумели потопить понтоны, на которых должна была переправляться армия Джемаль-паши через Суэцкий канал. Туркам удалось перебросить в Исмаилию лишь один понтон, отряд которого был захвачен и интернирован англичанами. Несмотря на эту неудачу, турки продолжали в течение лета 1915 г. подготовлять вторую экспедицию против Суэцкого канала. Согласно планам Джемаля и Энвера (военный министр младотурецкого правительства) предполагалось укрепиться на западном берегу Суэцкого канала и прекратить по нему всякое сообщение путем обстрела из дальнобойных орудий. С этой целью из Константинополя были переброшены в Палестину германские аэропланы и австрийские гаубицы. Одновременно намечалось усиление турецкого гарнизона в Медине и создание там базы для возможных действий против африканского берега Красного моря.
Положение для союзников на Ближнем Востоке складывалось не блестящее. Попытки форсировать Дарданеллы весной и летом 1915 г. окончились неудачей. После гибели нескольких британских крейсеров и малоуспешных действий союзнического десанта операции в Дарданеллах решено было ликвидировать, а в январе 1916 года произошла эвакуация союзников с дарданелльского фронта в Салоники. Английские операции в Месопотамии также развивались неудачно. После занятия басрского вилайета английские части не могли выполнить намеченных операций против Багдада, и в апреле 1916 г. их экспедиционный корпус, под начальством генерала Таунсенда, осажденный в Кут-эль-Амара, был взят в плен турками. Приготовления Джемаль-паши против Суэцкого канала угрожали перерывом английских сообщений между Средиземным морем и Индийским океаном. Престиж Англии в странах Ближнего Востока был заметно поколеблен. Именно эта обстановка заставила англичан ускорить подготовку восстания арабов против Турции, которое и решило в значительной мере исход операций на этом театре войны.
Новым союзником Англии оказался шериф Мекки Хуссейн, переговоры с которым были начаты с июля 1915 г. британским верховным комиссаром в Египте Мак-Магоном. К началу 1916 г. торг был заключен. Англия обещала Хуссейну независимость арабских областей Оттоманской империи и создание самостоятельного арабского государства, во главе с Хуссейном. Этот план был разработан так называемым «Арабским бюро», которое было организовано при британском военном штабе в Каире Лоуренсом и окончательно сформировалось весной 1916 г. Переговоры между Мак-Магоном и Хуссейном, облеченные в форму писем, оставили открытым вопрос о границах будущего арабского государства. Хуссейн отказался от своих притязаний на Мерсину и Адану (южная часть турецкой Анатолии) и согласился на временную оккупацию англичанами Багдада и Басры, с тем чтобы отложить определение границ будущего арабского государства до момента окончания войны.
Уклончивость англичан была принята. Как раз в это время они вели переговоры с французским правительством о разделе арабских областей Турции, и в феврале 1916 г. состоялось секретное англо-французское соглашение (так называемое соглашение Сайкс — Пико), по которому был установлен раздел арабских областей и зон влияний между Англией и Францией. Именно здесь весьма ярко проявились традиции английской дипломатии («десница и шуйца британской дипломатии»), которая во славу британского короля подписывает правой и левой рукой документы и соглашения достаточно противоречащего характера. В этом эпизоде роль левой руки (соглашение с французами) сыграл сэр Марк Сайкс, а роль правой руки (соглашение с арабами) — Мак-Магон и «романтический» Лоуренс.
Дальнейшие события хорошо известны. В июне 1916 г. Хуссейн, провозгласивший себя несколькими месяцами позже королем Хиджаза, поднял восстание против Турции и занял Мекку. Этим его успехи и ограничились, так как попытки арабов захватить укрепленную турками Медину окончились неудачей. «Арабское восстание» начинало уже приобретать характер блефа. В то же время (с июля 1916 г.) развернулась вторая экспедиция Джемаль-паши против Суэцкого канала. Все это требовало принятия чрезвычайных мер. И вот осенью 1916 г. в Джедду был направлен Лоуренс для переговоров с королем Хуссейном об «организации» планомерного арабского восстания. Лоуренс добивается разрешения Хуссейна посетить штаб его сына Фейсала, руководившего операциями против Медины, завоевывает доверие последнего и убеждает его реорганизовать армию.
Во всех последующих операциях арабов, формально возглавлявшихся Фейсалом, Лоуренс играл роль действительного руководителя и начальника арабского штаба. Его задачей было расширить фронт сопротивления арабов, включив в него северные племена, для того чтобы оттянуть турецкие силы и распылить их фронт. Другой задачей Лоуренса являлось уничтожить железнодорожную связь турецких армий с Хиджазом, изолировать Медину и захватить центральный железнодорожный узел Маан. Лоуренс продвигается в глубь турецкого тыла в Сирии, и при помощи арабских племен Ховейтат организует прорыв с севера к порту Акаба, который и был занят арабами 6 июля 1917 г. Через Акабу организуется снабжение из Египта военными припасами и продовольствием арабских вооруженных сил. Именно из Акабы, ставшей базой англо-арабского фронта, в течение 1917 и 1918 гг. организуется арабское наступление к Дамаску, параллельно продвижению английских армий из Египта через Синайский полуостров и Палестину.
После неудач английских операций весной 1917 г. против Газы, защищавшейся Джемаль-пашой, куда были брошены британские танки и направлен огонь дальнобойных орудий британских крейсеров с моря, британское командование на Ближнем Востоке сменяется. Вместо отозванного генерала Меррея назначается генерал Алленби, переброшенный с европейского западного фронта. 1917 г. является годом британских успехов в Ираке и Палестине. Англичане прочно укрепляются в Багдаде и наносят решительное поражение турецкой армии на верхнем Тигре. Одновременно Алленби подготовляет наступление из Египта, проводя железные дороги через пустыню и строя артезианские колодцы. Осенью 1917 г. он начинает тщательно подготовленное наступление двухсотысячной армии, закрепляя свой тыл немедленной прокладкой железнодорожного пути. В ноябре и декабре 1917 г. Алленби занимает всю южную Палестину до Мертвого моря, включая Газу, Яффу и Иерусалим. Однако немецкое наступление на западном европейском фронте весной 1918 г. заставило британское командование перебросить часть войск Алленби во Францию, что приостановило его дальнейшее продвижение в Палестине. Именно в этот период особую помощь англичанам оказали операции арабских частей и экспедиций Лоуренса. Сам Лоуренс специализировался на взрыве турецких железных дорог и захвате поездов, причем ему почти удалось отрезать турецкие армии в Палестине (Джемаль-паши и Лимана фон Сандерса) от их базы в Дамаске.
Решающей фазой империалистической войны на западных и восточных фронтах явился сентябрь 1918 г., к которому было приурочено исподволь подготовленное наступление союзников на основных направлениях. 15 сентября началось наступление командующего союзными армиями на Балканах Франше д’Эспрэ, которое закончилось капитуляцией Болгарии (28 сентября). Одновременно произошел прорыв союзниками «линии Гинденбурга» на западном европейском фронте. В то же время началось решительное наступление Алленби на палестинском фронте, на всем протяжении от Средиземного до Мертвого моря. В трехдневном сражении с 19 по 21 сентября Алленби удалось разгромить турецкие армии, ослабленные перебросками на северный фронт (как раз в это время Энвер-паша, преследуя свои мегаломанские планы, перебрасывал турецкие части из Сирии в Закавказье, на завоевание Армении и персидского Азербайджана). Разгромленная палестинская армия турок беспорядочно отступала к Дамаску, уничтожаемая обстрелом из орудий, бомбардировкой с аэропланов и нападениями арабских партизан, под руководством Лоуренса (который с каким-то смакованием описывает сцены физического истребления турок). Лоуренс заканчивает картину борьбы занятием арабами Дамаска и описанием первой «ночи свободы», которую пережило население Дамаска. Как известно, на следующий день английские армии Алленби оккупировали Дамаск. Турция, теснимая на балканском, сирийском и иракском фронтах, капитулировала (31 октября 1918 г.). Германия сложила оружие. Предстояло подведение итогов империалистической бойни.
Арабское «независимое» правительство короля Фейсала в Сирии просуществовало два года (до июля 1920 г.), когда войска французского генерала Гуро заняли Дамаск. Оно существовало только потому, что в англо-французской борьбе за Сирию британская дипломатия считала выгодным поддерживать своего союзника Фейсала против французов, мотивируя это «защитой арабских интересов». Французы настаивали на передаче им Дамаска, ссылаясь на соглашение Сайкс — Пико. После изгнания Фейсала из Сирии и оккупации французами Дамаска британское правительство предложило Фейсалу, в виде компенсации, вакантный трон Ирака.
Результаты арабского восстания хорошо известны. Обещания Лоуренса и письма Мак-Магона Хуссейну не оказали никакого влияния на решения послевоенных конференций, определявших судьбу Турции и ее арабских областей. Напрасно король Хуссейн отказался от ратификации версальского договора (1919 г.) и тщетно добивался выполнения Англией ее обещаний, не соглашаясь подписать англо-хиджазский договор, санкционировавший отказ Хуссейна от Палестины, Трансиордании, Сирии и Ирака, хотя сам Лоуренс приезжал его «уговаривать». На совещании союзников в Сан-Ремо в апреле 1920 г. был произведен окончательный раздел мандатов. Чтобы примирить с собой Хуссейна, британское правительство посадило его сыновей — Фейсала на трон Ирака и Абдуллу на трон Трансиордании. Палестина, согласно декларации Бальфура от ноября 1917 г., была превращена в еврейский «очаг» и центр сионистической политики Англии (перестраховка на случай борьбы с арабами). Зона Суэцкого канала при этой системе охранялась от ставшего опасным арабского национального движения и буферным государством под мандатом Англии.
Британская политика территориальных захватов на этом не остановилась. Летом 1925 г. Англия, воспользовавшись междоусобной войной Хиджаза и Неджда, захватывает хиджазскую область с портом Акаба и железнодорожным узлом Манн, включив последние в подмандатную территорию Трансиордании и имея в виду превратить Акабу в головной участок трансаравийской железнодорожной магистрали на Басру, чтобы связать Египет и британские мандатные территории в одно целое.
Послевоенное укрепление Англии в странах арабского Востока и захват ею важнейших стратегических баз не создали полных гарантий для прочности британских имперских планов в Передней Азии. За последние годы арабский национализм, который после войны Англия стремится всемерно притушить, становится все более серьезным фактором политической обстановки на Востоке. Не говоря уже о восстаниях в мандатных территориях (в Ираке в 1920 г., в Палестине и в Сирии в 1925 г.) арабское движение начинает интенсивно развиваться в Центральной Аравии. Это движение основано на ряде чисто экономических факторов: с одной стороны, переход кочевников к земледелию, а с другой — борьба за торговые пути и выходы к морю. Центральная Аравия (султанат Неджд) отрезана от Персидского залива рядом английских протекторатов, из которых наиболее важным является Кувейт, являющийся естественным портом для Центральной Аравии. Выходы к Средиземному морю для Неджда закрыты мандатными территориями Англии и Франции. От Красного моря он отрезан Хиджазом. Борьба за торговые пути бедуинов Центральной Аравии (они называются ваххабитами в виду их принадлежности к секте ваххабизма, являющейся толком мусульманского пуританизма) определили собой политику экспансии, проводимую султаном Неджда Ибн-Саудом в послевоенный период. Несмотря на ряд попыток Англии удержать путем ряда соглашений (1915, 1922, 1925 и 1927 годов) в рамках Неджда арабское движение, угрожающее ее подмандатным территориям, эта экспансия продолжает развиваться, являясь выражением тенденций к национальному объединению, которые зреют на Аравийском полуострове. В течение последних лет Неджд присоединил к себе область Шаммар, часть Асира и завоевал Хиджаз, глава которого Хуссейн, ввиду своей англофильской политики и хищнического управления страной, не мог организовать вокруг себя сопротивления бедуинам Центральной Аравии.
В настоящее время на Аравийском полуострове имеются лишь два независимых арабских государства: объединенное государство Неджд, Хиджаз и присоединенные области, с одной стороны, и Йемен — с другой. Вся британская политика и международное соперничество империалистических держав на арабском Востоке определяются борьбой за влияние на эти два независимых государства. Политикой Англии до последнего времени являлось вызывать трения между Йеменом и Недждом и втягивать их в затяжную войну. Этим она рассчитывала отвлечь внимание Неджда от экспансии в сторону подмандатных территорий Ирака, Палестины и Трансиордании и в то же время удержать Йемен от нападения на британские владения в Адене. Положение осложняется англо-итальянским соперничеством в Красном море и попытками Италии утвердить свое влияние в Йемене для того, чтобы заставить Англию пойти ей на уступки в других вопросах,
Однако империалистическая программа на Аравийском полуострове взрывается изнутри тенденциями к сближению между Недждом и Йеменом. Ибн-Сауд и имам Яхья (король Йемена) уже договариваются о мирном сотрудничестве и защите общих интересов против империализма. Именно это заставляет британский империализм снова перевооружаться и укреплять свои стратегические позиции на арабском Востоке. Недаром газеты время от времени сообщают об опасности вооруженного конфликта между Англией и независимыми государствами Аравийского полуострова, причем сообщается о воздушных бомбардировках с британских аэропланов тех или других «непокорных» племен (основой британской военной силы на арабском Востоке являются воздушные эскадры; из 86 воздушных эскадр Британской империи в Ираке находится 8, в Египте, Палестине и Трансиордании — 4, в Адене — 1).
Одновременно с подготовкой военных действий Англия пытается обезопасить свои позиции на Аравийском полуострове путем заключения договоров с Недждом и Йеменом. Эти договоры в основном направлены на гарантию границ британских мандатных территорий и протекторатов на ближнем Востоке. Несмотря на наличие этих договоров, искусственные послевоенные границы, нарушающие традиционное передвижение кочевых племен и торговый оборот, беспрестанно нарушаются, вызывая и новые осложнения и конфликты (один из последних конфликтов — так называемое объявление «священной войны» Ибн-Саудом британским мандатным территориям в марте 1928 г.).
Проведенная послевоенными соглашениями локарнизация арабского Востока не прочна. Она находится в грубом противоречии с теми процессами национального арабского объединения, которые продолжают развиваться, несмотря на искусственные перегородки. Британская стратегическая схема, основанная на мандатах, расположена на «зыбучих песках Аравийской пустыни», как отметил один из наиболее дальновидных британских политиков в Аравии. Эта схема с каждым годом расшатывается и, несомненно, будет взорвана изнутри подлинным «восстанием в пустыне», которое на этот раз будет направляться непосредственными интересами арабского национализма, без участия «некоронованных королей Аравии», подобных талантливому авантюристу Лоуренсу.
Знакомясь по прессе и журналам с современными событиями в Аравии, читатель, вероятно, встретится с именами действующих лиц, изображенных в книге Лоуренса. Ряд «героев» сошел со сцены. Мак-Магон почил на лаврах, и, как сообщают британские справочники, занимается охотой и катается на яхте. Начальник британской разведки в Египте Клейтон получил титул лорда и сделался дипломатом. За последние годы он является главным английским специалистом по переговорам и по заключению договоров с арабскими государствами. Алленби получил назначение на пост верховного комиссара в Египте и отличился расправой с египтянами в 1924 г. во время убийства британского командующего египетской армией сердара Ли Стака, после чего было сочтено за благо заменить его менее «заметным» лицом (Джорджем Ллойдом). Сам Лоуренс отошел от политической жизни, и, переменив фамилию (он принял имя Шоу, заявив, что прежнее имя скомпрометировано послевоенной британской политикой в Аравии и нарушением обещаний арабскому народу), служит в рядах индийской армии, считая, по-видимому, что колонизаторская политика Англии в Индии не компрометирует честного ориенталиста. Для удобства читателя, не занимающегося специально Востоком, перевод снабжен рядом разъяснительных подстрочных примечаний.
Читатель зато встретит в современных событиях в Аравии ряд лиц (Ибн-Сауд, имам Яхья и др.), лишь бегло упоминающихся в книге Лоуренса, которая не затрагивает Неджда и Йемена, выдвинувшихся за последнее время на передний план в определении политических судеб арабского Востока.
Труд Лоуренса, посвященный описанию политических событий, дает достаточно хорошее представление также о климатических, бытовых и отчасти социальных условиях современной Аравии. К сожалению, выходящий в русском переводе труд Лоуренса подвергся в этой части значительным сокращениям, что, однако, сохраняет за русским изданием ценность его как исторического документа и блестящего приключенческого романа.
Из предисловия к изданию 1941 года («Полковник Лоуренс»)
Аравийский театр войны имел свои исключительные особенности и трудности. Они заключались в отсутствии хороших шоссейных и грунтовых дорог, в сыпучих песках, жарком климате, недостатке в источниках воды. Огромные размеры малонаселенной пустыни вынуждали заготовлять продовольствие и фураж только в оазисах. Все это и заставляло командование английских вооруженных сил почти топтаться на месте в первый период войны. Англичане вынуждены были строить железные дороги и артезианские колодцы, для того чтобы обеспечить снабжение действующих войск водой, продфуражом и боеприпасами. Этими же особенностями театра войны объясняются огромные усилия британского правительства по организации восстания арабов в тылу турок с целью общего ослабления сил противника.
Важнейшей стратегической задачей английского империализма в Аравии во время мировой войны 1914–1918 гг. было нарушение нормального функционирования Хиджазской и Дамасской железных дорог. Эти дороги служили основной артерией снабжения турецкой армии в Палестине и Аравии. Такую важную стратегическую задачу могли выполнить с успехом только повстанческие отряды арабов, снабженные английским вооружением и посаженные на верблюдов. Верблюды, способные переносить 100-километровые переходы в суровой и безводной пустыне, позволяли отрядам арабов совершать продолжительные переходы независимо от водных источников и баз. Подвижность и независимость повстанческих отрядов арабов от баз снабжения объяснялись еще и тем, что верблюды находились па подножном корму и, кроме того, везли на себе для всадника 40 фунтов муки. Это был почти десятидневный паек араба.
Нет никакого сомнения в том, что регулярные британские войска, привязанные к своим базам, находившимся очень далеко от Хиджазской и Дамасской железных дорог, не могли разрушить эти дороги. Они также не могли отвлечь и рассредоточить неприятельские силы. С этим могли справится только мелкие, но подвижные и способные везде и всюду передвигаться отряды. В выполнении этих основных стратегических задач английских империалистов и заключалось огромное значение восстания арабов. Кроме того, восстание арабов, на которое англичане переложили в основном всю тяжесть борьбы с турками, позволило Британской империи не отвлекать значительные свои силы с Западного театра войны.
Руководящую роль как в организации, так и в дальнейшем руководстве восстанием арабов играл Лоуренс. Не удивительно поэтому стремление определенных кругов Англии возвеличить личность полковника Лоуренса и сделать его чуть ли не национальным героем. Буржуазный военный писатель Лиддел Гарт в своей книге также отражает эти стремления, идеализирует Лоуренса и далеко не объективен в оценке его способностей и личных качеств.
По Лиддел Гарту Лоуренс являлся единственным способным и талантливым полководцем, который оказался в состоянии справиться с задачами, стоявшими перед британским империализмом на Аравийском Востоке. Он сумел превратить «силу турок в их слабость и слабость арабов в их силу». Если бы не было налицо тех глубоких социальных противоречий внутри Турецкой империи, которые ослабляли Турцию и составляли силу арабов, то никому бы не удалось обмануть арабов и направить их восстание против турецкой армии. Почва для восстания была в самой системе Турецкой империи.
Поскольку почва для восстания была достаточно накалена, то, не будь Лоуренса, какой-нибудь другой представитель Англии выполнил бы эту задачу. Нужно отдать должное Лоуренсу в том, что он глубоко и больше чем кто-либо другой изучил быт, нравы, религию арабов и прекрасно знал их язык. Он изъездил почти всю Аравию до начала войны, тщательно изучил состояние арабских племен и имел ряд индивидуальных качеств, нужных разведчику. Все это и позволило Лоуренсу выдвинуться в первые ряды организаторов восстания арабов и получить большую известность, чем кто-либо другой.
Предположение замены принципа сосредоточения основных сил на решающем направления «неуловимым, вездесущим распределением сил» является глубоко ошибочным. Те же примеры использования арабских повстанческих сил, действия которых на аравийском театре носили вспомогательный характер, а решающую роль в нанесении сокрушительного удара на турецкую армию все же сыграли регулярные войска Алленби, — доказывают невозможность замены первого принципа вторым. «Разрушительные действия неуловимых масс» Лоуренса наносила материальный ущерб турецкой армии. Они заставили турок усилить охрану железных дорог, способствовали рассредоточению их сил и, понятно, ослабляли силы турок на решающем направлении. Однако «неуловимые массы» не могли нанести сокрушительный удар регулярным войскам турок и закрепить достигнутый успех.
Партизанская война в сочетании с действиями регулярных войск имеет, безусловно, огромное значение. Но все эти действия не могут являться решающим фактором и носят только вспомогательный характер. Из вышеизложенного становятся ясно, что принцип применения «неуловимых масс» без определенных операционных направлений не может заменить испытанный принцип сосредоточения главных сил на решающем направлении. Первый принцип является только необходимым дополнением последнего там, где это позволяет обстановка. Партизанская война мыслима только при определенных конкретных условиях.
Заслуживает внимания подробный разбор автором оперативного искусства командования британских войск на аравийском театре войны при штурме укрепленных позиций турок у Газа и Беершеба. Эти позиции, как известно, являлись воротами для продвижения британских войск в Палестину. Наибольший интерес а этой операции представляет активный и хорошо продуманный план дезинформации, выработанный британским офицером разведки Майнертцхагеном. Благодаря осуществлению его плана, командование турецкой армии было введено в заблуждение и вынуждено рассредоточить свои силы, тем самым облегчило достижение успеха английскими войсками. Значительную роль в отвлечении сил противника сыграл небольшой, но хорошо вооруженный отряд арабов на верблюдах под командованием Ньюкомба. Этот отряд своим неожиданным появлением в Эс-Самуа, в 35 км к северо-востоку от Беершеба, и активными действиями по Хевронской дороге создал стратегический мираж. В воображении турецкого командования рисовалась картина наступления главных сил британских войск по Хевронской дороге прямо на Иерусалим. Появление отряда Ньюкомба и небольшого отряда британской конницы в тылу и на фланге турок заставило командование турецкой армии направить из твоего общего резерва одну дивизию на фланг у Хеврона. Туда же были переброшены резервы из сектора Шерпа, где как раз и наносился британским командованием главный удар. Поучительной стороной этой операции является хорошо разработанный оперативный план, важнейшими элементами которого были: соблюдение скрытности сосредоточения и сочетание мощного удара с внезапностью.
С точки зрения оперативного искусства исключительный интерес представляют XIV, XV и ХVI главы книги. В них автор подробно описывает знаменитую операцию британских войск в Палестине. Эта операция по своей величине и размаху, по использованию арабских регулярных и иррегулярных войск для нанесения вспомогательного удара в Трансиордании по своим результатам была самой решающей в этой войне. После нее турецкая армия уже перестала быть серьезной силой и, вынужденная непрерывно отступать, несла большие потери от аравийских повстанцев.
Не менее интересным является хорошо задуманный и разработанный до мельчайших подробностей оперативный план главнокомандующего британскими силами в Палестине Алленби. Оперативный план Алленби предусматривал:
1. Отвлечение внимания и сил турецкого командования путем демонстративного передвижения незначительных британских сил на восток к р. Иордан и вспомогательным ударом арабских регулярных войск и партизан с востока в направлении Деръа, наряду с общей активизацией сил арабов для нажима с юга.
2. Внезапный мощный удар с целью прорыва фронта с последующим вводом конницы для глубокого обхода противника, с тем чтобы преградить ему пути отступления на север, тем самым вынудив его отходить на восток через р. Иордан.
Методы дезинформации противника, примененные в этой операции Лоуренсом и Алленби, являются наиболее поучительными. Так, они вели заготовку большого количества продфуражного запаса при марше верблюжьего корпуса от Азрака на Амман. Одновременно с этим распространялись ложные слухи о том, что верблюжий корпус является только авангардом войск Фейсала, что заготовка продфуража производится для его главных сил, которые скоро начнут наступление на Амман.
Заготовляя продфураж в районах к востоку от р. Иордан, англичане одновременно распространяли ложные слухи о предстоящем приходе; с запада британской конницы в районы заготовок. Установив связи с офицерами-арабами в турецком штабе, Лоуренс предупреждал о якобы предстоящем ударе англичан с запада через р. Иордан на Амман. Составляя ложный план атаки Мадаба, Лоуренс и Алленби привлекли к этому вождя племени Зеби, учитывая его заигрывание с турками и рассчитывая на его болтливость. Организовав демонстративный прорыв на Амман небольшими, но хорошими силами, Лоуренс и Алленби проводили ложные дневные передвижения войск в сторону р. Иордан.
Все эти методы дезинформации являлись необходимыми элементами в обеспечении внезапности главного удара Алленби в Палестине и вспомогательного удара арабов на Деръа.
Турецкая армия настолько была введена в заблуждение, что когда к ней поступило от перебежчика правдивое сообщение о действительном намерении Алленби, оно показалось ей преднамеренной дезинформацией англичан. Таким образом, хорошо продуманная и умело организованная дезинформация явилась одним из решающих факторов сокрушительного удара, нанесенного британскими войсками.
Описанные Лиддел Гартом тактические приемы Лоуренса при сражениях у Абу-Эль-Лиссал и Тафила также представляют значительный интерес. Однако при описании боевых действий автором допущена тенденциозность в отношении преуменьшения действительных размеров потерь со стороны арабов. Нельзя верить, что в бою в районе Абу-Эль-Лиссал потери со стороны арабов исчисляются двумя убитыми, тогда как турки потеряли 300 человек убитыми и 160 ранеными.
Автор объясняет огромные потери турок идеальной организацией внезапной атаки Лоуренса. Однако при внимательном анализе хода боя становится ясно, что потери арабов были умышленно преуменьшены или Лоуренс просто не занимался подсчетом потерь арабов.
Большое значение Аравийского полуострова в системе Британской империи для читателя вполне очевидно. После постройки в 1869 г. Суэцкого канала и оккупации англичанами Египта стратегическое значение Красного моря и Аравийского полуострова для британского империализма еще больше возросло. Аравийский полуостров стал тем звеном, которое через Красное и Средиземное моря и Суэцкий канал соединяет бассейны Атлантического и Индийского океанов — главные морские пути сообщения Британской империи со своими колониями. Постройка Суэцкого канала и последующая оккупация Египта, создание мощной военно-морской базы в Гибралтаре и на островах Мальта в Кипр укрепили позиции Англии и в бассейне Средиземного моря.
Характерно, что полковник Лоуренс, втиравший очки своим «друзьям», прекрасно отдавал себе отчет в том, что английские обещания арабской независимости имеют временное значение. Такого рода самопризнания имеются в ряде мест книги «Восстание в пустыне», автором которой является сам Лоуренс.
Т. Э. Лоуренс Восстание в пустыне
Прибытие в Джидду
Когда мы, наконец, встали на якорь во внешней гавани Джидды, над нами под пламенеющим небом повис белый город, отражения которого пробегали и скользили миражем по обширной лагуне. Зной Аравии словно обнажил свой меч и лишил нас, обессиливая, дара речи. Был октябрьский полдень 1916 г. Полуденное солнце, подобно лунному свету, обесцветило все краски. Мы видели лишь свет и тени, белые дома и черные провалы улиц. Впереди, во внутренней гавани, бледный, мерцающий блеск тумана, а дальше на многие мили ослепительная яркость безбрежных песков, бегущих к гряде низких гор, слабо намечающихся в далеком мареве зноя,
Как раз на север от Джидды была расположена вторая группа черно-белых зданий. Они дрожали в зное, словно от толчков поршня, когда судно качается на якоре, и перемежающийся ветер вздымает горячие волны.
Полковник Вильсон, британский представитель при новом арабском государстве, выслал за нами свой баркас, и мы отправились на берег. По дороге в консульство мы прошли мимо белокаменной кладки еще строящегося входа через тесные ряды рынка. В воздухе роились мухи, перелетая от людей к финикам, от фиников к мясу. Они плясали, точно частицы пыли в полосах солнечного света, пронизывающих самые темные закоулки хижин через скважины в настиле, в холщовых занавесах. Воздух был горяч, как в бане.
Мы добрались до консульства. В затененной комнате, с открытой решеткой позади него, сидел Вильсон, готовый приветствовать морской бриз, запаздывавший вот уже несколько дней. Он сообщил нам, что ишан[1] Абдулла, второй сын Хуссейна, великого ишана Мекки,[2] только что вступил в город.
И я и Рональд Сторрс[3] пересекли от Каира Красное море, чтобы встретиться с Абдуллой. Наше одновременное с ним прибытие было большой удачей, и казалось благоприятным предзнаменованием, ибо Мекка, столица ишана, была не доступна для христиан, а трудную задачу Сторрса не мог бы разрешить телефонный разговор.
Мою поездку следовало рассматривать как увеселительную. Но Сторрс, секретарь по восточным делам резиденции в Каире, являлся доверенным лицом сэра Генри Мак-Магона[4] во всех щекотливых переговорах с ишаном Мекки. Счастливое сочетание его знания местных условий с опытностью и проницательностью сэра Генри, а также с обаятельностью генерала Клейтона[5] производили такое впечатление на ишана, что этот крайне недоверчивый человек принимал их сдержанное вмешательство как достаточную гарантию для того, чтобы начать восстание против Турции. Он сохранял веру в британский авторитет в течение всей войны, которая изобиловала сомнительными и рискованными положениями. Сэр Генри являлся правой рукой Англии на Среднем Востоке до тех пор, пока восстание арабов не стало фактом. Сэр Марк Сайкс был ее левой рукой. И если Форин-Офис поддерживал бы взаимный обмен информации со своими доверенными лицами, то наша репутация в смысле честности не пострадала бы так, как это случилось.
Абдулла, верхом на белой кобыле, окруженный стражей из великолепно вооруженных пеших рабов, медленно подъехал к нам при безмолвных, почтительных приветствиях всего населения города. Он был упоен и счастлив своим успехом при Таифе.[6] Я видел его впервые, между тем как Сторрс, его старый друг, был с ним в наилучших отношениях.
Вскоре, когда они заговорили друг с другом, я понял, что Абдулле была свойственна постоянная веселость. В его глазах таилось лукавство, и, несмотря на свои тридцать пять лет, он уже толстел. Последнее, возможно, происходило от того, что он много смеялся. Он самым непринужденным образом шутил со своими спутниками.
Однако, когда мы приступили к серьезной беседе, с него как бы спала маска веселости, он тщательно подбирал слова и приводил всякие доводы. Разумеется, он спорил со Сторрсом, который предъявлял к своему оппоненту очень высокие требования.
Мятеж ишана шел неуспешно в течение нескольких последних месяцев (он стоял на мертвой точке, что при нерегулярной войне является прелюдией к поражению). Я подозревал, что причиной этого было отсутствие руководства — не в смысле ума, осмотрительности или политической мудрости: здесь не было разжигания энтузиазма, которым могли бы воспламенить пустыню. Мой приезд и должен был, главным образом, найти все еще неизвестную главную пружину всего дела, а также определить способность Абдуллы довести восстание до той цели, которую я наметил.
Чем дольше продолжалась наша беседа, тем все больше и больше я убеждался, что Абдулла слишком уравновешен, холоден и современен, чтобы быть пророком, в особенности, вооруженным пророком, которые, если верить истории, преуспевают в революциях. Его можно было бы в достаточной мере оценить в мирное время после победы.
Сторрс втянул меня в разговор, спросив у Абдуллы его мнение о положении кампании. Тот сразу сделался серьезным и сказал, что он считает необходимым настаивать на немедленном и действенном участии Британии в борьбе. Он кратко изложил состояние кампании следующим образом:
Благодаря тому, что мы не позаботились перерезать Хиджазскую железную дорогу, турки оказались в состоянии наладить транспорт и посылку снабжения для подкрепления Медины.[7]
Фейсала[8] оттеснили от города, и враг подготовляет летучую колонну из всех видов оружия для наступления на Рабег.[9]
Арабы, жившие в горах, которые пересекали путь, были вследствие нашей нерадивости слишком слабо снабжены припасами, пулеметами и артиллерией, чтобы долго обороняться.
Хуссейн Мабейриг, старшина рабегского племени гарб, примкнул к туркам. Если мединская колонна двинется вперед, племя присоединится к ней.
Отцу Абдуллы останется лишь встать самому во главе своего народа в Мекке и умереть, сражаясь перед Святым городом.
В эту минуту зазвонил телефон: великий ишан хотел говорить с Абдуллой. Тот рассказал отцу о сути нашей беседы, и последний немедленно подтвердил, что в крайности он поступит именно таким образом: турки вступят в Мекку лишь через его труп.
Закончив телефонный разговор, Абдулла, слегка улыбаясь, попросил, в целях предотвращения подобного бедствия, чтобы британская бригада, — если возможно, из мусульманских войск, — была наготове в Суэце, для того, чтобы можно было стремительно перебросить ее в Рабег, как только турки ринутся из Медины в атаку. Что мы думаем о его предложении?
Я заявил, что передам в Египте его мнение, но британское командование с величайшей неохотой снимает военные силы с жизненно необходимой обороны Египта (хотя Абдулла и не должен был знать, что Суэцкому каналу угрожала какая-либо опасность со стороны турок[10] ), тем более, что надо послать христиан на защиту населения Святого города от врага.
Я прибавил, что некоторые мусульманские круги в Индии, считавшие, что турецкое правительство имеет неотъемлемые права на святые места, ложно истолковали бы наши побуждения и поступки. Быть может, я мог бы поддерживать его предложение более активно, если бы я был в состоянии осветить вопрос о Рабеге, лично ознакомившись с положением и местными настроениями. Мне также хотелось бы встретиться с эмиром Фейсалом и обсудить с ним его нужды и перспективы на более длительную защиту его гор населением, если бы мы усилили им материальную помощь. Мне хотелось бы проехать от Рабега дорогой султанов по направлению к Медине вплоть до лагеря Фейсала.
Тут в разговор вступил Сторрс и горячо поддержал меня, настаивая на жизненной важности для британского командования в Египте иметь исчерпывающую и своевременную информацию от опытного наблюдателя.
Абдулла подошел к телефону и попытался получить от своего отца согласие на мою поездку по стране. Ишан отнесся к предложению с большим недоверием. Абдулла приводил доводы в пользу своего предложения. Кое-чего добившись, он передал трубку Сторрсу, который пустил в ход все свои дипломатические таланты. Слушать Сторрса было наслаждением, а также уроком для любого англичанина, как надо вести себя с недоверчивыми или нерасположенными к чему-либо туземцами восточных стран. Почти невозможно было противиться ему дольше двух-трех минут, и в данном случае он также добился полного успеха.
Ишан опять попросил к телефону Абдуллу и уполномочил его написать эмиру Али,[11] предложив ему, если он сочтет удобным и возможным, разрешить мне посетить Фейсала.
Под влиянием Сторрса Абдулла превратил это осторожное поручение в точную письменную инструкцию для Али — отправить меня с елико возможной быстротой и под надежным конвоем в лагерь Фейсала. Это было все, чего я добивался, но лишь часть того, чего добивался Сторрс.
Мы прервали наш разговор, чтобы позавтракать.
После завтрака, когда жара немного спала, и солнце уж не стояло так высоко, мы отправились побродить и полюбоваться достопримечательностями Джедды под руководством полковника Юнга, помощника Вильсона, человека, который одобрительно относится ко всем старинным вещам и не слишком одобрительно к современным.
Джидда в самом деле оказалась замечательным городом. Улицы представляли собой узкие аллеи с деревянной крышей над главным базаром. На остальные улицы небо глядело в узкую щель между крышами величавых белых домов. Это были четырех— или пятиэтажные здания, сложенные из коралловых и сланцевых плит, скрепленных четырехугольными балками, и украшенные от самой земли до крыши широкими овальными окнами с серыми деревянными рамами. Оконных стекол не было, их заменяли изящные решетки. Двери представляли собой тяжелые двустворчатые плиты из тикового дерева с глубокой резьбой и часто с пробитыми в них калитками. Они висели на великолепных петлях и были снабжены кольцами из кованого железа.
Город казался вымершим. Его закоулки и улицы были усыпаны сырым, затвердевшим от времени песком, заглушавшим шаги, как ковер. Решетки и изгибы стен притупляли звуки голоса. На улицах не было никаких экипажей, да улицы и не были достаточно широки для них. Не слышно было стука подков, всюду стояла тишина. Двери домов плавно закрывались, когда мы проходили мимо. На улицах было мало прохожих, и те немногие, кого мы встречали, — все худые, словно истощенные болезнью, с изрубцованными лицами, лишенными растительности, с прищуренными глазами, — быстро и осторожно проскальзывали мимо, не глядя на нас. Их бедные белые одежды, капюшоны на бритых головах, красные хлопчатобумажные шали на плечах и босые ноги были у всех так одинаковы, что казались почти присвоенной им формой. На базаре мы не нашли ничего, что стоило бы купить.
Вечером позвонил телефон. Ишан позвал к аппарату Сторрса. Он спрашивал его, не угодно ли ему будет послушать его оркестр. Сторрс с удивлением переспросил: «Какой оркестр?» — и поздравил его святейшество с успехами в светской жизни. Ишан объяснил ему, что в главном штабе в Хиджазе при турках имелся духовой оркестр, который играл каждый вечер у генерал-губернатора; когда же генерал-губернатор был в Таифе взят в плен Абдуллой, его оркестр был захвачен вместе с ним. Остальных пленных отправили в Египет для интернирования, но оркестр оставался в Мекке для увеселения победителей.
Ишан Хуссейн положил трубку на стол в своей приемной и мы поочередно, торжественно приглашаемые к телефону, слушали игру оркестра во дворце в Мекке, на расстоянии сорока пяти миль. И когда Сторрс выразил ишану общую благодарность, тот с величайшей любезностью ответил, что оркестр будет отправлен форсированным маршем в Джедду с тем, чтобы играть в нашем дворе.
— А вы доставите мне удовольствие и позвоните от себя по телефону, — сказал он, — чтобы и я мог принять участие в вашем развлечении.
На следующий день Сторрс посетил Абдуллу в его ставке возле могилы Евы,[12] они вместе осмотрели госпиталь, бараки, учреждения города, а также использовали гостеприимство городского головы и губернатора. В промежутках они беседовали о деньгах, о титуле ишана, о его взаимоотношениях с остальными эмирами Аравии и об общем ходе войны, и обо всех тех общих местах, которые должны обсуждать посланцы двух правительств. Беседа была скучной, и по большей части я держался в стороне, так как уж пришел к выводу, что Абдулла не может быть тем вождем, который нам нужен.
Общество ишана Шакира, двоюродного брата Абдуллы и его лучшего друга, оказалось более интересным. Шакир, вельможа из Таифа, с детства был товарищем сыновей ишана.
Никогда еще я не встречал такого переменчивого человека, мгновенно переходящего от ледяного величия к вихрю радостного оживления, — резкого, сильного, могучего, великолепного. Его лицо, рябое и безволосое от оспы, как зеркало, отражало все его переживания.
Абдулла командовал осадой Таифа, но не кто иной как Шакир повел войска в опрометчивом натиске, разрушившем благодаря чрезвычайной опасности все его замыслы. Арабы не рискнули поддержать его, и Шакир принужден был вернуться один, проклиная своих людей, высмеивая их и яростно глумясь над расстроенными рядами врага. Последний отомстил ему, облив керосином его большой дом, который сгорел вместе со знаменитой библиотекой арабских рукописей.
В этот же вечер Абдулла пришел к обеду с полковником Вильсоном. Мы встретили его во дворце, на ступеньках лестницы. Его сопровождала блестящая свита слуг и рабов, а за ними толпились бледные, худые, бородатые люди, с изнуренными лицами, в истрепанной военной форме, с музыкальными инструментами из тусклой меди. Сделав жест рукой по направлению к ним, Абдулла сказал восхищенно:
— Это мой оркестр.
Мы усадили музыкантов на скамейки на переднем дворе, и Вильсон выслал им папирос, а мы направились в столовую, где дверь на балкон была широко открыта, и мы жадно ловили дуновение морского бриза. Когда мы уселись, оркестр под охраной ружей и сабель свиты Абдуллы начал, кто в лес, кто по дрова, наигрывать надрывающие душу турецкие мелодии. Мы испытывали боль в ушах от невыносимой музыки, но Абдулла сиял. Наконец мы устали от турецкой музыки, и попросили немецкой. Один из адъютантов вышел на балкон и крикнул оркестрантам по-турецки, чтобы они сыграли, что-нибудь иностранное. Оркестр грянул «Deutschland uber Alles» как раз в ту минуту, когда ишан в Мекке подошел к телефону, чтобы послушать нашу музыку. Мы попросили подбавить еще чего-нибудь немецкого, и они сыграли «Einfeste Burg», но в середине мелодия перешла в нестройные звуки барабана. Кожа на барабанах обмякла в сыром воздухе Джедды. Музыканты попросили огня. Слуги Вильсона с телохранителем Абдуллы принесли им несколько охапок соломы и упаковочных ящиков. Они стали согревать барабаны, поворачивая их перед огнем, а потом грянули то, что они называли «Гимном ненависти», хотя никто бы не смог признать в нем ничего европейского. Кто-то сказал, обращаясь к Абдулле:
— Это марш смерти.
Абдулла широко открыл глаза, но Сторрс, поспешивший прийти на выручку, обратил все это в шутку. Мы послали вознаграждение вместе с остатками нашего ужина несчастным музыкантам, которые возвращение домой предпочли бы нашим похвалам.
Поездка к Фейсалу
На следующее утро я уехал морем из Джидды в Рабег, где находилась главная квартира ишана Али, старшего брата Абдуллы. Когда Али прочел «приказ» своего отца немедленно препроводить меня к Фейсалу, он пришел в замешательство, но не мог ничего поделать. Итак, он предоставил мне своего великолепного верхового верблюда, оседлав его своим собственным седлом и покрыв роскошным чепраком и подушками из недждской разноцветной кожи, украшенной заплетенной бахромой и сеткой из вышитой парчи.
Как верного человека, который бы проводил меня в лагерь Фейсала, он выбрал Тафаса, из племени хавазим-гарб. С ним шел его сын.
Али не позволил мне двинуться в путь до захода солнца, чтобы никто из его свиты не увидал, что я покидаю лагерь. Он сохранял мое путешествие в тайне даже от своих рабов и дал мне арабский плащ и головное покрывало,[13] чтобы я, закутавшись» в них и скрыв свой мундир, казался во мраке лишь силуэтом араба на верблюде.
Я не взял с собою ничего съестного. Али велел Тафасу накормить меня в Бир-эль-Шейхе, ближайшем селении, в шестидесяти милях от Рабега, и самым строгим образом велел ему ограждать меня в пути от вопросов любопытных и избегать всяких лагерей и случайных встреч.
Мы миновали пальмовые рощи, которые словно опоясывали разбросанные дома селения Рабег, и поехали вдоль Тихамы, песчаной и лишенной четких очертаний полосы пустыни, окаймляющей западный берег Аравии на сотни уныло-однообразных миль, между морским побережьем и прибрежными холмами.
Днем равнина нестерпимо раскалилась, после чего вечерняя прохлада казалась приятной. Тафас молча вел нас вперед. Верблюды беззвучно шагали по мягким, ровным пескам.
Мы ехали по дороге, которая была дорогой паломников. По ней шли бесчисленные поколения народов Севера, чтобы посетить Святой город, неся с собой дары. И мне казалось, что восстание арабов, может быть, является в известном смысле обратным паломничеством, возвращением на север, к Сирии, заменой одного идеала другим — прошлой веры в откровение верой в свободу. Около полуночи мы сделали привал. Я плотно закутался в свой плащ, нашел в песке впадину, соответствующую моему росту, и прекрасно проспал в ней почти до зари.
Как только Тафас почувствовал, что воздух похолодел, он поднялся, и две минуты спустя, мы, раскачиваясь, опять двинулись вперед. Через час уже совсем рассвело, когда мы стали взбираться на низкую гряду лавы, которую ветер почти занес песком.
За гребнем дорога спускалась к широкой, открытой местности равнины Мастура.
Мой верблюд был отрадой для меня, — я еще никогда не ездил на подобном животном. В Египте не было хороших верблюдов, а выносливые и сильные верблюды Синайской пустыни не имеют прямой, мягкой и быстрой поступи великолепных верховых животных арабских эмиров.
У самого северного края Мастура мы нашли колодец. Возле него высились обветшавшие стены когда-то стоявшей здесь хижины, а против них было небольшое прикрытие из пальмовых листьев и ветвей, под которым сидело несколько бедуинов. Мы не поздоровались с ними. Тафас повернул к разрушенным стенам, и мы спешились. Я сел в их тени, пока он со своим сыном поил животных водой из колодца.
Колодец имел около двадцати футов в глубину, а для удобства путешественников, у кого не было веревки, как у нас, в колодце был приспособлен спуск с выступами в углах для рук и для ног, чтобы можно было добраться к воде и наполнить мех.
Ленивые руки набросали столько камней в колодец, что его дно наполовину было завалено, и воды было немного. Абдулла закинул свои развевающиеся рукава за плечи, подоткнул платье за пояс для патронов и начал проворно лазать вверх и вниз, принося каждый раз четыре-пять галлонов воды, которые выливал для наших верблюдов в каменное корыто, находившееся позади колодца. Верблюды выпили каждый около пяти галлонов воды, так как только накануне их поили в Рабеге. Затем мы их пустили немного попастись, пока отдыхали сами, наслаждаясь легким ветерком с моря. Абдулла курил папиросу, полученную в награду за свои труды. К колодцу подошли люди племени гарб, гоня перед собой большое стадо молодых верблюдов, и начали их поить, послав одного из своих слуг вниз в колодец, с большим кожаным ведром, которое другие принимали, передавали из рук в руки под ритм громкого, отрывистого пения.
Пока мы наблюдали их, к нам подъехали с севера быстро, легкой рысью, два всадника на чистокровных верблюдах. Оба были молоды. Один из них был одет в пышное кашемировое платье, на голове у него была чалма, богато расшитая шелками. Другой был одет скромнее — в белое бумажное платье, с красным бумажным головным покрывалом. Они спешились за колодцем. Тот, который был богаче одет, легко спрыгнул на землю, не заставив верблюда опуститься на колени, и, протянув своему спутнику веревку, сказал небрежно:
— Напои их, а я пройду наверх, чтобы отдохнуть.
Он сел под нашей стеной, покосившись на нас с напускным равнодушием. Затем он предложил нам папиросу, которую только что свернул, лизнув языком, и спросил:
— Вы едете из Сирии?
В свою очередь я деликатно осведомился, не из Мекки ли он, на что он также не дал прямого ответа. Мы поговорили немного о войне и о худобе арабских верблюдиц.
Между тем другой всадник стоял около нас, держа веревку и, вероятно, ожидая, пока гарб кончит поить свое стадо, чтобы занять свою очередь. Но тут наш молодой собеседник крикнул:
— В чем дело, Мустафа? Напои их сейчас же.
Слуга подошел и сказал угрюмо:
— Они меня не пустят.
— Черт подери, — закричал в раздражении хозяин, вскочив на ноги, и три или четыре раза ударил несчастного Мустафу хлыстом по голове и по плечам. — Пойди, попроси их!
Мустафа взглянул на него с обидой, удивлением и таким гневом, как будто готов был ударить в ответ, но сдержался и побежал к колодцу. Гарбы, пораженные этой ценой, уступили ему место у колодца и позволили ему поить своих верблюдов из наполненного ими корыта. Затем они стали перешептываться:
— Кто это?
Мустафа ответил:
— Двоюродный брат нашего господина из Мекки.
Тотчас же два гарба побежали, развязали тюк у одного из своих седел и, вынув оттуда корм, разложили перед обоими верблюдами господина из Мекки зеленые листья и почки терна.
Молодой ишан с удовлетворением смотрел на них. Когда его верблюд насытился, он медленно, но ловко сел в седло, уселся поудобнее и на прощанье приветствовал нас, призывая милости неба на арабов. Мы пожелали ему доброго пути, и он направился к югу, в то время как Абдулла вывел наших верблюдов и мы двинулись к северу. Через десять минут я услыхал кряхтение старого Тафаса и увидел насмешливые морщинки на его лице.
— Что с вами, Тафас? — спросил я.
— Господин, вы видели этих двух всадников у колодца?
— Ишана и его слугу?
— Да, но это был ишан Али-ибн-эль-Хуссейн из Модига и его двоюродный брат, ишан Мохсин, вожди клана харита, кровные враги рода масрух. Они боялись задержаться или совсем не получить воды, если их узнают арабы. Поэтому они выдавали себя за хозяина и слугу из Мекки. Видели ли вы, в какую ярость пришел Мохсин, когда Али ударил его? Али — дьявол. Еще одиннадцати лет он бежал из родительского дома к своему дяде, обкрадывавшему богомольцев на продуктах. Он прожил у дяди подручным в течение многих месяцев, пока отец не нашел его. Он участвовал вместе с нашим ишаном Фейсалом с первых же дней в сражении под Мединой и вел атейбу в равнины, окружающие Аар и Бир-Дервиш. Это было сражение на верблюдах. Али не взял бы с собой человека, который не умел бы делать того, что умел делать он — бежать за верблюдом, держась одной рукой за седло, а в другой неся ружье. Дети харита — дети войны.
Впервые старик был так многоречив.
Мы ехали до захода солнца, когда перед нами открылся вид на поселок Бир-эль-Шейх. Мы въехали на его широкую, просторную улицу и сделали привал.
После нескольких слов, сказанных шепотом, и длительного молчания Тафас купил муку, из которой он замесил тесто и сделал из него лепешку. Он закопал ее в горячую золу, которую раздобыл у женщины, по-видимому, его знакомой. Когда лепешка испеклась, он вынул ее из огня и похлопал, чтобы стряхнуть золу. Потом мы разделили ее между собой, тогда как Абдулла пошел промышлять для себя табак.
Мне сказали, что у подножья южного откоса имелось два обложенных камнем колодца, но я не был расположен пойти взглянуть на них, так как длительная езда в течение целого дня утомила меня, а зной равнины меня измучил. Моя кожа покрылась волдырями, а глаза болели от ослепительного блеска серебреных песков и сияющих булыжников пустыни.
Последние два года я провел в Каире, сидя целые дни за конторкой, с трудом сосредоточиваясь в маленькой, переполненной народом комнате, отвечая на сотни вопросов, и был лишен всякого физического упражнения, кроме ежедневной прогулки от конторы до гостиницы. Поэтому новизна положения была для меня очень тяжела, так как я не имел возможности постепенно привыкнуть к палящему зною арабского солнца и к монотонному шагу верблюдов. А ведь предстоял еще переход в этот вечер и долгий путь на следующий день, чтобы достигнуть лагеря Фейсала. Поэтому я почувствовал сожаление, когда наш двухчасовой отдых закончился, и мы, снова сев на верблюдов, поехали в кромешной тьме, спускаясь в долины и вновь подымаясь из них.
В замкнутых ложбинах воздух был знойный, но на открытых местах свежий и возбуждающий. Под нами, должно быть, была ровная песчаная почва, так как мы беззвучно продвигались вперед, и я все время засыпал в седле, чтобы через несколько секунд внезапно и тревожно проснуться и хвататься инстинктивно за седло, восстанавливая этим равновесие, нарушенное каким-нибудь неверным шагом верблюда.
Стоял густой мрак, и глаз не мог уловить неясных очертаний местности. Наконец, спустя много времени после полуночи, мы остановились для отдыха. Я завернулся в свой плащ и заснул в очень уютном песчаном ложе, перед которым Тафас привязал моего верблюда, поставив его на колени.
А через три часа мы опять двинулись в путь, освещаемый уже последними лучами месяца. Когда мы выступили из теснин на широкий простор, над которым кружился резкий ветер, начало, наконец, светать.
В окрестностях Бир-ибн-Гасани у нас была замечательная встреча.
Мы переехали обширную равнину. Из-за каких-то строений вышел старик, оказавшийся болтливым погонщиком верблюдов, и тяжелым шагом приблизился к нам. Он себя назвал Халлафом и был преувеличенно любезен. Его приветствие выразилось в потоках надоедливой болтовни; после нашего ответа на приветствие, он попытался вовлечь нас в разговор. Однако Тафас старался от него отделаться и ограничивался короткими ответами. Халлаф не унимался и в конце концов, желая улучшить свою позицию, нагнулся, стал рыться в своей седельной сумке и вытащил маленький эмалированный горшочек, который занимал добрую половину этого складочного места всех путешествующих по Хиджазу, и достал оттуда нечто. Это была старая пресная лепешка, пропитанная маслом, когда она была еще теплая. Разломить ее можно было только с большим трудом. Перед едой лепешка посыпается кристаллическим сахаром и разминается пальцами. Я чуть дотронулся до нее. Тафас и Абдулла уделили ей большое внимание.
Теперь мы были друзьями, и болтовня началась снова. Халлаф рассказал нам о последней битве и про несчастье, случившееся с Фейсалом накануне. По-видимому, он был выбит из головного участка Вади-Сафра и сейчас находился в Хамре, недалеко от нас; по крайней мере, Халлаф считал, что он там; мы могли узнать об этом с достоверностью в ближайшей деревушке по нашей дороге. Сражение не было кровопролитным, но все несчастные случаи пришлись на соплеменников Тафаса и Халлафа: он назвал нам все имена и рассказал о ранении каждого.
Впоследствии выяснилось, что Халлаф был на жаловании у турок и часто им доносил о том, что происходило за Бир-ибн-Гассани.
В усилившемся дневном свете мы увидали как раз направо от нас селение. Маленькие домишки, коричневые и белые, теснящиеся ради безопасности друг возле друга, казались кукольными. Они выглядели еще более одинокими, чем сама пустыня. Пока мы созерцали их, надеясь увидеть там какое-нибудь проявление жизни, солнце быстро взошло.
Повернув направо, мы спускались на протяжении нескольких миль с горы к высоким утесам. Мы объехали их и внезапно очутились в долине Вади-Сафра, у цели нашей поездки, в середине Васты — ее самой крупной деревни. Дома Васты казались гнездами, лепящимися к склонам гор.
Наконец, мы добрались до долины. Посредине ее, между двумя пальмовыми рощами, протекал прозрачный ручей, среди густой травы и цветов. Мы задержались здесь на минуту, чтобы дать верблюдам напиться. Вид травы принес быстрое облегчение нашим глазам после того, как мы целый день созерцали лишь резкий блеск булыжников. Я даже невольно взглянул вверх, чтобы посмотреть, не закрыли ли облака солнечного лика.
Мы проехали через поток к саду, из которого он, искрясь, выбегал в каменистое ложе, а затем свернули вдоль обмазанной глиной стены сада под сень его пальм, направляясь к другим, стоящим отдельно, хижинам.
Мы поехали по небольшой улочке. Дома были такие низкие, что мы из седла видели сверху их глиняные крыши. Тафас остановился у одного дома побольше и постучал в ворота его не огороженного двора. Нам открыл раб и мы спешились в молчании. Тафас привязал верблюдов, распустил им подпруги и насыпал перед ними свежее сено, набрав его из душистого стога позади ворот. Затем он повел меня в парадную комнату дома, темную и чистую, с глиняными стенами. Мы уселись на циновку из пальмовых листьев, лежавшую под балдахином. Дневной зной в душной долине все усиливался. Мы легли. Жужжание пчел в садах и мух, носящихся возле наших защищенных покрывалами лиц, усыпило нас.
Когда мы проснулись, обитатели дома уже приготовили для нас хлеб и финики. Закусив, мы опять сели на верблюдов и поехали вдоль прозрачной, тихой речки, пока она не скрылась в пальмовых садах, за их низкими, из иссушенной солнцем глины стенами.
Между корнями деревьев были проложены небольшие каналы в один-два фута глубиной, расположенные таким образом, чтобы вода, направляемая из каменного русла, могла орошать каждое дерево по очереди. Источник воды находился в общинном владении и распределялся между владельцами по минутам или часам, по дням или неделям, смотря по обычаю. Вода была немного солоновата, что и требовалось для лучших сортов пальм, но в то же время она была достаточно пресной в колодцах частных владельцев в небольших рощах. Эти колодцы попадались очень часто, и вода в них была на расстоянии трех-четырех футов от поверхности земли. Дорога привела нас к центру деревни и базару. Лавки были убоги и все кругом казалось пришедшим в упадок. В прошлом Васта была многолюдна и, говорят, состояла из тысячи домов, но однажды огромная стена воды, обрушившаяся на деревню с Вади-Сафра, смыла насыпи вокруг многих пальмовых садов и унесла пальмы. Некоторые из островков, на которых веками стояли дома, были затоплены, и стены домов, размягчившись, обратились в глину и погребли под собой несчастных рабов. Все могло бы быть восстановлено, если бы осталась почва. Но сады были устроены на земле, оставляемой ежегодным разливом реки, а эта волна воды — вышиной в восемь футов, не ослабевавшая в своем натиске в течение трех дней, — превратила все пространство земли в голые камни.
Сейчас мы уже видели отряды солдат Фейсала и пасущиеся табуны их верховых верблюдов. К тому моменту, когда мы достигли Гамры, каждый закоулок в скалах или заросль деревьев представляли собой бивуак.
Гамра, открывшаяся нашим глазам слева, состояла, приблизительно, из сотни домов, скрытых садами между насыпями земли, вышиной до двадцати футов. Мы перешли вброд небольшой ручей и поднялись по обнесенной стенами дороге между деревьями на вершину одной из этих насыпей, где мы оставили наших опустившихся на колени верблюдов возле ворот двора длинного и низкого дома.
Тафас сказал что-то арабу, который стоял там, держа в руке меч с серебряным эфесом. Тот ввел меня во внутренний двор, в дальнем углу которого, выделяясь в черном просвете дверей, стояла белая фигура, напряженно ожидая меня. При первом же взгляде я почувствовал, что это был тот человек, ради которого я приехал в Аравию — вождь, который доведет восстание арабов до полной победы. Эмир Фейсал казался очень высоким и стройным в своей длинной белой шелковой одежде, с коричневым головным покрывалом, завязанным блестящим ало-золотым шнурком. Его веки были опущены и бледное лицо с черной бородой походило на маску. Он стоял, скрестив руки на кинжале.
Я обратился к нему с приветствием. Он ввел меня в комнату и сел на ковер возле дверей. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел, что в маленькой комнате находилось много безмолвных фигур, в упор смотревших на меня и на Фейсала. Он сидел неподвижно, опустив глаза на руки; его пальцы медленно играли кинжалом. Наконец, он тихо спросил меня, как я перенес путешествие. Я заговорил о зное, и он, узнав, как давно я выехал из Рабега, заметил, что я ехал быстро для этого времени года.
— А нравится ли вам здесь, в Вади-Сафра?
— Конечно. Но ведь отсюда далеко до Дамаска.
Мои слова упали, подобно мечу, и среди присутствовавших прошел легкий трепет. А затем все застыли и на минуту затаили дыхание. Наступило молчание. Фейсал, наконец, открыл глаза, улыбнулся мне и сказал:
— Хвала Аллаху, но ведь турки к нам ближе.
Мы все улыбнулись.
Я встал, и наше первое свидание на этом окончилось.
Фейсал и его отряды
На мягком лугу, под высокими сводами пальм с переплетенными ветвями, я нашел опрятно содержимый лагерь солдат египетской армии[14] (под начальством египетского майора Нафи-бея), недавно присланных из Судана сэром Реджинальдом Уингэйтом[15] в помощь арабскому восстанию. Они имели при себе батарею горной артиллерии и несколько пулеметов. Сам Нафи был гостеприимным и любезным человеком.
Возвестили о приходе Фейсала и Мавлюда эль-Мухлюса, арабского фанатика из Текрита,[16] который благодаря своему неудержимому национализму уже был дважды разжалован в турецкой армии и провел в изгнании в Недежде два года как секретарь эмира Ибн-Рашида. Он командовал турецкой кавалерией при Шайбе[17] и там был захвачен нами. Как только он услышал о восстании ишана, он добровольно поступил к нему на службу и был первым кадровым офицером, присоединившимся к Фейсалу. Сейчас он являлся номинально его адъютантом.
Он с горечью жаловался, что они во всех отношениях скверно экипированы. Это и являлось главной причиной их настоящего опасного положения. Они получали от ишана ежемесячно тридцать тысяч фунтов стерлингов, но мало муки и риса, мало ячменя, мало винтовок, недостаточно боевых припасов и совершенно не получали пулеметов, горных орудий, технической помощи и информации.
Тут я остановил Мавлюда и сказал ему, что мой приезд именно и должен выяснить, в чем они испытывают недостаток — чтобы составить доклад об этом — и что я смогу работать с ними лишь в том случае, если они объяснят мне свое общее положение. Фейсал согласился со мной и рассказал мне историю своего восстания с самого его начала.
Первый натиск на Медину[18] оказался безнадежным делом. Арабы были плохо вооружены и нуждались в боевых припасах, турки же были снабжены великолепно.
В самый критический момент клан бен-али дрогнул, и арабы были отброшены от стен. Затем турки открыли огонь по ним, чем устрашили арабов, непривычных к артиллерийскому огню. Племена аджейль и атейба отступили на безопасное место и отказались вновь выступить.
Часть соплеменников бен-али объявила турецкому командованию, что они сдадутся, если их деревни будут пощажены. Фахри[19] заигрывал с ними и, усыпив их бдительность, обложил своими войсками предместье Ауали, приказав штурмовать его и перебить всех, кого найдут в его стенах. Сотни жителей были ограблены и заколоты, а дома их сожжены. В огонь одинаково бросали и оставшихся в живых и трупы. Фахри и его люди учились искусству убивать, уничтожая армян на севере,
Это печальное знакомство с турецкой манерой войны потрясло и возмутило всю Аравию, ибо первым правилом войны у арабов является неприкосновенность женщин, вторым — пощада жизни и чести детей, еще неспособных сражаться с мужчинами, и третьим — имущество, которое невозможно унести с собой, должно быть оставлено нетронутым.
Арабы и Фейсал поняли, что они наткнулись на новые обычаи и отступили, чтобы выиграть время и привести в порядок свои ряды. Не могло быть и речи о сдаче: разграбление Ауали посеяло неискоренимую вражду к туркам и возложило на арабов долг сражаться до последней капли крови. Но уже им стало ясно, что борьба будет длительной, и едва ли они могут ожидать победы, имея единственным оружием заряжающиеся с дула ружья.
Поэтому они отступили от равнин вокруг Медины в горы, где отдыхали, пока Али и Фейсал слали гонца за гонцом в Рабег, где находилась их морская база, чтобы узнать, когда можно ждать присылки свежих войск, припасов и новых денег.
Восстание началось в свое время внезапно, согласно точному приказу их отца. Но старик, слишком независимый, чтобы посвящать во все своих сыновей, не разработал с ними никаких планов на случай, если борьба затянется. Поэтому в ответ они получили лишь немного провианта. Позднее им доставили несколько японских винтовок — в большинстве испорченных. Те стволы, которые все же казались целыми, были настолько непрочны, что разрывались при первом испытании их слишком пылкими арабами. Денег совершенно не было прислано, но взамен их Фейсал наполнил камнями ящик изрядных размеров, запер его, заботливо обвязал веревкой и, поручив его охранять при каждом дневном переходе своим собственным арабам, каждый вечер заботливо вносил его в свой шатер. Подобными театральными эффектами братья пытались удержать свои тающие отряды.
Наконец, Али отправился в Рабег, чтобы разузнать, что там случилось. Он выяснил, что шейх Хуссейн Мабейриг, старшина местного племени, пришел к твердому выводу, что победу одержат турки (он уже дважды пытался вступать с ними в переговоры, но оба раза терпел полную неудачу). и в соответствии с этим решил, что лучше всего примкнуть к ним. Так как англичане выгрузили на берег различные припасы для ишана, то он решил присвоить их и тайком перенес их в свои собственные склады. Али устроил демонстрацию, послав настоятельное требование к своему сводному брату Зейду,[20] чтобы тот присоединился к нему с подкреплениями из Джидды. Хуссейн в страхе улизнул в горы и был объявлен вне закона. Оба ишана овладели его деревнями, и нашли там большие запасы оружия и провианта для своих войск на целый месяц. Соблазн отдыха оказался для них слишком силен: они обосновались в Рабеге.
Тем самым они оставили Фейсала в одиночестве, и он скоро оказался изолированным, в ложном положении, в полной зависимости от местных запасов. Он терпел это в течение некоторого времени, но в августе воспользовался приездом полковника Вильсона в недавно покоренный Янбу, явился к нему и полностью изложил свои неотложные нужды. Он и его рассказ произвели большое впечатление на Вильсона, и тот тут же пообещал ему батарею горных орудий и несколько «максимов», причем ими должны были управлять солдаты и офицеры из египетской армии, стоящей в Судане. Этим и объяснялось присутствие Нафи-бея и его военных частей в лагере Фейсала.
По их прибытии арабы ободрились и решили, что они стали равны по силе туркам. Но четыре пушки оказались крупповского производства двадцатилетней давности, с дальнобойностью лишь в три тысячи ярдов, а прислуга при них не была достаточно увлечена и воодушевлена для нерегулярной войны. Все же они двинулись вперед всей массой и оттеснили турецкие аванпосты, а вслед за ними и первые резервы боевой линии, пока Фахри серьезно не встревожился. Он отправился сам осмотреть фронт и немедленно прислал подкрепление в три тысячи человек к Бир-Аббасу, где была опасность прорыва. У турок были полевые орудия и гаубицы, а их преимуществом еще являлось расположение на высокой местности, что способствовало наблюдению над врагом. Они начали тревожить арабов беглой стрельбой, и один снаряд чуть не угодил в палатку Фейсала, когда в ней собрались все старшины. От египетских артиллеристов потребовали, чтобы они открыли ответный огонь и сбили вражеские пушки. Но они вынуждены были заявить, что их орудия бесполезны, так как они не могут бить на десять тысяч ярдов. Их подняли на смех, и арабы вновь вернулись обратно в ущелья.
Фейсал был сильно обескуражен. Его люди устали. Он понес большие потери. Его единственная действенная тактика против неприятеля заключалась во внезапных стремительных нападениях на его тыл, но при этих атаках множество верблюдов было убито, ранено и изувечено. Он не решался взять на себя ведение всей войны в то время, как Абдулла задерживался в Мекке, а Али и Зейд — в Рабеге. Наконец, он отступил со своими главными силами, оставив племена гарб поддерживать натиск на турецкий обоз и его службу связи путем ряда набегов, подобных тем, которые он сам признавал невозможным продолжать.
И все же он не боялся, что турки опять внезапно бросятся на него. Его неудача в попытках хоть как-нибудь воздействовать на турок не внушала ему ни малейшего уважения к ним. Его позднейшее отступление к Гамре не было вынужденным: оно являлось жестом отвращения к своему явному бессилию, из-за чего он и решил хотя бы на короткое время вернуть себе достоинство в отдыхе.
Я спросил Фейсала, каковы сейчас его планы. Он ответил, что до падения Медины они неизбежно связаны с Хиджазом, и арабы должны плясать под дудку Фахри. По его мнению, турки домогаются обратного захвата Мекки. Их главная сила сейчас заключается в летучей колонне, которую они могут двинуть на Рабег, избрав любую дорогу, что держит арабов в постоянной тревоге. Пассивная оборона гор Джебель-Субха[21] уже показала, что арабы не способны к этому роду ведения войны. Они должны быть нападающей стороной.
Мавлюд, который в течение нашей продолжительной беседы беспокойно ерзал на своем месте, не смог дольше сдерживаться и крикнул:
— Не пишите о нас историй. Единственное, что необходимо, это сражаться и еще раз сражаться, убивая турок. Дайте мне батарею шнейдеровских горных орудий и пулеметы, и я все мигом закончу. Мы все болтаем да болтаем, но ничего не делаем.
Я с жаром возразил ему, и Мавлюд, великолепный боец, считавший выигранную победу поражением, если он не мог показать хоть одной раны в доказательство своего участия в бою, вступил со мной в горячий спор. Мы спорили, пока Фейсал сидел рядом и довольно улыбался, глядя на нас.
Для него подобный разговор являлся праздником. Его воодушевила даже такая безделица, как мой приезд, так как он был человек настроения, колеблющийся между воодушевлением и отчаянием, а сейчас, вдобавок, еще смертельно уставший. Он выглядел намного старше своего тридцати одного года. Его темные, привлекательные глаза, слегка раскосые, были налиты кровью, а впалые щеки изборождены глубокими складками. Его природа противилась размышлениям, так как они нарушали быстроту его действий. По внешности он был высок, грациозен и силен, с величественной поступью и царственной посадкой головы. Движения его были порывисты. Он обнаруживал большой темперамент, порой даже безрассудство, и был резок в переходах. Физическая слабость сочеталась в нем с мужеством. Его личное обаяние, храбрость и некоторая хрупкость — единственная слабость этого гордого характера — делали Фейсала кумиром его сторонников. Позднее он доказал, что может платить доверием за доверие, подозрением за подозрение. В нем было больше сарказма, чем юмора.
Пройденная им школа в качестве одного из приближенных Абдул Гамида сделала из него большого дипломата. Военная служба у турок дала ему знание тактики. Жизнь в Константинополе и знакомство с турецким парламентом приблизили его к пониманию европейской жизни и манер.
Он был наблюдателен и умел оценивать людей. Если бы у него хватило сил осуществить свои мечты, он пошел бы очень далеко, ибо всецело погружался в свою работу и жил только ею. Но следовало опасаться, что он может истощить себя, пытаясь сделать что-либо чрезмерное, метя всегда несколько выше реальности, либо умереть от переутомления. Его люди рассказали мне, как после долгого сражения, в котором приходилось и защищаться самому, и руководить нападением, и воодушевлять войска, он так физически изнемог, что его в бессознательном состоянии унесли с выступившей у рта пеной с места его победы.
Между тем казалось, что в его лице, если мы только окажемся достаточно сильными, чтобы удержать его, мы имели пророка, который мог воплотить в непреодолимый образ идею восстания арабов. Это было больше того, на что мы раньше надеялись, гораздо больше, чем заслуживало наше нерешительное поведение. Цель моей поездки казалась достигнутой.
Я должен был тотчас кратчайшим путем направиться с известиями в Египет.
Сумерки сгустились в ночь. Вереница рабов с лампами пробралась к нам по извилистым тропам между пальмовыми стволами, и мы с Фейсалом и Мавлюдом вернулись через сад обратно к домику, еще полному ожидающим людей. Мы вошли в душную комнату, где собрались ближайшие друзья Фейсала, и все вместе сели за дымящиеся чаши риса и мяса, поставленные рабами на ковры.
На следующее утро я встал рано и бродил между войсками Фейсала со стороны Хейфа, пытаясь в течение одной минуты определить их настроение. Я всемерно стремился беречь время, так как в течение десяти дней необходимо было собрать впечатления, которые в обычных условиях могли бы явиться при моей черепашьей медлительности лишь плодом недельных наблюдений.
Действительно, здесь необходимо требовалось личное донесение. В этой бескрасочной войне малейшая своеобразность вызывала всеобщее ликование и сильнейшим приемом Мак-Магона являлось использование еще не проснувшегося воображения Генерального штаба.
Я верил в арабское движение и всегда был уверен, еще задолго до своего приезда, что оно стремится расчленить Турцию. Но командованию в Египте не хватало веры, и там привыкли к мысли, что на поле битвы от арабов не приходится ждать ничего путного. Подчеркнув, как сильно стремление этих романтиков гор к их святыням, я мог бы привлечь к ним симпатии в Каире для оказания им необходимой помощи.
Люди радостно встречали меня. Под каждой большой скалой или кустом они валялись врастяжку, как ленивые скорпионы, отдыхая от зноя и освежая свои смуглые тела прикосновениями к прохладным под утренней сенью камням. Сначала из-за моего хаки они принимали меня за турецкого офицера, дезертировавшего к ним, и высказывали добродушные, но жуткие предположения о том, как они со мной расправятся.
Они были в диком возбуждении, крича, что война может продолжаться хоть десять лет. Сейчас было самое сытое время, какое когда-либо знавали здесь в горах. Ишан кормил не только воинов, но и их семьи, и платил каждому пешему по два фунта в месяц и по четыре за верблюда. Ничто другое не могло бы сделать такого чуда, как сохранение под ружьем в течение пяти месяцев армии, состоящей из различных племен.
Действующий состав ее рядов постоянно менялся, подчиняясь велениям плоти. Семья владела одной винтовкой, и сыновья служили по очереди, каждый в течение нескольких дней. Женатые мужчины делили время между лагерем и женой, а иногда целый клан, уставши от скучных обязанностей, предавался отдыху. Из восьми тысяч людей Фейсала одна тысяча составляла десять верблюжьих корпусов, а остальные были горцами. Они служили лишь под началом шейхов своего племени, сами налаживая для себя питание и средства передвижения.
Кровавые распри внешне были улажены и в действительности прекратились в районе влияния ишана: племена билли и джухейна, атейба и аджейль жили и сражались рука об руку в армии Фейсала. Но в то же время одно племя подозрительно относилось к другому, и в пределах каждого племени никто вполне не доверял своему соседу. Каждый мог всем сердцем ненавидеть турок и обычно ненавидел их, но в то же время не вполне отказывался от мысли свести на поле брани расчеты по застарелой семейной вражде с семейным врагом.
Свойственная им беспечность делала их падкими на добычу, отнятую у неприятеля, и подстрекала разбирать железнодорожное полотно, грабить караваны и красть верблюдов. Но они были слишком свободолюбивы, чтобы повиноваться приказам или сражаться в рядах. Человек, который прекрасно сражается в одиночку, по большей части оказывается скверным солдатом, и эти бойцы казались мне неподходящим материалом для военной муштровки. Но если бы мы вооружили их легкими автоматическими ружьями типа «Льюис», они могли бы удержать свои горы.
Хиджазская война была борьбой скалистой, гористой, бесплодной страны, дикой орды горцев против врага, настолько избалованного, благодаря помощи немцев, снаряжением, что он почти потерял способность к ведению войны в диких условиях. Холмистая местность была раем для лазутчиков. Долины, служившие единственными удобопроходимыми дорогами, на целые мили являлись не столько долинами, сколько безднами и ущельями, иногда с поперечником в двести ярдов, а иногда лишь в двадцать, с частыми поворотами и изгибами, глубиной от одной до четырех тысяч футов, лишенные всякого прикрытия, защищенные с обеих сторон гранитом, базальтом и порфиром. Это не были гладкие скаты, но зазубренные, раздробленные глыбы, громоздящиеся тысячами зубчатых груд обломков, твердых, как металл, и почти столь же острых.
Мне, как свежему человеку, казалось невозможным, чтобы турки могли рискнуть здесь пробиться, если только они не используют предательства каких-либо горных племен.
Единственным тревожным вопросом казался огромный успех турок в устрашении арабов артиллерией. Звук пушечного выстрела заставлял всех скрываться за прикрытия на всем расстоянии, куда он долетал. Арабы соизмеряли разрушительную силу оружия в соответствии с производимым им шумом. Они не боялись пуль и в действительности чересчур пренебрегали смертью: лишь смерть от пушечного снаряда была для них невыносимой. Мне казалось, что их уверенное настроение восстановится лишь в том случае, если они получат пушки, безразлично в каком состоянии, но производящие грохот. Начиная от великолепного Фейсала и кончая последним оборванным юнцом, единственной темой разговоров в армии была — артиллерия, артиллерия и артиллерия.
При ближайшем знакомстве меня поразила сила восстания. Эта густонаселенная область внезапно изменила свой характер, превратившись из случайного сборища бродячих воришек в войска повстанцев против Турции, сражавшиеся, разумеется, не нашими способами, но по-своему, достаточно ожесточенно — вопреки религии, которая должна была бы объединить Восток в священной войне против нас.[22] В военной зоне среди племен наблюдался нервный подъем, свойственный, по моему мнению, национальным восстаниям, но поражающий уроженца страны, так давно завоевавшей свою свободу, что она утратила для него всякий вкус, подобно воде.
Позднее я вновь встретился с Фейсалом и обещал ему сделать все, что окажется в моих силах: мое начальство устроит базу в Янбу, где исключительно для него сложат на берегу в складах разнообразнейшие припасы, в которых он нуждается. Мы попытаемся доставить ему офицеров-добровольцев из среды военнопленных, захваченных в Месопотамии или у Суэцкого канала.[23] Мы сформируем пушечные и пулеметные команды из солдат, содержащихся в концентрационных лагерях, и снабдим их горными орудиями и легкими пулеметами, какие только можно будет добыть в Египте. Наконец, я посоветую, чтобы сюда послали в качестве советников офицеров британской армии, специалистов, и с ними офицеров для связи во время походов.
В этот раз наша беседа носила приятнейший характер и закончилась изъявлениями Фейсалом его горячей благодарности и пожеланием моего возвращения, как только это окажется возможным. Я объяснил, что мои служебные обязанности в Каире[24] исключают походную работу, но, быть может, мое начальство разрешит мне позднее посетить его вторично, когда его нынешние нужды будут удовлетворены и его продвижение вперед разовьется успешно. Пока же я прошу его облегчить мне возвращение на берег, чтобы отправиться в Египет.
Благодаря Фейсалу я получил эскорт из местных ишанов, который доставил меня в Янбу через многие мили высоких бесплодных холмов, рассеченных, словно волосы пробором, орошенными долинами. Янбу, незначительное поселение, гостеприимно встретило меня. Его правитель, яванец из Мекки, приютил меня до тех пор, пока «Сува» под командой кэптэна Бойля не вошла в гавань и не приняла меня милостиво к себе на борт. «Милостиво», так как я пребывал в ужасном виде после многих дней верховой езды. Голова моя была повязана туземным покрывалом, а для королевского флота все туземцы были просто пьяницами.
Бойль, как старший морской офицер на Красном море, должен был бы служить образцом для остальных, но он восседал на тенистой стороне своего мостика, настолько поглощенный чтением «Американской конституции» Брайса, что в течение дня уделял мне не больше десятка слов.
В Джедде я застал «Юриалис» с адмиралом сэром Росслином Уэмиссом на борту, направлявшимся в порт Судан, откуда он собирался навестить в Хартуме сэра Реджинальда Уингэйта. Сэр Реджинальд, как сирдар египетской армии,[25] был назначен начальником британских военных сил, участвовавших в арабском движении. Мне было необходимо сообщить ему свои впечатления. Поэтому я попросил адмирала перевезти меня через море и предоставить мне место в его поезде при поездке в Хартум. После перекрестного допроса он с готовностью на это согласился. Активный ум и интеллигентность Уэмисса способствовали тому, что он заинтересовался арабским восстанием с момента его возникновения. На своем флагманском корабле он неоднократно подоспевал в критические минуты, чтобы протянуть руку помощи, и много раз изменял свой маршрут, дабы оказать помощь береговым операциям, что, собственно, являлось делом не флота, а армии. Он давал арабам пушки и пулеметы, высаживал на берег десанты и оказывал техническую помощь безграничными транспортными средствами и содействием флота. Он получал истинное удовольствие, удовлетворял просьбы и выполнял их даже в большей мере, чем от него ждали.
В Хартуме к Аравии относились равнодушно, что особенно побудило меня ознакомить сэра Реджинальда Уингэйта с моими длинными отчетами, в которых я указывал на то, что положение является многообещающим. Главная нужда заключалась в умелой поддержке, и кампания безусловно развернулась бы успешно, если бы к арабским вождям прикомандировали в качестве технических советников нескольких кадровых британских офицеров, компетентных в своем деле и говорящих по-арабски, чтобы поддерживать связь с нами.
Уингейт был рад услышать такую положительную оценку вещей. Арабское восстание уже многие годы являлось его мечтой.
По прошествии двух или трех дней, проведенных мной в Хартуме, я выехал в Каир, зная, что одно ответственное лицо уже согласилось во всем со мной. Поездка по Нилу показалась мне праздником.
Неудачи у Янбу
После того, как я пробыл несколько дней в Каире, мой начальник генерал Клейтон велел мне вернуться в Аравию к Фейсалу. Так как мне это было совершенно не по нутру, я настаивал на своей полной непригодности для подобного поручения. Я заявлял, что ненавижу ответственность (ясно, что при добросовестной работе пост советника являлся ответственным) и что в течение всей жизни я с бОльшим удовольствием имел дело с предметами, чем с людьми, и с отвлеченными мыслями, чем с предметами. Я не похож на солдата и ненавижу солдатчину, а между тем сирдар мог бы телеграфировать в Лондон о присылке нескольких кадровых офицеров, достаточно компетентных, чтобы руководить войной арабов.
Клейтон ответил мне, что до их приезда могут пройти месяцы, в то время как Фейсал должен быть связан с нами, и Египет должен быстро узнавать его нужды. Значит, я должен был уехать. Оставить «Арабский бюллетень», основанный мной,[26] географические карты, которые я хотел составить, всю свою работу, деятельность, которую я так любил, в которой мне помогало полученное мной образование, и взять на себя роль, к которой я не чувствовал никакой склонности!
Мой путь лежал через Янбу, ныне специальную базу армии Фейсала. Когда я отправился оттуда в глубь страны, чтобы опять попасть к Фейсалу, пришли известия о поражении турок. Разведочный отряд их кавалерии на верблюдах продвинулся слишком далеко в горы, арабы настигли и рассеяли его.
Итак, начало моего пути прошло при счастливых предзнаменованиях. Ответственность за мое путешествие была возложена на ишана Абд эль-Керима[27] Его сопровождало трое или четверо из его людей, все верхом. Наше передвижение совершалось очень быстро, так как Абд эль-Керим славился как великолепный ездок, гордящийся тем, что он ездит втрое быстрее среднего ездока. Верблюд был не мой; погода была холодная и облачная. Поэтому я не возражал. Мы ехали легкой рысью, без перерыва, в течение трех часов.
Мы снова тронулись в путь и, после часовой бешеной скачки, в темноте достигли подножия невысокой цепи гор. Мы пересекли ее по узкой песчаной долине, в которой дул сильный ветер. Так как за несколько дней перед тем здесь несся поток, почва стала твердой для наших выбившихся из сил верблюдов, но подъем был крут, и нам пришлось брать его шагом. Мне это было приятно, но Абд эль-Керим был так этим раздражен, что когда мы, по прошествии часа, достигли вершины, он пустил своего верблюда вскачь, проделав спуск со стремительной быстротой в какие-нибудь полчаса, уже на исходе ночи. Затем равнина снова развернулась перед нами, и мы достигли расположенных за нею плантаций Нахль-Мобарека, с обширными финиковыми садами.
Приблизившись, мы увидели меж стволами пальм дым и пламя многих костров, услыхали рев тысяч возбужденных верблюдов, залпы и крики отставших во мраке людей, разыскивавших в толпе своих друзей. Так как в Янбу мы слышали, что Нахль покинут, то подобная сумятица обозначала нечто странное, быть может, даже враждебное.
Мы тихо подкрались к концу рощи, пробираясь вдоль узкой улицы между глиняными стенами, вышиной в человеческий рост, к группе молчаливых домов. Абд эль-Керим силой открыл ворота одного из дворов, ввел туда верблюдов и стреножил их у стены так, что они оставались невидимыми. Затем он зарядил винтовку и пополз по улице по направлению к шуму, чтобы выяснить, что случилось. Мы ждали его в холодном мраке. Наша пропотевшая одежда медленно просыхала.
Он вернулся через полчаса и рассказал, что это уже прибыл Фейсал со своими отрядами, и мы должны присоединиться к нему. Мы вывели верблюдов, сели на них и поехали по другому переулку. В конце его была плотная толпа громко кричавших арабов и верблюдов, перемешанных в диком беспорядке. Мы пробились сквозь них и, спустившись по склону, внезапно оказались в ложбине — Вади-Янбу, которая представляла собой широкое, открытое пространство.
Мы успели лишь заметить массу солдат Фейсала, заполнявших всю долину. Горели сотни костров, и вокруг них расположились арабы, которые ели, приготовляли кофе или спали, закутанные, как мертвецы, в свои плащи и лежа вповалку между верблюдами. Вокруг расхаживали патрули.
Мы с трудом проложили себе путь через это столпотворение и на островке спокойствия, в самом центре ложбины, нашли ишана Фейсала. Мы остановили наших верблюдов. Фейсал сидел на ковре, разложенном на голых камнях, между своим двоюродным братом ишаном Шарафом, губернатором Имарета и Тайфа, и Мавлюдом — этим суровым, покрытым шрамами, старым месопотамским патриотом, сейчас выполнявшим обязанности адъютанта Фейсала. Перед ним на коленях стоял секретарь, составляя приказ, а позади — второй, читающий вслух донесения при свете посеребренной лампы, которую держал раб.
Фейсал, спокойный, как всегда, приветствовал меня улыбкой, пока заканчивал диктовать. Затем он извинился, что принимает меня в подобной сумятице, и сделал знак рабам, чтобы они оставили нас вдвоем. Когда они удалились, он объяснил мне, какие неожиданные события случились на фронте за последние двадцать четыре часа,
Турки незаметно обошли по боковой дороге в горах передовые заставы арабских отрядов в Вади-Сафра и отрезали им отступление. Люди племени гарб в панике разбежались по оврагам и едва спаслись, разбившись на группы по двое, по трое. Турецкая конница устремилась в опустевшую долину и через ущелье Дифран пробралась к бир Сайду, где эмир Зейд, юный сводный брат Фейсала, расположился лагерем со своими войсками из племени гарб. Турки застигли Зейда врасплох и привели его в замешательство. Его отряд превратился в беспорядочное скопище беглецов, дико кинувшихся во мраке ночи к Янбу.
Вследствие этого дорога на Янбу оказалась открытой для турок, и Фейсал лишь за час до нашего приезда примчался сюда с пятью тысячами людей, чтобы защитить свою базу, пока не удастся наладить надлежащую оборону. Положение являлось серьезным, но присутствие Фейсала здесь могло привлечь неприятелей и заставить их потерять несколько дней на попытки захватить его, а мы тем временем укрепили бы Янбу.
До половины пятого утра Фейсал выслушивал свежие известия, просьбы и жалобы. Мы очень продрогли, так как сырость просочилась через ковер и пропитала одежду. Лагерь постепенно затих, усталые люди один за другим укладывались спать. Над лагерем мягко спустился белый туман, в котором от костров подымались ленивые колонны дыма. Фейсал, наконец, закончил всю неотложную работу. Мы съели полдюжины фиников и свернулись в клубок на влажном ковре.
Через час, при начинающемся рассвете, мы встали, окоченелые, и рабы развели огонь из пальмовых поленьев, чтобы обогреть нас. Гонцы все еще прибывали со всех сторон, передавая зловещие слухи об атаке, и в лагере почти царила паника. Поэтому Фейсал решил передвинуться на другую позицию, отчасти потому, что нас могло бы затопить тут, если бы где-нибудь в горах прошел дождь, а отчасти — чтобы занять чем-нибудь людей.
Когда забили барабаны, верблюдов стали поспешно нагружать. После второго сигнала все вскочили в седла и тронулись за Фейсалом, ехавшим на своей кобыле. На шаг позади него ехал Шараф, а дальше, как попало, все сборище ишанов, шейхов и рабов и я между ними. В это утро личная охрана Фейсала состояла из восьмисот человек.
Следующие два дня я провел в обществе Фейсала и ближе узнал методы его командования, что было особенно интересно, потому что его люди были морально подавлены поражением северного племени гарб. Фейсал, желая поддержать их бодрость, достигал этого, ободряя и выслушивая каждого, кого мог. Он был доступен всем, кто толпился возле его палатки, ожидая внимания. Он никогда резко не обрывал просителей и неизменно выслушивал каждого, а если сам не мог разобрать дела, то звал Шарафа или Фаиза аль-Хуссейна. Его бесконечная терпеливость показала мне воочию, что значит в Аравии верховная власть.
Его самообладание казалось огромным. Когда Мирзук эль-Тихейми, его доверенное лицо по приему гостей, приехал от имени Зейда, чтобы разъяснить постыдную историю их поражения, Фейсал лишь посмеялся над ним при всех и отослал его в сторону, чтобы тот обождал, пока он переговорит с шейхами племени гарб и аджейль, чья беззаботность была главной причиной несчастья. Он мягко подшучивал над ними, насмехаясь над теми или иными их поступками, вызвавшими такие тяжелые потери. Затем он позвал обратно Мирзука и опустил полы палатки, подчеркивая, что их разговор являлся частным делом. Я вспомнил смысл имени Фейсала (меч, сверкнувший при взмахе) и боялся тяжелой сцены, но он освободил на своем ковре место для Мирзука и сказал:
— Садись! Расскажи нам еще о том, как вы проводили ночи, и о чудесах битвы. Позабавь нас!
Голос Фейсала был очень музыкален, и он умел им пользоваться в сношениях со своими людьми. С ними он говорил на языке своего племени, но говорил он как-то странно, задумчиво, мучительно запинаясь и как бы подыскивая нужное слово. Его мысли, вероятно, забегали вперед, так как эти с трудом подобранные фразы были просты и трогали своей искренностью. Завеса слов была так тонка, что через нее, казалось, светилась честная и прямая душа.
Наша жизнь в лагере отличалась простотою. Перед самым рассветом наш мулла обыкновенно выкрикивал свой призыв к молитве. Как только он заканчивал, начинал мягко и мелодично выкрикивать позади палатки мулла Фейсала. Сейчас же один из его пяти рабов являлся со сладким кофе. Приятна была сладость этой первой чашки в холодном рассвете.
Приблизительно час спустя полы спальной палатки Фейсала откидывались назад: это было знаком для приближенных. Их бывало, обычно, четверо или пятеро. После обмена утренними новостями вносился поднос с завтраком. Он состоял обыкновенно из фиников, но иногда телохранитель Хеджрис давал нам затейливые бисквиты и хлеб собственного произведения. После завтрака мы попеременно пили горький кофе и сладкий чай, пока Фейсал занимался своей корреспонденцией, диктуя своим секретарям. Один из них был отважный Фаиз, другой — Имам, человек с печальным лицом, известный в армии тем, что у его седельной луки висел полотняный зонтик.
Иногда в это время давалась аудиенция частным лицам, но это случалось редко; спальная палатка предназначалась исключительно для личного пользования ишана. Это была обычного типа палатка с походной кроватью, хорошим курдским одеялом, плохеньким ширазским и чудесным старым белуджским ковром, на котором Фейсал совершал свои молитвы. Приблизительно в 8 часов утра Фейсал опоясывался своим праздничным кинжалом и следовал в палатку, предназначенную для приемов. Он садился лицом к входу в палатку, а мы, спиной к стене, располагались полукругом вокруг него. Рабы составляли арьергард и группировались вокруг открытой стороны палатки, чтобы не терять из виду осаждающих просителей, которые лежали на песке у входа в палатку или позади ее, ожидая своей очереди. По возможности, работа заканчивалась к полудню, когда эмир обычно поднимался.
Тогда мы, домашние и несколько человек гостей, собирались в жилой палатке: Хеджрис и Салем вносили поднос с завтраком, на котором было столько блюд, сколько допускали обстоятельства. Фейсал был необыкновенный курильщик, но весьма посредственный едок, и он обычно лишь, слегка притрагивался пальцами или ложкой к бобам, чечевице, шпинату, рису и сладостям. Когда он считал, что с нас довольно, по его знаку поднос исчезал, и другие рабы вносили воду для омовения рук. Тучные люди, вроде Мохаммеда ибн-Шефиа, приходили в комичную ярость от легкого и быстрого угощения эмира и вознаграждали себя дома собственной пищей. После завтрака мы еще немного беседовали за чашкой кофе и наслаждались двумя стаканами сиропообразного, зеленого чая. Затем до двух часов пополудни занавес жилой палатки опускался. Это доказывало, что Фейсал отдыхает или читает, или вообще занят личными делами. Затем мы опять сидели в приемной палатке, пока он не заканчивал беседу со всеми, кто имел к нему дело. Я никогда не видел араба, который ушел бы от него неудовлетворенным или обиженным, что объяснялось его тактом и памятью; он никогда не забывал ни одного факта и ни одного знакомства.
Если оставалось свободное время после второй аудиенции, он совершал прогулку со своими друзьями. Между шестью и семью часами вносился ужин, к которому рабы приглашали всех, находящихся в главном штабе. Ужин походил на завтрак.
Фейсал очень поздно ложился спать и никогда не обнаруживал желания ускорить наш уход из его палатки. По вечерам он развлекался, как только мог, и избегал работы, которой можно было безболезненно избежать. В шахматы он играл очень редко, но когда играл, то с безрассудной прямолинейностью бойца и блестяще… Иногда — может быть, в моих интересах — он рассказывал о том, что он видел в Сирии, кое-что из тайн турецкой истории и о семейных делах. Из его уст я многое узнал о людях и партиях Хиджаза.
Однажды Фейсал внезапно спросил меня, не хочу ли я носить арабскую одежду, такую же, как у него, пока я нахожусь в лагере. Я сам должен был признать это более удобным при том «арабском» образе жизни, который мы должны были вести. Кроме того, туземцы знали бы тогда, за кого меня принимать. Для них единственными людьми, носившими хаки, были турецкие офицеры, которых они инстинктивно сторонились. Если бы я носил арабскую одежду, они вели бы себя по отношению ко мне, как если бы я действительно был одним из их вождей, и я мог бы ходить и выходить из палатки Фейсала, не производя сенсации.
Я немедленно и с радостью согласился. Переодевшись, я пошел побродить по пальмовым садам, чтобы приучить себя к новой одежде.
Стоянка Фейсала в Нахль-Мобареке могла быть по неизбежному ходу вещей лишь передышкой, и я чувствовал, что мне было бы лучше вернуться в Янбу, чтобы серьезно обсудить совместную оборону этого порта, пользуясь всемерно обещанной помощью флота. Мы решили, что мне следует посовещаться с Зейдом и действовать с ним, как мы найдем нужным.
Мы пошли новой дорогой Вади-Мессарих через холмы Аджиды из опасения встретиться с турецкими патрулями на прямом пути. Бедр ибн-Шефиа был со мной, и мы спокойно проделали путь в шесть часов, приехав в Янбу до сумерек. Чувствуя себя усталым после утомительных дней и бессонных ночей, полных тревоги и волнений, я направился прямо к пустому дому Гарланда (он жил на борту корабля в гавани) и заснул на скамейке. Немного погодя, меня опять вызвали, сообщив, что ишан Зейд приехал, и я направился к укреплениям, чтобы увидеть въезд побежденных войск.
Их было около восьмисот человек, они казались спокойными и равнодушными к своему позору. Зейд сам казался совершенно безучастным. Войдя в город, он повернулся и крикнул правителю Абд эль-Кадеру, который ехал за ним:
«Как, ваш город разрушен? Я должен телеграфировать отцу, чтобы он прислал сорок каменщиков для починки общественных зданий».
И он действительно сделал это.
Я телеграфировал Бойлю (британскому старшему морскому офицеру на Красном море), что Янбу подвергается серьезной угрозе, и Бойль немедленно ответил, что флот своевременно прибудет сюда. Эта готовность была весьма кстати: весь следующий день получались все худшие и худшие вести. Турки, бросив сильный отряд вперед от Бир-Сайда против Нахль-Мобарека, напали на войска Фейсала, когда те еще не успели оправиться. После короткого боя Фейсал в беспорядке отступил, сдал позиции и укрылся сюда, в Янбу. Наступал, казалось, последний акт войны. С Фейсалом было около двух тысяч человек, но ни одного из племени джухейна. Последнее обстоятельство походило на предательство и подлинное отступничество племен, т. е. на то, что мы оба считали совершенно невозможным.
Я немедленно зашел к Фейсалу, и он рассказал мне о случившемся.
Турки подошли с тремя батальонами пехоты, посаженной на мулов и верблюдов. При первом же приступе они пересекли Вади-Янбу, угрожая сообщению арабов с Янбу. Они также могли свободно обстрелять Нахль-Мобарек из своих семи пушек. Однако Фейсал нисколько не испугался и бросил племя джухейна на левый фланг, чтобы оно действовало в долине. Центр и правый фланг он сосредоточил у Нахль-Мобарека и послал египетскую артиллерию отрезать туркам дорогу на Янбу. Затем он открыл огонь из двух собственных пятнадцатифунтовок.
Расим, сирийский офицер, в прошлом командир батареи в турецкой армии, управлял этими пушками и превратил их выстрелы во внушительную демонстрацию. Пушки прислали в подарок из Египта, где полагали, что для диких арабов пригодна всякая старая дрянь. У Расима не было ни прицельных приспособлений, ни дальномеров, ни таблиц стрельбы, ни разрывных снарядов. Он мог бы брать прицел до шести тысяч ярдов, но взрывные трубки его шрапнелей являлись древностями еще времен бурской войны, совершенно заплесневевшими, и если они даже разрывались, то иногда еще в воздухе, а часто даже при прикосновении. Однако, если бы дела приняли дурной оборот, он не мог бы увезти все снаряжение, и потому брал все быстротой и натиском, покатываясь от смеха над таким способом ведения войны, а арабы, видя веселость командира, сами воодушевлялись.
— Хвала Аллаху, — сказал один из них, — это настоящие пушки. Важно, чтобы они шумели!
Расим клялся, что турки погибали кучами, и ободренные его словами арабы с жаром бросились в атаку.
Дела шли хорошо, и у Фейсала появилась надежда на решительный успех, когда внезапно левый фланг заколебался и остановился в нерешительности. Под конец он показал спину неприятелю и беспорядочно отступил к лагерю. Фейсал, находившийся в центре, галопом примчался к Расиму и крикнул тому, что племя джухейна разбито и что он должен спасать пушки. Расим запряг их и пустился рысью прочь. За ним устремились войска. Фейсал и его челядь составляли тыл, они осмотрительно двинулись к Янбу, оставив на поле битвы племя джухейна под начальством его вождя, ишана Абд эль-Керима, моего прежнего проводника.
Когда я дослушивал этот печальный конец и вместе с Фейсалом проклинал измену братьев Бейдави, у дверей поднялась суматоха, и Абд эль-Керим пробился сквозь толпу рабов, кинулся к балдахину, поцеловал в знак приветствия шнуры головного покрывала Фейсала и сел возле нас. Фейсал, затаив дыхание, взглянул на него и спросил:
— Ну, как?
Абд эль-Керим рассказал про смущение, возникшее при внезапном бегстве Фейсала, и про то, как он с братом и доблестными соплеменниками всю ночь сражались с турками, одни, без артиллерии, пока не стало невозможным удерживать пальмовую рощу, и им также пришлось отступить. Его брат, с половиной всех мужчин племени, как раз входит сейчас в ворота города. Остальные рассеялись вверх по Вади-Янбу в поисках воды.
— А зачем ты отступил к лагерю в тылу нас во время битвы? — спросил Фейсал.
— Только для того, чтобы приготовить себе чашку кофе, — сказал Абд эль-Керим. — Мы сражались от восхода солнца до сумерек, очень устали и очень хотели пить.
Мы с Фейсалом покатились со смеху. Затем мы пошли посмотреть, что можно было предпринять для спасения города.
Янбу на вершине гладкого кораллового рифа возвышался приблизительно на двадцать футов над морем и с двух сторон омывался водой. Другие две стороны смотрели на ровные пространства песков, лишенных на многие мили всякого прикрытия и совершенно безводных. При дневном свете, защищаемое артиллерийским и пулеметным огнем, это место должно было быть неприступным.
Артиллерия прибывала каждую минуту. Бойль, как и обычно, сделал больше, чем обещал, и менее чем в двадцать четыре часа сосредоточил возле нас пять военных судов.
Арабы шумно радовались, видя большое количество судов в гавани. Они обнадежили нас, что в дальнейшем паника не повторится, но чтобы быть вполне спокойным, им нужно возвести нечто в роде валов средневекового образца для защиты. Поэтому мы возле рассыпающейся городской стены воздвигли вторую, промежуток между ними заполнили землей и стали их укреплять, пока наши бастионы XVI века не стали неуязвимы для ружейных пуль и, возможно, для турецких горных орудий. Перед бастионами мы протянули колючую проволоку.
Впоследствии мы слышали, что турки упали духом при виде огней кораблей, заполнявших всю гавань и шаривших сверкающими прожекторами по местности, которую туркам предстояло пересечь. Итак, они повернули назад, и в ту ночь, я считаю, они проиграли войну.
Фейсал устремляется на север
Полковник Вильсон приехал в Янбу, чтобы убедить нас в необходимости немедленно напасть на Ваджх, ближайший от Янбу порт на севере, откуда турки угрожали тылу Фейсала. Если бы мы внезапно повернули туда, инициатива перешла бы к нам.
Фейсал, если он с чем-нибудь соглашался, брался за осуществление плана со всем, свойственным ему, пылом. Он поклялся, что выступит немедленно, и в день Нового года мы с ним совместно обсудили значение предстоящего передвижения для нас и для турок.
Фейсал намеревался взять с собой почти всех людей племени джухейна, а также достаточное количество людей племени гарб, билли, атейба и аджейль, чтобы придать войску разноплеменный характер. Нам нужен был этот поход, как своего рода заключительный акт войны в Северном Хиджазе, чтобы о нем пошел слух вдоль и поперек всей Западной Аравии.
Фейсал нервничал из-за того, что ему приходилось покинуть Янбу, необходимый ему до сих пор как база и второй морской порт Хиджаза. Когда мы обдумывали дальнейшие способы его защиты от турок, мы вдруг вспомнили об эмире Абдулле. У него было около пяти тысяч нерегулярных войск и несколько пушек и пулеметов. Фейсал предложил, чтобы тот двинулся к Вади-Аис, исторической долине источников, лежавшей лишь на сто километров северней Медины и представлявшей собой непосредственную угрозу железнодорожной связи Фахри с Дамаском.
Предложение являлось плодом вдохновения, и мы немедленно послали гонца к Абдулле. Мы настолько были уверены в его согласии, что настояли, чтобы Фейсал отправился в путь из Янбу на север к Ваджху, не ожидая ответа. Он согласился, и 3 января 1917 г. мы выступили по верхней широкой дороге через Вади-Мессарих к Оваису — группе колодцев приблизительно в пятнадцати милях на север от Янбу.
Раздавшийся сигнал к отправлению относился только к Фейсалу и племени аджейль. Остальные племена, стоя возле растянувшихся рядов верблюдов, молчаливо приветствовали Фейсала, когда он проезжал мимо. Он весело крикнул: «Мир вам!», — и каждый из шейхов ответил ему теми же словами. Когда мы миновали их, они все сели на верблюдов, следуя знаку своих начальников, и вскоре за нами на всем пути по сухому руслу в направлении горного хребта вытянулись, подобно текущему ручью, ряды людей и верблюдов, насколько их только мог охватить глаз.
Приветствия Фейсала были единственными звуками, пока мы добрались до вершины подъема, откуда открывалась долина и начинался отлогий спуск по песчаной дороге, вымощенной кремнем и булыжником. Здесь Иби Дахиль, храбрый шейх из Русс, который сформировал два года тому назад, на помощь Турции, отряды аджейля и передал их ишану в полной сохранности в начале восстания, сделал шага два назад, построил наших спутников в широкую колонну правильными рядами и приказал бить в барабаны. Все громко запели песнь в честь эмира Фейсала и его семейства.
Наше шествие было варварски великолепно. Впереди ехал Фейсал в белом, справа от него следовал Шараф в красном головном покрывале и окрашенной хной тунике и бурнусе, а я — по левую сторону, в белом и красном, за нами три знамени из пунцового шелка с золочеными древками; сзади них барабанщики, играющие марш, а за ними опять дикая орда из 1200 качающихся верблюдов телохранителей, навьюченных так, что они еле-еле двигались; люди — в самых разнообразных одеждах и верблюды, столь же великолепные в своих уборах.
Мы заполнили всю долину нашим сверкающим потоком. Опасность для Янбу, пока мы стремились в Ваджху, была велика, и было бы благоразумнее вывезти оттуда склады. Бойль дал мне эту возможность, сообщив мне, что «Гардинг» будет выделен для перевозки грузов. Это был индийский военный корабль, и в его нижней палубе были большие четырехугольные люки, вровень с поверхностью воды. Капитан Линберри открыл их для нас, и мы спрятали там 8000 ружей, 3 миллиона комплектов амуниции, тысячи снарядов, большие запасы риса и муки, 2 тонны взрывчатых веществ и весь наш керосин, все вперемешку, как письма в почтовом ящике. Никогда еще это судно не имело на борту и 1000 тонн груза.
Бойль явился, горя нетерпением узнать новости. Он обещал, что «Гардинг» будет служить во все время военных действий, чтобы сгружать воду и продовольствие в случае надобности; это разрешало наше главное затруднение. Флот уже стягивался, налицо уже была половина флота Красного моря. Ждали прибытия адмирала, и на каждом судне шла подготовка.
Но я надеялся втайне, что сражение не состоится. У Фейсала было приблизительно 10 000 человек, — достаточное количество, чтобы заполнить всю область билли вооруженными отрядами. Можно было с уверенностью сказать, что мы возьмем Ваджх; опасались только, чтобы войска не умерли от голода или жажды в пути.
Однако область Ум-Ледж, лежавшая на полпути, была нам дружественна. До этого пункта не могло случиться ничего трагического, поэтому Фейсал выехал в тот же день, когда получил одобрение Абдуллы.
Абдулла приветствовал план о продвижении к Аису. В тот же день пришли известия, принесшие мне успокоение. Ньюкомб, полковник регулярных войск, назначенный в Хиджаз в качестве начальника нашей военной миссии, прибыл уже в Египет, а двое его штабных офицеров — майоры Кокс и Виккери — уже находились в пути через Красное море, чтобы присоединиться к экспедиции.
Бойль взял меня с собой на «Сува» в Ум-Ледж, и мы сошли на берег узнать новости. Шейх сказал нам, что Фейсал должен приехать в тот же день в Бир-эль-Вахейди в четырех милях от моря, где имелась вода. Мы послали ему известие и прошли к крепости, которую бомбардировали с «Фокса» несколько месяцев тому назад. Это была груда щебня, и Бойль, посмотрев на развалины, сказал: «Мне прямо стыдно, что я снес с лица земли эту гончарню». Это был настоящий офицер, деловитый, работящий и исполнительный, иногда несколько нетерпимый к неудачникам.
Пока мы стояли около развалин, четверо седых, оборванных деревенских старшин подошли к нам и попросили разрешения говорить. Они сказали, что несколько месяцев тому назад неожиданно подошло двухтрубное судно и разрушило их форт. От них теперь требовали отстроить его заново для полиции арабского правительства. Не смогут ли они попросить у великодушного капитана этого мирного, однотрубного судна немного бревен или какого-нибудь другого материала для постройки? Бойль нетерпеливо слушал их длинную речь и огрызнулся на меня:
— В чем дело, чего им надо?
Я сказал:
— Ничего, они описывают ужасные результаты бомбардировки с «Фокса».
Бойль посмотрел вокруг себя и мрачно усмехнулся:
— Это было хорошее дело.
На следующий день прибыл Виккери. Он был артиллеристом и в течение своей десятилетней службы в Судане настолько хорошо изучил арабский язык как литературный, так и разговорный, что избавил нас от всякой нужды в переводчике.
Мы уговорились отправиться вместе с Бойлем в лагерь Фейсала, чтобы составить расписание для наступления, и после завтрака англичане и арабы приступили к работе, обсуждая остающуюся часть похода к Ваджху.
Мы решили разбить армию на отряды, которые независимо друг от друга должны были подвинуться к месту нашего сосредоточения у Абу-Зерейбата в Гамде, последнем пункте перед Ваджхом, где можно было найти воду.
Бойль согласился, чтобы «Гардинг» на одну ночь сделал остановку в Шерм-Хаббане и выгрузил для нас на берег двадцать бочек воды. Так и решили.
Для атаки на Ваджх мы предложили Бойлю высадить десант из нескольких сот людей племен гарб и джухейна к северу от города, где у турок не было постов, чтобы помешать высадке, и откуда лучше всего было обойти Ваджх и его гавань.
У Бойля было, по крайней мере, шесть судов с пятьюдесятью орудиями, чтобы отвлечь внимание турок, и один гидроаэроплан, чтобы управлять артиллерией. Мы предполагали прибыть к Абу Зерейбату 20 января, к Хаббану 22-го, чтобы запастись водой, доставленной туда «Гардингом», а на рассвете 23-го десант должен был быть высажен на берег, и к этому же времени наши кавалерийские отряды отрезали бы все пути к бегству из города.
Известия из Рабега были утешительны, а турки не делали никаких попыток воспользоваться незащищенностью Янбу. Тут были наши уязвимые места, и когда радио Бойля успокоило нас относительно них, мы чрезвычайно воспряли духом. Абдулла уж почти достиг Аиса, мы были на полпути к Ваджху — инициатива уже перешла к арабам. Я настолько обрадовался, что на минуту потерял самообладание, с торжеством заявив, что через год мы будем стучаться в ворота Дамаска. Но собеседники умерили мои восторги, и моя вера угасла — хотя это не было несбыточной мечтой уже потому, что пять месяцев спустя я был в Дамаске, а через год я де-факто являлся его правителем.
Армия в Бир-эль-Вахейда исчислялась в пять тысяч сто верховых на верблюдах и пять тысяч триста пехотинцев, с четырьмя крупповскими горными пушками и десятью пулеметами, а для транспорта у нас было триста восемьдесят вьючных верблюдов.
Наше выступление было назначено на 18 января после полудня, и пунктуально в этот час работа Фейсала была закончена. После завтрака палатка была сложена. Литаврщик ударил несколько раз в литавры, и все замерло. Мы наблюдали за Фейсалом. Он поднялся с ковра, на котором давал последние указания Абд эль-Кериму, взялся за седло и громко сказал:
— Уповайте на Аллаха!
Затем он сел на своего верблюда.
Когда он двинулся вперед, мы вскочили на верблюдов, и все скопище одновременно пришло в движение.
Наш путь в этот день был легок, так как он шел через крепкие песчаные скаты и длинные, отлого подымающиеся валы дюн. Когда мы выехали на широкую равнину, слева легким галопом подъехали двое всадников, чтобы приветствовать Фейсала. Я узнал одного. Это был грязный, старый, с гноящимися глазами, ишан Мохаммед-Али эль-Бейдави, эмир племени джухейна. Второй казался мне незнакомым. Когда он приблизился, я заметил, что на нем — мундир цвета хаки, поверх которого накинут плащ, чтобы скрыть его. Он поднял голову, и я увидал красное шелушащееся лицо Ньюкомба, с зоркими глазами и энергичным ртом. Он прибыл в тот же день утром и, услыхав, что мы только что выступили в путь, захватил лучшего коня и поскакал за нами. Я предложил ему своего запасного верблюда и поспешил представить его Фейсалу, с которым он поздоровался, как со старым школьным товарищем, и они тут же занялись оживленным разговором о событиях.
Утром мы двинулись к Абу-Зерейбату через обширную покатость обнаженного, темного гравия. Около двух часов пополудни, когда мы пересекли базальтовую жилу, мы увидали вдали русло Вади-Гамд, выбегающее из гор. Для наших глаз, пресыщенных однообразием местности, этот конец пересекшей реки казался прекрасным зрелищем. Он представлял собой самую большую долину Аравии.
Прежде чем мы достигли ее отдаленных склонов, почва внезапно перешла в глиняную впадину, в которой находился глубокий темный пруд. Это и были источники Абу-Зерейбата — цель нашей поездки, которые Фейсал назначил местом для лагеря. Там мы остановили верблюдов, рабы разгрузили их и разбили палатки.
Без всякого предупреждения и пышности в палатку Фейсала вошел ишан Медины Насир. Фейсал вскочил, обнял его и повел к нам. Насир производил великолепное впечатление. Он являлся предвестником дела Фейсала, человеком, чей выстрел в Медине прозвучал первым и чей выстрел у Муслимие возле Алеппо оказался последним в тот день, когда турки попросили перемирия, — и за все это время о нем нельзя было сказать ни единого дурного слова.
Тогда ему было около двадцати семи лет.
На следующий день мы встали поздно, желая отдохнуть, перед необходимым долгим разговором. Фейсал вынес его почти весь на своих плечах. Насир поддержал его, как второй по чину, а братья Бейдави сели рядом, чтобы помочь советом.
Мы запаздывали уже на два дня против срока, обещанного флоту, и Ньюкомб решил этой ночью выступить вперед к Хаббану. Там он встретился бы с Бойлем и объяснил бы ему, что мы не поспеем к назначенной встрече с «Гардингом», но хотели бы, чтобы последний вернулся туда же к 24 января, когда и мы должны прибыть и будем испытывать острую нужду в воде. Он бы также увидал, не следовало ли отложить морскую атаку до 25 января, чтобы сохранить выработанный план.
Ранним утром мы выступили в путь к Вади-Гамд. Был холодный день, суровый северный ветер дул нам в лицо. Во время нашего пути мы слышали перемежающуюся тяжелую стрельбу со стороны Ваджха и боялись, что флот, потеряв терпение, открыл действия без нас.
Прибыв к Хаббану, мы, к нашей радости, нашли там, как было условлено, «Гардинга», выгружавшего воду на берег.
Я отправился на борт и узнал, что морская атака была выполнена, как если бы уж прибыли сухопутные войска, так как Бойль опасался, что в случае его дальнейшего ожидания турки могли скрыться.
Несомненным фактом являлось, что в тот день, когда мы достигли Абу — Зерейбата, турецкий губернатор Ахмед Тефик-бей привел в готовность гарнизон, заявив, что он станет защищать Ваджх до последней капли крови. В сумерках же он сел на своего верблюда и ускакал к железной дороге с немногими верховыми людьми, приготовленными им для бегства. Оставшиеся двести человек пехоты решили продолжать брошенные им действия против десанта, но на каждого из них приходилось по три противника, а морская канонада была слишком сильна, чтобы они могли использовать свои удобные позиции. По имевшимся на «Гардинге» сведениям, сражение еще не закончилось, но город Ваджх уже был занят моряками и арабами.
Эти благоприятные слухи воодушевили армию, устремившуюся вскоре после полуночи к северу. К рассвету мы привели ряды в порядок, встречая разбитые отряды турок, один из которых оказал некоторое сопротивление.
Было приятно смотреть на наших ловких, смуглых людей в залитой солнцем песчаной долине, с бирюзовыми пятнами соленой воды посредине в виде фона, на котором выделялись малиновые знамена в руках двух знаменосцев. Они шли впереди в мертвом молчании упругим, широким шагом, делая в час почти по шести миль, и без единого выстрела достигли и взобрались на горный кряж. И мы узнали, что все уж закончено до нас силами флота и высаженных им десантов.
Тактика и политика
В Каире разгоряченные власти обещали нам золото, винтовки, мулов, много пулеметов и горных орудий, но последних, разумеется, мы никогда не получили. Вопрос об орудиях являлся вечным мучением, так как турецкая артиллерия превосходила нас намного.
Мы получили большое подкрепление в лице Джафара-паши, багдадского офицера из турецкой армии.
Прослужив с отличиями в германской и турецкой армиях, он был послан Энвер-пашой, чтобы организовать войска шейха Сенусси. Он прибыл туда на подводной лодке, превратил диких людей во внушительную силу и проявил тактические способности в двух битвах против англичан. Затем его взяли в плен и заключили в Каирскую цитадель с прочими военнопленными офицерами.
Однажды ночью он бежал оттуда, пользуясь веревкой, сделанной из разорванного на полосы одеяла, но веревка оборвалась под тяжестью его тела, и при падении он повредил себе лодыжку. Его вновь захватили в беспомощном состоянии. В больнице он дал честное слово, что не убежит, и был выпущен на свободу после того, как заплатил за изодранное одеяло.
Но однажды он прочел в какой-то арабской газете о восстании ишана и о казни турками многих выдающихся арабских националистов — его друзей — и понял, что он все время сочувствовал неправому делу. Фейсал, разумеется, уже слышал о нем и решил назначить его главнокомандующим своими регулярными войсками, усовершенствование которых являлось сейчас нашей главной задачей.
В Каире находились Хогарт, Ллойд-Джордж,[28] Сторрс-Дидс и множество наших старых друзей. Круг доброжелателей арабского дела в их среде поразительно расширился. Сэр Арчибальд Мэррей внезапно понял, что против арабов сражается больше турецких войск, чем с ним самим, и начали припоминать, что он всегда относился благосклонно к восстанию арабов. Адмирал Уэмисс был исполнен такой же готовности оказать помощь, как в наши тяжелые дни возле Рабега. Сэр Реджинальд Уингэйт, верховный комиссар в Египте, был счастлив успехом дела, которое он поддерживал уже в течение многих лет. Я считал несправедливым это счастье, так как Мак-Магон, действительно рискнувший первым приступить к этому делу, был разбит как раз перед тем, как оно начало преуспевать.[29]
Я вернулся в Ваджх в интересное время. Мы приводили наш лагерь в порядок. Так как согласно обычаю лагерь раскидывался на большом пространстве, моя жизнь протекала в постоянном движении взад и вперед; в палатку Фейсала, в английские палатки, к палаткам египтян, в город, в порт, на радиостанцию. Я целый день, без устали, ходил по этим тропинкам в сандалиях или босиком, закаляя свои ноги, медленно привыкая ходить без особого труда по острому и горячему грунту и готовя свое уже закаленное тело к более трудным испытаниям.
Арабы недоумевали, почему у меня не было лошади, и я заставлял их ломать себе голову непонятными рассказами о закалке моего тела или убеждал их, что я охотнее хожу пешком, чем езжу верхом из сострадания к животным: и то, и другое соответствовало истине. Что-то оскорбительное, неприятное для моей гордости поднималось во мне при виде этих низших форм жизни. Их существование набрасывало тень рабства на человеческий род, даже на отношение Бога к нам, и пользоваться этим, быть вынужденным лгать им казалось мне позорным. То же испытывал я при виде негров, которые игрой на тамтамах доводили себя до исступления. Их лица, сильно отличаясь от наших, были еще терпимы, но непереносимо было то, что они совершенно походили на нас своим телосложением.
Между тем, Фейсал день и ночь был занят политикой, — область, в которой никто из нас не мог ему помочь. С другой стороны, население развлекало нас парадами, состязаниями в стрельбе и триумфальными шествиями. При этом бывали приключения. Одна партия, играя за нашей палаткой, однажды наткнулась на бомбу, сброшенную с гидроплана, — память о взятии города Бойлем. Взрыв разорвал их, разбросав их члены по лагерю, покрыв парусину багровыми брызгами, которые скоро стали буро-коричневыми, затем вовсе выцвели. Фейсал приказал заменить палатки новыми, а окровавленные уничтожить — бережливые рабы выстирали их. В другой раз загорелась палатка, и трое из наших гостей получили ожоги. Весь лагерь сбежался и со смехом смотрел на потухающий огонь, а затем мы со стыдом стали лечить их ожоги. Еще через день шальной пулей была ранена лошадь, и многие палатки оказались пробитыми насквозь.
Однажды вечером племя аджейль взбунтовалось против своего командира Ибн Дахиля за то, что он часто штрафовал их и слишком сурово сек. С воем и выстрелами они напали на его палатку, вытащили из нее вещи и избили его слуг. Но это не утишило их ярости. Они вспомнили Янбу и пошли резать клан атейбы. С нашего холма Фейсал увидел их факелы, побежал к ним босиком и уложил палашом четырех человек. Его ярость задержала их, а в это время рабы и всадники, взывая о помощи, скатывались вниз с холма с проклятиями, стреляя и нанося удары кинжалами. Один из них дал Фейсалу лошадь, с которой тот уложил нескольких зачинщиков, а мы стрельбой разогнали остальное скопище. Всего было убито двое и ранено тридцать человек. Ибн Дахиль на следующий день подал в отставку.
Фахри-паша своими операциями все еще играл нам на руку. Он занимал укрепленную линию вокруг Медины лишь на таком расстоянии, чтобы сделать для арабов невозможным обстреливать город (подобная попытка никогда не предпринималась и даже не замышлялась). Остальные турецкие войска были расположены вдоль железной дороги сильными гарнизонами, на всех станциях, между Мединой и Тебуком, где имелась вода, и незначительными постами в промежутках между этими гарнизонами, чтобы ежедневные патрули могли обеспечить безопасность пути. Короче говоря, он прибегал к самым глупым способам обороны железнодорожной линии, какие только можно себе представить. Гарланд уж выступил на юго-восток от Ваджха, а Ньюкомб — на северо-восток, чтобы сильновзрывчатыми веществами пробить бреши в линии. Они разбирали рельсы и мосты и подкладывали автоматические мины под проходящие поезда.
Арабы уже перешли от сомнений к неистовому оптимизму и обещали образцово справляться со своим делом. Фейсал завербовал большую часть племени билли, что сделало его владыкой Аравии от железной дороги до моря. Людей племени джухейна он послал к Абдулле в Вади-Аис. Он мог бы сейчас подготовиться к расправе с Хиджазской железной дорогой, но я попросил его сперва задержаться в Ваджхе и вызвать сильное движение между остальными племенами, чтобы в будущем наше восстание могло расшириться и угрожать железной дороге от Табука, (нынешней границы нашего влияния) до Маана.
Со своими северными соседями, племенем хавейтат, обитавшим у прибережья, он уже в свое время начал переговоры. Сейчас же мы послали гонца к племени бени Атийе, сильному народу, живущему на северо-востоке. Глава его, шейх Аси ибн-Атийе, прибыл к нам и присягнул в верности. Он предоставил нам свободу в передвижении по территории, занятой его племенем.
Дальше жили различные племена, покорные великому эмиру клана руаллы Нури Шаалану, который после ишанов Ибн-Сауда и Ибн-Рашида являлся четвертым из непрочных князей пустыни.
Нури был стариком и уж в течение тридцати лет управлял своим племенем анейзе. Его линия являлась старшей из руалла, но у Нури не было никакого превосходства перед другими сородичами ни по рождению, ни по любви к нему племени. Отважным бойцом он также не был. Свое главенство он приобрел только силой своего характера. Чтобы добиться его, он убил двоих из своих братьев. Позднее он присоединил к своим сторонникам племя шерараг и другие, и для всех них его слово являлось абсолютным законом. Он совершенно не применял льстивой дипломатии рядовых шейхов — его слово клало конец всякому несогласию с ним. Все боялись его и безропотно подчинялись ему. Чтобы использовать дороги, идущие через его владения, мы должны были добиться его благоволения.
К счастью, это не представило трудностей. Фейсал обеспечил себе его согласие много лет назад и упрочил его беспрерывными дарами из Медины и Янбу. Сейчас Фаиз эль-Хуссейн поехал из Ваджха к Нури и в пути столкнулся с Ибн-Дагми, одним из старшин руалла, направлявшимся к нам с приятным даром из нескольких сотен хороших вьючных верблюдов.
Нури, конечно, еще поддерживал дружеские отношения с турками. Он зависел от рынков Дамаска и Багдада, и они, если бы возникло против него подозрение, могли бы в течение трех месяцев уморить с голоду его племя. Мы знали, что, когда наступит нужный момент, он окажет нам вооруженную помощь, но до тех пор он готов на все, исключая разрыв с турками.
Его благосклонность открывала для нас Сирхан, знаменитую столбовую дорогу, места для стоянок и цепь водных скважин, которые простирались от Джофа, столицы Нури на юго-востоке, на север к Азраку и вплоть до гор Джебель Друз в Сирии. Нам необходима была свобода передвижения по Сирхану, чтобы достигнуть палаток племен восточного хавейтата, знаменитого клана абу-тайи, главой которого был шейх Ауда, величайший боец в северной Аравии. Только при посредстве Ауды мы могли бы склонить племена от Маана до Акабы в нашу пользу настолько, чтобы они помогли нам захватить у турецких гарнизонов Акабу и ее горы. Только при его активной поддержке могли бы мы рискнуть выступить из Ваджха в долгий путь к Маану. После дней, проведенных нами в Янбу, мы усиленно пытались привлечь его к нашему делу.
В этом отношении мы сделали большой шаг вперед в Ваджхе: Ибн-Заал, двоюродный брат Ауды и военный руководитель клана абу-тайи прибыл туда 17 февраля, которое во всех отношениях оказалось для нас счастливым днем.
На рассвете прибыло пять старшин шерарата из пустыни на восток от Тебука и привезли в подарок яйца аравийских страусов. За ними рабы ввели Даиф-Аллаха из клана абу-тайи, двоюродного брата Хамда Ибн Джази, верховного властелина племени центрального хавейтат плоскогория Маана. Они были многочисленным и мощным племенем великолепных бойцов, но кровными врагами своих родичей, кочевого племени абу-тайи, на почве старинных споров между Аудой и Хамдом. Мы с горделивым чувством видели, как они приветствуют нас, хотя все еще недовольные, так как они были хуже снаряжены для нашего намеченного наступления на Акабу, чем племя абу-тайи.
Следом за ними прибыл родич Наввафа, старшего сына Нури Шаалана, с кобылой, присланной в дар Наввафом Фейсалу. Люди племен шаалан и джази, находясь во вражде, смотрели друг на друга злыми глазами. Поэтому мы отделили их друг от друга и наспех устроили для гостей лагерь. После руаллы возвестили о прибытии старшины племени абу-тагейга, оседлого клана хавейтата с прибрежья. Он передал изъявления покорности от имени своего племени и привел военную добычу из Дабы и Мовейлле, двух последних турецких выходов к Красному морю. Ему освободили место на ковре Фейсала и выразили горячую благодарность за деятельность его племени, благодаря которой мы пришли к границам Акабы путями, непригодными для открытых военных операций, но удобными для проповеди восстания и еще более удобными для получения вестей.
В полдень прибыл Ибн-Заал с десятью другими главными последователями Ауды. Он дважды поцеловал руку Фейсала — один раз за Ауду, другой раз за самого себя, и, сев позади, объявил, что он послан от Ауды, чтобы приветствовать Фейсала и получить от него новые приказы. Фейсал политично сдержал внешние проявления радости и степенно представил Ибн-Заала его кровным врагам из племени джази-хавейтат. Ибн-Заал сухо поздоровался с ними.
Позднее мы с ним долго беседовали наедине и отпустили его с богатыми дарами, еще более богатыми обещаниями и личным посланием Фейсала к Ауде, где он говорил, что его душа не успокоится, пока он не увидится с Аудой лицом к лицу в Ваджхе. У Ауды была большая военная слава, но для нас он являлся неизвестной величиной, а в таком жизненном вопросе как Акаба, мы не могли позволить себе допустить промаха. Он должен был приехать, чтобы мы могли оценить его и построить планы будущего обязательно в его присутствии и при его помощи.
Когда солнце опускалось за море и повеяла вечерняя прохлада, от горных хребтов, скрывающих Абу-Зерейбат, отделилась большая кавалькада и направилась к нам. Впереди нее ехал ишан Шакир, столь поразивший меня в Джедде, приехавший со свитой, чтобы навестить Фейсала, из лагеря ишана Абдуллы в Вади-Аис, вблизи Медины.
Шакир был принцем крови в глазах многочисленного племени, у которого его езда верхом (он был подобен кентавру, когда сидел на лошади), его стрельба, смелость, легкомыслие, богатство — все в одинаковой мере вызывало удивление.
В свою очередь Шакир разыгрывал из себя бедуина.
Его простая одежда, простой образ жизни, его манеры — все в нем было как у кочевника, даже его внешность — от мозолистых ног до заплетенных волос. Его волосы были настоящими волосами бедуина, с густым «населением».
— Только скряга может претендовать на всю свою голову, — шутил Шакир.
За исключением столь счастливых событий, в остальном этот день не отличался существенно от обычного дня. Мой дневник распух от потока новостей. Дороги к Ваджху кишели гонцами, добровольцами и великими шейхами, направлявшимися сюда, чтобы присягнуть в верности.
Фейсал торжественно приводил новых приверженцев к присяге на Коране:
«Ждать, если он ждет, идти вперед, если он идет вперед, не проявлять покорности ни одному турку, быть благожелательными ко всем, кто говорит по-арабски, и ставить независимость выше жизни, семьи и всего имущества».
Он также начал сзывать их одновременно и в своем присутствии улаживать распри между родовыми врагами. В течение двух лет Фейсал стремился собрать воедино и бесчисленные крошечные единицы, составлявшие арабский народ, втягивая их в свой единственный замысел — начать войну против турок. Всюду, где он проезжал, он не оставлял ни одной кровавой распри неулаженной, и он стал высшей судебной инстанцией, окончательной и бесповоротной для западных арабов.
Он выказал себя достойным этой миссии. Он никогда не проявлял лицеприятия, точно так же, как не принимал шагов, которые могли бы вызвать замешательство. Никогда ни один араб не оспаривал его мнения, но все прибегали к его мудрости и компетенции в делах племен. Благодаря умению терпеливо разбираться в том, кто прав, кто виноват, благодаря своему такту и своей замечательной памяти, он пользовался авторитетом у всех кочевников от Медины до Дамаска и даже за их пределами. Он был признан силой, выходящей за пределы своего племени, стоящей выше племенных вождей и всякого соревнования. Арабское движение стало национальным в лучшем значении этого слова, так как оно сплотило всех арабов и отвлекло их от узких частных интересов. В этом движении первое место, благодаря рвению и способностям, естественно, завоевал человек, который занимал его в течение немногих недель победы и долгих месяцев разочарования, наступившего после освобождения Дамаска.
Бедуины — странный народ. Англичанин может жить с ними только в том случае, если обладает безграничным и бездонным, как море, терпением. Это были настоящие рабы своих привычек, без всяких устоев, запоем пьющие кофе, молоко и воду, любители тушеного мяса и бесстыдные попрошайки табака. Они неделями мечтали о половых наслаждениях, а следующие за ними дни проводили, возбуждая себя и своих слушателей эротическими рассказами. При благоприятствующих условиях жизни они жили бы исключительно чувственной жизнью. Их сила была силой мужчин, огражденных от искушений в силу географических условий; бедность Аравии сделала их простыми, воздержанными и выносливыми. В условиях цивилизованной жизни они, как дикари, не устояли бы перед ее темными сторонами: скупостью, развратом, жестокостью, хитростью и обманом; и, как дикари, они сугубо страдали бы от этого, так как не имели бы противоядия. Как только они догадывались, что мы хотим управлять ими, они становились упрямыми или уходили прочь. Если же мы понимали их и предоставляли им возможность делать то, что им хотелось, они готовы были идти за нас в огонь и в воду. Трудно было бы сказать, окупались ли достигнутыми результатами положенные на них труды. Англичане, привыкшие к более крупным достижениям, не могли и, конечно, не стали бы тратить время, усилия и ловкость, которые каждый день расточали шейхи и эмиры на такое пустое дело. Арабов понять было легко, ум их был подчинен тем же законам логики, как и наш, и не было ни основания, ни оправдания, кроме нашей лени и невежества, считать их непонятными и трудно разгадываемыми и оставлять их неисследованными.
В военном отношении мы сейчас крепко укрепились в Ваджхе. Алленби[30] прислал нам два бронированных автомобиля «Роллс-Ройс», ветеранов похода генерала Сметса в Германскую Восточную Африку.
Янбу был очищен от последних солдат и складов. Рабег также оставался покинутым. Оттуда прилетели сюда аэропланы, которые были введены в состав нашей армии. Египетские войска на судах прибыли вслед за ними с полковником Джойсом, капитаном Гослеттом и штабом из Рабега, на которых ныне была возложена такая же работа в Ваджхе.
Полковник Ньюкомб и капитан Горнби находились впереди, разрушая круглые сутки железнодорожный путь почти собственными руками. Все, казалось, шло к лучшему, когда однажды в полдень Сулейман, доверенное лицо по приему гостей, вбежал в палатку и пошептался с Фейсалом, который повернулся ко мне с сияющими глазами, пытаясь сохранить спокойствие, и произнес:
— Ауда здесь.
— Ауда абу-Тайи? — воскликнул я, и в этот момент пола палатки поднялась, раздался глубокий голос, певуче произносивший приветствия нашему владыке, повелителю правоверных, и вошел высокий, сильный человек с жестоким лицом, — страстным и трагическим. Это был Ауда, а за ним следовал его сын Мухаммед, одиннадцати лет от роду, на вид еще ребенок.
Фейсал вскочил с ковра. Ауда схватил его руку и поцеловал ее. Глядя друг на друга, они отошли на шаг или на два в сторону — совершенно непохожие друг на друга, типичные для всего, что было лучшего в Аравии: Фейсал — пророк и Ауда — воин, являвшиеся каждый совершенством в своей области и сразу понявшие и понравившиеся друг другу.
Они сели. Фейсал представил нас одного за другим, и Ауда краткими словами, казалось, характеризовал каждого.
Мы уже слышали много об Ауде и твердо рассчитывали занять Акабу с его помощью. И через минуту, увидав силу и прямолинейность этого человека, я уже знал, что мы достигнем нашей цели.
Нас собралась веселая компания: Несиб, Фаиз, Мохаммед эль-Дейлан, хитрый родич Ауды, его племянник Заал и Ишан Насир, отдыхавший в Ваджхе в течение нескольких дней между двумя походами.
Я рассказывал Фейсалу необыкновенные истории о лагере Абдуллы. Внезапно Ауда вскочил на ноги с громким восклицанием: Да сохранит меня Аллах! — и бросился прочь из палатки. Мы уставились друг на друга. Снаружи раздался громкий стук. Я выбежал, чтобы узнать, что он означает, и нашел Ауду прислонившимся к скале и камнем разбивающим в куски свои искусственные зубы.
— Я забыл, — объяснил он, — что мне их дал Джемаль-паша.[31] Я ел хлеб своего Господа турецкими зубами.
К несчастью, своих зубов у него было мало, и с этих пор есть мясо, которое он очень любил, стало для него мучением. Он почти голодал, пока мы не взяли Акабу и сэр Реджинальд Уингэйт не прислал ему дантиста из Египта, чтобы тот сделал ему зубы из материала его союзников.
Ауда был одет очень просто и носил красное мосульское головное покрывало. Ему можно было дать свыше пятидесяти лет, и его черные волосы серебрились, но он все еще был силен и статен, гибок и сухощав, и деятелен, как молодой человек. Очертания его лица были великолепны. На этом лице лежала печать искреннего горя, омрачившего всю его жизнь и вызванного смертью в бою его любимого сына Аннада, разбившей его мечту передать будущим поколениям величие имени абу-тайи. У него были большие, выразительные, бархатные глаза.
Благодаря своему великодушию он никогда не мог разбогатеть, несмотря на добычу от сотен набегов. Он был женат двадцать восемь раз, был ранен тринадцать раз. Он собственноручно убил в бою семьдесят пять человек арабов, но ни одного вне поля сражения. О числе убитых им турок он не мог дать отчета: они не входили в его счет. Люди его племени сделались при нем первыми бойцами пустыни, полными отчаянной отваги и чувства превосходства над другими, но благодаря этим качествам число этих бойцов уменьшилось в течение тридцати лет: из тысячи двухсот человек осталось около пятисот.
Ауда предпринимал набеги при каждом представляющемся ему случае и совершенно не считался с расстоянием.
После своих разбойничьих подвигов он был настолько хладнокровен, насколько перед тем был горяч, и в самых безумных своих поступках он мог холодно взвешивать все возможности. В своей деятельности он проявлял чрезвычайное терпение и неизменно выслушивал советы, критику и оскорбления с очаровательной улыбкой. Когда он приходил в ярость, его лицо конвульсивно подергивалось, бешенство его стихало только тогда, когда он убивал кого-либо: в такие минуты это был бешеный зверь, и люди старались избегать его. Ничто в мире не могло заставить его изменить свое убеждение, подчиниться приказу или сделать что-нибудь, чего он не одобрял.
Его память хранила поэтические повествования о старых набегах и эпические рассказы о сражениях, и он расточал их перед любым слушателем. Если ему недоставало слушателей, он пел эти предания самому себе оглушительным голосом, низким и звучным. Он не мог обуздывать своего языка и постоянно вредил им своим собственным интересам, а также задевал своих друзей. Он говорил о себе в третьем лице и настолько был уверен в своей славе, что любил рассказывать истории, направленные против себя самого. И все же при всем том он был скромен, прост, как дитя, прямолинеен, честен, добросердечен и горячо любим даже теми, кого он чаще всего приводил в замешательство, — своими друзьями.
Долгая передышка после падения Ваджха имела для меня важное значение, так как я мог в одиночестве обдумать и рассмотреть нашу деятельность как бы со стороны.
Все наши усилия все еще были направлены против железной дороги. Ньюкомб и Гарланд с ишаном Шарафом и Мавлюдом находились вблизи Муаддама. С ними было много людей племени билли, посаженной на мулов пехоты, орудий и пулеметов. Они надеялись захватить там крепость и железнодорожный вокзал. Затем Ньюкомб намеревался двинуть вперед всех людей Фейсала к самому Медаин Салих[32] и, захватив и удерживая часть железнодорожной линии, отрезать Медину и вынудить ее к быстрой сдаче. Вильсон должен был приехать, чтобы помочь им в этой операции, а полковник Давенпорт должен был доставить столько солдат египетской армии, сколько он мог перевезти, чтобы подкрепить атаку арабов.
Всю эту программу я считал необходимой для дальнейшего развития арабского восстания, до того, как мы взяли Ваджх. Часть ее я сам составил и разработал. Но сейчас мне казалось, что не только в деталях, но и по существу план был неправилен. Таким образом моей задачей стало — разъяснить свое переменившееся мнение и, если возможно, убедить начальников согласиться с моим новым планом.
Арабская война была географической войной, а турецкая армия была скверно организована. Наша задача заключалась в том, чтобы найти слабейшее место неприятеля и упирать лишь в него, пока время не поколеблет врагов на всем их протяжении. Самые крупные наши силы, бедуины, не привыкли к правильным операциям, но их преимуществами были подвижность, гибкость, самоуверенность, знание местности и разумная отвага. Благодаря им раздробленность наших сил становилась нашей силой. Следовательно, мы должны до максимума расширить наш фронт и вынудить турок к пассивной обороне, что являлось для нас в высшей степени важным, так как она была самым дорогим видом войны.
Наш долг заключался в том, чтобы достигнуть цели с величайшей экономией жизни людей, так как жизнь для нас более драгоценна, чем деньги или время. Если бы мы были терпеливы и сверхчеловечески искусны, мы могли бы следовать примеру маршала Сакса и добиться победы без боя. К счастью, мы не были так слабы, чтобы требовать этого, мы были богаче турок транспортными средствами, пулеметами, автомобилями, взрывчатыми веществами. Мы могли бы составить очень подвижный, хорошо снаряженный ударный отряд самой незначительной численности и последовательно использовать его против различных участков турецкого фронта, чтобы заставить турок усилить посты выше оборонительного минимума в двадцать человек. Это было бы кратчайшим путем к успеху.
Мы не должны брать Медину. Турки там были безвредны. Если бы мы их захватили в плен и отвезли в Египет, нам бы много стоил их прокорм и охрана. Нам же нужно, чтобы их главные силы оставались в Медине и во всех других отдаленных местах. Нашим идеалом было бы, чтобы железная дорога работала еле-еле, но только еле-еле с максимумом потерь и неудобства. Вопрос о провианте заставит врага держаться железной дороги. Если бы турки стремились к слишком быстрой эвакуации, чтобы сконцентрироваться на небольшой площади, над которой их отряды могли бы действительно господствовать, — тогда мы должны были бы ослабить против них военные действие к тем вернуть им уверенность в их безопасности. Их глупость была нашим союзником, так как им хотелось сохранить или считать, что они сохранили, елико возможно больше из своих старых провинций. Эта гордость своим наследием от прежней империи удерживает их на их нынешних нелепых позициях — когда у них множество флангов и нет фронта.
Я обстоятельно критиковал принятый прежде план. Удерживать среднюю часть железной дороги обошлось бы нам дорого, так как нам угрожали бы с обеих сторон. Смешение египетских войск с арабскими племенами морально бы нас ослабило.
Однако ни мои общие доказательства, ни частные возражения не были приняты во внимание. План уже был разработан, и приготовления по нему зашли далеко. Все были слишком заняты своим собственным делом, чтобы у меня хватило влияния привлечь их к моему плану. Все, чего я достиг, это то, что меня выслушали и условно согласились, что мой план мог бы оказаться полезным. Я вырабатывал вместе с Аудой абу-Тайи проект похода с племенем хавейтат на их весенние пастбища в Сирийской пустыне. Оттуда мы могли бы двинуть летучие отряды с верблюдами и ринуться на Акабу с востока без всяких пушек и пулеметов.
Восточная сторона являлась незащищенной, линией наименьшего сопротивления, самой доступной для нас. Наш поход был исключительным примером обходного движения, так как требовал передвижения по пустыне на протяжении шестисот миль, чтобы овладеть окопом, находящимся в сфере влияния огня с наших судов.
Ауда считал, что всего можно достичь динамитом и деньгами и что незначительные племена около Акабы присоединятся к нам. Фейсал, который уже пришел в соприкосновение с ними, также верил, что они оказали бы нам помощь, если бы мы предварительно добились успеха у Маана, а затем действительно двинулись на порт. Пока мы размышляли, флот совершил набег на него, и захваченные при этом турки дали нам такие полезные сведения, что я сгорал от нетерпения немедленно уехать.
Поход в Сирию
Девятого мая 1917 г. все было готово, и в ослепительном сиянии дневного солнца мы покинули палатку Фейсала, провожаемые его наилучшими пожеланиями.
Нас сопровождали Ауда и его сородичи, а также ишан Насир, который вел нас, и Несиб эль-Бекри, дамасский политик, который должен был представлять Фейсала перед сирийскими поселянами. Несиб выбрал себе в товарищи сирийского офицера Зеки.
Нас эскортировали тридцать пять человек племени аджейль под начальством Абдуллы ибн-Дгеитира, замкнутого, рассеянного, самодовольного человека.
Фейсал дал нам на руки двадцать тысяч фунтов золотом — все, что он был в силах дать, и больше того, что мы просили — для расплаты с новыми людьми, которых мы надеялись завербовать, что побудило бы племя хавейтат к быстроте.
К моим аджейлям — Мухеймеру, Мерджану и Али — прибавился еще Мохаммет, загорелый, покорный крестьянский мальчик из какой-то деревни в Хауране, и Гасим из Маана, с крупными зубами на коричневом лице, преступник, объявленный вне закона, который убежал в пустыню, к племени хавейтат после того, как убил турецкое должностное лицо в споре из-за налога на скот. Преступления против сборщиков податей вызывали в нас симпатию, и это окружало Гасима некоторым ореолом, на который он на самом деле не имел никакого права.
Наш проводник Насир знал местность так же хорошо, как свою страну. Когда наступила лунная и звездная ночь, его охватили воспоминания о его родине. Он рассказал мне о выложенных камнями домах со сводчатыми крышами, о фруктовых обильных садах, по тенистым тропам которых можно было покойно разгуливать, не боясь солнца.
Насир, несмотря на веселый нрав, легко поддавался настроениям, и в этот вечер он сам удивлялся, как это он, эмир Медины, богатый и могущественный, спокойно живший во дворце, покинул все для того, чтобы стать бессильным вождем отчаянной авантюры в пустыне. Уже два года он был изгнанником, ведя войну перед фронтом армии Фейсала. То и дело его направляли в рискованные рейсы, в то время, как турки хозяйничали в его доме, уничтожали его плодовые деревья и срубали пальмы. Он говорил, что смолк даже его глубокий колодезь, скрип колеса которого неустанно раздавался в течение 600 лет, а сад, сожженный жарой, опустел, как те холмы, по которым мы ехали.
После четырехчасовой езды мы проспали два часа, но встали с солнцем. Вьючные верблюды, ослабевшие от проклятой чесотки, подвигались медленно.
Так мы плелись шесть часов, изнемогая от зноя. В одиннадцать часов утра, против желания Ауды, мы сделали привал, растянувшись под деревьями.
После трехчасового перерыва мы вновь двинулись в путь. Через несколько часов мы достигли зеленых садов Эль-Курра. Белые палатки выглядывали из-за пальм. Пока мы спешивались, к нам подошли с приветствиями Расим, Абдулла, врач Махмуд и даже старый кавалерист Мавлюд.
Они рассказали, что ишан Шараф, с которым мы хотели встретиться в Абу-Рага, месте нашей следующей остановки, уехал на несколько дней для набега на неприятеля. Таким образом, для нас становилась излишней всякая спешка, и мы устроили себе праздник, проведя две ночи в Эль-Курре.
Мы сократили вторую ночь отдыха в этом зеленом раю и в два часа ночи выехали в долину. Стоял густой мрак, который не могло рассеять слабое мерцание звезд.
Ауда был проводником, и, чтобы внушить доверие к себе, он стал упражнять голос в бесконечных «хо, хо, хо», напеве хавейтат, построенном на трех басовых нотах, высоких и низких, так однообразно повторявшихся, что нельзя было разобрать слов. Спустя некоторое время мы поблагодарили его за пение, когда тропинка свернула влево и наша длинная цепь последовала за эхом его голоса, разливавшегося в лунном свете по поросшим терновником холмам.
Прибыв в Абу-Рага, мы не нашли там Шарафа. Его ждали на следующий день, но он не приехал. Он прибыл лишь на третий день утром. Он захватил пленных на фронте и взорвал рельсовый путь и подземный сток для воды. Одна из его новостей заключалась в том, что в Вади— Дираа, на нашем пути, недавно прошел дождь, после которого остались лужи свежей дождевой воды. Таким образом, наш безводный путь до Феджра сокращался на пятьдесят миль.
На следующий день мы покинули Абу-Рага. Ауда ввел нас в смежную долину, вскоре расширившуюся в песчаную равнину Шегга.
Не было видно никаких следов, так как каждый порыв ветра, словно огромная щетка, подметал поверхность песка с выгравированными на нем отпечатками ног последних путешественников, пока к песку вновь не возвращалась его девственная волнистость. На нем валялись лишь комья верблюжьего навоза, круглого, как грецкие орехи, и светлее песка; свистящий ветер сносил их в кучи. Может быть, по ним так же, как и своим ни с чем несравнимым чувством дороги, Ауда верно определял путь.
В середине пути мы заметили пятерых или шестерых вадников, ехавших со стороны железной дороги. Я был впереди вместе с Аудой, и мы спрашивали себя: друзья это или враги? Но когда они приблизились, мы увидали, что они принадлежали к арабским силам.
Передний, нетвердо сидевший на неуклюжем верблюде, в неуклюжем деревянном седле, принятом в британских верблюжьих отрядах, был белокурым англичанином с щетинистой бородой и в изодранном мундире. Мы догадались, что это, должно быть, капитан Горнби, ученик Ньюкомба, свирепый инженер, соперничавший с ним в разорении железнодорожных путей.
После обмена приветствиями при этой нашей первой встрече он рассказал мне, что Ньюкомб недавно отправился в Ваджх, чтобы обсудить с Фейсалом свои затруднения и разработать новые планы.
К заходу солнца мы достигли северной границы разоренной каменистой местности, а к ночи — тихой долины с серым мягким, песчаным ложем, полным колючего кустарника, к несчастью, непригодного в пищу для верблюдов.
Ночью некоторые из наших верблюдов разбрелись, и нашим людям пришлось так долго разыскивать их, что было уже около восьми часов, когда мы, перекусив, снова двинулись в путь. Дорога лежала через обширное поле лавы.
Мы безостановочно ехали до полудня, а затем до трех часов расположились на отдых на голой почве. Мы считали необходимым сделать на этом неудобном месте привал, опасаясь, что приунывшие верблюды, привыкшие к песчаным путям прибрежной равнины, могли обжечь свои мягкие ноги о раскаленные солнцем камни и захромать.
Когда мы опять сели на верблюдов, дорога ухудшилась, и нам пришлось беспрестанно объезжать огромные пространства, заваленные глыбами базальта, или глубокие желтые водостоки.
И вновь мы восхищались уверенностью, с которой Ауда вел нас сквозь извилины меж скал.
Истинная пустыня
После ночного привала мы на заре сели в седла и вскоре добрались до Деръа, о котором Шараф рассказал нам, что там мы найдем воду. Мы оставались тут до полудня, так как находились очень близко от железной дороги, и должны были по горло напиться воды и наполнить ею наши меха, подготовляясь к долгому переходу к Феджру.
Во время привала Ауда позаботился, чтобы двое из наших людей натерли моего верблюда маслом для устранения нестерпимого зуда вследствие коросты, недавно покрывшей его морду. Сухие пастбища страны билли и зараженная почва Ваджха произвели опустошение между нашими животными. Среди всех верховых верблюдов Фейсала не было ни одного здорового. В нашем небольшом отряде верблюды слабели с каждым днем. Насир был полон беспокойства, что в предстоящем форсированном походе многие из них падут, оставив своих всадников в пустыне на произвол судьбы.
Без четверти четыре мы уже сидели в седле, спускаясь по Вади-Деръа меж отвесными и высокими склонами изменчивых песков. Немного погодя, трое или четверо из наших людей, опередив весь отряд, ползком вскарабкались на песчаную вершину, чтобы осмотреть железную дорогу. Она казалась безлюдной.
Наши усталые верблюды смогли спокойно пересечь долину, железнодорожное полотно и следовавшую дальше равнину и затем укрылись в песках и утесах, лежавших за железной дорогой.
Между тем некоторые из наших людей подложили пироксилин под рельсы и начали поджигать запалы, наполняя пустую долину отзвуками многократных взрывов.
Ауда впервые видел динамит и с ребяческим удовольствием разразился наспех придуманными стихами о его мощи и великолепии.
Мы перерезали три телеграфных провода и привязали их концы к седлам шести верховых верблюдов. Удивленные животные отбивались от звенящей, путающейся проволоки, волочащейся за ними. Наконец мы освободили их от нее и в наступивших сумерках, смеясь, двинулись дальше.
Утром, около четырех часов, мы уже подымались в гору, пока наконец не вскарабкались на плоскогорье, с которого открывался беспредельный вид на восток. Подымающееся солнце затопляло все ярким светом и отбрасывало длинные тени.
Совсем рассвело: потоки солнечного света, падавшего прямо в лицо двигающимся фигурам, пронизывали каждый камень в пустыне.
Бедуин Феджра, любящий давать прозвища, назвал свою равнину Эль-Хоуль[33] по причине ее запустения; в этот день мы продвигались вперед, не встречая на своем пути признаков жизни — ни следа газели, ни ящериц, ни крыс, ни даже птиц. Мы сами чувствовали себя покинутыми в ней, и наше быстрое продвижение в ее бесконечности казалось бесплодным усилием. Единственными звуками были глухое эхо, как будто бы каменный настил, по которому шли наши верблюды, был выстлан над пустым пространством, да тихий, но резкий шелест песка, медленно подгоняемого к западу по песчаной почве горячим ветром, обтачивающим соли песчаника, так, что камни своими выдающимися остриями напоминали изъеденную кору.
Дул ветер, как из огненной печи. Днем он был так сух, что наши пересохшие губы и кожа на лицах потрескались; гноящиеся веки, казалось, не могли защищать наших щурившихся глаз. Арабы надвинули свои головные покрывала на лицо, оставив узкую щель для глаз.
Весь день мы брели вперед, изнемогая от резкого ветра, пока не наступил спокойный, темный и звездный вечер. Покрыв около пятидесяти миль, мы сделали привал.
На следующий день мы пустились в путь еще до рассвета и как раз к полудню достигли колодца, к которому стремились. Он был около тридцати футов глубины, обложен камнем и, по-видимому, древний. Вода была слегка солоновата, но не противна на вкус. Здесь была организована наша ночевка.
Как обычно, мы встали до рассвета и как раз перед заходом солнца достигли Хабра Аджаджа после утомительной езды через угрюмую равнину.
Мы нашли там воду, годную для верблюдов, но почти не пригодную для питья. Мы раньше думали, что застанем здесь племя хавейтат, но трава вся была объедена, вода загажена их верблюдами, а сами они уже уехали дальше. Ауда пытался разыскать их следы, но не смог найти ни одного: порывы ветра совершенно замели их. Однако, если бы мы повернули на север, мы могли бы их догнать.
Наступил следующий день. Несмотря на то, что, казалось, прошло бесконечно много времени, был лишь четырнадцатый день, как мы покинули Ваджх, и взошедшее солнце опять застигло нас в пути через известняковые и песчаные равнины к отдаленному краю Великой пустыни Северной Аравии — Нефуду, знаменитые цепи песчаных дюн которой отрезали Джебель Шаммар от Сирийской пустыни.
Некоторые знаменитые путешественники пересекли ее, и я попросил Ауду немного отклониться от нашего пути, чтобы вступить в пустыню, но он проворчал, что в Нефуд идут лишь в случае необходимости, во время набегов, и что сын его отца не может ехать на шатающемся чесоточном верблюде. Нашей задачей же было достигнуть Арфаджи живыми.
Поэтому мы благоразумно двинулись дальше через однообразные, блестящие пески. Они ослепительно, как зеркало, отражали солнечные лучи, и наши слабые веки не могли защитить глаз от острых стрел света, пронизывавших их. Мы почти не разговаривали друг с другом, по временам едва не лишаясь чувств, но к шести часам мы почувствовали облегчение, сделав привал для ужина.
Мы тащились еще три часа в темноте и достигли вершины песчаной гряды. Там мы сладко заснули после тяжкого дня жгучих ветров, ураганов пыли и песчаных заносов, терзавших наши воспаленные лица, а по временам, при сильных порывах, застилавших дорогу и бросавших в разные стороны наших измученных верблюдов. Но Ауда беспокоился о завтрашнем дне, так как второй противный ветер задержал бы нас в пустыне, а у нас уж не оставалось воды. Он разбудил нас и, прежде чем наступил день, мы вступили на равнину Бисайты,[34] названную так в насмешку за ее огромные размеры и унылый вид. Ее поверхность, покрытая потемневшими от солнца голышами, оставалась темной и после восхода солнца, успокаивая наши усталые глаза, но нашим верблюдам, из которых некоторые уже хромали на израненные ноги, было жарко и трудно ступать по ней. Я и Ауда ехали впереди, выбирая удобный путь.
По дороге мы заметили вздымающуюся против ветра пыль. Ауда сказал, что там страусы. Один из его людей побежал и принес два огромных яйца цвета слоновой кости. Мы расположились позавтракать этим щедрым даром пустыни.
Насир и Несиб, заинтересованные восторгом европейцев, спешились, посмеиваясь над нами. Ауда вытащил свой кинжал с серебряной рукояткой и отбил верхушку одного из яиц, которые мы предварительно испекли. Мы почувствовали резкую вонь, словно от чумной заразы, и спаслись бегством на новое место, слабыми толчками перекатывая перед собой другое яйцо. Оно оказалось довольно свежим, но твердым, как камень. Мы выковыряли кинжалом его содержимое на гладкие камни, служившие нам тарелками, и съели его кусками, убедив даже Насира взять себе долю, хотя он никогда еще в своей жизни не падал так низко, чтобы есть яйца. Общий приговор гласил: жесткое и слишком крутое, но приемлемое для Бисайты.
Один из наших спутников заметил антилопу, подкрался к ней и убил ее. Впоследствии алчные люди хавейтат, замечая в отдалении множество антилоп, пускались в погоню за животными. Последних выдавало их белое сверкающее брюхо, делавшее заметным каждое их движение даже на большом расстоянии.
Я был слишком измучен, чтобы свернуть с пути даже ради самого редкостного в мире животного, и ехал сзади. Мой верблюд быстро нагонял караван, ускорив шаг. Наши люди боялись, что некоторые из верблюдов падут до вечера, если ветер усилится.
Среди людей племени аджейль я не мог различить одного из них — Гасима. Я поехал вперед, желая отыскать его верблюда, и наконец нашел его, но без всадника. Его вел один из людей хавейтат. Седельные сумки, винтовка и провиант были на верблюде, но сам Гасим исчез. Нам стало ясно, что несчастный отстал. Это было ужасным несчастьем, так как в туманном мареве караван не мог быть виден далее двух миль, а на земле, твердой, как железо, не оставалось никаких следов. Гасим никогда бы не смог нагнать нас пешком.
Все начали его искать, надеясь, что он находится где-нибудь в нашем растянувшемся караване, но его нигде не было.
Уже прошло много времени, и почти наступил полдень; было очевидно, что Гасим остался где-то позади, на расстоянии многих миль. Его навьюченный верблюд служил доказательством, что мы не забыли его спящим на нашем ночном привале.
Его товарищи рискнули предположить, что он задремал в седле и свалился, оглушенный или убившись при падении, или что кто-либо свел с ним старинные счеты. Во всяком случае, они ничего не знали. Он был злонравным чужаком, и они не слишком волновались.
Я нерешительно смотрел на них и на минуту задумался, могу ли я послать кого-либо из них назад на моем верблюде, чтобы спасти Гасима. Если бы я уклонился от этого долга, то это оправдали бы тем, что я иностранец. Но это было слабым доводом для человека, который намеревался помогать арабам в их восстании.
Во всяком случае, иностранцу было очень тяжело оказывать влияние на национальное движение другого народа, а особенно тяжело для христианина и оседлого человека управлять кочевниками-мусульманами. Я исключил бы для себя эту возможность, если бы пытался пользоваться одновременно привилегиями тех и других.
Вот почему, не сказав ни слова, я повернул моего упиравшегося верблюда и поехал обратно в пустыню. Настроение мое было далеко не героическим, так как меня взбесили остальные люди и то, что я изображал собою бедуина, а больше всего сам Гасим, ворчливый парень с редкими зубами, скверного нрава, подозрительный, грубый человек, от которого я дал себе слово избавиться при первой возможности. Казалось нелепым, что я должен был подвергнуть опасности свое участие в арабском восстании ради одного нестоящего человека.
Мой верблюд глухим ворчанием, казалось, выражал те же чувства.
В течение всех последних дней я замечал направление по своему компасу и надеялся с его помощью вернуться к месту нашего отправления в семнадцати милях позади.
Я скакал в течение полутора часов, когда внезапно заметил впереди себя что-то похожее на какую-то фигуру, большой куст, во всяком случае что-то черное. Изменчивое марево искажало размеры и расстояние, но этот предмет, казалось, двигался. Я наудачу повернул туда своего верблюда и через несколько минут разглядел, что это был Гасим. Когда я окликнул его, он нерешительно остановился. Я подъехал и увидел, что он почти ослеп и стоит с глупым видом, открыв рот и протягивая руки ко мне. Наши люди налили в мои меха нашу последнюю воду, и он судорожно расплескал ее по лицу и груди, спеша напиться. Затем он залепетал, изливая свои горести. Я посадил его на круп верблюда и повернул обратно.
Гасим трогательно сетовал на муку и ужас жажды. Я велел ему перестать, но он продолжал, все время съезжая с седла. При каждом шаге верблюда он шумно падал на его круп, пришпоривая его этим так же, как своим плачем. Мы легко могли надорвать верблюда. Я опять велел ему перестать, и как только он взвизгнул погромче, я ударил его, поклявшись, что при первом же звуке сброшу его прочь. Угроза подействовала. После нее он молчаливо и судорожно вцепился в седло.
Я не проехал и четырех миль, как опять увидал темную тень, подвигающуюся вперед, покачиваясь, и маячившую в мареве. Она раскололась натрое и увеличилась. Я подумал, что это враг. Минуту позднее туман рассеялся с внезапностью призрака, и я узнал Ауду с двумя из людей Насира, вернувшихся назад, чтобы отыскать меня. Я подтрунивал над ними, что они покинули друга в пустыне. Ауда дернул себя за бороду и проворчал, что если бы он присутствовал при этом, я бы никогда не поехал обратно.
Гасима с бранью перенесли на седельную подушку лучшего ездока, и мы медленно двинулись вперед.
Через час мы присоединились к Насиру и Несибу. Несиб сердился на меня за то, что я из прихоти подверг опасности жизнь Ауды и свою собственную. Ему был ясен мой расчет, что они вернутся за мной. Насир же чувствовал стыд за свою недостаточную осторожность, над которой в дальнейшем Ауда подтрунивал, противопоставляя солидарность людей пустыни эгоизму горожанина.
Это маленькое приключение отняло у нас несколько часов, и остальная часть дня казалась не такой длинной, хотя зной и усилился. Мы ехали плоской и ровной дорогой до пяти часов дня, когда мы увидали впереди низкие валы и немного погодя очутились в сравнительно покойном убежище меж песчаных холмов, заросших скудным тамариском. Это были сирханские холмы Касима.
Кусты и дюна задерживали ветер, солнце заходило, и мягкий вечер опускался на нас, окрасив все в красный цвет. Поэтому я записал в своем дневнике, что Сирхан — прекрасное место.
Не имея ни глотка воды, мы, разумеется, ничего не ели, — нам предстояла ночь воздержания. Но уверенность в том, что завтра мы напьемся досыта, дала нам возможность легко уснуть, лежа на животе, чтобы он не пучился от голода.
На следующее утро мы пустились по откосам через целый ряд вершин, отстоящих в трех милях друг от друга. В восемь часов мы, наконец, спешились у колодцев Арфаджи. Повсюду вокруг нас сладко благоухали кусты. Колодцы без ограды имели глубину в восемнадцать футов. Вода из них была солоновата на вкус и с сильным душистым запахом. Мы нашли ее превосходной, и так как повсюду росла зелень, пригодная в пищу для верблюдов, мы решили остаться здесь на день.
Пиршества арабских племен
На следующее утро мы совершили быстрый пятичасовой переход (наши верблюды были полны сил после вчерашнего отдыха) к оазису из хилых пальм с разбросанной вокруг зеленью тамариска. Вода, имевшаяся в изобилии, казалась вкуснее, чем в Арфадже. Все же и она оказалась «сирханской водой», которая казалась сносной вначале, но после двухдневного сохранения в закрытом сосуде приобретала отвратительный запах и вкус, делавшие ее непригодной.
Нам действительно надоел Вади-Сирхан, хотя Несиб и Зеки все еще обдумывали планы улучшения и культивирования здешних мест для арабского правительства, когда последнее будет образовано. Подобное неумеренное воображение являлось типичным для сирийцев, легко убеждавших себя в осуществлении их планов и так же легко и охотно сваливавших свою ответственность за их невыполнение на других.
— Зеки, — сказал я однажды, — твой верблюд весь в чесотке.
— Да, — печально согласился он, — вечером, когда солнце сядет, мы смажем его кожу мазью.
В следующий наш переезд я опять упомянул про чесотку.
— Ага, — сказал Зеки, — вы подаете мне хорошую мысль. Представьте себе, что мы учредим в Сирии государственное министерство ветеринарии, когда Дамаск станет нашим. У нас будет целый штаб искусных ветеринаров и центральный госпиталь, или даже сеть госпиталей для верблюдов и лошадей, для ослов и рогатого скота и даже (почему бы и нет?) для овец и козлов. При них должны быть научные и бактериологические отделы, чтобы производить изыскания универсальных средств против болезней животных. А что вы скажете о библиотеке иностранных книг?.. И о разъездных инструкторах?
И при пылком участии Несиба он разделил Сирию на четыре инспектората и множество суб-инспекторатов.
Назавтра вновь зашла речь о чесотке. Они отложили работу и занялись дальнейшим развитием своего плана.
— Да, дорогой мой, он еще не совершенен, но нам не свойственно останавливаться на пути к совершенству. Нам грустно видеть, что вы готовы оппортунистически довольствоваться частностью. Таков уж недостаток англичан.
Я ответил им в тон.
— О Несиб, — сказал я, — о Зеки… Разве совершенство помешает этому миру прийти к концу? Разве мы созрели для этого? Когда я сержусь, я молю Бога, чтобы земной шар упал на огненное солнце, и наши потомки больше не страдали, но когда я доволен, мне хочется лишь вечно отдыхать в тени, пока я сам не стану тенью.
Сирийцы неловко перевели разговор на верблюдов, а на третий день несчастный верблюд издох. Весьма вероятно «оттого, — как разъяснил Зеки, — что мы не смазали его».
Ауда, Насир и остальные бедуины поддерживали хорошее состояние животных постоянными заботами.
С наветренной стороны к нам подъехал какой-то всадник. На мгновенье все насторожились, но затем люди хавейтат окликнули его. Он оказался одним из их пастухов, и они степенно обменялись приветствиями, как это было принято в пустыне. Он рассказал нам, что племя хавейтат расположилось лагерем впереди, от Исавии до Небка, нетерпеливо дожидаясь вестей от нас. У них все обстояло благополучно. Беспокойство Ауды миновало, и его рвение опять возгорелось. В течение часа мы быстро проскакали до Исавии и до палаток Али Абу-Фитна, начальника одного из кланов Ауды.
Старый Али, с рыжими, длинными волосами и слезящимися глазами, горячо приветствовал нас и настаивал, чтобы мы воспользовались гостеприимством в его палатке. Мы с извинениями отклонили его предложение, так как нас было слишком много, и расположились поблизости под низким кустарником, меж тем как он с остальными хозяевами палаток подготовляли для нас к вечеру пиршество.
Приготовление пищи отняло несколько часов, и уже давно наступила темнота, когда они позвали нас. Я проснулся, спотыкаясь, добрался до стола, поел, вернулся к нашим растянувшимся верблюдам и опять заснул.
Наш поход успешно закончился. Мы отыскали племя хавейтат, наши люди были в полном порядке, а наше золото и взрывчатые вещества остались нетронутыми. Поэтому утром мы собрались вместе на торжественный совет о дальнейших действиях. Мы сошлись на том, что прежде всего мы должны подарить шесть тысяч фунтов Нури Шаалану, благодаря снисхождению которого мы достигли Сирхана. Нам нужно было его позволение оставаться здесь, пока мы не окончим вербовку и подготовку наших бойцов, и мы хотели, чтобы он заботился об их семьях, палатках и стадах, когда мы уйдем.
Это были важные вопросы. Было решено, что послом к Нури должен отправиться сам Ауда, ибо они были друзьями. Тем временем мы, оставшись с Али Абу-Фитна, должны были медленно подвигаться с ним на север к Небку, куда Ауда приказал собраться всему племени абу-тайи. Он должен был вернуться от Нури раньше, чем мы присоединимся к ним.
Мы погрузили шесть мешков с золотом в седельные сумки Ауды, и он уехал. Затем к нам явились старшины племени и заявили, что они почтут за честь угощать нас дважды в день: утром и после захода солнца, пока мы остаемся с ними. Гостеприимство хавейтата не знало границ.
Каждое утро между восемью и десятью нам подавали нескольких чистокровных кобыл. Насир, Несиб, Зеки и я садились на них верхом и в сопровождении дюжины наших пеших людей торжественно пересекали долину по песчаным тропам меж кустарниками. Так мы достигали палатки, которая должна была служить нам на этот раз залом для пиршества. Все семьи по очереди домогались нашего посещения и жестоко оскорблялись, если наш руководитель Заал отдавал предпочтение одной из них, нарушая порядок.
Когда мы прибывали к избранной палатке, вокруг нее всегда собиралась толпа, и мы проходили на половину для гостей, расширенную ради данного случая и заботливо убранную стенными занавесами на солнечной стороне, чтобы мы могли сидеть в тени. Застенчивый хозяин бормотал что-то и опять исчезал из виду. Для нас приготовляли красные ковры из Бейрута, и мы садились на них.
Хозяин вновь появлялся, стоя у входа. Наши местные сотрапезники Мохаммед эль-Дейлан, Заал и остальные шейхи позволяли усадить себя на коврах между нами, разделяя с нами вьючные седла, обложенные толстыми войлочными коврами, на которые мы опирались.
Передняя часть палатки была очищена, и шумная ватага детей отгоняла собак, бегая по пустому пространству, таща за собой еще меньших детей. Сообразно их возрасту упрощался и их туалет, и были пухлее их тела. Самые маленькие дети своими черными глазами в упор смотрели на собравшихся, важно качаясь на расставленных ногах. Совершенно голые, они сосали свои большие пальцы, выставляя напоказ свои животы.
Затем следовала неловкая пауза, которую наши друзья пытались нарушить, показывая нам ручного сокола на жердочке, дворового петуха или борзую собаку. Однажды на удивление нам в палатку втащили прирученного каменного козла, а в другой раз — антилопу. Когда эти развлечения иссякали, наши хозяева заводили пустую болтовню, чтобы отвлечь нас от домашней суматохи и отдаваемых настойчивым шепотом кухонных распоряжений, доносившихся через занавеску вместе с сильным ароматом кипящего сала и клубами вкусного пара от мяса.
Помолчав, хозяин выступал вперед и спрашивал шепотом: «Черного или белого?» приглашая нас выбрать кофе или чай. Насир всегда отвечал: «Черного». И раб, следуя знаку, приносил в одной руке кофейник, а в другой три или четыре звенящие белые чашки. Он плескал несколько капель кофе в верхнюю чашку и предлагал ее Насиру, вторую передавал мне, а третью Несибу. Следовала пауза, пока мы поворачивали чашки в руках и с видом знатоков осторожно втягивали кофе, чтобы не оставить ни единой драгоценной капли.
Как только они опорожнялись, он протягивал руку, с шумом вставляя их одну в другую и ловким движением перебрасывал их следующим по порядку гостям; так продолжалось, пока не напивались все. Тогда опять очередь доходила до Насира. Вторая чашка бывала вкуснее первой, отчасти оттого, что напиток настоялся, а отчасти оттого, что в нее вливали остатки из недопитых стаканов прежних гостей, а третья и четвертая чашка, если не сразу подавалось мясное блюдо, отличались удивительным ароматом.
Наконец двое людей приносили рис и мясо на луженом медном подносе пяти футов в поперечнике. У всего племени был лишь один поднос такого размера. По его краям шла вырезанная надпись цветистым арабским слогом: «Во славу Аллаха и с упованием на милость Его к Его бедному слуге Ауде Абу-Тайи». Затем хозяин приглашал нас приступить к еде.
Мы прикидывались, что не слышим его приглашений, как того требовали арабские приличия. Наконец мы удивленно глядели друг на друга, при чем каждый подталкивал своего соседа, чтобы тот подошел первым, наконец Насир скромно подымался, а за ним и все мы подходили и опускались на одно колено вокруг подноса. Мы засучивали до локтя правый рукав и со словами «Во имя всемогущего Аллаха»! одновременно окунали руки в варево.
В первый момент я погружал пальцы с большими предосторожностями, так как расплавленный жир обжигал мои непривычные пальцы, и вот, пока я перебрасывал в руках остывающий ломоть мяса, остальные опустошали все блюдо.
Наш хозяин стоял возле кольца гостей, поощряя их аппетит благочестивыми восклицаниями.
Когда все наедались досыта, Насир многозначительно прочищал себе горло, и мы все вместе поспешно подымались, шумно восклицая: «Аллах воздаст тебе за угощение, хозяин», — и покидали стол.
Затем нас еще раз потчевали кофе или чаем, похожим на сироп. Наконец, нам приводили лошадей, мы садились на них верхом и уезжали, призывая благословения на хозяина.
В первый день мы пировали один раз, а во второй и третий по два. Затем тридцатого мая мы оседлали наших верблюдов и легко сделали трехчасовый переход, достигнув долины, где нашли колодцы обычной солоноватой воды. Люди абу-тайи разбили лагерь вокруг нас.
Змеи, ставшие нашим бичом уже с первой минуты нашего вступления в Сирхан, сделали тот день памятным. Арабы говорили, что в обычное время змей здесь было немногим больше, чем повсюду, где в пустыне имелась вода. Но в этом году долина, казалось, кишела рогатыми ехиднами, кобрами и другими различными породами. Ночью двигаться было опасно, и когда мы осторожно шагали босиком между кустов, то ударяли по ним палками.
У змей была странная повадка ночью заползать к нам под одеяло, вероятно, в поисках тепла. Узнав об этом, мы вставали с бесконечными предосторожностями, и первый поднявшийся шарил палкой по земле вокруг своих соседей.
Мы убивали ежедневно, может быть, по двадцати штук, и под конец наши нервы так развинтились, что даже самые смелые из нас боялись прикоснуться к земле. Я же лично чувствовал трепетный ужас перед всеми пресмыкающимися и страстно желал, чтобы наше пребывание в Сирхане поскорее кончилось.
Сирхан нам опротивел. Его пейзаж казался гораздо безнадежнее и печальнее, чем вид всей пустыни, которую мы пересекли. Пески, камни и голые утесы иногда возбуждали воображение и с известной точки зрения обладали угрюмой красотой бесплодной пустынности, но было нечто зловещее в этом обреченном змеям Сирхане, порождающем лишь соленую воду, бесплодные пальмы и кусты, которые не были пригодны ни для костров, ни для кормежки верблюдов.
Мы ехали так два дня, миновав Гатти с его почти пресным колодцем. Когда мы приблизились к Аджейле, то увидали вокруг нее множество палаток, и нам навстречу немедленно вышел отряд. Мы узнали Ауду Абу-Тайи, невредимо вернувшегося от Нури Шаалана, и одноглазого Дарзи ибн-Дагми, нашего старого гостя в Ваджхе. Его присутствие доказывало расположение Нури так же, как и сопровождавший их сильный эскорт из верховых людей племени руаллы — все с непокрытыми головами. Они с приветственными криками сопровождали нас до пустого дома Нури, размахивая пиками и беспорядочно стреляя из винтовок и револьверов.
Дела, казалось, шли благоприятно, и нам пришлось назначить трех слуг готовить кофе для посетителей, которые начали стекаться к Насиру, принося присягу Фейсалу и арабскому восстанию и обещая повиноваться Насиру и следовать за ним со всеми их отрядами. Кроме настоящих подарков, каждый из них ронял на наш ковер неприметный, побочный дар в виде вшей, и задолго до захода солнца мы с Насиром были в лихорадке от укусов последних. У Ауды одна рука не сгибалась, что являлось следствием старой раны в локтевом суставе, и поэтому он не мог свободно почесываться. Но печальный опыт научил его засовывать за спину палку, и, скребя ею ребра, он, казалось, успокаивал зуд быстрее, чем мы успевали достичь того же своими ногтями.
Кочевые племена и кочевая жизнь
Прошло уж пять недель со дня нашего отъезда из Ваджха, мы уже истратили почти все деньги, которые захватили с собой, дали возможность верблюдам отдохнуть или заменили их новыми. Отъезду ничто не препятствовало. Новизна ощущений заранее вознаграждала нас за все, а Ауда накануне нашего выступления дал прощальный пир в своей огромной палатке, на котором присутствовали сотни людей. Этот пир превосходил все предыдущие.
Во время пира Ауда, указывая на Мохаммеда, спросил нас:
— Не хотите ли вы, чтобы я рассказал вам, как в течение 15 дней Мохаммед не спал в своей палатке?
Все захихикали от восторга, и Ауда рассказал, как Мохаммед купил нитку жемчуга в Ваджхе и не дал его ни одной из своих жен. Все они перессорились, но сошлись на том, чтобы отвергнуть его.
Этот рассказ был, конечно, чистым вымыслом — лукавый юмор Ауды обострился вследствие восстания, и злополучный Мохаммед, который уже две недели гостил то у одного, то у другого соплеменника, призывал Аллаха и меня в свидетели, что Ауда лжет. Я торжественно откашлялся. Ауда призвал к спокойствию и просил меня подтвердить его слова. Я начал с традиционной фразы каждого рассказа:
— Во имя милосердного и человеколюбивого Аллаха. Нас было шестеро в Ваджхе. Это были: Ауда, Мохаммед и Заал, Гасим эль-Шимт, Муфадди и бедный человек (я сам); однажды ночью, перед самым рассветом, Ауда сказал: «Пойдемте побродить по базару». И мы сказали: «В добрый час», — и пошли; Ауда в белой одежде и красном головном покрывале. Гасим в заплатанным сандалиях, Мохаммед в шелковой тунике «семи королей» и босиком, Заал… я забыл, как был одет Заал. Гасим был в бумажном платье, а Муфадди в голубом полосатом шелку с вышитым головным покрывалом. Ваш покорный слуга был одет, как теперь.
Я сделал паузу среди всеобщего изумления. Это была пародия на эпический стиль Ауды. Я также подражал его жестикуляции, его голосу и тем модуляциям, которые подчеркивали остроты или то, что он считал остротами в своих неостроумных рассказах. Хавейтаты сидели тихо и молчали, как убитые, жадно впиваясь глазами в Ауду; они все узнавали оригинал, а пародия была неведомым доселе ни ему, ни им искусством. Муфадди, слуга, беглец из Шаммара из-за убийства, сам характерный тип, забыл подбрасывать ветки терновника в костер, — так внимательно он слушал рассказ.
Дальше я рассказал, как мы вышли из палаток и пошли по направлению к деревне, причем описывал каждого верблюда и каждую лошадь, которую мы встречали, каждого прохожего и горы, лишенные пастбищ, так как эта страна была бесплодной.
— Иногда мы останавливались, чтобы выкурить папироску, и при малейшем шуме Ауда останавливался и говорил: «Друзья, я слышу что-то…» А Заал прибавлял: «Клянусь Аллахом, вы правы». И мы останавливались послушать, но ничего не слышали, и я говорил: «Клянусь Аллахом, я ничего не слышу». И Заал повторял: «Клянусь Аллахом, я ничего не слышу». И Мохаммед сказал: «Клянусь Аллахом, я ничего не слышу. И Ауда: «Клянусь Аллахом, вы правы».
И мы шли и шли, и страна была бесплодна, и мы ничего не слышали. Направо от нас появился негр, верхом на осле. Осел был серый с черными ушами и одной черной ногой, а на его плече было клеймо, и его хвост двигался и его ноги также. Ауда увидел это и сказал: «Клянусь Аллахом, вот осел и раб». И Мохаммед сказал: «Великий Аллах, это осел и раб». И мы пошли дальше. Дальше была гора, небольшая гора. И мы пошли к горе, и она была голая. Эта страна бесплодна, бесплодна, бесплодна. И мы шли дальше. Потянулись опять горы, и мы подошли к тем горам и поднялись на них, и там ничего не было, и вся страна выгорела, и мы поднялись на те горы и пошли до самого верха. Клянусь Аллахом, клянусь моим Аллахом, клянусь истинным Аллахом — над нами вставало солнце.
Так я закончил рассказ. Каждый из присутствовавших двадцать раз слышал рассказ Ауды о восходе солнца, с его бесподобным пафосом. Ауда часами тянул его. Тривиальность конца была подчеркнута мной, что делало рассказ похожим на рассказ Ауды. Все катались по полу от смеха.
Ауда смеялся больше и громче всех, так как он любил, когда над ним подшучивали, а бессмысленность моего повествования показала ему его собственное мастерство описания. Он обнял Мохаммеда и признался, что выдумал историю с ожерельем. В знак благодарности Мохаммед пригласил весь лагерь к завтраку. Нас угостили верблюжонком, сваренным в кислом молоке женами Мохаммеда.
Мы выступили 19 июня 1917 г. за час до полудня. Нас вел Насир, верхом на своем Газале, великолепном верблюде, похожем на античный корабль и возвышавшемся на добрый фут над остальными животными, но, тем не менее, восхитительно пропорциональном.
За Насиром следовали Ауда и я. Наш отряд, включивший представителей северных племен, сейчас насчитывал в целом более пятисот человек, и зрелище этой веселой толпы бесстрашных, самоуверенных северян, дико гоняющихся по пустыне за серной, мгновенно развеяло все наши опасения о печальном исходе всего нашего дела.
Все старшины племени абу-тайи пришли поужинать с нами. Мы сели на коврах вокруг горячей золы костров, дававших приятный жар в прохладе этой нагорной северной страны, и начали болтать, перескакивая с одного предмета на другой.
Насир улегся на спину с моим телескопом в руках и начал изучать звезды, громко называя одно созвездие за другим; он громко кричал от неожиданности, когда открывал маленькие светила, не видимые невооруженным глазом.
Ауда подсел к нам, чтобы побеседовать о больших телескопах, о том, как люди за 300 лет так далеко ушли вперед от первых попыток, что теперь строили тысячи неизвестных звезд. А звезды — что это такое? Мы перешли на тему о солнцах, превосходящих наше, о величинах и пространствах, непостижимых нашему разуму.
— Что будет теперь с этой наукой? — спросил Мохаммед.
— А мы возьмемся за нее, и ученые и умные люди, собравшись вместе, соорудят настолько более мощные телескопы, чем наши, насколько наши сильнее галилеевских. Сотни астрономов будут распознавать и вычислять тысячи доселе невиданных звезд, отмечать их на карте и давать каждой из них название. Когда мы их все увидим, не будет более ночи на небесах.
— Почему люди Запада всегда хотят захватить все? — лукаво спросил Ауда. — За нашими немногими звездами мы видим Аллаха, которого нет за вашими миллионами.
— Мы хотим знать, где кончается мир, Ауда.
— Но мир — создание Аллаха, — жалобно сказал Заал, начиная сердиться.
Мохаммед не хотел упускать интересовавшую его мысль.
— Живут ли люди в этих больших мирах? — спросил он.
— Аллах ведает.
— А имеет ли каждый из них Пророка, небо и ад?
Ауда набросился на него:
— Друзья, мы знаем наши округа, наших верблюдов и наших жен; бесконечность и слава принадлежит Аллаху. Если верх мудрости состоит в том, чтобы открывать новые звезды, то наша тупость нам приятна.
Потом он заговорил о деньгах и отвлек их мысль в другом направлении, так что они зажужжали все разом. Немного погодя он зашептал мне на ухо, что я должен достать ему богатый подарок от Фейсала, если он захватит Акабу.
Мы выступили на заре, и Ауда тут же заявил мне, что он едет вперед к Баиру, и спросил, не хочу ли я его сопровождать. Мы помчались и через два часа внезапно выехали к Баиру, лежащему у вершины холма. Ауда спешил вперед, чтобы посетить гробницу своего сына Аннада, которого из засады убили пятеро из его родичей в отмщение за Абтана, их лучшего бойца, убитого Аннадом на поединке. Ауда рассказал мне, как Аннад дрался с ними один против пятерых и умер славной смертью.
Однако, когда мы спускались к могилам, нас поразили клубы дыма, стелившегося по земле возле колодцев. Мы круто переменили направление и осторожно приблизились к развалинам. Казалось, что там было полное безлюдье, но всюду густо лежал навоз, а верхушка колодца была разбита вдребезги. Почва была разрыхлена и почернела, словно от взрыва, а когда мы заглянули в скважину колодца, мы увидали, что его подпоры сброшены и расколоты, а сам он наполовину завален грудой брошенных туда глыб. Я потянул носом воздух и почувствовал запах динамита.
Ауда подбежал к следующему колодцу, находившемуся под могилами в ложбине долины, но и тот был разрушен и завален камнями.
— Эта работа племени джази, — сказал он.
Мы пересекли долину, направляясь к третьему колодцу племени бени-сахр, — от него оставалось лишь отверстие. К нам подъехал Заал, ставший серьезным при виде случившегося бедствия. Мы исследовали разрушенный караван-сарай и нашли оставшиеся от прошлой ночи следы не менее сотни лошадей.
К северу от развалин, на открытой равнине, находился четвертый колодец, и мы в отчаянии направились туда, думая о том, что будет с нами, если весь Баир окажется уничтоженным. К нашей радости, он оказался невредимым.
Четвертый колодец принадлежал племени джази, и то, что он остался нетронутым, сильно подкрепляло предположение Ауды.
Нас смутило, что турки уже успели подготовиться, и мы начали опасаться, что, может быть, они совершили также набег на лежащий на восток от Маана оазис Эль-Джефер, вокруг колодцев которого мы рассчитывали сосредоточить все наши силы перед тем, как перейти в наступление. Их блокада действительно затруднила бы наш план.
Несмотря на это, наше положение, хотя и тяжелое, не являлось опасным, благодаря целости четвертого колодца. Все же содержавшихся в нем запасов воды не могло хватить для пятисот верблюдов, и поэтому стало настоятельной необходимостью отрыть наименее поврежденный из остальных колодцев, находившийся возле тлеющих развалин. Мы с Аудой и Насиром отправились еще раз поглядеть на него.
Один из людей племени аджейль принес нам пустую гильзу, очевидно, от того взрывчатого вещества, которым воспользовались турки.
Мы быстро расчистили второй колодец и решили остаться на неделю в Баире. К нашим заботам о пище и о настроениях племен между Мааном и Акабой прибавилась третья — разузнать, в каком состоянии находятся колодцы Эль-Джефера.
С этой целью мы послали туда человека. Мы приготовили небольшой караван из вьючных верблюдов и в сопровождении трех или четырех людей племени хавейтат, которых никогда бы не могли заподозрить в союзе с нами, отправили его за линию железной дороги в Тафила. Они должны были скупить всю муку, какая там имелась, и привезти ее к нам через пять или шесть дней.
Что же касается племен, обитавших вокруг дороги на Акабу, то мы нуждались в их активной помощи против турок, чтобы осуществить наш предварительный план, разработанный нами еще в Ваджхе. Он сводился к тому, что мы внезапно выступаем вперед из Эль-Джефера, пересекаем линию железной дороги и вступаем в великое ущелье Нагб эль-Штар, ниже которого дорога опускалась с плоскогорья Маана к красной равнине Гувейры.
Чтобы удержать это ущелье, нам следовало захватить Абу эль-Лиссан, мощный источник у его начала на расстоянии около шестнадцати миль от Маана. Гарнизон там был не очень велик, и мы надеялись обратить его в бегство при первом же натиске. Затем мы перекрыли бы дорогу, и сторожевым постам вдоль нее к концу недели пришлось бы сдаться от голода; однако вероятнее всего, что еще раньше горные племена, прослышав о нашем успешном начале, присоединились бы к нам, чтобы очистить ущелье от врага.
Трудностью нашего плана при нападении на Абу эль-Лиссан являлось не дать времени вооруженным силам, находившимся в Маане, сделать вылазку для оказания им помощи и прогнать нас из входа в Штар. Если бы, как и сейчас, у них был лишь один батальон, они вряд ли рискнули бы выступить, и допусти они падение Абу эль-Лиссана в ожидании прибытия подкрепления — Акаба также сдалась бы нам, и мы укрепились бы у моря, владея удобным ущельем, отделявшим нас от врага.
Итак, чтобы обеспечить себе успех, нам следовало бы не нарушать спокойствия Маана, не подозревавшего о присутствии врага по соседству.
Нам всегда было трудно сохранять в тайне наши передвижения, так как мы беспрестанно агитировали туземцев за восстание, и не согласные с нами доносили о нас туркам. Неприятель знал о нашем долгом походе через Вади— Сирхан, и даже самый тупоумный человек, далекий от военных дел, не мог бы не понять, что единственной нашей целью могла являться лишь Акаба. Разрушение Баира (а также и Джефера, ибо нам сообщили, что семь колодцев Джефера подверглись уничтожению) показывало, что турки достаточно настороже.
Могло случиться, что мы не сможем использовать Джефер, но в нас теплилась надежда, что презренные турки и там плохо справились со своей разрушительной работой.
Даиф-Аллах, вождь племени джази-хавейтат, приезжавший в Ваджх и принесший там присягу, находился в Джефере, когда Королевский колодец был взорван заложенным под него динамитом. Он тайно известил нас об этом из Маана. Он был убежден, что скважина колодца осталась нетронутой и что очистить ее было делом нескольких часов. Мы надеялись, что так оно и окажется, и для выяснения вопроса все выступили в порядке из Баира 28 июня.
Мы быстро пересекли чарующую равнину Джефера. На следующий день около полудня мы добрались до колодцев. Они оказались совершенно разрушенными, и у нас возникли опасения, что они могут быть для нас первым препятствием к нашему оперативному плану, — плану настолько тщательно разработанному, что первое же препятствие могло бы его расстроить целиком.
Все же мы отправились к колодцу, являвшемуся семейной собственностью Ауды.
Мы работали над его расчисткой двадцать четыре часа, не покладая рук, и к рассвету следующего дня колодец был восстановлен. Но воды в нем было не слишком много, и нам удалось напоить только часть наших верблюдов.
В Джефере мы приступили к действиям. Несколько всадников поехало вперед к палаткам клана даманийе, чтобы руководить нападением на блокгауз Фувейлы, прикрывавший вход в ущелье Абу эль-Лиссана. Наше нападение предполагалось за два дня до прибытия каравана из Маана, еженедельно пополнявшего запасы местных гарнизонов. Голод облегчил бы покорение этой отдаленной местности.
Тем временем мы сидели в Джефере, поджидая известий о счастливом исходе нападения. От его успеха или неудачи зависело направление нашего следующего похода. Наш роздых не был неприятным, ибо положение имело свою комическую сторону. Нас можно было видеть из Маана в те минуты, когда горизонт не застилался дневным маревом, и все же мы слонялись тут, восхищаясь нашим восстановленным колодцем, меж тем как турки считали, что здесь и в Баире невозможно раздобыть воды, и лелеяли приятную мысль, что мы сейчас отчаянно сражаемся с их кавалерией в Сирхане.
На заре следующего дня в наш лагерь приехал всадник с известием, что клан даманийе открыл стрельбу по посту Фувейла вчера днем, как только к ним прибыли наши люди. Однако нападение застигло турок не совсем врасплох, и они, бросив людей на свои каменные брустверы, отогнали врага. Упавшие духом арабы отступили, и неприятель, считая, что происходит лишь обычная стычка с каким-либо племенем, совершил кавалерийскую вылазку на его лагерь.
В лагере находились лишь один старик, шесть женщин и семеро детей. Не найдя действительного врага, турецкие кавалеристы в своем гневе разнесли лагерь и перерезали его беспомощных обитателей. Люди даманийе с вершин холмов услышали крики, когда было уже слишком поздно. Они бросились к дороге, по которой возвращались убийцы, и в своей ярости перебили их почти до последнего человека.
Чтобы завершить свою месть, они штурмовали уже несколько ослабленный форт и взяли его при первом же своем свирепом натиске, при чем пленных не брали.
Мы поспешно оседлали наших верблюдов, и не прошло и десяти минут, как мы навьючили их и выступили к Гадир эль-Хаджу, первой железнодорожной станции на юг от Маана, на нашем прямом пути к Абу эль-Лиссану.
Одновременно мы отделили небольшой отряд, чтобы он пересек железную дорогу как раз выше Маана, и тем отвлек бы внимание неприятеля в другую сторону.
Нашей задачей, главным образом, являлось создать угрозу крупным стадам верблюдов, пригнанных больными с палестинского фронта[35] которых турки пасли на выгонах равнин Шобеко, подготовляя их к дальнейшей работе до тех пор, пока они вновь не станут работоспособными.
Мы высчитали, что известие о поражении при Фувейле достигнет Маана не раньше утра, и они не смогут до наступления ночи пригнать этих верблюдов (если даже предположить, что нашему северному отряду не удастся захватить их) и снарядить вспомогательную экспедицию.
С этой надеждой мы безостановочно ехали сквозь марево до полудня, когда мы спустились к железнодорожному полотну и, освободив его на большом протяжении от вражеских дозоров и патрулей, занялись мостами захваченного участка. Маленький гарнизон Гадир Эль-Хаджа совершил вылазку против нас с мужеством неведения сил противника, но зной ослепил врага, и мы прогнали его с уроном.
Они бросились к телеграфу и известили Маан, в котором не мог не быть слышен гул от многократных взрывов. Наша цель заключалась в том, чтобы выманить противника ночью сюда, где он не нашел бы ни одного человека, но зато нашел бы множество уничтоженных мостов, так как мы действовали быстро и причинили большой ущерб. В течение шести минут мы успели взорвать десять мостов и полотно на большом протяжении.
После наступления сумерек, когда наше передвижение не могло быть видно, мы проехали на пять миль к западу от железной дороги. Тут к нам галопом подскакало трое всадников с донесением, что длинная колонна новых войск — пехоты и артиллерии — из Маана появилась у Абу эль-Лиссана. Людям даманийе, потерявшим боевую готовность после победы, пришлось покинуть свои позиции без боя. Они находились сейчас в Батре, поджидая нас.
Без единого выстрела мы потеряли Абу эль-Лиссан, блокгауз, ущелье и господство над дорогой к Акабе.
Мы пробиваемся к морю
Это известие побудило нас к немедленным действиям. Мы нагрузили наших верблюдов и пустились в путь через волнистые возвышенности этой части сирийского плоскогорья.
Мы ехали всю ночь. Когда наступил рассвет, мы спускались к гребню холмов между Батрой и Абу эль-Лиссаном. На западе перед нами открывался чудесный вид на зелено-золотую равнину Гувейры, а дальше — на красноватые горы, скрывающие от взоров Акабу и море.
Гасим Абу-Дамейк, глава клана даманийе, беспокойно поджидал нас, окруженный своими отважными соплеменниками. Кровавые следы вчерашнего сражения еще видны были на их серых напряженных лицах. Они с глубокой радостью встретили Ауду и Насира.
Мы наспех выработали план и приступили к его осуществлению, сознавая, что не сможем двинуться вперед к Акабе, пока ущелье занято врагом. Если только мы не выбьем его оттуда, наши двухмесячные усилия и риск окажутся напрасными, не принеся даже первых плодов.
К счастью, непредусмотрительность неприятеля дала нам неожиданное преимущество. Они заснули в долине, тогда как мы, оставшись незамеченными, окружили их широким кольцом в горах. Мы начали спокойно обстреливать турецкие позиции под склонами утесов, надеясь выманить их оттуда и спровоцировать нападение на нас. Между тем Заал с несколькими верховыми поехал и перерезал на равнине телеграфные и телефонные провода, ведущие в Маан.
Такое положение продолжалось весь день. Стояла ужасная жара, сильнее, чем я когда-либо испытывал в Аравии, а наше беспокойство и постоянное передвижение делали ее еще более непереносимой. Даже некоторые из крепких арабов валились с ног от беспощадных лучей солнца и либо отползали, либо их оттаскивали под утесы, чтобы они пришли в себя в тени.
Мы перебегали с места на место, чтобы подвижностью заменить нашу малочисленность. Дыхание перехватывало от отвесных склонов гор, которые были так круты, что мы задыхались, взбираясь на них, а травы во время нашего бега обвивались, словно руки, вокруг наших ног и мешали нам. Острые камни известняка ранили нам ноги, и еще задолго до вечера при каждом шаге мы оставляли на земле кровавые следы.
Наши винтовки так раскалились от солнца и стрельбы, что жгли нам руки, и каждый залп доставлял нам тяжелые страдания. Утесы, на которые мы бросались для прицела, обжигали нам грудь и руки, и вскоре кожа с них сползала лохмотьями. Жгучая боль вызывала жажду. Но вода у нас была редкостью. У нас не было людей для доставки ее в достаточных количествах из Батры.
Мы утешали себя сознанием, что в замкнутой долине неприятелю было еще жарче, нежели нам в открытых горах. Мы все время беспокоили турок, не давая им возможности ни двигаться, ни собираться в отряды, чтобы сделать против нас вылазку, с наименьшим для нас уроном. Быстро передвигаясь с места на место, мы не могли служить мишенями для их винтовок. Мы лишь смеялись над их маленькими горными орудиями, из которых они нас обстреливали. Снаряды пролетали над нашими головами, разрываясь в воздухе позади нас.
Как раз после полудня меня хватил солнечный удар, или, вернее, я притворился, что он меня хватил, ибо я смертельно устал от всего и перестал обо всем заботиться. Я заполз в какую-то впадину, где стояла мутная лужица грязной воды, и намочил в ней свое платье. Ко мне присоединился Насир, задыхавшийся, как загнанное животное. Его губы потрескались и кровоточили. За ним стремительным шагом появился и старый Ауда. Его глаза были налиты кровью и вытаращены, а возбужденное лицо его было все в желваках.
Он саркастически усмехнулся, увидав нас лежащими, растянулся в поисках прохлады под насыпью и грубо буркнул мне хриплым голосом:
— Ну, а что с племенем хавейтат? Все болтают, а никто ничего не делает?
— В самом деле, — грубо кинул я в ответ, так как я был сердит на весь мир и на самого себя: — Они часто стреляют, но редко попадают в цель.
Ауда, позеленев и задрожав от ярости, сорвал с себя головную повязку и швырнул ее на землю подле меня. Затем он помчался, как помешанный, обратно на гору, сзывая своих людей громоподобным голосом.
Они сбежались к нему и через минуту рассеялись по склону горы. Я боялся, что дело приняло дурной оборот, и добрался до того места, где Ауда одиноко стоял на вершине горы, глядя на неприятеля. Но все, что он мне сказал, сводилось к нескольким словам:
— Садись на верблюда, если хочешь увидеть, как действуют старики.
Насир потребовал верблюдов, и мы сели в седло. Арабы промчались перед нами в неглубокую впадину, переходящую в низкую гряду. Мы знали, что находящаяся дальше гора спускалась удобными склонами к главной долине Абу эль-Лиссана, несколько ниже источников. Все наши четыреста верховых людей с верблюдами теснились здесь, недоступные для глаз врага. Мы подъехали и спросили у Шимта, что это означает и куда девались всадники с лошадьми.
Он указал через гряду на соседнюю долину и сказал: «Там, с Аудой», — и, когда он произносил эти слова, оттуда внезапным потоком хлынули крики и выстрелы.
Мы неистово погнали наших верблюдов к ребру скалы и увидали наших пятьдесят всадников, стрелявших и полным галопом мчавшихся на закусивших удила лошадях по последнему склону в главную долину. Двое или трое из них упали, но остальные неслись вперед с удивительной быстротой. Турецкая пехота, столпившаяся под отлогим утесом и приготовившаяся с ранними сумерками отчаянно пробиться к Маану, заколебалась и, наконец, не устояв перед стремительным натиском Ауды, обратилась в бегство, смешавшись с его отрядом.
Насир визгливо крикнул мне окровавленным ртом: «Вперед!» — и мы, как сумасшедшие, погнали наших верблюдов через гору наперерез бегущему врагу. Склоны горы не были слишком отвесны, чтобы сделать невозможной езду по ним галопом, но достаточно отвесны, чтобы эта езда оказалась ужасной. Все же арабы смогли окружить врага, стреляя туркам в лоб. Яростное нападение Ауды с тыла вызвало в турках ужас, благодаря чему они не заметили нас, когда мы пересекали восточный склон горы. Таким образом мы также застигли их врасплох, и наша атака с фланга на верблюдах, несущихся со скоростью около тридцати миль в час, была для них неожиданна и оказалась непреодолимой.
Люди хавейтат были ожесточены избиением своих женщин, внезапно открывшим перед ними день тому назад новую и ужасную сторону способов ведения войны. Они взяли лишь сто шестьдесят пленников, многие из которых были изранены, а триста турок валялись в долинах мертвыми или умирающими.
Немного врагов избегнули той же участи, в их числе были артиллеристы и несколько верховых офицеров с их проводниками из племени джази. Шейх Мохаммед эль-Дейлан гнался за ними на протяжении трех миль, посылая им вдогонку проклятия. Распри Ауды со своими родичами никогда не втягивали в себя хитроумного Мохаммеда, проявлявшего дружбу ко всем людям своего племени, когда он оставался с ними наедине. Среди беглецов находился Даиф Аллах, оказавший нам большую услугу сообщением о королевском колодце в Джефере.
Ауда подошел к нам, покачиваясь. Его глаза сверкали от упоения битвой, и он быстро бормотал несвязные слова:
— Действуй, действуй, когда все говорят. Действуй. Пули! Абу-тайи…
Руками он придерживал свой разбитый вдребезги полевой бинокль, изодранную револьверную кобуру и кожаные ножны от сабли, изрезанные в клочья. Во время боя в него было сделано несколько залпов, один из которых убил под ним кобылу, но он остался невредим, хотя шесть пуль и пробили его одежду.
Позднее он рассказал мне под строгим секретом, что тринадцать лет тому назад он купил в качестве амулета Коран за сто двадцать фунтов, и с тех пор ни разу не был ранен. В самом деле, смерть словно щадила его и, кружась вокруг, убивала его братьев, сыновей и последователей. Книга была напечатана в Глазго и стоила не более восемнадцати пенсов, но постоянная невредимость Ауды не позволяла смеяться над его суеверием.
Он свирепо радовался происшедшему сражению, главным образом оттого, что пристыдил меня и показал, на что способно его племя. Мы потеряли лишь двоих убитыми. Разумеется, жаль было терять каждого из наших людей, но момент являлся настолько важным и настолько повелительна была необходимость господствовать над Мааном, чтобы заставить сдаться небольшие турецкие гарнизоны, преграждавшие нам доступ к морю, что я охотно согласился бы даже на гораздо большие потери, чем два человека. В подобных случаях смерть оправдывает себя.
Тем временем наши арабы уже ограбили турок, их обозы и лагерь, и вскоре после восхода луны к нам подошел Ауда и заявил, что мы должны двинуться в путь. Мы рассердились. Дул влажный западный ветер, и после зноя и жгучих страданий минувшего дня его сырая прохлада едко бередила наши раны и ушибы. Нас охватила реакция после победы и желание отдыха.
Но Ауда настаивал. Отчасти его побуждало к тому суеверие — он боялся оставаться на месте, где многие недавно нашли смерть, отчасти — нежелание, чтобы люди других кланов хавейтат видели нас обессиленными и спящими. Некоторые являлись его кровными врагами, и они могли, ссылаясь на то, что во мраке приняли нас за турок, наудачу открыть по нам стрельбу. Итак, мы поднялись и двинулись, подталкивая несчастных пленников.
Большинству из нас пришлось идти пешком. Около двадцати верблюдов пало или находилось при последнем издыхании от ран, полученных в бою, а другие слишком ослабели, чтобы вынести двойной груз. На остальных село по двое: араб и турок. Но некоторые из турецких раненых находились в таком тяжелом положении, что не могли сами держаться в седле.
В конце концов нам пришлось оставить около двадцати раненых на густой траве возле ручья, где по крайней мере они не умерли бы от жажды, хотя было мало надежды на то, что они выживут.
Насир отправился сам собирать одеяла для этих покинутых, полураздетых людей, и, пока арабы упаковывались, я спустился в долину, где происходило сражение, чтобы посмотреть, нет ли на мертвых какой-нибудь одежды, которую можно было бы использовать. Но бедуины предупредили меня и раздели их донага. Для них это был вопрос чести.
В значительной части триумф победы сводился для арабов к тому, что они надевали на себя одежду неприятеля, и на следующий день наш отряд почти целиком превратился в турецкий. Разбитый нами батальон был отлично экипирован.
Наконец наша небольшая армия была готова и медленно повернула вниз, в укрытую от ветра ложбину. Пока усталые люди спали там, мы продиктовали письма к шейхам прибрежных племен хавейтат, извещая их о победе и о том, чтобы они окружили ближайшие отряды турок и удерживали их, пока мы не подоспеем.
Мы ласково обошлись с одним из пленных офицеров, которого его товарищи презирали за то, что он являлся полицейским, и его-то мы тотчас убедили стать нашим турецким переводчиком и написать начальникам трех постов, лежавших между нами и Акабой, — Гувейры, Кесиры и Хадры, — что, если нас не доводят до ожесточения, мы берем пленных и что быстрая сдача обеспечила бы им хорошее обращение и доставку их в безопасности в Египет.
Когда наступил рассвет, Ауда выстроил нас в ряды, чтобы пуститься в путь, и вывел нас из долины.
Горные склоны Штарского ущелья расстилались перед нами на сотни и сотни футов. Их изгибы походили на бастионы, о которые разбивались облака летнего утра, а от подножия их начиналась новая земля равнины Гувейры. Круглые песчаники Абу эль-Лиссана покрывал зеленый вереск. А Гувейра предстала перед нами, как географическая карта из розовых песков, испещренная голубыми полосами ручьев и наряженная в зеленые покровы поросли. После долгих дней скитаний по плоскогорью в замкнутых долинах этот свободный край вознаградил нас своим видом.
Мы спустились по всем зигзагам ущелья Штар и сделали внизу привал. Расположившись на мягком ложе из песка, мы тотчас же заснули.
Нас разбудил Ауда. Мы защищали наше право на отдых, оправдываясь нашим состраданием к измученным пленным. Он возразил, что если мы пустимся в путь, то умрут от истощения только пленные, но если мы станем мешкать по пустякам, тогда можем умереть и мы и они; действительно, у нас почти не было воды и совершенно не было провианта. Все же мы не смогли удержаться, чтобы, пройдя лишь пятнадцать миль, не остановиться ночью для отдыха вблизи Гувейры.
В Гувейре имел пребывание шейх Ибн-Джад, колеблющийся в своей политике, чтобы примкнуть к сильнейшей стороне. Сегодня таковой являлись мы, и старая лиса была с нами.
Он встретил нас медоточивыми речами. Сто двадцать человек турецкого гарнизона являлись его пленниками. Мы сговорились с ним, что он доставит их в свободный момент в Акабу.
Было уже 4 июня. Положение не терпело отлагательств, ибо мы голодали, а Акаба все еще лежала далеко впереди за двумя крепостями. Ближайший пост Кесира упорно отказывался вступить в переговоры с нашими парламентерами. Его утесы господствовали над долиной, и захват его мог стоить больших потерь. Мы умышленно предоставили эту честь Ибн-Джаду и его неутомленным людям, советуя предпринять попытку с наступлением мрака. Он отказывался, придумывая затруднения, ссылаясь на полнолуние, но мы сурово отвергли его возражения и оправдания, обещая, что этой ночью месяц некоторое время не должен быть виден. Согласно моим записям, предстояло лунное затмение. Оно исправно произошло, и арабы без всяких потерь захватили пост, в то время как суеверные турецкие солдаты стреляли из винтовок и колотили в медные горшки, силясь выручить планету из беды.
Успокоенные, мы пересекли равнину, пустившись в дальнейший путь. Ниази-бей, командир турецкого батальона, являлся гостем Насира, что избавляло его от унижения подвергнуться оскорблениям со стороны бедуинов. Сейчас он ехал бок о бок со мной. Он начал жаловаться, что один из арабов оскорбил его грубым турецким словом. Я принес ему извинения, пояснив, что тот, должно быть, выучился этому от кого-либо из его турецких собратьев губернаторов. Но офицер не казался удовлетворенным.
По мере того, как мы углублялись в Вади— Итм, он становился все уже и запутанней. За Кесирой мы находили один турецкий пост за другим опустевшими. Солдаты отступили оттуда к Хадре, укрепленной позиции у входа в Итм, надежно прикрывавшей Акабу против десанта со стороны моря. К несчастью для себя, неприятель никогда не представлял себе возможности нападения со стороны суши, и из всех его огромных укреплений ни одна траншея или пост не преграждали доступа из внутренней части страны. Неожиданное направление нашего продвижения повергло турок в панику.
После полудня мы пришли в соприкосновение с этой главной турецкой позицией. От местных арабов мы узнали, что добавочные посты около Акабы были уже сняты, либо уменьшены в численности. Таким образом, лишь триста человек преграждали напоследок нам путь к морю.
Мы спешились, чтобы посовещаться, и узнали, что неприятель упорно сопротивляется, скрываясь в недоступных для бомб окопах с новым артезианским колодцем. Был слух, что у него мало провианта.
Но не больше было и у нас. Мы зашли в тупик. Наш военный совет обсудил все пути. Благоразумие спорило с отвагой. Всякое хладнокровие исчезало в этом раскаленном добела узком проходе, гранитные вершины которого отражали солнце мириадами мерцающих вспышек света, в то время как в глубины его извилистого ложа не мог проникнуть даже слабый ветерок, чтобы развеять медленно нагнетавшийся зной.
Наша численность уже удвоилась. Люди так теснились в узком пространстве и сгрудились вокруг нас, что мы два или три раза прерывали наш совет, — отчасти, чтобы они не подслушали наших шумных споров, а отчасти — оттого, что мы задыхались от жары в нашем заточении, а запах немытых тел одурманивал нас. Кровь билась в висках, как колокол.
Мы дважды послали туркам требования сдачи, в первый раз — парламентера с белым флагом, а во второй — нескольких турецких пленных, но неприятель оба раза открывал по ним стрельбу. Бедуины вспылили, и, пока мы все еще совещались, они ринулись внезапной волной на утес, извергая на врага град пуль. Насир босиком выбежал, чтобы остановить их, но, сделав несколько шагов по раскаленной земле, визгливо закричал, чтобы ему принесли сандалии.
Мы сделали третью попытку связаться с турками при посредстве какого-то юного новобранца, заявившего, что он знает, как этого достичь. Мы спустились с ним к самым окопам и велели позвать какого-нибудь офицера, чтобы переговорить с ним. После некоторого колебания турок мы добились своего и разъяснили, как обстоит положение, указав на наши подавляющие силы и невозможность сдерживать нрав арабов. Результатом наших переговоров явилось обещание турок сдаться с наступлением дневного света. Таким образом, мы могли еще раз поспать (событие достаточно редкое и поэтому достойное того, чтобы быть занесенным в летопись), несмотря на мучившую нас жажду.
На рассвете следующего дня сражение возобновилось по всей линии, так как ночью прибыло несколько сот новых горных арабов, опять удвоивших нашу численность, и они, не зная о достигнутом соглашении, открыли стрельбу по туркам, которые начали защищаться. Насир выступил с Абдуллой и его аджейлями, выстроенными по четыре в ряд, и спустился в долину.
Наши люди прекратили стрельбу, а вслед за ними замолкли и турки, так как их солдаты не решались больше сражаться, считая, что мы отлично всем снабжены. Итак, в конце концов, сдача врага произошла спокойно.
Когда арабы кинулись на турок, чтобы их ограбить, я заметил инженера в сером мундире, с рыжей бородой и растерянными голубыми глазами. Я заговорил с ним по-немецки. Он был специалистом по бурению колодцев и не владел турецким языком. Только что случившееся поразило его, и он попросил меня объяснить, что мы собой представляем. Я рассказал ему, что мы — арабы, восставшие против турок. Он не сразу меня понял. Он хотел знать, кто являлся нашим вождем. Я ответил, что ишан Мекки. Он предположил, что его отошлют в Мекку. Я возразил, что — скорее в Египет.
Потерю своих технических принадлежностей он принял философски, но очень сожалел о почти законченном им колодце, который послужил бы ему памятником. Он показал мне его местоположение и недостроенный насос. Мы набрали оттуда прекрасной, прозрачной воды и утолили жажду.
Затем мы взапуски устремились к Акабе, лежавшей в четырех милях дальше, и, пробившись сквозь песчаную бурю, 6 июля, ровно через два месяца после нашего выступления из Ваджха, подошли к морю.
Акаба, Суэц, Алленби
Мы сидели, наблюдая, как ряды наших людей потоком проходили мимо нас. Их разгоряченные лица казались безразличными и ничего не выражающими.
В течение многих месяцев Акаба являлась нашей желанной целью. У нас не было никаких иных помыслов, мы отвергли всякие мысли о чем-либо ином. Сейчас, захватив ее, мы были немного разочарованы.
Голод пробудил нас от нашего транса. У нас сейчас было семьсот пленных в добавление к нашим пятистам собственным людям и двум тысячам ожидающих нас союзников. У нас совершенно не было денег, а ели мы последний раз два дня назад. Наши верховые верблюды представляли собой запасы мяса, достаточные на шесть недель, но, используя их, мы оказались бы на жалкой и одновременно дорогой диете и были бы обречены в будущем на неподвижность, расплачиваясь за проявленную слабость характера.
Ужин доказал нам настоятельную необходимость послать британским властям в Суэц, через полтораста миль пустыни, просьбу о присылке судна в помощь. Я решил отправиться сам с отрядом из восьми человек, по преимуществу из людей хавейтат на лучших наших верблюдах — один из них был знаменитый Джедах, семилетний верблюд, за обладание которым в свое время воевали два племени. Объезжая залив, мы обсуждали, как нам совершить путешествие. Если мы поедем не спеша, щадя животных, они могут погибнуть от голода. Если мы поедем быстро, они могут в середине пустыни пасть от истощения или изранив ноги. При этом нужно было помнить, что человек и в особенности европеец в таких случаях изнемогает раньше верблюда.
Наконец, мы сговорились проводить в пути лишь столько часов в сутки, сколько нам позволяла наша выносливость, ни в коем случае не прельщаясь быстротой. При выдержке мы должны были достигнуть Суэца за пятьдесят ходовых часов, а чтобы сократить задержки в пути на изготовление пищи, мы захватили с собой вареного верблюжьего мяса и фиников.
Около полуночи мы добрались до Тамада, единственных колодцев на нашем пути, лежавших в изгибе долины возле покинутой караульни синайской полиции. Мы разнуздали наших верблюдов, напоили их и напились сами. Затем мы вновь двинулись вперед, с трудом пробираясь в ночном мраке.
Когда начало рассветать, мы все еще ехали. При восходе солнца мы уже были далеко на равнине и остановились, чтобы дать нашим верблюдам попастись несколько минут. Затем опять в седле до полудня и после полудня, когда из-за марева возникли одинокие развалины Нахля. Мы миновали их и при заходе солнца сделали привал на час.
Верблюды стояли сонные, и сами мы бесконечно устали, но Мотлог, одноглазый владелец моего верблюда, приглашал нас двигаться дальше. Мы вновь сели верхом и, двигаясь машинально, взобрались на горы Митла. Взошел месяц, и их снежные вершины засияли, словно хрусталь.
На заре мы проехали мимо поля, которое какой-то отважный араб засеял дынями в этой безлюдной области, расположенной между несколькими армиями. Мы сделали привал, теряя еще один из наших драгоценных часов, раскололи несколько незрелых дынь и освежились их сочной мякотью. И вновь мы двинулись вперед в зное нового дня, хотя он беспрестанно смягчался проникавшими сюда ветрами с Суэцкого залива.
К полудню мы пробрались через гряду дюн и выехали на гладкую равнину. Отсюда уже угадывалась близость Суэца.
Мы достигли длинных линий окопов, обвитых колючей проволокой, и разрушающегося полотна железной дороги. Нашей целью являлся пост Шатт, лежавший против Суэца на азиатском берегу канала, и мы добрались, наконец, до него около трех часов дня после сорокадевятичасового перехода.
Шатт находился в необычайном смятении, ни один часовой не остановил нас. Два или три дня назад тут появилась чума. Войска поспешно очистили старые лагери, оставив их на произвол судьбы, и встали бивуаком в открытой пустыне. Разумеется, мы ничего не знали об этом и расхаживали по опустевшим канцеляриям, пока не нашли телефона. Я позвонил в Суэц, в главную квартиру армии, и заявил, что мне нужно переехать через канал. Мне выразили сожаление, что это не входит в круг их обязанностей. Переправой через канал управлял отдел внутреннего водного транспорта, следуя притом своим собственным методам. Чувствовалось, что они не соответствовали методам Генерального штаба.
Я бесстрашно позвонил в контору водного управления и объяснил, что я только что прибыл в Шатт из пустыни с безотлагательными известиями для Главного командования. В водном управлении очень сожалели, но как раз сейчас у них не было свободных лодок. Они наверняка утром пошлют за мной первую же, чтобы она доставила меня в карантинное управление. Затем там дали отбой.
Я провел четыре месяца в Аравии, безостановочно передвигаясь с места на место. За последние четыре недели я сделал на верблюде тысячу четыреста миль, совершенно не щадя себя ради успешного хода войны. Но я отказывался провести даже одну лишнюю ночь с заедавшими меня насекомыми. Я жаждал ванны и какого-нибудь прохладительного напитка, я жаждал перемены своего платья, от грязи прилипавшего к моим натертым седлом ссадинам, какого-нибудь блюда потоньше, чем зеленые финики и верблюжьи сухожилия. Я опять сунулся в управление внутреннего водного транспорта и на этот раз говорил, как Златоуст. Не добившись никакого эффекта, я пришел в бешенство. Но тут они вторично дали отбой.
Моя ярость все увеличивалась, когда до меня донесся в трубку дружеский голос с северным акцентом, говоривший с военной центральной телефонной станции.
— Не стоит портить крови, сэр, ради разговора с этими глупыми водяными крысами.
Его слова выражали бесспорную истину, и телефонист соединил меня с управлением военных перевозок. Тут майор Литльтон, как он ни был занят, прибавил к своим бесчисленным обязанностям еще одну.
Как только он услышал, кто я и где я нахожусь, — все помехи сразу оказались устраненными. Его баркас готов, будет в Шатте через полчаса. Я могу прямо направиться в его учреждение, не объясняя причин, почему обыкновенный портовый баркас вошел в священный канал, не имея на то разрешения водного директората.
Все случилось, как он обещал. Своих людей и верблюдов я временно отослал на север к Кубри, где им дали пищу и приют.
Литльтон увидал, как я измучен, и немедленно отправил меня в гостиницу. Некогда она казалась мне жалкой, но сейчас я нашел ее великолепной.
После того, как первая враждебность, вызванная моим видом, была побеждена, я получил все, о чем мечтал: ванну, прохладительные напитки (целых шесть сортов), обед и постель. Услужливейший офицер Интеллидженс Сервис, предупрежденный шпионами о переодетом европейце в «Синай Отеле», сам принял на себя заботы о моих людях в Кубри, а на следующий день снабдил меня билетами и пропусками в Каир.
В Измаилии пассажирам на Каир приходилось пересаживаться в другой поезд, приходивший из Порт-Саида. В составе второго поезда сиял роскошный салон-вагон, из которого вылезли адмирал Уемисс, капитан Бурместер, Невилль и какой-то очень толстый и важный генерал. Все замерло на перроне, когда они, серьезно беседуя, расхаживали по нему взад и вперед. Офицеры отдали им честь один раз, другой, а они все еще расхаживали. Отдавать честь в третий раз было неудобно, и офицеры спаслись бегством.
Взгляд Бурместера упал на меня. Он пожелал узнать, кто я, так как я сильно загорел и после своих скитаний имел дикий вид. Я рассказал ему историю нашего набега на Акабу. Он взволновался. Я попросил его, чтобы адмирал немедленно выслал туда транспортное судно. Бурместер ответил, что судно «Дафферин», прибывающее сегодня, нагрузится провиантом в Суэце, направится прямо в Акабу и привезет пленных. (Великолепно!) Он сам отдаст приказ об этом, чтобы не прерывать беседы адмирала с Алленби.
— Алленби! Что он здесь делает? — воскликнул я.
— Ого, ведь он сейчас главнокомандующий.
— А Мэррей?
— Вернулся на родину.
Это были серьезнейшие новости, в значительной мере касающиеся меня. Я вошел обратно в вагон и предался размышлениям: походит ли этот грузный, краснолицый мужчина на прочих генералов и не придется ли нам мучиться шесть месяцев, поучая его? В свое время генералы Мэррей и Белинг так надоели нам, что в первые дни мы не столь стремились победить врага, сколь обуздать наших начальников. Лишь с течением времени мы уломали сэра Арчибальда и его начальника штаба, и в последние месяцы они в своих донесениях военному министерству восхваляли удачу арабов и в особенности заслуги Фейсала. Это их великодушие являлось нашим тайным триумфом, так как они были странной парой в одной запряжке.
В Каире я направил свои стопы вдоль мирных коридоров отеля «Савой» к генералу Клейтону.
Когда я вошел, он взглянул на меня и буркнул: «Муш фади» (англо-египетское выражение, означающее «я занят»).
Но, когда я заговорил, он с удивлением приветствовал меня. Прошлой ночью я в Суэце нацарапал краткий доклад, и, таким образом, нам пришлось говорить лишь о том, что надлежит дальше делать.
Менее чем через час по телефону позвонил адмирал и сказал, что «Дафферин» грузит муку для своего неожиданного рейса.
Клейтон вытащил шестнадцать тысяч фунтов золотом и вызвал конвой, чтобы доставить их в Суэц трехчасовым поездом. Это было крайне необходимо для того, чтобы Насир мог уплатить свои долги.
В Баире, Джефере и Гувейре мы выпустили денежные знаки, написанные карандашом на военных телеграфных бланках, с обещанием оплатить их стоимость подателю в Акабе. Это был прекрасный выход, но до сих пор еще никто не решался выпускать бумажные деньги, так как у бедуинов нет ни карманов в рубашках, ни несгораемых шкафов в палатках, куда они могли бы их прятать. Вследствие этого, против этих денег существовало непреодолимое предубеждение, и наше доброе имя обязывало нас как можно скорее выкупить их.
Позже в гостинице я пытался найти для себя одежду, которая бы менее привлекала всеобщее внимание, чем мой арабский маскарад. Но моль изъела весь мой прежний гардероб, и понадобилось три дня, прежде чем я был нормально одет, притом, как всегда, — скверно.
Незадолго до этого главнокомандующий из любопытства прислал за мной. В своем отчете я подчеркнул, вспоминая опыт Саладина и Абу-Обейды,[36] стратегическое значение восточных племен Сирии и правильное их использование как угрозу путям сообщения Иерусалима. Эта точка зрения соответствовала честолюбию Алленби, и он выразил желание обсудить ее со мной.
Он сидел в кресле и глядел на меня, но не прямо, по своей обычной привычке, а искоса, бросая на меня озадаченные взгляды.
Он лишь недавно покинул Францию, где в течение нескольких лет являлся одним из важнейших зубцов великой машины, перемалывающей врага. Его переполняли западные понятия о мощи и значении пушек — наихудший способ для нашей войны, — но как кавалерист он уже почти склонялся к тому, чтобы отбросить новые приемы в несходном с Европой мире, в Азии, и вступить наравне с полковником Доунеем и генералом Четвудом на старый путь тактических передвижений. Все же едва ли он ожидал встретить такую странную личность, как я, полy6ocoго человека в шелковом наряде, предлагающего покорить врага словом и проповедью, если только дадут продовольствие, орудия и двести тысяч соверенов, чтобы убедить и удержать новообращенных. Алленби не мог решить, в какой мере я был искусным актером, а в какой шарлатаном. Он не задавал много вопросов и немного говорил, но изучал карту, слушая мои разъяснения о Восточной Сирии и ее жителях.
Под конец он поднял голову и сказал прямо: «Ладно, я сделаю для вас все, что могу».
Беседа закончилась.
Я не был уверен, что он достаточно увлечен моим планом, но впоследствии мы узнали, что Алленби говорит то, что думает. А то, что генерал Алленби мог сделать, удовлетворило бы самого требовательного из его подчиненных.
Мы перестраиваем наши ряды
Я без утайки доверился Клейтону. Мне удалось добиться одобрения моего плана об Акабе, но я порядком помучился и изнервничался. Это превосходило мои способности и мои силы. По его мнению, я заслуживал право располагать самим собой.
Клейтон предложил назначить командующим в Акабу полковника Джойса — намерение, которое меня вполне устраивало. Джойс был человеком, на которого можно было целиком положиться: искренним, стойким и покладистым.
Подобрать остальных не представило труда.
Аэропланы еще не могли быть двинуты в путь, но бронированные автомобили были уже в полной готовности. Предоставление нам брандвахтенного судна зависело от великодушия адмирала. Мы позвонили по телефону сэру Росслину Уемиссу, проявившему большое великодушие: его флагманское судно «Юриалис» могло отправиться в Акабу на несколько первых недель.
Что же касается арабов, то я попросил, чтобы неудобный и требующий больших расходов порт Ваджх был закрыт и чтобы Фейсал перешел со всей своей армией в Акабу.
Я указал, что Акаба является правым флангом Алленби, будучи расположена лишь в ста милях от его центра и в восьмистах от Мекки. Поскольку арабы преуспевают, надлежит усилить работу в Палестине. Поэтому логика требовала, чтобы Фейсала перевели из района короля Хуссейна и назначили командующим одной из армий египетской союзной экспедиции, руководимой Алленби. Мое предложение встретило возражения:
— Согласится ли Фейсал?
Но ведь я уж несколько месяцев назад обсудил этот вопрос с ним в Ваджхе.
— А верховный комиссар?
Армия Фейсала является самой многочисленной и самой отличившейся из всех военных частей Хиджаза, и ее будущее обещает быть блестящим. Генерал Уингэйт в свое время принял на себя, рискуя своей репутацией, полную ответственность за восстание арабов в самый его безнадежный момент. Смеем ли мы требовать от него, чтобы он отказался от авангарда арабов сейчас, на самом пороге успеха?
Клейтон, очень хорошо знавший Уингэйта, не побоялся познакомить его с этим планом, и Уингэйт охотно заявил, что если Алленби сможет непосредственно и в достаточной мере использовать Фейсала, то для него, Уингэйта, является приятным долгом уступить последнего ради пользы дела.
Третьей помехой переброски мог явиться король Хуссейн, упрямый, тупоумный, подозрительный человек. Было мало вероятия, чтобы он пожертвовал своим тщеславием ради единства руководства. Его противодействие грозило бы всему плану.
Я предложил съездить к нему, чтобы убедить его, посетив по дороге Фейсала и получив от него такую аргументацию о необходимости переезда в Акабу, которая усилила бы впечатление от достаточно энергичных писем Уингэйта к королю.
Мое предложение приняли.
«Дафферин» по возвращении из Акабы должен был отвезти меня в Джедду с новой миссией.
Король прибыл туда из Мекки и побеседовал со мной. Благодаря Вильсону, король Хуссейн сразу согласился на переброску Фейсала в распоряжение Алленби, воспользовавшись удобным случаем, чтобы подчеркнуть свою полную верность нашему союзу.
Пока мы вели наши занимательные переговоры, две неожиданных телеграммы из Египта вдребезги разнесли наше мирное настроение.
Первая сообщала, что племя хавейтат предательски вступило в сношения с Мааном. Вторая присоединяла к числу заговорщиков Ауду.
Мы пришли в уныние. В свое время Вильсон странствовал с Аудой и составил себе твердое убеждение в его полной искренности. Но Мохаммед эль-Дейлан казался способным на двойную игру, а Ибн-Джад и его друзья внушали некоторое сомнение.
Мы приготовились немедленно отправиться в Акабу. Предательство не принималось в расчет, когда я с Насиром вырабатывал наш план обороны города. К счастью, в гавани нас поджидал «Гардинг». На третий день мы прибыли в Акабу.
Насир не имел представления о том, что случилось нечто неладное. Я заявил ему лишь о своем желании встретиться с Аудой. Он доставил мне быстроходного верблюда и проводника, и на заре следующего дня мы застали в Гувейре Ауду, Мохаммеда и Заала в одной палатке. Они смутились, когда я явился, свалившись, словно снег на голову, но во всеуслышание заявили, что все идет гладко. Мы вместе пообедали, как друзья.
Вошли и другие люди хавейтат, и завязалась живая беседа относительно войны.
Я раздал подарки короля и сообщил к общему удовольствию, что Насир проведет свой месячный отпуск в Мекке. Мы сотни раз шутили над тем, что по взятии Акабы Насир получит отпуск, но он не верил этому до тех пор, пока я, за день до этого, не принес ему письма от Хуссейна. В порыве благодарности он продал мне Газалу, королевского верблюда, которого он получил от племени хавейтат. В качестве ее собственника я приобрел новый интерес для абу-тайи.
После завтрака, под предлогом сна, я избавился от посетителей и тут внезапно попросил Ауду и Мохаммеда пройтись со мной, чтобы осмотреть разрушенную крепость и водохранилище.
Когда мы остались наедине, я коснулся их переписки с турками. Ауда начал смеяться, Мохаммед же обиделся. Наконец они подробно объяснили, что Мохаммед взял печать Ауды и написал губернатору Маана, предлагая ему перейти на его сторону. Турки с радостью приняли его предложение, суля ему большую награду. Мохаммед потребовал в счет ее различных даров. Но тут об этом прослышал Ауда, он подстерег посланца с подарками, захватил его и обобрал до нитки, при чем отказался поделиться добычей с Мохаммедом.
Забавная история! Мы над ней вдосталь посмеялись, но лучшее было еще впереди.
Ауда и Мохаммед высказали недовольство, что до сих пор не прибыло ни пушек, ни войск им на поддержку и что им не дали никакой награды за взятие Акабы. Они жаждали узнать, откуда я проведал про их тайные сношения, и знаю ли я еще что-нибудь. Желая их напугать, я с притворной веселостью и беззаботным смехом процитировал им действительные фразы из отосланных ими писем, что возымело желанное действие.
Мимоходом я рассказал им, что сюда прибывает целиком армия Фейсала, а Алленби присылает в Акабу винтовки, пушки, взрывчатые вещества, провиант и деньги, Наконец, я намекнул, что Ауде много стоит его гостеприимство, но не облегчит ли его, если я предложу ему авансом кое-что из богатых даров, которые Фейсал по своем прибытии лично принесет ему. Ауда увидел, что в настоящий момент он находится в невыгодном положении, что из Фейсала он сможет извлечь большую пользу, а турки всегда будут в его распоряжении, когда иссякнут прочие источники. Поэтому он с большой охотой согласился принять от меня задаток.
Приближался заход солнца. Заал заколол овцу, и мы дружелюбно поужинали. Затем я вновь сел на верблюда, и мы провели ночь в пути, направляясь в Акабу. Когда первые лучи рассвета поползли по горным вершинам, я на покинутой лодке подплыл с берега к «Гардингу».
Прибыв в Каир, мы объявили, что положение в Гувейре обстоит прекрасно, и не приходится говорить о предательстве. Едва ли это было правдой, но, так как Египет поддерживал нас, урезывая себя во многом, мы должны были превратить жестокую правду в легенду, чтобы сохранить поддержку и нашу собственную уверенность. Ведь толпа всегда требует выдуманных героев.
Толпа жаждала трафаретных героев и не понимала, насколько человечен был старый Ауда, который после сражений и убийств скорбел о потерпевшем поражении противнике, убить или помиловать которого было теперь в его власти. Этим он был особенно привлекателен.
Мы тревожим врага
Дым от судов застилал залив Акабы. Фейсал высадился на берег, а с ним его штаб, Джафар и Джойс. Далее последовали бронированные автомобили, капитан Гослетт, египетские рабочие и тысячи солдат.
Турки сосредоточили в Маане шесть тысяч пехоты и полк кавалерии, устроили в нем огромные склады снаряжения и обнесли его окопами, укрепляя их, пока они не стали неприступными с точки зрения тактической войны. Ежедневно над ними летали аэропланы.
К настоящему времени приготовления турок уж закончились, и они приступили к военным действиям. Целью их являлась Гувейра, лучший путь к Акабе. Две тысячи пехоты прорвались в Абу эль-Лиссан и укрепились в нем. Кавалерия заняла окрестности, чтобы сдержать возможный контрудар арабов со стороны Вади— Муса.
Играя на их нервности, мы решили заманить их в Вади-Муса, где бы их встретили непреодолимые естественные препятствия.
Чтобы поймать их на удочку, действия начали племена прилегающей области Делаги. Турки, полные пыла, перешли в контратаку и понесли большие потери.
Мы могли бы также повергнуть турок в смятение, если бы генерал Салмонд[37] осуществил обещанный им воздушный набег на Маан. Так как последний представлял трудности, Салмонд избрал капитана Свента и нескольких испытанных летчиков. Они пролетали низко над Мааном и сбросили тридцать две бомбы. Две попали в бараки, убив тридцать пять человек и ранив пятьдесят. Восемь попали в паровозные мастерские, сильно повредив их. Одна бомба взорвала кухню турецкого генерала, положив конец его обеду. Четыре упали на аэродроме. Несмотря на неприятельскую шрапнель, летчики со своими аппаратами благополучно вернулись на свою временную посадочную площадку в Кунтилле, выше Акабы.
Они подготовили аэропланы и с наступлением мрака легли спать под их крыльями. С рассветом следующего дня они вторично вылетели. На этот раз трое из них направились к Абу эль-Лиссану. Они подвергли бомбардировке турецкую конницу, разогнав всех лошадей, и рассеяли турок, разрушив их палатки. Как и в предыдущий день, они летели низко, и множество вражеских пуль задело их, но ни одна не оказалась роковой. Задолго до полудня они уже вернулись в Кунтиллу.
Свент проверил оставшиеся бомбы и запасы бензина и нашел, что их хватит еще на один налет. Он дал указания всем летчикам нащупать батарею, обстреливавшую их утром.
Они вылетели при полуденном зное и их тяжелый груз не позволял им высоко подняться. Турки, всегда предававшиеся в полдень сну, были застигнуты врасплох. Летчики сбросили тридцать бомб: одна из них заставила замолкнуть батарею, другие убили десятки людей и животных. Облегченные машины взвились ввысь и помчались обратно. Арабы торжествовали. Турки же серьезно переполошились.
Третьим нашим средством, чтобы разбить их наступление, являлась помеха работе железной дороги. К середине сентября мы, в соответствии с нашим планом, произвели на ней значительные разрушения.
Я решил также воскресить старый план закладки мины под поезд. Британские саперы, а в особенности генерал Райт, главный инженер Египта, поощряли меня попробовать. Он прислал мне необходимые приборы: взрыватель и изоляционный кабель.
Взрыватель был заключен в запертый белый ящик, очень тяжелый и грозный. Мы вскрыли его, и я подробно ознакомился с его устройством. Когда я почувствовал, что отлично разбираюсь в нем, я приступил к разработке деталей.
Наиболее доступной и многообещающей мишенью казалась Мудаввара, железнодорожная станция с водой в восьмидесяти милях на юг от Маана. Взорванный там поезд привел бы врага в замешательство.
Пока мы работали над подготовкой набега, наши аппетиты возрастали. Мудаввара казалась уязвимой. Триста людей могли внезапным натиском занять ее. Это явилось бы крупной победой, ибо ее глубокие колодцы были единственными в безводной области ниже Маана.
Итак, 7 сентября 1917 г. мы двинулись вверх по Вади-Итм, чтобы в Гувейре забрать у Ауды наших людей хавейтат.
Сентябрь являлся скверным месяцем. Несколько дней тому назад в тени пальмовых садов побережья Акабы термометр показывал сто двадцать градусов.[38]
К полудню мы сделали привал под утесом, а вечером проехали лишь десять миль перед тем, как встать лагерем на ночь.
На следующий день с утренним зноем мы уже приближались к Гувейре. Мы безмятежно пересекали песчаную розоватую равнину, заросшую серо-зеленым кустарником, когда в воздухе внезапно раздалось гуденье. Мы быстро свернули наших верблюдов с открытой дороги в кустарник, где они оставались бы незаметными для неприятельских летчиков. Груз из гремучего студня, моего любимого и самого мощного взрывчатого вещества, и множество начиненных аммонилом снарядов был бы малоприятным соседом при бомбардировке нас с аэропланов.
Мы хладнокровно прождали в седле, пока аэропланы дважды покружились над утесами Гувейры против нас и сбросили три разорвавшихся с шумом бомбы.
Аэроплан являлся странным регулятором общественной жизни в Гувейре. Арабы, встававшие, как всегда, до рассвета, беспрестанно ждали его: шейх Мастур сажал раба на вершину утеса, чтобы тот подавал предупредительные сигналы. Когда приближался неизменный час, арабы устремлялись к скалам, болтая с показной беспечностью. Забравшись под скалы, каждый выискивал себе выступ по своему вкусу. За шейхом Мастуром карабкалась толпа его рабов, неся его кофе на подносе и ковер. Усевшись в тенистом уголке, он с Аудой заводил разговор, пока по кишащим людьми утесам не пробегала легкая дрожь возбуждения при первых звуках песни мотора над ущельем Штара.
Все прижимались к горным склонам и молчаливо ждали, между тем как враг тщетно кружился над малиновыми утесами, испещренными тысячами ярко одетых арабов, гнездящихся, как ибисы, в каждой щели.
Аэроплан сбрасывал от трех до пяти бомб, в зависимости от дня. Густой дым от их взрывов оседал на зеленой равнине плотными клубами черной пены, корчась в безветренном воздухе, прежде чем рассеяться. Когда резкие удары падающих бомб доносились до нас, заглушая шум машин, мы затаивали дыхание, хотя и знали, что они нам ничем не грозят.
Мы с радостью покинули шумную Гувейру. Как только мы отвязались от эскорта мух, мы сделали привал, так как спешить нам было некуда. Душный воздух облегал наши лица, словно железными масками.
Поздно днем мы отправились дальше. На ночь мы остановились под густой завесой тамарисковых деревьев. Наш лагерь казался прекрасным на фоне вздымающегося позади нас утеса, вышиной в четыреста футов, багряно-красного в солнечном закате. Под нашими ногами расстилалась светло-желтая глина, твердая, как мостовая, и ровная, как поверхность озера. С одной стороны на низком гребне росла роща тамарисков с бурыми стволами, увенчанными редкой и пыльной бахромой зелени, увядшей от засухи и солнечного жара.
Мы направлялись в Рамм, являвшийся северным источником племени бени-атийе. Даже несентиментальные люди хавейтат, подстрекая мое воображение, говорили мне, что там прекрасная местность.
Очень рано, когда звезды еще сияли в небе, меня разбудил Аид, сопровождавший нас смиренный ишан клана хариты. Он подкрался ко мне и прошептал придушенным голосом:
— Господин, я ослеп.
Я заставил его лечь возле себя, чувствуя, что он дрожит, словно в ознобе. Но все, что он мог мне рассказать, сводилось к тому, что ночью, проснувшись, он не мог ничего рассмотреть, испытывая лишь боль в глазах. Солнечные лучи выжгли его глаза.
Еще не рассвело, когда мы пустились в путь между двумя высокими известковыми вершинами к подножию длинного покатого откоса, устремляющегося вверх к горным куполам. Его покрывали тамариски. Он являлся началом долины Рамма. Мы взбирались по откосу, с треском прокладывали себе путь через ломкий кустарник. Чем дальше мы пробирались вперед, тем непроходимее становились заросли кустарника. Подъем сделался покатее, и мы наконец очутились на замкнутой, наклонной равнине. Горные склоны с обеих сторон стали выше и отвеснее. Они сближались друг с другом, пока лишь две мили разделяли их, и затем, постепенно вздымаясь до тысячи футов, устремлялись прямой аллеей на многие мили вперед.
С течением времени открывавшиеся нам виды становились все величественнее, все великолепнее, как вдруг расщелина в поверхности утесов справа от нас открыла новое чудо. Расщелина, в поперечнике до трехсот ярдов, вела к овальному неглубокому амфитеатру. Его стенами служили горные пропасти, подобные скалам Рамма, но они казались отвеснее и подавляли своей высотой.
Солнце уже опустилось за западным склоном, погрузив долину в тень. Но его угасающее сияние еще затопляло вход в нее тревожным красным блеском.
Под нашими ногами расстилался сырой песок, заросший темным кустарником.
Мохаммед повернул в последний закоулок амфитеатра слева. У дальнего его конца он изобретательно очистил удобное место под нависшим утесом, где мы разгрузили верблюдов и расположились на привал. Мрак быстро окутал нас в этом замкнутом углу. Мы разожгли костры и сварили рис, мясо и кофе.
Через несколько минут к нам присоединилось несколько новых кланов арабов, видевших, как мы вступили в ущелье.
Мы подкладываем мины под железную дорогу
На рассвете 16 сентября 1917 г. мы выступили из Рамма. Аид, ослепший ишан, настаивал на отправлении, несмотря на свое потерянное зрение, заявив, что если он и не может стрелять, то он все же может ехать.
Наш отряд рассыпался, как разорвавшееся ожерелье. Никто не ехал рядом и не разговаривал друг с другом. Я метался весь день, как ткацкий челнок, первый заговаривая то с тем, то с другим хмурым шейхом, стараясь объединить их перед предстоящими действиями. Мне казалось, что ни слова новоприбывших к нам арабов, ни их советы и винтовки не были вполне надежны.
Мы остановились на полуночный привал в плодородном месте, у которого был источник, сбегавший по песчаному откосу, покрытому густым газоном серебристой травы. Мягкая погода напоминала августовские дни в Англии, и мы, испытывая мирное довольство, медлили с отправлением. Но поздно днем нам пришлось опять пуститься в путь, свернувши с горы в узкую долину с отлогими склонами из песчаника. Перед закатом солнца мы выбрались на новую равнину из желтой глины и расположились лагерем у ее края вокруг ярких костров из потрескивающего, сверкающего тамариска.
Поздно ночью, когда все старшины насытились мясом газели и горячим хлебом, они собрались у моего нейтрального костра, и мы обстоятельно обсудили наши планы на завтрашний день.
Выяснилось, что к заходу солнца мы должны достичь колодцев Мудаввары, лежавших в защищенной долине на расстоянии двух или трех миль от станции. Затем ночью мы могли бы выступить вперед, чтобы обследовать станцию и решить, можем ли мы с нашими слабыми силами попытаться напасть на нее. Я сильно настаивал на этом, так как именно здесь находилось самое уязвимое место железной дороги. В конце концов мы достигли полного согласия и разбрелись, чтобы лечь спать.
Утром перед выступлением мы задержались, чтобы закусить. Нам предстоял всего лишь шестичасовый переход. Мы пересекли равнину из крепкого известняка, устланного коричневыми коврами из мелких стертых голышей. Ее сменили низкие холмы с отвесными склонами, возле которых вихри нанесли мягкие дюны песка.
Уже поздно днем мы подошли к колодцам. Стоячая вода имела малозаманчивый вид. Ее поверхность покрывал густой покров зеленой слизи.
Арабы объяснили, что турки бросили в колодец издохших верблюдов, чтобы сделать воду зловонной и непригодной к питью, но с тех пор прошло много времени, и трупный запах рассеялся.
Однако у нас не было выбора, пока Мудаввара была еще не в наших руках. Мы расположились, вокруг и наполнили наши меха для воды. Один из помогавших людей хавейтат поскользнулся и упал в воду. Ее зеленый маслянистый ковер сомкнулся над его головой, на мгновение скрыв его. Затем он вынырнул, широко раскрывая рот, чтобы отдышаться, и выкарабкался под наш смех, оставив черную скважину в пенистом покрове воды. Оттуда столбом поднялось зловоние от разложившегося мяса, до того густое, что его, казалось, можно было видеть, и повисло проклятием над всеми нами и долиной.
В сумерки мы с Заалом и двумя артиллерийскими сержантами, Вельсом и Бруком (прозванным по имени их любимого оружия «Стоксом» и «Льюисом»), которые сопровождали нас от Акабы для совершения предстоящих минных работ, а также с несколькими арабами бесшумно пробирались вперед.
В полчаса мы доползли до вырытых турками окопов и наблюдательного пункта с зубчатыми каменными стенами, пустовавшего в эту темную новолунную ночь нашего набега. Перед нами глубоко внизу лежала станция. Ее двери и окна ярко выделялись во мраке желтыми огнями. Нам казалось, что она очень близко от нас, но мортира Стокса имела дальнобойность лишь в триста ярдов. Мы подползли ближе. До нас доносился шум из неприятельского лагеря. Мы боялись, чтобы их лающие собаки не обнаружили нас. Сержант «Стокс» оглядывался направо и налево в поисках удобной позиции для пушки.
Тем временем мы с Заалом переползли последнюю прогалину. Мы могли уже сосчитать неосвещенные палатки, и до нас доносились людские голоса. Один из турок сделал несколько шагов в нашем направлении и нерешительно остановился. Он чиркнул спичкой, чтобы закурить, и резвый огонек осветил его лицо. Мы ясно разглядели молодого, болезненного вида турецкого офицера со впалыми щеками. Он присел на корточки по минутному делу и вернулся к своим людям, замолкнувшим, когда он проходил мимо.
Мы двинулись обратно к нашему холму и шепотом посовещались. Станция состояла из длинных каменных строений, настолько прочных, что они могли бы устоять против наших архаических снарядов. Гарнизон, по-видимому, насчитывал двести человек. Нас же было сто человек с шестнадцатью винтовками, притом не вполне спевшихся.
Единственное, что дало бы нам верный успех, заключалось в нападении врасплох.
Под конец я предложил сейчас отказаться от предприятия, отложив его на более удобное время, которое могло скоро представиться. В действительности одна случайность за другой спасала Мудаввару, и лишь в августе 1918 г. верблюжий корпус полковника Бэкстона,[39] наконец решил ее судьбу.
Бесшумно мы вернулись к верблюдам и легли спать. На следующее утро мы продолжали наш путь и, повернувши на юг, пересекли песчаную равнину. Нам попадались следы газелей, горных козлов и страусов, а в одном месте даже старые отпечатки лап леопарда.
Мы направлялись к низовому горному кряжу с намерением взорвать поезд. Заал рассказал, что там, где кряж подходил к железнодорожному пути, находится поворот, необходимый нам для подведения мин, а горные вершины, господствующие над ним, являются удобным местом для засады и обстрела из пулеметов.
В полумиле от железнодорожного пути мы остановились. Несколько человек спустилось вниз к полотну. В этом месте железнодорожный путь проходил по мосту с двумя пролетами, который был перекинут через лощину, промытую дождевой водой.
Выбранное нами место казалось идеальным для подготовки взрыва. Мы в первый раз применяли электрическое минирование и не имели никакого представления об его силе. Однако было вполне очевидным, что взрыв даст больший результат, если под взрывчатым веществом будет находиться арка. В этом случае, что бы ни случилось с паровозом, мост, несомненно, рухнет, и следующие за ним вагоны неизбежно сойдут с рельс.
Мы привели верблюдов и разгрузили их. Арабы снесли вниз к намеченному месту мортиру Стокса со снарядами, пулеметами Льюиса, гремучий студень с изоляционным кабелем, магнето и инструменты. Сержанты расставили свои игрушки на площадке, а мы спустились к мостику, выкопали яму между двумя стальными шпалами и поместили в ней пятьдесят фунтов гремучего студня.
Зарыть его оказалось нелегким делом. У меня ушло почти два часа, пока я закопал и прикрыл заряд. Затем наступил черед тяжелой работе по прокладке кабеля от детонатора в горы, откуда мы должны были зажечь запал мины. Верхний слой песка затвердел, как кора, и нам пришлось пробивать его, чтобы зарыть кабель. Упрямый кабель оставлял на поверхности песка, изборожденной ветром, длинные зигзаги, словно тут проползали неестественно узкие, тяжелые змеи.
Чтобы сгладить их, пришлось пустить в ход мешок с песком, а затем мой плащ, взмахи которого, подобно ветру, сравняли зыбкую поверхность. Вся работа отняла пять часов, но зато она была проделана на славу. Никто из нас не мог различить, где лежал заряд, или проследить под землей двухсотярдовый путь двойного кабеля к нашей засаде, где он выходил на поверхность.
Мы соединили его концы с электрическим детонатором. Место засады казалось идеально выбранным, исключая того, что человек, находившийся у детонатора, не мог с него видеть моста. Однако, это означало лишь, что ему придется нажать на рукоятку при сигнале с наблюдательного пункта в пятидесяти ядрах впереди, откуда одинаково хорошо были видны и мостик и детонатор. Салем, преданнейший из рабов Фейсала, попросил поручить ему эту почетную обязанность, и ему предоставили ее единогласно.
Остаток дня мы провели, показывая Салему (на выключенном детонаторе), что ему придется сделать. Наконец он усвоил в совершенстве свои обязанности: опускал рукоятку, лишь только я подымал руку, давая знак, что воображаемый поезд въехал на мост.
Мы вернулись в лагерь, оставив одного человека на часах у железнодорожного полотна. Но наш багаж оказался покинутым. Мы в замешательстве бросились искать оставленных тут арабов и внезапно увидали их сидящими на высокой гряде в золотом сиянии солнечного заката. Мы кричали им, чтобы они сошли или легли, но они безмятежно продолжали сидеть там на полном виду, как стая воронов на заборе.
Наконец, мы вбежали наверх и сбросили их оттуда. Но было уже слишком поздно. Турки из маленького поста в горах у Галлат-Аммара, в четырех милях к югу от нас, заметили их и открыли огонь по длинным теням, постепенно приближавшихся благодаря заходящему солнцу по склонам к турецкому посту. Бедуины являлись истинными мастерами в искусстве маскировки, но в своем неизменном презрении к тупости турок они совершенно не думали о том, что с последними придется бороться.
Гряда, на которой они сидели, была видима одновременно и из Мудаввары и из Галлат-Аммара, и они всполошили турок в обоих пунктах своим зловещим появлением.
Нас окутал мрак, и мы поняли, что должны терпеливо проспать ночь в надежде на завтрашний день. Может быть, турки подумают, что мы ушли, если утром они увидят гряду пустой.
Мы уютно устроились в глубокой ложбине, разожгли костры и испекли хлеб. Общие задачи объединили нас.
Бедуины прониклись стыдом по поводу своего безрассудного поведения на вершинах горы, и было единогласно решено, что Заал будет нами руководить.
Победа и грабеж
Мирно наступил день. В течение многих часов мы наблюдали пустынное железнодорожное полотно. Заал и его хромой родич Ховеймиль неустанно следили за тем, чтобы мы оставались за прикрытием. Это стоило им больших трудов в виду ненасытной неугомонности бедуинов, которые никак не могли высидеть на месте больше десяти минут, а должны были все время суетиться и болтать. Этот недостаток ставил их гораздо ниже хладнокровных англичан в условиях длительного докучливого напряжения, которого требует выжидательная война. Сегодня они приводили нас в бешенство.
В конце концов турки, вероятно, заметили нас. В девять часов около сорока человек выступили из Галлат-Аммара на юг и открыто двинулись вперед.
Если мы не тронем их, они в течение одного часа прогонят нас отсюда. Но если мы нападем с нашими преобладающими силами и оттесним их обратно, то нас заметят с железной дороги, и движение по ней приостановится.
Мы попытались, наконец, разрешить это затруднение, послав тридцать человек, чтобы они постепенно задерживали врага и, по возможности, отвлекали его в сторону гор. Тем самым наша глазная позиция могла бы остаться открытой, и турки уверились бы в нашей немногочисленности. Наши надежды оправдались Через несколько часов стрельба стала отрывочной и отдаленной. С юга показался неизменный патруль и уверенно прошел, ничего не заметив, мимо нас и нашей мины по направлению к Мудавваре. Он состоял из восьми солдат и дюжего ефрейтора. Когда он отошел от нас на одну или две мили, усталость от слишком долгого хождения пешком осилила его. Он повел свой отряд в тень от длинного водостока, под сводами которого слабо дул прохладный восточный ветерок, и там они удобно разлеглись на мягком песке, напились воды из фляжек, покурили и, наконец, заснули. Мы решили, что это являлось их полуденным отдыхом, который знойным аравийским летом все уравновешенные турки считали вопросом принципа.
То, что они позволили себе передышку, доказывало, по нашему мнению, что они не подозревают о нашем соседстве. Однако, мы ошибались.
Полдень принес новые заботы. Мы увидали в бинокль, что от станции Мудаввары отделилась сотня турецких солдат и напрямик направилась к нам через песчаную равнину. Люди подвигались очень медленно и, несомненно, с крайней неохотой, огорченные потерей своего любимого полуденного сна. Но даже в худшем случае, как бы медленно они ни шли, через два часа они все-таки достигнут нас.
Мы начали укладываться, приготовляясь уехать и решив оставить мину с ее проводами на месте на тот случай, если турки не заметят ее, и мы сможем вернуться и воспользоваться плодами тяжелой работы. Мы послали гонца к отряду, прикрывавшему нас с юга, чтобы договориться с ним о месте встречи у перерезанных стремнинами скал, служивших прикрытием для наших пасущихся верблюдов.
Как только он умчался, часовой закричал, что со стороны Галлат-Аммара видны клубы дыма. Мы с Заалом бросились к вершине горы и увидели по характеру дыма, что, действительно, у станции, должно быть, стоит поезд.
Пока мы пытались разглядеть его, он внезапно двинулся по направлению к нам. Мы крикнули арабам, чтобы они как можно быстрее заняли позиции. У скалы началась дикая суматоха. Сержанты «Стокс» и «Льюис», будучи в сапогах, не могли опередить остальных, но и они быстро взобрались наверх, позабыв о своих муках и дизентерии.
Люди, вооруженные винтовками, расположились длинной цепью позади горного отрога, спускавшегося от пушек и мимо детонатора ко входу в долину. Отсюда они бы могли открыть стрельбу непосредственно по сошедшим с рельс вагонам с расстояния меньше, чем полтораста футов, меж тем как дальнобойность наших орудий достигала около трехсот ярдов.
Один из арабов взобрался на возвышение возле орудий и кричал нам о движении поезда — необходимая предосторожность, так как если он вез войска, и они высадились бы у нашего кряжа, нам пришлось бы повернуться с быстротой молнии и отступить в долину, защищая свою жизнь. К счастью, поезд мчался вперед с огромной быстротой, которую ему придавали два паровоза.
Когда он приблизился к месту, где, по сведениям турок, мы скрывались, с поезда открыли бесцельную стрельбу по пустыне.
Я мог слышать его приближающийся грохот, сидя на холмике у моста, чтобы подать сигнал Салему, который танцевал вокруг детонатора, крича от возбуждения и настоятельно призывая Аллаха на помощь.
Стрельба турок звучала внушительно, и я размышлял, со сколькими врагами нам придется иметь дело, и сравняет ли мина своим действием их число с нашими восемьюдесятью людьми. Было бы лучше, если бы наш первый опыт с электричеством происходил в менее сложной обстановке. Но в этот момент оба паровоза, казавшиеся огромными, с пронзительными свистками вынырнули из-за поворота. За ними тянулись вагоны, из окон и дверей которых торчали ружейные дула. На крышах, позади ненадежных прикрытий из мешков с песком, обстреливая нас, притаились солдаты.
Я не предполагал, что будут два паровоза, и в одно мгновение решил взорвать мину под вторым, чтобы, в случае незначительного действия взрыва, неповрежденный паровоз не мог отцепиться и утащить вагоны назад.
Итак, когда второй паровоз въехал на мост, я поднял руку, подавая знак Салему. Раздался ужасный грохот, и железнодорожное полотно скрылось из виду позади поднявшегося столба черного дыма и пыли вышиной и шириной около ста футов. Из мрака доносился треск разбивающихся вагонов и продолжительный звучный металлический звон раздираемой стали. Целое колесо паровоза внезапно вихрем вылетело из черной тучи, затмившей небо, с музыкальным свистом пронеслось над нашими головами и медленно и тяжело упало позади нас в пустыне.
После этого полета наступила мертвая тишина. Ни один крик, ни один ружейный выстрел не раздался, пока ставший серым туман от взрыва медленно надвигался на нас от железнодорожного полотна и, миновав нас, растаял в горах.
Я в восторге бросился к сержантам. Салем схватил свою винтовку и разрядил ее во тьму. Не успел я вскарабкаться к орудиям, как ложбина оживилась выстрелами и темными фигурами бедуинов, устремившихся вперед, чтобы схватиться с врагом.
Я осмотрелся, желая увидать, что происходит. Неподвижный поезд стоял на пути, оторвавшиеся и рассеявшиеся вагоны вздрагивали от града пуль, изрешетивших их насквозь, а турки выскакивали из них, ища прикрытия за железнодорожной насыпью.
Пока я созерцал представшую передо мной картину, над моей головой затараторили наши пулеметы. Длинные ряды турок на вагонных крышах покатились и были сметены. словно тюки с хлопком, яростным потоком пуль, бушевавшим и брызгавшим тучей желтых щепок от деревянной обшивки вагонов. Господствующее над местностью расположение наших орудий явилось для нас большим преимуществом.
Когда я добрался до «Стокса» и «Льюиса», сражение уж приняло иной оборот. Уцелевшие турки скрылись за насыпь, имевшую здесь одиннадцать футов вышины, и за прикрытие вагонных колес и в упор открыли огонь по бедуинам. За изгибами железнодорожного полотна враг находился в безопасности от пулеметов, но «Стокс» выпустил из своей мортиры первый снаряд, и через несколько секунд раздался грохот от взрыва, происшедшего позади поезда в пустыне.
«Стокс» дотронулся до прицельного винта, и второй снаряд попал как раз в глубокую выемку под мостом, где турки нашли себе убежище. Он произвел там убийственное опустошение. Оставшиеся в живых в панике ринулись в пустыню, бросая на бегу винтовки и снаряжение.
Настал черед пулеметов Льюиса. «Льюис» свирепо опустошал одну ленту за другой, пока весь песок не был застлан мертвыми телами.
Арабы, увидав, что битва окончена, побросали оружие и начали, словно дикие звери, вскрывать вагоны и грабить их.
Я сбежал вниз к развалинам, чтобы посмотреть результат действия мины. Мост рухнул, и в его провал свалился передний вагон, переполненный больными. Все они, исключая трех или четырех, погибли при падении расколовшегося вдребезги вагона и образовали истекающую кровью груду тел. Один из них еще был жив и бредил в тифозной лихорадке.
Следующие вагоны сошли с рельс и разбились. Некоторые рамы совершенно испортились. Второй паровоз представлял собою дымящуюся кучу железа. Его задние колеса отлетели с частью огневой коробки. Паровозная рубка и тендер, превратившиеся в скрученные лоскуты железа, валялись меж громоздящимися камнями мостовых устоев. Передний паровоз отделался легче. Хотя и он сошел с рельс и полуопрокинулся, а его рубка взорвалась, все же он еще находился под парами, а движущий механизм остался невредимым.
Долина представляла собою дикое зрелище. Арабы метались полуголые, в бешеном исступлении, визжали, стреляли в воздух, дрались друг с другом, вскрывая сундуки и слоняясь с огромными тюками. Они распарывали их и разбрасывали, уничтожая все, что им было не нужно.
Всюду валялись десятки ковров, кучи матрацев и цветных одеял, груды мужской и женской одежды, часов, кухонных горшков, пищи, украшений и оружия. Возле стояли тридцать или сорок женщин без покрывал и истерически рвали на себе одежду и волосы, оглушая своими воплями самих себя. Арабы, не обращая на них внимания продолжали крушить домашнюю утварь и грабить вовсю. Верблюды стали общим достоянием. Каждый с яростью нагружал их сверх всякой меры.
Увидев, что я не принимаю в этом участия, женщины кинулись ко мне, хватаясь за мою одежду, взывая о пощаде. Я уверял их, что все кончится хорошо, но они не отставали, пока меня не избавили от них несколько человек из их мужей. Они пинками столкнули своих жен, хватая меня за ноги в припадке отчаяния и ужаса перед близкой смертью. Они представляли собой гнусное зрелище. Я оттолкнул их ногой и, наконец, освободился.
«Льюис» и «Стокс» спустились, чтобы оказать мне помощь. Я немного беспокоился за них, так как арабы, обезумев, могли напасть на друзей, как и на врагов. Уже трижды мне пришлось защищаться, когда они хватались за мои вещи, притворяясь, что не узнают меня.
Однако военный цвет хаки сержантов привлекал мало внимания. «Льюис» отправился вдоль железнодорожного полотна и подсчитал, что он убил тридцать человек. Кстати он пошарил в их ранцах, чтобы найти золото и трофеи. «Стокс» перебрался через разрушенный мост и, увидав двадцать турок, разорванных в куски его вторым снарядом, поспешно вернулся.
Я немедленно отослал Ахмеда за моим верблюдом и несколькими вьючными верблюдами, чтобы увезти орудия, ибо неприятельская стрельба была уж сейчас отчетливо слышна. Арабы, насытившись грабежом, убегали один за другим в горы, уводя с собой в безопасное место шатающихся от тяжести награбленного верблюдов. Оставлять орудия до последней минуты являлось скверной тактикой, но замешательство, вызванное первым, подавляюще удачным опытом, притупило нашу рассудительность.
Ахмед так и не вернулся с верблюдом. Мои люди, охваченные алчностью, рассеялись по всей местности вместе с бедуинами. Мы с сержантами остались одни у места крушения, сейчас странно безмолвного.
Мы начали опасаться, что нам придется покинуть орудия, но вдруг увидали двух верблюдов, мчавшихся обратно. Заал и Ховеймиль спохватились, что меня нет среди арабов, и вернулись, чтобы разыскать меня.
Мы свернули кабель. Заал соскочил со своего верблюда, настаивая, чтобы я сел верхом и уехал. Но вместо этого мы нагрузили верблюда кабелем и детонатором. У Заала нашлось время посмеяться над нашей странной добычей, в то время как поезд был набит золотом и серебром. Ховеймиль отчаянно хромал от старой раны в ноге и не мог ходить, но мы заставили его опустить верблюда на колени, связали пулеметы Льюиса прикладом к прикладу, словно ножницы, и поместили их за его седлом.
Оставались окопные мортиры. Но тут появился «Стокс», неловко ведя верблюда, которого он нашел заблудившимся. Мы поспешно сложили мортиры, посадили «Стокса» (еще не оправившегося от дизентерии) на седло Заала рядом с пулеметами Льюиса и отправили всех трех верблюдов под попечением Ховеймиля.
Тем временем «Льюис» и Заал в укрытой и невидимой впадине позади нашей старой позиции для орудий развели костер из патронных ящиков, облив их остатками бензина. Они обложили его пулеметными лентами и запасными припасами для ручного оружия, а на вершине осторожно водрузили несколько снарядов от мортиры Стокса. Затем мы отбежали.
Когда пламя достигло кордита и аммонала, раздался ужасный, раскатистый грохот. Взорвались тысячи патронов, словно одновременно стреляло множество пулеметов. Гром снарядов поднял густые столбы пыли и дыма.
Турки, обходившие нас с фланга, решили, что мы располагаем большими силами. Они замедлили свое продвижение, встали под прикрытием и начали осторожно оцеплять наши позиции, производя рекогносцировки, в то время как мы стремительно удалялись в убежище, скрытое между кряжами гор.
Казалось, дело окончилось счастливо. Мы радовались, что ускользнули, не понеся больших потерь, чем мой верблюд и багаж. Но провианта в Рамме было достаточно, а Заал полагал, что, может быть, наше имущество находится у арабов, ожидающих нас впереди. Действительно, мы нашли его. Мои люди, нагруженные добычей, увели с собой всех наших верблюдов. Мы сняли с их седел награбленное добро, приготовляясь сесть в седла. Я спросил, ранен ли кто-нибудь. Чей-то голос сказал, что сын Шимта, очень смелый мальчик, был убит при первом натиске на поезд. Произведенный без всяких инструкций первый натиск являлся ошибкой, так как наши орудия наверняка могли бы все закончить сами. Поэтому я не чувствовал себя виноватым в его смерти.
Три человека получили легкие раны. Один из рабов Фейсала пожаловался, что Салем пропал. Мы созвали всех вместе и опросили их. Наконец, один из арабов сказал, что видел, как тот лежал раненый возле паровоза.
Я вызвал добровольцев вернуться, чтобы отыскать Салема. После минутного колебания согласился Заал, а за ним двенадцать человек из клана новесеры.
Мы пустились быстрой рысью через равнину к железнодорожному пути. Когда мы взобрались на предпоследний кряж, то увидали, что место крушения поезда кишело турками. Их было не менее полутораста человек. Наша попытка напасть на них была бы безнадежной. Салем, вероятно, был уже убит, ибо турки не брали арабов в плен. Они убивали их самым ужасным образом, и мы из сострадания приканчивали наших тяжелораненых, которых нам приходилось покидать беспомощными.
Отказавшись от мысли найти Салема, мы уныло приготовились двинуться в обратный путь. Было уже поздно. Мы устали, а наши девяносто пленных уж успели выпить всю нашу воду. Нам следовало пополнить ее запас из старого колодца в Мудавваре этой же ночью, чтобы перенести долгий путь до Рамма.
Так как колодец находился возле самой станции, было весьма желательно, чтобы мы подобрались к нему незаметно для турок. Иначе турки разгадали бы наше присутствие и захватили бы нас беззащитными. Мы разбились на маленькие отряды и, превозмогая усталость, двинулись на север.
Победа всегда расстраивала ряды арабов. Мы сейчас уж больше не являлись отрядом, способным на быстрый набег, а медленно бредущим караваном, перегруженным до отказа различным домашним скарбом, достаточным, чтобы обогатить любое арабское племя на многие годы.
Вдруг я заметил одного из вольноотпущенников Фейсала — Фергана, подъезжавшего к нам. К моему удивлению, позади него, на крупе, привязанный ремнями висел в бессознательном состоянии и залитый кровью пропавший Салем.
Я рысью подъехал к Фергану и спросил, где он нашел Салема. Он рассказал, что, когда мортира Стокса выпустила первый снаряд, Салем пробегал мимо паровоза, и один из турок выстрелил ему в спину. Пуля прошла возле позвоночника. Рана не была смертельна. После того, как поезд был захвачен, люди хавейтат ограбили Салема, захватив плащ, кинжал, винтовку и головную повязку. Другой из вольноотпущенников, Миджбил, нашел его, взвалил на верблюда и, не сказав нам, повез домой. Ферган, перехватив его в пути, отнял у него Салема.
Когда Салем позднее оправился, он навсегда затаил против меня вражду за то, что я покинул его раненым.
Через три часа мы добрались до колодца и без всяких злоключений запаслись водой. Боясь погони, мы затем отошли на десять миль. Там мы расположились и уснули.
Утром я со «Стоксом» и «Льюисом» уехал вперед. Мы пересекали одну за другой огромные глинистые равнины, пока как раз перед заходом солнца не добрались до начала Вади-Рамма.
Эта новая дорога являлась важной для наших бронированных автомобилей, ибо, будучи твердой на всем своем расстоянии, она дала бы им возможность легко добраться до Мудаввары. Мы могли бы в таком случае останавливать движение поездов, когда нам заблагорассудится.
Размышляя таким образом, мы свернули в Рамм, великолепный в красках солнечного заката. Утесы казались красными, как облака заката.
Мы вновь почувствовали, что наши страсти утихают от невозмутимой красоты Рамма.
Двумя днями позднее мы прибыли в Акабу. Мы гордо вступили в город, нагруженные драгоценностями, похваляясь, что поезда турок находятся в нашей власти.
Мы принимаем решение
Октябрь 1917 г. являлся для нас месяцем надежд, ибо мы узнали, что Алленби с генералами Балсом и Доунеем замышляют нападение на линию Газа — Биршеба.
Газа была укреплена на европейский образец. Одна линия обороны следовала за другой. Она настолько очевидно являлась сильнейшим пунктом неприятеля, что британское высшее командование уже дважды избирало ее для лобовой атаки.[40]
Алленби, лишь недавно покинув Францию, настаивал, что всякий дальнейший штурм Газы должен производиться подавляющими силами людей и орудий. Огромное количество транспорта всех видов должно будет обеспечить атаку.
Генерал Доуней стремился уничтожить мощь противника с наименьшими хлопотами. Он советовал напасть на дальний конец турецкого фронта, вблизи Беэр-Шевы. Чтобы победа досталась дешево, он хотел иметь главные силы врага позади Газы, а это могло быть наилучше достигнуто, если бы англичане скрыли концентрацию своих войск от турок и если бы те считали фланговую атаку лишь ложным нападением.
Мы, находясь на арабском фронте, отлично знали врага. Наши арабские офицеры прежде были турецкими офицерами и лично знали всех вождей противной стороны. Связь между нами и ими являлась повсеместной, так как гражданское население вражеской территории было всецело на нашей стороне без всякой платы или уговоров. Следовательно, наша разведочная служба являлась самой обширной и осведомленной, какую себе лишь можно вообразить.
Мы знали лучше, чем Алленби, лукавство врага и величину британских ресурсов. Мы расценивали очень низко разрушительное действие огромной артиллерии Алленби и сложную громоздкость его пехоты и кавалерии, передвигавшихся медленно, словно ревматический больной. Мы лишь надеялись, что на долю Алленби выпадет месяц хорошей погоды, и считали, что в таком случае он возьмет не только Иерусалим, но также и Хайфу, разметав и уничтожив турок в горах.
Тут пришел бы наш черед, и нам следовало быть готовыми к этой минуте в таком пункте, где меньше всего бы ждали нашего натиска, благодаря чему мы могли нанести наибольший ущерб врагу.
По моему мнению, центром притяжения являлась Деръа — узел, где сходятся железные дороги Иерусалим — Хайфа и Дамаск — Медина, центр турецких армий в Сирии, общий пункт всех их фронтов и, случайно, район, в котором сосредоточены огромные, еще нетронутые резервы арабских бойцов, обученных и вооруженных Фейсалом.
Я размышлял в течение некоторого времени, не следует ли нам кликнуть клич всем нашим приверженцам и совместно захватить пути сообщения турок.
Мы могли быть уверены в двенадцати тысячах человек: достаточное количество, чтобы кинуться на Деръа, уничтожить все железнодорожные пути и даже, застигнув врага врасплох, взять Дамаск. Любое из этих обстоятельств сделало бы положение армий в Беэр-Шеве критическим. Мое искушение поставить все на карту ради немедленного исхода войны было очень велико.
Местное население умоляло нас прийти. Такой подвиг решил бы задачу Алленби, но совесть не разрешала Фейсалу решиться на него без твердой надежды, что он затем сможет там укрепиться. Внезапный захват Деръа, за которым последовало бы отступление, вызвал бы резню и истребление всего отважного земледельческого населения области.
Они могли восстать лишь один раз, и этот раз должен был явиться решающим. Призвать же их сейчас — значило рисковать всеми запасными силами Фейсала ради сомнительного успеха, со спорным расчетом, что первая же атака Алленби сметет врага и что ноябрь месяц пройдет без дождей и будет благоприятен для быстрого продвижения вперед.
Я взвесил в уме значение английской армии, но не мог честно уверовать в нее. Солдаты часто являлись отважными бойцами, но так же часто глупость генералов лишала их плодов побед. Алленби был еще совершенно неискушен, а его войска терпели поражения и разложились за время командования Мэррея.
Разумеется, мы сражаемся за общую победу союзников, и, поскольку англичане являются главными участниками союза, ради них можно было бы пожертвовать арабами как последним средством. Но действительно ли они являются последним средством? Война в общем идет ни хорошо, ни слишком плохо, и казалось, в будущем году также найдется время для подобной попытки. Итак, я решил отложить рискованную затею.
Однако, движение арабов могло развиваться лишь при благоволении к нему Алленби. Поэтому было необходимо предпринять какую-либо операцию, менее ответственную, чем всеобщее восстание в тылу врага, операцию, которая могла бы быть проведена лишь одним отрядом без вовлечения в нее оседлого населения, и в то же время доставила бы удовольствие Алленби, являясь ощутимой помощью англичанам при преследовании врага. После размышлений я пришел к выводу, что этим условиям и требованиям соответствует уж испытанный нами взрыв какого-нибудь из больших мостов долины Ярмук.[41]
Именно возле узкого бездонного ущелья реки Ярмук железнодорожный путь из Палестины в Дамаск подымался на Хауран.[42] Отвесность склонов Иордана и неровность поверхности восточного плоскогорья послужили причиной того, что труднее всего оказалось проложить этот отрезок железнодорожного пути. Инженерам пришлось проводить его в извилистой долине, по которой протекала река, и на своем ходу железнодорожная линия многократно пересекала водный поток целым рядом мостов, из которых было бы труднее всего восстановить самый западный и самый восточный. Уничтожение одного из этих мостов оторвало бы на две недели турецкую армию в Палестине от ее базы в Дамаске и лишило бы ее возможности спастись от наступления Алленби. Чтобы достигнуть Ярмука, нам нужно было пройти от Акабы через Азрак[43] около четырехсот двадцати миль. Турки считали, что мы не угрожаем мостам, и очень слабо их охраняли.
Мы изложили наш план Алленби. Он попросил, чтобы мы его осуществили 5 ноября или в один из трех следующих дней.
Насир, наш обычный сапер, находился в отсутствии, но с племенем бени-сахр был Али ибн-эль-Хуссейн, молодой и привлекательный ишан клана харита, который уж давно отличился под Мединой, когда Фейсал находился в отчаянном положении.
Его храбрость, его выносливость и энергия были испытаны.
Али, будучи некоторое время гостем Джемаля в Дамаске, уже знал кое-что о Сирии. Я попросил Фейсала отпустить его со мной.
Мой разработанный план заключался в стремительном переходе в два приема от Азрака до Ум-Кейса с горстью людей числом не более пятидесяти. Ум-Кейс стоял как раз над самым западным из мостов Ярмука. На нем находилось лишь с полдесятка сторожевых постов. Смена часовых производилась из состава соседнего гарнизона в Хемме.
Я надеялся убедить нескольких людей из племени абу-тайн отправиться со мной. Эти люди-волки обеспечили бы успешный штурм моста. Чтобы не дать подойти подкреплениям к неприятелю, мы бы вымели подступы к мосту огнем пулеметов, управляемых индийскими волонтерами из кавалерийской дивизии во Франции под начальством Джемадар Гассан-Шаха.
Разрушение больших мостовых устоев ограниченными количествами взрывчатого вещества являлось операцией, требующей точности, затруднительной под огнем противника. Я пригласил капитана Вуда, инженера базы в Акабе, сопровождать меня. Он немедленно согласился, хотя и был признан врачами негодным к действительной службе, вследствие пули, пробившей ему голову во Франции.
Ллойд-Джордж, проводивший в Акабе несколько последних дней перед отъездом в Версаль на печальное заседание межсоюзного комитета, заявил, что он поедет с нами до Джефера.
Мы заканчивали наши последние приготовления, когда к нам прибыл неожиданный союзник в лице Абд эль-Кадера эль-Джезаира, внука воинственного защитника Алжира против турок.[44]
Он предложил Фейсалу распоряжаться душой и телом его соплеменников, смелых, непреклонных в бою алжирских изгнанников, живущих сплоченно вдоль северного берега Ярмука.
Мы ухватились за его предложение, которое давало нам возможность в течение короткого времени овладеть средним участком проходящей по долине железной дороги, включая два или три главных моста, не переполошив всех окрестностей, ибо алжирцы были ненавистными чужаками для арабов, и арабы-крестьяне не примкнули бы к ним. В соответствии с этим мы отложили встречу в Азраке с шейхом Рафой, а Заалу не сказали ни слова. Взамен мы сосредоточили все наши помыслы на Вади-Халид и его мостах.
Пока мы так изворачивались, пришла телеграмма от полковника Бремонда, предупреждающая нас, что Абд эль-Кадер был шпионом на жаловании у турок. Это расстраивало все наши планы.
Фейсал сказал мне:
— Я знаю, что он сумасброд. Думаю, что он честен. Берегите головы и используйте его.
Так мы, сделали, оказывая ему полное доверие из тех соображений, что если он обманщик, то он не поверит нашей чистосердечности, а если честный человек, то подозрительность к нему лишь скорее сделала бы его обманщиком.
Безусловно, он был энтузиастом ислама, полусумасшедшим на почве религиозного фанатизма и самой неистовой веры в самого себя. Его мусульманскую щепетильность оскорбляло то, что я явно был христианином. Его гордость страдала от нашего общества, ибо племена относились к Али ибн-эль-Хуссейну как к высшему, а ко мне еще лучше, чем к последнему. Его тупость и глупость два или три раза заставляли Али терять самообладание, что приводило к тяжелым сценам. А в конце концов Абд эль-Кадер покинул нас без помощи в отчаянную минуту, а до того, насколько лишь хватало его сил, препятствовал нашему походу и разрушал наши планы.
Опять через железную дорогу
Напоследок мы роскошно попировали и выступили в путь вечером 24 октября 1917 г. В течение четырех часов мы подвигались медленно: первый переход всегда был трудным.
В добавление к моим собственным верблюдам и вьючным животным конвоя я снабдил верблюдами индийских добровольцев[45] и одолжил одного Буду, а другого Торну, гвардейцу Ллойда, сидевшему в седле, как араб, в полосатом плаще поверх хаки. Сам Ллойд ехал на чистокровном верблюде, которого ему одолжил Фейсал: прекрасное, быстроходное животное, но худое и остриженное после чесотки.
Наш отряд рассеялся. Вуд отстал от других. Мои люди, имея много хлопот с индийскими волонтерами, потеряли его из виду. Таким образом он очутился наедине с Торном. Во мраке, всегда заполнявшем по ночам глубины ущелья Итм, они потеряли направление на восток, по которому мы шли. В течение нескольких часов они скакали по главной дороге, ведущей к Гувейре, но, наконец, решили дождаться дня в какой-то боковой долине. Оба не были знакомы с местностью и не были уверены в арабах. Поэтому они по очереди стояли на часах.
Мы догадались о случившемся, когда при нашем полунощном привале их все не было. Перед рассветом несколько арабов поехали обратно с приказом обыскать три или четыре дороги, по которым могли отклониться пропавшие, и привести их в Рамм.
Мы же двинулись дальше к Рамму через кривые склоны из розового песчаника и заросшие зеленым тамариском долины. Наконец мы вступили в Рамм, когда на его огромных утесах зажегся малиновый закат.
Вуд и Торн уже находились там. Вуд был болен и лежал. Он сердился на меня, но за ужином наши дружеские отношения восстановились.
На следующий день мы взобрались в зигзагообразное неровное ущелье, ведущее к высотам Батры.
К полудню без всяких приключений мы достигли вершины. С удовольствием расположились мы в зеленой долине, укрытой от ветров, греясь под слабыми лучами солнца, смягчавшими на этом высоком плоскогорье осеннюю прохладу. Я уехал на север в разведку с Авадом, мальчиком при верблюдах из племени шерари, нанятым в Рамме, не спрашивая, кто он такой. Мы кружились вокруг Абу эль-Лиссана, чтобы увериться, что турки пребывают в беспечности, так как им была свойственна привычка внезапно высылать верховые патрули через Батру, лишь только они что-нибудь замечали, а у меня не было никакого желания вовлекать наш отряд в стычки, не вызванные необходимостью. Авад был оборванный, смуглый юноша лет восемнадцати, прекрасного сложения, с мышцами атлета, подвижной, словно кошка. Он прекрасно держался в седле.
Мы взобрались с ним на вершину холма, с которого открывался вид на всю Батру и долины, отлого спускающиеся к Абу эль-Лиссану, и лениво пролежали там, пока не увидали, что кавалькада Али вступила в ущелье. Мы сбежали по склонам, чтобы встретить их, и услыхали, что они дорогой потеряли четырех верблюдов. Он также вновь поссорился с Абд эль-Кадером и молил Аллаха избавить его от несговорчивого, высокомерного и грубого спутника.
Мы покинули их с тем, чтобы они с наступлением темноты двинулись за нами. Так как у них не было проводника, я оставил им Авада. Мы должны были встретиться опять у лагеря Ауды. Затем мы двинулись вперед через неглубокие долины и через пересекающие друг друга горные кряжи, пока солнце не опустилось за дальний высокий отрог, с вершины которого мы увидали четырехугольное здание станции Гадир эль-Хаджа на расстоянии многих миль.
Я и Ллойд наметили место на железнодорожном полотне как раз ниже станции Шедия, где мы намеревались перейти его. Когда взошли звезды, мы решили, что должны идти, руководясь созвездием Ориона. Мы вступили в путь и час за часом шли на Орион, но он от этого не казался ближе.
Мы уж вышли из горных ущелий на простор бесконечной равнины.
Мы с Ллойдом поехали вперед, чтобы внимательно высмотреть железнодорожную линию и избавить тем самым наш главный отряд от случайной стычки с турецким блокгаузом или ночным патрулем.
Наши великолепные верблюды делали слишком большие шаги, и мы, не сознавая того, все больше и больше опережали тяжело нагруженных индусов. Гассан Шах-Джемадар выслал одного человека, чтобы тот не терял нас из виду, затем другого, а за вторым и третьего, пока его отряд не вытянулся в длинную вереницу торопящихся людей. Тут он шепотом отдал настоятельное распоряжение идти медленно, но, дойдя до нас через тройную передачу, это распоряжение стало совершенно невразумительным.
Мы остановились. Ночные звуки нарушали тишину. Слабый ветерок порывами приносил запах увядающих трав. Затем мы опять двинулись в путь, но медленнее. Казалось, часы проходили за часами, а равнине все еще не было конца. Мы почувствовали, что звезды ведут нас по неправильному пути.
У Ллойда где-то был компас. Мы остановились и пытались ощупью найти его в глубоких седельных мешках Ллойда. Подъехавший Торн разыскал его. Мы встали вокруг, делая вычисления по блестящей стрелке компаса, и переменили Орион на более попутную Полярную звезду.
И опять мы бесконечно шли вперед, пока Ллойд, когда мы карабкались на высокий вал, не натянул, зевая, поводьев и не протянул вперед руку. Далеко на нашем пути на горизонте вырисовывались два куба, чернея на фоне темного неба, а возле них — остроконечная крыша. Мы находились на прямом пути к станции Шедий. Мы свернули направо и поспешно затрусили через открытую местность, немного беспокоясь, что растянувшийся за нами караван мог не заметить внезапной перемены направления. Но все кончилось благополучно, и несколько минут спустя мы обменивались в соседней ложбине радостными замечаниями на различнейших языках: английском и турецком, арабском и урду.[46]
От лагеря турок слабо доносился волнующий лай собак.
Сейчас мы знали, где находимся, и взяли новое направление, чтобы обойти первый блокгауз ниже Шедия.
Мы уверенно выбирали дорогу, надеясь вскоре пересечь железнодорожное полотно. Но время медленно тянулось, а мы все его не видели.
Была полночь, мы уж шли шесть часов, и Ллойд с горечью сказал, что к утру мы можем дойти до Багдада, — тут не могло быть никакой железной дороги. Торн увидал ряд деревьев, и ему показалось, что они движутся. Затворы наших винтовок щелкнули, но деревья оказались лишь деревьями.
Мы оставили надежду и безучастно поехали дальше, качаясь в седлах. Уставшие веки смыкались. Индусы опять далеко отстали. Но через час перед нами неясно вырисовался вал, не похожий на предыдущие. У него были прямые очертания, и вдоль — на всем его протяжении — темнели пятна, которые могли быть тенью от водосточных отверстий. Когда мы приблизились, вдоль его края возникла изгородь из острых жердей. То были телеграфные столбы.
Мы проворно остановили наш отряд и поехали в сторону, а затем прямо, чтобы разузнать, что скрывалось под тишиной местности.
Мы ожидали, что внезапно свет поглотит темноту, а тишину сменят залпы выстрелов. Но все было спокойно. Мы достигли вала и нашли его покинутым. Мы спешились и обегали вдоль и поперек каждую тропинку на расстоянии двухсот ярдов: полное безлюдье. Можно было пройти здесь в полной безопасности.
Я велел немедленно переходить железную дорогу и двинуться на восток в безлюдную, дружественную пустыню. Сам же я сел на рельсы под поющими проводами, пока мимо меня не прошли, пересекая полотно, все верблюды, ступая со свойственной им по ночам напряженной беззвучностью. Через час мы устроили роздых до рассвета.
На следующий день мы нашли Ауду, расположившегося лагерем на неровном, заросшем кустарником пространстве на юго-западе от колодцев. Он встретил нас принужденно. Он отослал свои большие палатки и женщин, чтобы они были вне досягаемости турецких аэропланов. В лагере находилось лишь немного людей его клана тайи, и те яростно спорили о распределении причитающегося им вознаграждения. Старику было грустно, что мы нашли его со столь слабыми силами.
Я старался изо всех сил уладить раздоры, пытаясь придать мыслям арабов новое направление, и достиг полной удачи. Арабы начали улыбаться, что уже являлось победой.
Когда мы, закусив, бродили по серым, сухим канавам, я открыл Заалу мои планы экспедиции к мостам Ярмука. Они ему очень не понравились. Заал в октябре был не таким, как в августе. Успех превратил неутомимого в езде храбреца в благоразумного, осторожного человека, для которого жизнь стала драгоценной благодаря свалившемуся богатству. Раньше он повел бы меня, куда бы я ни захотел, но последний набег подверг испытанию его характер, и сейчас он заявил, что сядет в седло лишь в том случае, если я лично потребую его участия.
Я спросил, какую группу мы могли бы набрать. Он назвал трех человек из лагеря как подходящих участников для такого отчаянного дела. Брать троих из племени тайи было бы хуже, чем никого не брать, так как их самодовольство заразило бы остальных людей, между тем как их самих было слишком мало, чтобы можно было обойтись ими одними. Поэтому я заявил, что сделаю попытку найти людей где-либо в другом месте. Заал, казалось, почувствовал облегчение.
Ллойду нужно было уезжать в Версаль. Я очень сожалел о нем как о единственном человеке, понявшем наши задачи. Когда он покинул нас, мы вновь очутились во власти бесконечной войны, арабов и верблюдов.
Наступила ночь. Драгоценное время бесполезно растрачивалось. В течение многих часов я в одиночку убеждал арабов. Постепенно я добился кое-чего, но спор еще продолжался, когда около полуночи Ауда поднял свою палку и попросил, чтобы мы замолчали. Мы подчинились, желая узнать, какая опасность нам угрожает. Немного погодя до нас донесся почти неуловимый гул, похожий на ропот далекой грозы. Ауда поднял угрюмые глаза на запад и сказал:
— Английские пушки!
Алленби начал первые приготовления,[47] и грохот его орудий обнадежил меня и положил конец моим сомнениям.
Мы идем к мосту
На следующее утро настроение в лагере было спокойное и сердечное. Старый Ауда на этот раз, уладив распри, горячо обнял меня, призывая мир на нас. Наконец, когда я положил руку на седло верблюда, он выбежал вперед, опять заключил меня в свои объятия и прижал к себе. Его жесткая борода царапала мне ухо, когда он быстро прошептал мне:
— Берегись Абд эль-Кадера.
Вокруг толпилось слишком много народа, чтобы он мог что-нибудь добавить.
Около полудня мы расположились лагерем. Внезапно поднялась тревога. Всадники на лошадях и верблюдах появились с запада и востока, быстро приближаясь к нам. Мы схватились за винтовки. Через полминуты мы пришли в полную боевую готовность.
Шерив Али увещевал нас, чтобы мы открыли огонь, лишь когда действительно начнется нападение на нас, как вдруг Авад с веселым смехом выбежал вперед по направлению к неприятелю, размахивая рукавом над головою в знак дружеских намерений. Те открыли по нему огонь, но безрезультатно. Он бросился на землю и выстрелил в ответ. Его пуля пролетела как раз над головой переднего всадника. Она, а также наша безмолвная готовность привели врагов в замешательство. Они нерешительно сгрудились и после минутного спора взмахнули своими плащами, неохотно отвечая на наш сигнал.
Один из них выехал вперед, направляясь к нам мерной поступью. Авад под защитой наших винтовок вышел на двести ярдов, чтобы встретиться с ним, и увидал, что тот принадлежал к племени сухур. Услыхав наши имена, он притворился пораженным. Это был летучий отряд из клана зебн-сухур, расположенного лагерем, как мы и рассчитывали, против Байра.
Али, взбешенный их вероломным нападением на нас, угрожал им всякими карами. Они угрюмо выслушали его тираду и заявили, что у племени бени-сахр существует обычай стрелять по чужеземцам. Али согласился, что у них, возможно, есть такой обычай, обычай неплохой в пустыне, но доказывал, что их нападение на нас с трех сторон без всякого предупреждения являлось предумышленной засадой.
Наши недавние недруги отправились в Баир, чтобы сообщить о нашем прибытии.
Наступила спокойная ночь. И вновь до нас донесся уверенный, спокойный гул тяжелых орудий Алленби, подготавливавших штурм Палестины. Под этот артиллерийский аккомпанемент мы рассказали в Баире старшине клана шейху Мифлеху, что мы прибыли сюда, чтобы совершить набег на округ Деръа, и были бы рады, если бы он с пятнадцатью соплеменниками на верблюдах присоединился к нам.
После нашей неудачи у племени хавейтат мы решили не разглашать полностью нашего плана, чтобы его опасность не отпугивала наших партизан. Однако Мифлех сразу согласился с явной поспешностью и охотой, обещая взять с собой пятнадцать лучших людей из племени.
Уже давно наступил мрак, когда наш караван, запасшись водой, покинул Баир. Мифлех считал нужным посетить могилу Эссада, предполагаемого предка клана, находившуюся недалеко от могилы Аннада. Шейх решил воспользоваться удобным случаем и добавить к потертой коллекции, находящейся на могиле Эссада, еще одну головную тесьму. Верный себе, он попросил нас добавить что-нибудь к его дарам. Я вручил ему мои дорогие украшения из Мекки из красного шелка, расшитые серебром. Расчетливый Мифлех заставил меня принять полпенни, чтобы иметь право говорить о купле. А когда через несколько недель я убедился, что украшение исчезло, он громко в моем присутствии стал распространяться о святотатстве безбожных шерари, обворовавших его предка, но Турки мог бы рассказать мне иное. Нас вывела из Вади-Баира крутая старая тропа. На вершине одного из кряжей мы расположились лагерем на ночь. Мы легли тесно друг возле друга и затихли, напрягая слух, чтобы уловить биение пульса орудий Алленби. Их говор казался красноречивым.
На следующий день мы свернули налево от горных кряжей Тлайтухвата и весь день двигались в виду их ясных, белых вершин.
Во время очередного ночного привала грохот орудий слышался отчетливо и громко. Арабы шептали:
— Они приближаются. Англичане наступают. Да пощадит Аллах людей под этим дождем.
Они с состраданием думали о турках, так долго бывших их притеснителями, которым ни теперь сочувствовали больше, благодаря их слабости, чем сильным иностранцам с их непонятной, действующей без разбора справедливостью.
Мы поднялись рано, рассчитывая к заходу солнца проделать долгий путь до Аммари. Около полудня на горном хребте появился отряд бегущих рысью верблюдов.
— Га, — крикнул мне Мифлех, когда те еще находились на расстоянии мили, — это Фахад впереди. Они — наши родичи.
Так оно и оказалось. Шейф Фахад и Адуб, главные военные вожди зебна, стояли лагерем на западе от железной дороги возле Зизы, когда к ним пришло известие о нашем походе. Они немедленно сели на верблюдов и после стремительной езды нагнали нас лишь на полпути. Оба они были знаменитыми бойцами.
Мы переночевали в Аммари под сильным холодным ветром. К рассвету он ослабел, и вы выступили к Азраку. Однако, едва мы отошли от колодцев, как поднялась тревога. В кустарнике увидали нескольких верховых. Мы сгрудились в удобном месте и остановились.
Началась перестрелка. Но она внезапно закончилась. Враги выступили из-за прикрытия и помчались рядами на нас, размахивая плащами в воздухе и распевая военный приветственный марш. Они оказались воинами из племени сирхан и направлялись к Фейсалу, чтобы присягнуть ему на верность. Услыхав наши вести, они повернули с нами обратно, радуясь, что избавились от дальнейшего пути, ибо их племя не было ни воинственным, ни кочевым. Они обставили известной пышностью наше совместное вступление в их лагерь у Аин эль-Бейды в нескольких милях на восток от Аарака, где собралось все племя.
Мы собрали всех старшин и рассказали им про нужды Фейсала, а также наш план, как ему помочь. Они выслушали нас сдержанно. Западный мост, — сказали они, — совершенно недоступен. Турки лишь недавно наводнили его окрестности сотнями военных древорезов. Никакой вражеский отряд не смог бы проскользнуть мимо них незамеченным. Они открыто высказали большое подозрение против мавританских деревень[48] и Абд эль-Кадера. Что же касается ближайшего моста у Тель эль-Шехаба, то они опасались, чтобы крестьяне, их закоренелые враги, не напали на них с тыла. Равным образом, в случае дождя верблюды не смогли бы пуститься рысью обратно через глинистые равнины у Ремте, и весь отряд был бы перерезан и перебит.
Мы встревожились. Племя сирхан являлось нашим последним ресурсом, откуда мы могли получить подмогу, и если бы они отказались отправиться с нами, мы не были бы в состоянии выполнить в назначенное время проект Алленби. Поэтому Али собрал вокруг нашего небольшого костра лучших людей племени и привел Фахада, Мифлеха и Адуба, усилив ими ту часть, которая поддерживала нас. Мы начали при них поносить людей сирхан за осторожность, казавшуюся нам все более постыдной после нашего долгого пребывания в пустыне.
Мы очень долго бились над ними, упоминая о всемогущем Аллахе и бесконечности, о великих целях восстания и о чести сражаться за него.
То была полусвязная, прерывистая беседа, вызванная нашим крайним отчаянием. Едва ли я могу воспроизвести ее смысл. Моя память сохранила лишь постепенное смирение людей сирхан, ночное безмолвие, в котором увядала их многоречивость, и наконец, их ревностную готовность сопровождать нас, какова бы ни была наша цель.
Перед рассветом мы призвали старого Абд эль-Кадера и сообщили ему, что люди сирхан отправляются после восхода солнце с нами под его надзором в Вади-Халид. Он пробурчал, что это очень хорошо.
Истощенные, мы прилегли на минуту, но уж очень рано были на ногах, чтобы произвести смотр людям сирхана. У них был свирепый, ободранный вид.
В три часа пополудни вы выступили в Азрак.
Али никогда не видал Азрак, и мы торопливо поднялись на каменную гряду, возбужденно беседуя о войнах, о песнях и страстях прежних пастушеских королей с звучными именами и о римских легионерах, гарнизоны которых некогда изнемогали в здешних местах.
Нам преградила путь голубая крепость на скале над шелестящими пальмами, окруженная свежими лугами и сверкающими источниками.
Али дернул поводья, и его верблюд, осторожно выбирая дорогу, двинулся вниз по потоку лавы к пышному дерну возле источника.
Внезапно мы заметили, что с нами нет Абд эль-Кадера. Мы искали его повсюду и разослали наших людей на поиски. Они вернулись с арабами, и те рассказали нам, что сейчас же после того, как мы отправились в путь, Абд эль-Кадер поскакал на север через слоистые кочки в направлении гор Джебель-Друза. Арабы не знали наших планов, а Абд эль-Кадера ненавидели и, видя его отъезд, только радовались. Но для нас это исчезновение было дурной вестью.
Из намеченных нами ранее трех мостов Ум-Кейс уже отпал. Без Абд эль-Кадера становился недоступным и Вади-Халид. Это означало, что мы обязательно должны попытаться взорвать мост у Тель эль-Шехаба.
Чтобы добраться до него, мы должны были пересечь открытую местность между Ремте и Деръа. Абд эль-Кадер убежал к врагу с донесением о наших планах и силах. Если турки примут даже самые незначительные предосторожности, они у моста поймают нас в западню.
Мы устроили совет с Фахадом и решили все же двинуться вперед, уповая на обычную неумелость врага. На следующее утро мы продвинулись вперед на многие мили, пока не нашли у Аба Саваны кремнистую ложбину, изобиловавшую восхитительно прозрачной дождевой водой, наполнявшей до краев узкий канал в два фута глубины и около десяти ширины, но длиною в полмили. Ей предстояло служить нам отправной точкой при набеге на мост.
Чтобы увериться в ее безопасности, мы проехали на несколько ярдов дальше к вершине невысокого холма и внезапно увидали оттуда удаляющийся отряд черкесских всадников,[49] посланных турками осмотреть, не занята ли ложбина с запасом воды. К нашей взаимной удаче они разминулись с нами на пять минут.
С рассветом мы не спеша двинулись вперед. Пустыня скоро кончилась, понижаясь и перейдя в гладкую равнину, простирающуюся до железной дороги, видневшейся в нескольких милях вдали. Мы сделали привал до сумерек, чтобы пересечь ее. В наш план входило тайком проскользнуть здесь и укрыться у дальнего подножья гор ниже Деръа.
День казался бесконечным. Наконец, солнце зашло. Мы сели на верблюдов. Два часа спустя после быстрого перехода по гравию мы подошли к железной дороге. Без особого труда мы отыскали каменистое место, где наш караван мог пройти, не оставив следов. Очевидно, турецкая железнодорожная охрана безмятежно отдыхала, что доказывало, что Абд эль-Кадер своими вестями еще не поднял паники.
Мы проехали с полчаса по другой стороне железнодорожного полотна и спустились в неглубокую скалистую впадину, заросшую сочной травой. Это был Гадир эль-Абиад, где Мифлех советовал нам устроить засаду. Он дал нам слово, что мы находимся под прикрытием, и мы разлеглись между нашими нагруженными животными, чтобы немного соснуть. Рассвет покажет нам, насколько наше местоположение безопасно и незаметно для врага.
Когда наступил день, Фахад повел меня к краю нашей ложбины, возвышавшуюся на пятнадцать футов, и оттуда мы за отлого спускающимся лугом увидали железную дорогу, казалось, почти на расстоянии выстрела. Эта близость являлась крайне неудобной, но люди племени сахр не знали лучшего места.
Нам пришлось провести тут весь день. Каждую минуту получались какие-нибудь донесения, наши люди бежали посмотреть, в чем дело, и низкий вал был все время унизан сомкнутым рядом человеческих годов. Всякий раз, как мимо проходил патруль, нам приходилось наблюдать за верблюдами, так как если бы хоть один из них заревел, он выдал бы нас неприятелю.
Вчерашний день казался долгим, но сегодняшний протекал еще медленнее. Мы с Али разрабатывали до последних мелочей порядок нашего набега. Мы просидим в засаде до захода солнца. До рассвета мы должны успеть добраться до Телль эль-Шехаба, взорвать мост и вернуться сюда от железной дороги. Это означало, что в течение тринадцати часов темноты нам придется сделать по крайней мере восемьдесят миль, кроме кропотливой работы по взрыву. Такой подвиг был выше сил большинства индийских волонтеров, не являвшихся хорошими ездоками и уж загнавших своих верблюдов за время похода от Акабы.
Итак, мы отобрали из их числа шесть лучших ездоков и посадили их на шесть лучших верблюдов. Их вел Гассан-Шах, их офицер и великодушнейший человек. Он решил, что для его небольшого отряда наиболее соответствующим орудием окажется пушка Виккерса. Наша наступательная мощь тем самым весьма значительно понижалась. Чем больше я оценивал наши силы, тем менее удачным казалось мне развитие нашего плана похода на Ярмук.
Люди бени-сахр были отважными бойцами, но мы не доверяли людям сирхан. Поэтому мы с Али решили образовать из бени-сахр штурмовой отряд под начальством Фахада. Некоторые из людей сирхан должны были остаться для охраны верблюдов, а остальные понести гремучий студень при нашей пешей атаке на мост.
Али ибн-эль-Хуссейн взял шестерых из своих слуг. Отряд был укомплектован двадцатью людьми бени-сахр и сорока людьми сирхан.
Мы оставили хромых и слабых верблюдов у Абияда на попечении оставшихся людей с приказанием вернуться перед зарей к Абу-Саване и ожидать там известий от нас.
Сейчас же после захода солнца мы попрощались с ними и выехали из нашей долины. Наступила темнота, когда мы проехали через первую гряду и повернули на запад к покинутой дороге богомольцев,[50] колеи которой были бы нашим лучшим проводником.
Спотыкаясь мы брели по неровным горным склонам, когда люди впереди нас внезапно бросились вперед. Мы последовали за ними и нашли их окружившими какого-то напуганного бродячего торговца с двумя женами и двумя ослами, нагруженными изюмом, мукой и плащами. Они шли в Мафрак, станцию, находящуюся как раз позади нас. Это было неудобно для нас, и мы велели им под конец сделать тут привал, оставив одного из сирханцев для надзора за ними. Он должен был отпустить их на рассвете, а сам умчаться к Абу-Саване.
Мы побрели дальше в сгустившемся мраке, пока не увидали мерцание белых борозд дороги богомольцев. Это была та самая дорога, по которой я скакал из Рабега с арабами в первую ночь моего пребывания в Аравии. С тех пор мы за двенадцать месяцев с боем прошли тысячу двести километров, миновав Медину и Хедию, Дизад, Мудаввару и Маан.
Какой-то пастух рассеял мои вычисления, выстрелив из своей винтовки по нашему каравану, который беззвучно приближался к нему, маяча во мраке. Он дал промах и убежал, крича от ужаса.
Следующую тревогу подняла залаявшая где-то слева собака, а затем нам неожиданно попался на пути какой-то верблюд. Однако, он оказался без всадника, и был, очевидно, заблудившимся животным. Мы опять двинулись вперед и поднялись на холм. На вершине его мы остановились.
Далеко на севере под нами сверкали вереницы огней. Это светился вокзал Деръа, освещая путь движения армии.[51] То была его последняя иллюминация, так как на следующий день Деръа погрузилась во мрак на целый год, пока она не пала.
Тесной группой мы двинулись вдоль хребта, и через длинную долину выехали на равнину Ремте. Дорога сделалась ровной, но почва была полувспахана и разрыхлена кроличьими норами, в которые наши верблюды погружались по колени, с трудом выбираясь из них. Но нам приходилось спешить, так как мы запоздали из-за неровностей пути.
Мифлех, который вел нас, перевел своего сопротивляющегося верблюда на рысь.
Я поехал назад вдоль рядов и велел ускорить езду. Но почва была такой неровной, что все наши усилия кончились ничем, и постепенно люди начали отставать один за другим.
В десятом часу мы миновали пашню.
Дорога должна была улучшиться, но начал накрапывать дождь, и поверхность плодородной земли сделалась скользкой. Один из верблюдов упал. Всадник вмиг поднял его и рысью двинулся вперед. Затем упал один из людей бени-сахр. Он также остался невредимым и поспешно взобрался опять в седло. Затем остановился верблюд под одним из служителей Али. Али засвистал, чтобы тот двинулся с места, и когда парень забормотал извинения, он свирепо полоснул его палкой по голове. Испуганный верблюд кинулся вперед, а Али преследовал раба градом ударов. Мой слуга Мустафа, неопытный ездок, падал дважды. Авад каждый раз хватал его недоуздок и помогал ему сесть в седло, прежде чем мы настигали его.
Дождь прекратился, и мы поехали быстрее. Теперь мы двигались по склону. Внезапно Мифлех поднялся в седле и хлыстом стегнул в воздухе над головой. Раздавшийся резкий металлический звон показал, что мы находимся под телеграфной линией в Мезериб. Серый горизонт перед нами стал более далеким. До нашего слуха донеслись слабые вздохи, словно ветер гулял между далекими деревьями, но они все продолжались и постепенно становились все горячее. То, должно быть, раздавался гул большого водопада возле Тель эль-Шехаба. Мы уверенно двинулись вперед.
Несколько минут спустя Мифлех натянул поводья, и верблюд беззвучно опустился на колени. Мифлех соскочил с него. Мы остановились возле. Перед нами во мраке с грохотом несся речной поток. То был край ущелья Ярмука, а мост лежал как раз под нами направо.
Мы помогли спешиться индусам с их тяжело нагруженных верблюдов, чтобы ни один звук не выдал нас. Затем на липкой траве мы сделали перекличку.
Луна еще не взошла над горою Хермон, но мрак уже наполовину рассеялся перед приближающейся зарей. По багровому небу неслись грязные клочья изодранных облаков.
Я распределил взрывчатое вещество между пятнадцатью людьми, и мы двинулись. Люди бени-сахр под начальством Адуба исчезли во мраке, спускаясь по склонам перед нами и разведывая дорогу. Ливень сделал предательскими отвесные склоны горы, и лишь цепляясь за почву босыми ногами, мы смогли нащупать место, куда их ставить. Двое или трое людей грузно упали.
Чуть дальше в черной бездне под нашими ногами мы увидали нечто еще более черное, а на другом конце его точку мерцающего света. То был мост со сторожевой палаткой на противоположном берегу.
Все вокруг казалось мирным, исключая реку. Все казалось недвижимым, исключая пляшущий огонь у палатки.
Крадучись мы нашли старую дорогу, проложенную к ближнему быку моста. Мы гуськом поползли по ней. Наши темные плащи и запачканная одежда совершенно сливались с известняками.
Мы добрались до рельс как раз там, где они сворачивали на мост. Тут все остановились, а мы с Фахадом поползли дальше.
Достигнув незащищенной части моста, мы двинулись дальше, прячась в тени рельс, пока почти могли прикоснуться к серому скелету подвешенных брусьев. Мы заметили единственного часового, прислонившегося к соседнему быку в шестидесяти ярдах расстояния через пучину, который затем начал медленно расхаживать взад и вперед возле своего костра.
Я прокрался обратно, чтобы привести людей с гремучим студнем. Но не успел я добраться до них, как раздался громкий стук от упавшей винтовки, которая с шумом скатилась вниз. Часовой всполошился и уставился в ту сторону, откуда раздавался шум. Он увидал высоко наверху, в полосе света от медленно всходящей над ущельем луны пулеметчиков, карабкавшихся вниз на новую позицию. Он громко окликнул их, затем вскинул винтовку и выстрелил.
Мгновенно все пришло в смятение. Невидимые люди бени-сахр, притаившиеся вдоль узкой тропы, начали стрелять на авось в ответ. Турецкие часовые бросились в окопы и открыли быстрый огонь по вспышкам наших выстрелов. Индусы, захваченные при передвижении, не могли привести свои пулеметы в действие и изрешетить палатку, прежде чем она опустеет. Перестрелка сделалась всеобщей. Залпы турецких винтовок, отдаваясь эхом в узком ущелье, удваивались от стука пуль, расплющивавшихся о скалы позади нас. Люди сирхан, несшие гремучий студень, знали, что если в него попадет пуля, он взорвется. Поэтому, когда пули застучали вокруг них, они сбросили мешки, покатившиеся вниз, и убежали. Мы стояли незамеченными на затемненном быке, но с пустыми руками. Али спрыгнул ко мне и Фахаду и сказал, что взрывчатое вещество сейчас валяется где-нибудь в глубине оврага.
Мысль извлечь его оттуда казалась безнадежной, и мы со всех ног взбежали вверх по горной тропе, благополучно пробравшись через огонь турок. Не переводя дыхания, мы добрались до вершины. Там мы нашли расстроенного Вуда с индусами и сказали им, что все кончено. Мы поспешили обратно к оставленным верблюдам. Люди сирхан уже карабкались на них. Мы последовали их примеру и с возможной быстротой пустились прочь рысью. Турки все еще не прекращали трескотни в долине. Все деревни проснулись, и по всей равнине начали блистать огни.
Мы обогнали толпу крестьян, возвращавшихся из Деръа. Сирханцы ограбили их догола. Жертвы бросились бежать при лунном свете, испуская пронзительные вопли о помощи. Их услыхали в Ремте. Отчаянные крики всполошили все окрестности. На многие мили обитатели поселений с оружием взобрались на крыши и стреляли по нас залпами.
Мы покинули преступных людей сирхан, которым мешала их добыча, и помчались дальше в угрюмом молчании, держась вместе и стараясь сохранить порядок. Мои обученные люди показывали чудеса, помогая упавшим или пересаживая к себе тех, чьи верблюды уже не могли скакать галопом. Почва все еще была глинистая, а комья пашен еще труднее преодолимы, чем прежде. Но позади нас бушевала тревога, пришпорившая нас и наших верблюдов, гнавшая нас искать приюта в горах.
Наконец, мы въехали в горы. Дорога улучшилась. Мы все еще гнали наших обессиленных верблюдов, ибо рассвет был близок. Постепенно шум за нами затих. Последние из отставших присоединились к нам.
Когда мы спускались к железной дороге, наступил день. Вуд, Али и старшины развлекались, срезая во многих местах телеграфные провода.
Прошлой ночью мы пересекали железнодорожное полотно, чтобы взорвать мост у Тель эль-Шехаба и тем самым отрезать Палестину от Дамаска; в действительности же после всех наших мук и риска мы перерезали лишь телеграфные провода на Медину. Орудия Алленби, все еще потрясавшие воздух, были свидетелями нашей горькой неудачи. Серый рассвет предвещал серый моросящий дождь. Он начал накрапывать с безнадежностью, казалось, насмехаясь над тем, как мы, спотыкаясь, брели к Абу-Саване.
К заходу солнца мы добрались до воды. Оставшиеся здесь люди нашего отряда с любопытством расспрашивали о подробностях наших злоключений.
Мы были дураками, все в равной степени дураками, и наша ярость была бесцельной. Ахмед и Авад опять подрались, юный Мустафа отказался варить рис, Фаррадж и Дауд отколотили его, Али избил двоих из своих слуг, — никто из нас ни о чем не заботился.
Наш разум омрачала неудача, а наши тела изнемогали от напряженного перехода почти в сто миль по скверной дороге при скверных условиях, от восхода до захода солнца, без отдыха и пищи.
Погоня за поездом
Но мы не могли вернуться с пустыми руками.
У нас был еще запасный мешок с тридцатью фунтами гремучего студня, и Али ибн-эль-Хуссейн, который слышал о наших деяниях под Мааном и был таким же арабом, как всякий араб, сказал:
— Взорвем поезд!
Его слова встретили всеобщее сочувствие. Все взглянули на меня. Но я не мог разделять их надежд.
Взрыв поездов является точной наукой, когда он производится обдуманно, достаточными силами, с применением пулеметов. Если же производить его наспех, он может оказаться опасным.
На сей раз помеха заключалась в том, что из артиллеристов в нашем распоряжении были только индусы. Холод и голод обессиливали их.
Если мы морили голодом арабов, в этом не заключалось никакой жестокости. Они не умирали от недельного поста и сражались, как всегда, даже на пустой желудок. Если же дела принимали совсем дурной оборот, оставались еще верблюды, которых можно было убить и съесть. Но индусы, хотя и мусульмане, из принципа отвергали верблюжье мясо.
Я объяснил все эти диетические тонкости. Али немедленно заявил, что для меня было бы достаточно взорвать поезд, предоставив ему и арабам сделать все нужное, чтобы расправиться с ними без поддержки пулемета. Так как тут, где нас менее всего ждали, нам легко мог попасться продовольственный поезд, охраняемый лишь железнодорожной гражданской охраной, либо небольшим конвоем из резервистов, то я согласился рискнуть.
На заре мы, оставшиеся, числом около шестидесяти, повернули обратно к железной дороге. Я повел их к Минифиру, извилистая вершина которого являлась превосходным наблюдательным пунктом, отличным пастбищем для верблюдов и в то же время прекрасным путем для отступления.
С наступлением сумерек мы спустились вниз, чтобы подложить мину. Подземный сток для воды на сто семьдесят втором километре казался наиболее пригодным для нее местом. Пока мы стояли там, раздался гул, — в спустившемся мраке и тумане внезапно из-за северного поворота показался поезд в каких-нибудь двухстах ярдах от нас. Мы бросились под длинную арку. Поезд прогрохотал над нашими головами. Когда путь вновь очистился, мы приступили к зарыванию снаряда. Дул пронзительный холодный ветер. Он относил потоки дождя в долину.
Мы заложили взрывчатое вещество у вершины арки, глубже, чем обыкновенно, чтобы патрули, проходя над ним, не почувствовали под ногами его студенистую мягкость. Благодаря глине, работа отняла времени больше, чем обычно, и прежде, чем мы закончили, почти рассвело.
Угрюмый и промокший, я поджидал под сквозной аркой наступления дня. Я обошел всю изрытую площадь и потратил полчаса, чтобы сгладить все следы, забросав их листьями и сухой травой.
Опять послышался гул. Какой-то поезд шел с севера. Взрыватель находился у долговязого раба Фейсала — Хамуда, но прежде чем тот добрался до меня, поезд с небольшим составом закрытых товарных вагонов промчался мимо. Ливень и туманное утро скрыли их от глаз нашего часового. Когда он заметил их, было уже слишком поздно.
Эта вторая неудача усугубила нашу печаль. Али начал заявлять, что из нашей поездки не выйдет никакого толка. Чтобы рассеять впечатление от его слов, я объявил, что необходимо выслать караульные посты, — один к развалинам на север, второй к каменной вехе на южной вершине.
Остальные, не имея завтрака, должны были притвориться, что они не голодны. Все они охотно это проделали, и в течение некоторого времени мы весело сидели под дождем, позади бруствера из наших верблюдов, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Когда дождь переставал, что часто случалось, нас пронизывал холодный, стонущий ветер. Вскоре наши промокшие рубашки сделались липкими. Нам нечего было есть, нечего делать и негде присесть, кроме мокрых утесов, мокрой травы и глины.
Однако эта настойчиво скверная погода беспрестанно напоминала мне, что она задерживает наступление Алленби на Иерусалим и лишает его возможной победы.
Ожидание тягостно даже в самых лучших обстоятельствах. В тот день оно было нестерпимо. Наконец, около полудня, когда на минуту совершенно прояснилось, караульные с южной вершины начали дико размахивать своими плащами в знак того, что идет поезд. В одно мгновение мы заняли наши позиции.
Я не слышал шума приближающегося поезда. Мне донесли, что он идет очень медленно и имеет состав огромной длины. Чем длиннее он был, тем богаче была бы наша добыча. Наши аппетиты разгорелись. Затем пошел слух, что поезд остановился и опять двинулся вперед.
Наконец, около часа я услыхал тяжелое дыхание поезда. Паровоз, очевидно, был с какой-то порчей (все паровозы с дровяным отоплением никуда не годились). Я притаился за своим кустом, пока поезд медленно тащился на виду, мимо южного поворота железной дороги и вдоль насыпи, над моей головой, к водостоку. Первые десять вагонов были площадками, переполненными солдатами.
Однако выбирать было поздно. Поэтому, когда паровоз очутился прямо надо мной, я нажал ручку взрывателя. Взрыва не последовало. Я четыре раза повернул ее. Опять не последовало никакого взрыва. Мне стало ясно, что взрыватель испортился. Я стоял на коленях на неприкрытой насыпи, а в пятидесяти ярдах мимо медленно тащился турецкий поезд, полный солдат. Куст, ранее казавшийся мне вышиною в фут, съежился и стал меньше фигового листка, и мне начало казаться, что я являюсь самым заметным предметом на фоне ландшафта.
За мной на двести ярдов простиралась долина по направлению к прикрытию, где ждали мои арабы, удивляясь, что я не даю о себе знать. Но я не мог броситься, так как турки, заметив меня, соскочили бы с поезда и прикончили бы нас.
Итак, я неподвижно сидел, пока мимо не протащились восемнадцать открытых товарных вагонов, три закрытых и три классных офицерских. Паровоз пыхтел все медленнее и медленнее, и каждую минуту я думал, что он остановится. Наконец, площадка тормозного вагона медленно скрылась из вида на севере. Когда поезд прошел, я вскочил на ноги, схватил злополучный взрыватель и, как кролик, умчался на гору в безопасное место.
Мифлех чуть не плакал, думая, что я намеренно пропустил поезд невредимым. Когда люди сирхан узнали истинную причину, они сказали в один голос:
— Нам во всем сопутствует неудача.
С исторической точки зрения они были правы, но так как они придавали своим словам пророческий смысл, я саркастически припомнил их отвагу на мосту неделю тому назад.
Немедленно поднялся оглушительный гам. Люди племени сирхан яростно нападали на меня, а бени-сахр защищали.
Когда мы примирились, прежнее уныние было наполовину позабыто. Подоспевший Али благородно поддерживал меня, хотя несчастный парень посинел от холода и дрожал в приступе лихорадки. Он возвестил, что их предок, великий пророк, наделил ишанов способностью «ясновидения», и, благодаря ей, он знает, что счастье улыбнется нам. Этим он утешил арабов.
Мы вернулись к бодрствованию возле взрывателя, но больше ничего не случилось. Вечер спустился под общий ропот. Поезда все не было.
Было слишком сыро, чтобы разжечь костер и сварить что-нибудь. Единственно возможной пищей являлись верблюды. Сырое же мясо не соблазняло никого. Таким образом, наши животные пережили этот день.
Али лег на живот. Такое положение уменьшало боль от голода, и он пытался переспать свою лихорадку. Хазен, слуга Али, прикрыл его своим плащом. Я спустился с горы, чтобы привести взрыватель в порядок, а затем наедине провести ночь возле поющих телеграфных проводов.
От мучительного холода я не мог заснуть. В течение всей ночи мимо не проехал ни единый поезд. Сырой рассвет казался даже безобразнее, чем обычно.
Когда железную дорогу осматривал утренний патруль, я вскарабкался наверх к главному отряду. День немного прояснился. Али проснулся значительно освеженный, и его новое настроение ободрило нас. Один из рабов — Гамуд — принес несколько ветвей, которые он всю ночь держал пол одеждой у своего тела. Они были почти сухими. Мы отрезали немного гремучего студня и при помощи его жаркого пламени развели костер. Люди сахр поспешно убили чесоточного верблюда, наилучше сохранившегося из наших верховых животных, и изрубили его на куски лопатами для рытья окопов.
Как раз в эту минуту караульный с севера крикнул о появлении поезда. Мы бросили костер и, не переводя дыхания, взапуски пробежали шестьсот ярдов по склону горы к нашей старой позиции.
Из-за поворота с пронзительным свистом показался поезд с великолепным составом из двух паровозов и двенадцати пассажирских вагонов, несущийся с огромной скоростью.
Я привел в действие взрыватель под первым паровозом, Взрыв получился ужасный. Почва черным дождем обдала мне лицо, и я беспомощно завертелся волчком. Придя в себя, я заковылял к верхней долине, откуда уже арабы часто стреляли в переполненные вагоны.
Враг открыл ответную стрельбу, и я очутился между двумя огнями. Али заметил, как я упал, и, решив, что я тяжело ранен, выбежал приблизительно с двадцатью людьми из его слуг и бени-сахр для оказания мне помощи.
Весь состав поезда сошел с рельс. Наклонившиеся вагоны взгромоздились друг на друга, образуя зигзаги вдоль пути. Один из них был салон-вагон, разукрашенный флагами. В нем находился Мехмед Джемаль-паша,[52] командующий восьмым корпусом турецкой армии, спешивший в Иерусалим, чтобы защитить его от Алленби.
Мы видели, что у нас были незначительные шансы использовать крушение. В поезде находилось около четырехсот человек. Уцелевшие быстро оправились от потрясения и засели под прикрытием, осыпая нас градом пуль.
Мифлех и Адуб присоединились к нам на горе и осведомились о Фахаде. Один из племени сирхан рассказал, как тот, когда я лежал оглушенный возле взрывателя, руководил первым натиском и был убит. Они показали его пояс и винтовку как доказательство, что он умер и что они пытались спасти его.
Адуб, не произнося ни слова, выпрыгнул из оврага и ринулся вниз. Мы затаили дыхание, следя за ним, пока чуть не задохнулись. Но турки, казалось, не заметили его. Спустя минуту он уже тащил тело Фахада по левой насыпи.
Мифлех побежал за своей кобылой, сел на нее верхом и, пришпорив, пустил ее вниз. Вместе с Адубом они подняли недвижное тело на седло и вернулись обратно. Пуля пронзила лицо Фахада, выбив четыре зуба и поранив язык. Он упал без сознания, но пришел в себя как раз перед тем, как Адуб подъехал к нему, и, ослепленный кровью, пытался уползти. Уцепившись за седло, он смог сохранять на нем равновесие. Его пересадили на первого попавшегося верблюда и немедленно увезли прочь.
Турки, видя нас такими смирными, перешли в наступление вверх по склону горы. Мы подпустили их до половины дороги и осыпали их градом залпов, убив около двадцати человек и прогнав остальных. Земля вокруг поезда была усеяна трупами.
Но турки сражались на глазах своего корпусного командира и неустрашимо начали окружать горные вершины, чтобы напасть на нас с фланга.
Нас осталось уже около сорока человек. Очевидно, мы не могли бы устоять против натиска врага. И вот отдельными кучками мы взбежали на вершину горы. Там все вскочили на первых попавшихся верблюдов и в течение часа мчались из всех сил на восток в пустыню.
Выбравшись на безопасное место, мы рассортировали наших животных. Один из арабов, несмотря на общее смятение, привез с собой, привязав к седельной подпруге, огромную заднюю ногу верблюда, убитого как раз перед прибытием поезда. Мы ради нее сделали привал в пяти милях дальше в Вади-Дулейле, возле бесплодного фигового дерева.
Я купил еще одного чесоточного верблюда на мясо, раздал награды, вознаградил родственников убитых и распределил денежные призы за шестьдесят или семьдесят захваченных нами винтовок. Добыча была невелика, но и ею нельзя было пренебрегать. Некоторые люди сирхан, которые приступили к военным действиям без винтовок и сражались голыми руками, сейчас имели каждый по две.
На следующий день мы вступили в Азрак, встреченные горячими приветствиями и похваляясь — да простит нас Аллах! — что мы оказались победителями.
Эмир друзов из Салхада прибыл туда как раз перед нами и рассказал нам, чем кончилась история с алжирским эмиром Абд эль-Кадером.
Улизнув от нас, последний прямо поехал к деревне друзов Салхад и, выкинув арабский флаг, вступил в нее с триумфом, окруженный своими семью верховыми слугами, ехавшими легким галопом и стрелявшими в воздух. Все в деревне изумились, а турецкий губернатор во всеуслышание объявил, что подобная суматоха наносит ему оскорбление. Его ввели к Абд эль-Кадеру, который, важно сидя на диване, произнес напыщенную речь, объявив, что ишан при его посредстве принимает правление над Джебель-Друзом и что все существующие должностные лица утверждаются в назначениях.
На следующее утро он двинулся во вторичный объезд области. Обиженный губернатор опять выразил недовольство. Эмир Абд эль-Кадер вытащил свой оправленный в золото меккский меч и поклялся, что он им отсечет голову Джемаль-паше. Друзы запротестовали, заявляя с клятвами, что подобные вещи не должны произноситься в их доме перед его превосходительством губернатором.
Абд эль-Кадер назвал их сыновьями распутниц, сукиными сынами, рогоносцами и своднями, швыряя им в лицо оскорбления перед всеми. Друзы рассвирепели. Абд эль-Кадер яростно выбежал из дома и вскочил в седле, крикнув, что стоит ему топнуть ногой — и все племена Джебель-Друза встанут на его сторону.
Со своими семью слугами он бросился по дороге к станции Деръа и вступил в нее так же, как и в Салхад. Турки, знавшие его старческое безумие, не тронули его. Они не придали веры даже его рассказу о том, что Али и я этой ночью пытаемся взорвать Ярмукский мост. Однако, когда мы это сделали, турки отнеслись к нему серьезнее и отослали его под охраной в Дамаск, где Джемаль сделал его мишенью для своих острот.
Я возвращаюсь в свет
Погода сделалась ужасной; беспрерывно шел снег и бушевали бури.
Было ясно, что в Азраке в течение ближайших месяцев нам нечем заниматься, кроме проповедей и пропаганды. Когда это вызывалось необходимостью, я принимал посильное участие в вербовке прозелитов. Но я все время помнил о том, что мое положение чужестранца не вяжется с проповедью национальной свободы.
Мне приходилось, кроме того, убеждать самого себя, что британское правительство полностью выполнит свои обещания. В особенности мне приходилось трудно, когда я уставал или заболевал.
Я уже успел привыкнуть к тупым бедуинам, которые навязчиво приветствовали меня, называя «Иа Оуренсом» и без всяких церемоний выкладывали свои нужды. И сейчас льстивые горожане Азрака бесили меня, пресмыкаясь предо мной, умоляя, чтобы я их принял, и величая меня князем, беем, владыкой и освободителем.
Итак, я с яростью покинул их, решив поехать на юг и поглядеть, нельзя ли что-нибудь предпринять во время холодов возле Мертвого моря, которое неприятель охранял как барьер, отделяющий нас от Палестины.
Оставшиеся у меня деньги я отдал ишану Али и поручил его заботам индусов. Мы дружески распростились друг с другом. Али отдал мне половину своего гардероба: рубашки, головные повязки, туники, пояса. Я дал ему взамен половину моего, и мы поцеловались, как библейские Давид с Ионафаном. Затем с одним только Рахейлом я устремился на юг, на своих лучших двух верблюдах.
Мы покинули Азрак вечером. У Вади-Батама нас окутала густая ночь. Дорога ухудшилась. Вся равнина была сырая, и наши бедные верблюды скользили и падали один за другим, и каждый раз мы падали с ними. К полуночи мы пересекли Гадаф. Трясина казалась слишком ужасной для дальнейшей езды по ней.
Мы заснули там, где остановились, в тине. На рассвете мы встали, перепачканные ею, и весело улыбнулись друг другу. Дул пронзительный ветер, и почва начала подсыхать. Мы быстро приближались к белым вершинам гор Тлайтахвата.
Поздно ночью, когда догорали последние костры у палаток, мы миновали Баир. Проехав дальше, мы увидали, что звезды отражаются, как в зеркале, в глубине долины, и смогли напоить наших верблюдов из лужи, оставшейся от вечернего дождя.
Мы дали им передохнуть с полчаса. Ночные переходы были тягостны как для людей, так и для животных. Днем верблюды видели неровности пути и обходили их. Всадник же мог раскачивать свое тело в такт с их шагом. Но ночью все окутывал мрак, и передвижение сопровождалось мучительными толчками.
У меня был тяжелый приступ лихорадки, зливший меня. Я не обращал внимания на просьбы Рахейла об отдыхе. В течение долгих месяцев юноша приводил всех нас в бешенство, хвастаясь своей неистощимой силой и насмехаясь над нашей слабостью. На этот раз я решил без всякого снисхождения вымотать из него все силы. К рассвету он плакал от жалости к самому себе, горько, но беззвучно, чтобы я не услышал.
Рассвет в Джехере наступал незаметно, проникая через туман.
Перед полуднем мы достигли лагеря Ауды и остановились, чтобы обменяться приветствиями и съесть несколько фиников из Джофа. Ауда не мог снабдить нас свежими верблюдами.
Мы опять сели в седло, чтобы рано ночью пересечь железную дорогу. Рахейл сейчас уже не протестовал.
Миновала ночь. Когда чуть начало рассветать, я уловил впереди вход в ущелье Рамм. Обессилев, я забыл обо всем и заснул в седле.
Рахейл разбудил меня толчком, крикнув, что мы потеряли направление и движемся к турецким линиям у Абу эль-Лиссана. Он был прав, и нам пришлось проделать обратно длинный конец, чтобы невредимо добраться до Батры.
Этот случай разрядил напряженность меж нами, и мы, болтая, двинулись дальше к Гаа. Там под тамариском мы проспали самый жаркий час дня. Благодаря нашей медлительности при переходе через Батру мы утратили возможность добраться до Акабы до истечения трех дней с момента выезда из Азрака.
Акабы мы достигли в полночь и проспали вне лагеря до завтрака, когда я отправился к Джойсу.
Вскоре пришел настоятельный приказ, чтобы я немедленно воздушным путем направился в Палестину. Капитан Кроил полетел со мной в Суэц. Оттуда я отправился в главную квартиру Алленби за Газой. Его победы[53] были так велики, что я мог ограничиться кратким сообщением о постигшем нас неуспехе при попытке взорвать Ярмукский мост, скрыв злосчастные подробности неудачи.
Когда я еще находился у него, пришло сообщение от генерала Четуода о падении Иерусалима.[54] Алленби готовился вступить в него с официальным церемониалом, который изобрело католическое воображение сэра Марка Сайкса.
Алленби был достаточно снисходителен, и хотя я и не сделал ничего, что способствовало победе, он разрешил генералу Клейтону взять меня с собой на день в качестве штабного офицера.
Офицеры его личного штаба перерядили меня в свое запасное платье, и я стал похожим на майора британской армии. В этом мундире я и участвовал в церемонии возле Яффских ворот, которая явилась для меня самым торжественным моментом войны.
Стыдясь триумфа — который являлся не столько триумфом, сколько данью со стороны Алленби господствующему духу в стране — мы вернулись в главную квартиру.
Настал подходящий момент спросить у Алленби, что он собирается делать. Он заявил, что останется в бездействии до половины февраля, когда он двинется к Иерихону. По Мертвому морю множество шаланд перевозили неприятелю провиант, и Алленби попросил меня наметить ближайшей задачей борьбу с этими перевозками, если бы нам удалось овладеть Тафила.[55]
Я, надеясь улучшить его план, возразил, что если бы турок беспрестанно тревожили, мы могли бы присоединиться к нему у северного края Мертвого моря. Если бы он мог обеспечить Фейсалу в Иерихоне ежедневное получение пятидесяти тонн припасов — провианта и боевого снаряжения, — то мы покинули бы Акабу и перенесли нашу главную квартиру в Иорданскую долину.
Мысль понравилась Алленби и генералу Доунею, и мы пришли к соглашению. Арабы должны были как можно быстрее добраться до Мертвого моря, до половины февраля отрезать подвоз провианта к Иерихону и прибыть к Иордану до истечении марта.
По нашем возвращении в Акабу мои личные дела поглотили остающиеся свободные дни. Так как шедшие обо мне слухи постепенно все увеличивали мое значение, то я, главным образом, заботился о сформировании охраны для своей защиты. При нашей первой поездке по стране из Рабега и Янбу, турки только интересовались мной, но затем они серьезно встревожились, считая англичан направляющей и движущей силой арабского восстания, почти так же, как и мы утешали себя, приписывая силу турок германскому влиянию.
Однако турки повторяли это свое утверждение достаточно часто, чтобы уверовать в него, и начали предлагать награду в сто фунтов за каждого британского офицера, живого или мертвого. С течением времени они не только увеличили общую цифру, но и сделали специальную надбавку для меня. После захвата Акабы моя цена сделалась изрядной. Когда же мы взорвали поезд Джемаля-паши, турки поместили меня и Али во главе списка, оценив каждого из нас: живого — в двадцать тысяч фунтов, а мертвого — в десять тысяч.
Разумеется, предложение являлось пустой декларацией, и было сомнительно, чтобы они заплатили деньги. Все же были необходимы некоторые предосторожности. С этой целью я увеличил свой отряд, включив в него таких людей, свирепость и беззаконность которых мешали им устроиться где-либо в ином месте.
Как-то днем, когда я спокойно читал в палатке Маршалла в Акабе (когда я прибывал в лагерь, я всегда останавливался у майора Маршалла), туда вошел, беззвучно ступая по песку, какой-то аджейль, небольшого роста, худой и мрачный, но на редкость пышно одетый. На его плече висела богатейшая седельная сумка, какой я никогда не видывал.
Почтительно поздоровавшись со мной, юноша бросил седельную сумку на мой ковер, сказав: «Твоя», — и так же внезапно исчез, как и появился. На следующий день он вернулся с таким же великолепным седлом для верблюда.
На третий день он пришел с пустыми руками в бедной рубашке и бросился ниц передо мной, говоря, что хотел бы вступить в мой отряд. Без его шелковых одежд у него был странный вид. Его безволосое лицо, изрытое оспой, могло принадлежать человеку любого возраста. Меж тем у него было гибкое тело юноши и какая-то юношеская беспечность.
Его длинные черные волосы были тщательно заплетены в три блестящие пряди вдоль каждой щеки. Усталые глаза были полузакрыты. Чувственный, влажный рот был открыт и придавал лицу игривое, почти циничное выражение. Я спросил его имя, он назвался Абдуллой, по прозванию эль-Нахаби, или вор, прозвище, которое, по его словам, он унаследовал от своего почтенного отца. Его приключения не приносили ему большой выгоды. Он родился в Борейде и в молодости много перетерпел от властей за безбожие. Когда он был уже подростком, неудача в доме одной замужней женщины заставила его бежать из своего родного города и поступить на службу к Ибн-Сауду, эмиру Неджда. На этой службе богохульство привело его к плетям и тюрьме. Вследствие этого он бежал в Кувейт, где опять влюбился. По освобождении он перебрался в Хейль и поступил в свиту эмира Ибн-Рашида. К несчастью, здесь он до такой степени возненавидел своего начальника, что публично избил его хлыстом. Тот ответил ему тем же, и, после краткого пребывания в тюрьме, он опять оказался один на свете.
В это время строилась железная дорога в Хиджазе; в поисках счастья он пришел сюда на работу, но тут подрядчик однажды уменьшил ему жалование за то, что он спал днем. Он ответил тем, что уменьшил подрядчика на одну голову. В это дело вмешалось турецкое правительство, и тюрьма в Медине показалась ему очень суровой. Через окно он бежал в Мекку и, благодаря своей испытанной честности и уменью объезжать верблюдов, был назначен доставлять почту из Мекки в Джедду. На этой профессии он остепенился, отказавшись от своих юношеских проделок, перевел в Мекку мать и отца и открыл лавку, где они работали с капиталом, полученным им в виде комиссионных от торговцев и воров.
Это был идеальный слуга, и я немедленно нанял его. У меня на службе он только один раз попробовал одиночное заключение. Это произошло в главном штабе Алленби, когда заведующий политической частью армии сообщил по телефону, что какой-то вооруженный, дикого вида человек, которого нашли сидящим у двери главнокомандующего, был без сопротивления привезен на гауптвахту. Там он заявил, что он один из моих слуг. Вот каким образом Абдулла впервые ознакомился с телефоном.
Он подвергал испытанию желающих поступить ко мне на службу, и, благодаря ему и моему другому командиру, Зааги, вокруг меня образовалась кучка мастеров своего дела. Британцы в Акабе называли их головорезами, но они резали головы только по моему приказу.
Я платил моим людям по шести фунтов в месяц. Столько же обычно платили в армии человеку с верблюдом, но я сам снабжал их животными. Таким образом, получаемые от меня деньги являлись чистым доходом, что делало службу у меня завидной.
Люди гордились тем, что состоят в моей охране. В полчаса они могли приготовиться к шестинедельному походу. Выполняя мою прихоть, они безостановочно шли ночью и днем. Не жаловаться на усталость стало вопросом их чести. Сражались же они, как дьяволы.
Борьба за Тафила
Мы ожидали в Гувейре известия об открытии наших действий против Тафила, группы деревень, господствующих над южным побережьем Мертвого моря.
Мы замышляли напасть на них одновременно с запада, юга и востока, начав с востока атакой на Джурф, ближайшую станцию Хиджазской железной дороги. Руководство этой атакой было поручено ишану Насиру-счастливчику. Он захватил с собой Нури Сайда, начальника штаба Джафара, во главе отряда вооруженных людей, одно орудие и несколько пулеметов. Они выступили из Джефера и через три дня добрались до цели.
Как обычно, Насир руководил набегом умело и осмотрительно.
Джурф являлся сильной станцией из трех каменных строений, окруженных окопами. Позади вокзала находился низкий вал, на котором турки разместили два пулемета и одно горное орудие. За валом лежал высокий, острый горный кряж — последние отроги гор, отделяющих Джефер от Баира.
Этот кряж являлся слабым местом обороны, ибо турки были слишком немногочисленны, чтобы одновременно защищать и его, и холм, и станцию.
Однажды ночью Насир занял всю вершину горы, не вызвав среди турок тревоги, и перерезал железнодорожное полотно ниже и выше станции. Спустя несколько минут, когда совсем рассвело, Нури Сайд подтащил орудие к гребню горного кряжа и тремя удачными выстрелами заставил замолчать турецкое орудие.
Насир пришел в большое возбуждение. Люди бени-сахр взобрались на своих верблюдов с клятвами, что они немедленно бросятся в атаку. Нури считал ее безумием, пока в окопах у турок пулеметы все еще находились в действии. Но его слова не возымели никакого действия на бедуинов. В отчаянии он открыл трескучий огонь из орудия и всех пулеметов, а люди бени-сахр с быстротой молнии обогнули подножие главного кряжа и стремительно взобрались на холм. Когда турки увидали несущуюся на них орду верблюдов, они побросали винтовки и спаслись бегством в вокзал. Лишь два араба были ранены.
Нури побежал вниз с холма. Турецкое орудие не было повреждено. Он повернул его кругом и разрядил, прицелившись в билетную кассу. Толпа людей бени-сахр завыла от восторга при виде разлетевшихся камней и балок. Они опять вскочили на верблюдов и ворвались на станцию, как раз когда враг сдался. Нам досталось в плен почти двести турок, включая семь офицеров.
После грабежа механики взорвали два паровоза, водонапорную башню, насос и разъезды. Они сожгли захваченные товарные вагоны и слегка повредили мост, ибо, как обычно после победы, все были нагружены добычей и слишком разгорячены, чтобы заниматься «безкорыстной» работой.
Погода внезапно вновь ухудшилась. Три дня под ряд падал густой снег. Отряд Насира с трудом вернулся к своим палаткам в Джефере. Эта плоская возвышенность возле Маана лежала от трех до пяти тысяч футов над уровнем моря, доступная всем ветрам с севера и востока. Они дули из Центральной Азии или с Кавказа над огромной пустыней, яростно разбиваясь о низкие горы Эдома. Внизу, в Иудее и Синае, наступила суровая зима.
Вне Беэр-Шевы и Иерусалима англичане зябли, но наши арабы спасались бегством туда в поисках тепла. К несчастью, британское интендантство слишком поздно поняло, что мы воюем в местности, подобной Альпам. Оно не дало палаток даже для четверти наших войск, не дало ни теплой одежды, ни сапог, ни одеял в достаточном количестве. Наши солдаты, если они только не дезертировали и не умирали, существовали в ужасающих условиях.
В соответствии с нашим планом после получения благоприятных вестей из Джурфа, арабы из Петры[56] под начальством ишана Абд эль-Майина должны были немедленно выступить из гор в леса по направлению к Шобеку. Это был чудовищный поход сквозь густой туман. Лед и мороз валили с ног верблюдов и многих из людей, и все же эти выносливые горные жители, привыкшие к своим холодным зимам, настойчиво продвигались вперед.
Турки прослышали о них, когда те, медленно пробиваясь, подошли к ним ближе. Они обратились в бегство по боковой железнодорожной ветке, бросая в панике по дороге свои пожитки и снаряжение.
Однако, особенно отличился Насир, прискакавший в один день из Джефера и после ночного смерча появившийся на рассвете на скалистом краю лощины, в которой скрывался Тафила. Он обратился к неприятелю с призывом сдаться под страхом бомбардировки, что было пустой угрозой, так как Нури Сайд с орудиями уже вернулся в Гувейру.
В деревне находилось лишь сто восемьдесят турок, но их поддерживал земледельческий клан мухайсин, не столько из любви к туркам, сколько из-за того, что шейх Диаб, глава враждебного клана, объявил, что он поддерживает Фейсала. Они беспорядочно выпустили по Насиру тучу пуль.
Люди хавейтат рассеялись вдоль утесов, чтобы открыть ответный огонь. Старого льва Ауду взбесило, что продажные селяне осмелились сопротивляться своим владыкам абу-тайи. Он дернул поводья, пустив галопом свою кобылу вниз по тропе, и поскакал к восточным домам деревни. Там он остановился и, погрозив им рукой, проревел своим поразительным голосом:
— Собаки, разве вы не узнаете Ауду?
Когда те поняли, что перед ними неукротимый сын войны, у них не хватило духу сопротивляться, и час спустя ишан Насир прихлебывал чай со своим гостем, турецким управителем, пытаясь утешить его во внезапной перемене фортуны.
Фейсал передал командование походом на Мертвое море своему молодому сводному брату Зейду. Это было первым назначением Зейда в северном походе, и он пустился в путь, окрыленный надеждой. В качестве советника его сопровождал наш полководец Джафар-паша. Из-за недостатка провианта его пехота, артиллеристы и пулеметчики застряли в Петре, но сам Зейд и Джафар поскакали в Тафила.
Зейд поблагодарил Ауду, расплатился с ним и отослал его обратно в пустыню.
Старшинам клана мухайсин пришлось стать невольными гостями в палатках Фейсала, так как шейх Диаб, их враг, был нашим другом. Благодаря золоту, имевшемуся у Зейда в избытке, материальное положение улучшилось. Мы назначили управителя и подготовляли наши пять деревень для дальнейшей атаки.
Однако наши планы вскоре рухнули. Прежде чем дни были согласованы, нас удивила внезапная попытка турок выбить нас отсюда. Мы не ждали ничего подобного, так как казалось совершенно невозможным, что они надеялись или хотели захватить Тафила. Алленби как раз находился в Иерусалиме, и для турок исход войны мог зависеть от успешной обороны против него Иордана, если только Иерихон не пал, или до тех пор пока он не падет; Тафила являлся никому не известной деревней, не представлявшей никакого интереса. Мы также не ценили обладание им. Для людей, так критически ко всему относящихся, как турки, расточать силы на его обратный захват казалось чистейшим безумием.
Однако Гамид Фахри-паша, командующий 48-й турецкой дивизей и сектором Аммана, думал иначе или имел иные предписания. Он собрал около девятисот человек пехоты, разбив ее на три батальона (в январе 1918 г. турецкий батальон являлся ничтожной силой) с сотней кавалеристов, двумя горными гаубицами и двадцатью семью пулеметами и послал их в Карак.[57] Оттуда он выступил в поход на юг, чтобы застигнуть нас врасплох.
Он нас действительно застиг врасплох. Мы впервые заметили его, когда его кавалерийские разведчики напали на наши пикеты в Вади-Хеса, неприступном ущелье огромной ширины и глубины, отрезывающим Карак от Тафила, Моаб от Эдома.[58] С наступлением сумерек враг оттеснил пикеты и двинулся против нас.
Джафар-паша еще раньше наметил оборонительную позицию на южном краю большой ложбины Тафила, предполагая, если турки атакуют его, отдать им деревню и защищать высоты, которые нависали над нею. Это казалось мне вдвойне ошибочным. Склоны их были голы, и их оборона представляла такие же трудности, как и нападение на них.
Однако этот план восторжествовал, и, таким образом, около полуночи Джафар отдал приказ готовиться к выступлению. Люди, способные носить оружие, отошли к южным склонам горы, в то время как обоз был отослан в безопасное место по более удобной дороге. Это передвижение создало в городе панику. Крестьяне решили, что мы убегаем (я полагаю, что так оно и было) и ринулись спасать свое добро и жизнь.
Стоял свирепый мороз, и земля покрылась ледяной корой. В бушующем мраке суматоха и крики вдоль узких улиц казались ужасными.
Население было в трепете и панике перед возвращением турок и готово было сделать все, что было в его физических силах, чтобы поддержать наше сопротивление неприятелю. Это вполне совпадало с моим страстным желанием задержаться там, где мы находились, и упорно сражаться с неприятелем.
Наконец, я встретил шейха Хамд эль-Арара. Я попросил его поехать к северу от лощины, где, судя по шуму, крестьяне еще сражались с турками, и сказать им, что мы идем на подмогу. Хамд, меланхолический, вежливый и отважный, немедленно ускакал галопом со своими двадцатью родичами — все, что он мог собрать в минуту тревоги.
Их стремительный проезд через улицу усугубил всеобщее смятение. Женщины выбрасывали как попало утварь из дверей и окон, хотя ее никто и не подхватывал. Арабы, проносясь галопом по улицам, пускали в воздух залп за залпом, чтобы воодушевить себя. Как бы в ответ, вспышки неприятельских винтовок сделались видимыми, очерчивая края северных утесов на фоне предрассветного черного неба. Я поднялся на противоположные высоты, чтобы посоветовался с ишаном Зейдом.
Зейд степенно сидел на скале, обшаривая местность биноклем в поисках неприятеля. По мере того, как опасность усиливалась, Зейд становился более равнодушным и невозмутимым. Меня охватила неистовая злоба.
Я был в безумной ярости. Никогда, по законам военной тактики, турки не осмелились бы вернуться в Тафила. Это была просто жадность, поведение, недостойное серьезного противника, безнадежное предприятие, на которое были способны только турки. Как могли они рассчитывать на честную войну, если не давали нам возможности уважать их? Они постоянно оскорбляли наше нравственное чувство своими дикими выходками, и никогда наш солдат не мог уважать их смелость, а наши офицеры их ум. Притом, утро было ледяное, я не спал всю ночь, и во мне было достаточно тевтонской крови, чтобы решить, что они заплатят мне за то, что они заставили меня изменить и свое намерение и свои планы.
Прежде всего я предложил, чтобы Абдулла эль-Далейми отправился вперед с двумя орудиями Гочкиса для разведки сил и расположения врага.
Мы увидели, как Абдулла взбирается на вторую насыпь. Перестрелка на время сделалась сильнее, а затем затихла в отдалении. Его прибытие воодушевило крестьян и арабов, напавших на турецкую кавалерию и прогнавших ее за первый кряж через равнину, шириной в две мили, и за следующий кряж, лежавший позади нее. За последними находились главные силы турок. Они приступили к действиям и сразу задержали Абдуллу. Мы слышали отдаленные раскаты пулеметного огня, перемежающиеся отрывочным артиллерийским обстрелом. Наш слух рисовал нам картину случившегося, как если бы мы ее видели, а пришедшие вести были великолепны.
Я хотел, чтобы Зейд немедленно двинулся вперед, но он настаивал, что мы прежде должны дождаться точных сообщений от поехавшего в авангард Абдуллы.
Чтобы предрешить его план, я сам отправился вперед.
Очень скоро я достиг вершины горного кряжа, с которого открывался вид на плоскогорье.
Этот последний прямой хребет, казалось, очень подходил для резервной или крайней линии обороны Тафиле.
В ту же минуту я заметил несколько людей аджейль, из охраны Зейда, осторожно прятавшихся в какой-то впадине. Их было около двадцати человек. Чтобы заставить их выбраться оттуда, потребовалось очень сильные выражения, но, наконец, я разместил их вдоль хребта в качестве резерва, приказав группировать там всех вновь приходящих, а в особенности моих людей с орудием.
Двинувшись на север к месту сражения, я столкнулся с Абдуллой, спешившим с вестями к Зейду. Он истощил свои боевые припасы, потерял пятерых людей от огня снарядов и одну автоматическую пушку. Он полагал, что Зейд со всеми своими людьми должен вступить в битву. Мне нечего было добавить к его сообщению.
Он дал мне время изучить поле предстоящей битвы. Крошечная равнина имела в поперечнике около двух миль. Ее ограничивали низкие зеленые кряжи в форме грубого треугольника. Через нее шел путь к Караку, спускающийся в долину Хесы.
Снаряды падали на равнину, когда я пересекал ее. Один из них упал возле меня, и я узнал его калибр по раскаленному колпачку. Сначала снаряды давали перелет и разрывались далеко позади меня, но постепенно враг менял прицел, и, когда я подходил к кряжу, его осыпала в изобилии шрапнель. Очевидно, турки каким-то образом вели наблюдение, и, оглянувшись, я увидел, что они карабкаются вдоль восточной стороны за расщелиной дороги на Карак. Они скоро окружили бы нас с фланга на западном кряже.
«Мы» — это было около шестидесяти человек, сгрудившихся за кряжем двумя группами — одна у основания, другая — у вершины. Нижнюю составляли пешие крестьяне, истерзанные, несчастные. Они заявили мне, что их боевые припасы истощились и что все кончено. Я уверил их, что все лишь начинается, и, указав им на мой многочисленный резерв, велел им спешно вернуться и наполнить патронные сумки. Мы прикрыли бы их отступление, продержавшись тут еще несколько минут.
Они убежали обрадованные, а я направился к верхней группе. Ею командовал юный шейх Метааб.
Мое присутствие здесь в то время, как турки пробирались вперед, было крайне рискованным, и Метааб рассердился, когда я заявил, что хотел лишь изучить местность. Он считал мой поступок очень легкомысленным и провизжал что-то о христианах, слоняющихся невооруженными по полю битвы. Я колко возразил ему ссылкой на Клаузевица о том, что арьергард выполняет свое предназначение лишь своим присутствием, а не действиями, но он только рассмеялся и, может быть, справедливо, так как низкий кремнистый вал, позади которого мы укрывались, трещал под выстрелами. Турки, зная, что мы тут, обратили против него двадцать пулеметов. Вал был высотой в четыре фута, а длиной в пятьдесят футов, с обнаженными кремнистыми краями, от которых с оглушительным стуком отскакивали пули. В воздухе жужжали и свистели отлетающие рикошетом обломки. Выглянуть наружу казалось равносильным смерти. Очевидно, мы должны были поскорее убраться. Так как я не имел лошади, то я отправился первым, получив обещание от Метааба, что он еще продержится тут десять минут.
От бега я согрелся и считал свои шаги, чтобы помочь взять верный прицел против турок, когда они вышибут нас отсюда. Для них тут была единственная позиция, а с юга она была слабо защищена.
Теряя этот кряж мы, возможно, выигрывали битву. Всадники продержались почти все десять минут, а затем без всяких потерь ускакали галопом. Метааб подсадил меня на свое стремя, и мы, не переводя дыхания, добрались до людей аджейль. Как раз наступил полдень, и мы имели досуг, чтобы спокойно обдумать наше положение.
Новый кряж имел около сорока футов в вышину и удобные для обороны очертания. Нас было восемьдесят человек, и все время прибывали новые люди. Мои люди со своим орудием находились на месте. Затем прибыли еще два орудия, а за ними вторая сотня людей аджейль. Сражение превращалось в настоящий пикник, и нам удалось успокоить наших людей. Мы расставили автоматические орудия у ребра холма, приказав изредка, но не слишком часто, стрелять из них, чтоб понемногу тревожить турок.
Наступило затишье, Я прилег в защищенном от ветра месте, куда слегка проникало солнце, и блаженно поспал часок, в то время как турки заняли наш прежний кряж, рассеявшись по нему, как стая гусей и с гусиной же мудростью. Наши люди оставили их в покое.
В середине дня прибыл Зейд с Мастуром, Расимом и Абдуллой. Они привели наш главный отряд, состоявший из двадцати пехотинцев, посаженных на мулов, тридцати всадников, двухсот крестьян, пяти автоматических ружей, четырех пулеметов и горного орудия из египетской армии, уже участвовавшего в сражениях под Мединой, Петрой и Джурфом. Это было великолепно. Я проснулся, чтобы приветствовать их.
Турки заметили, что мы собрались толпой, и открыли по нас пулеметный и шрапнельный огонь. Но они не смогли взять верного прицела и лишь нащупывали нас. Мы напомнили друг другу, что передвижение являлось законом стратегии, и начали двигаться. Расим со всеми нашими восьмьюдесятью всадниками на различных животных выступил, чтобы обойти вокруг восточный кряж и окружить левое крыло неприятеля. Он взял с собой пять пулеметов.
Мы устроили парад, чтоб враг не заметил их выступления. Неприятель вытащил наверх бесконечный ряд пулеметов и расставил их с равными промежутками вдоль кряжа, словно напоказ в музее. Их тактика казалась безумной. Каменистый кряж был лишен всякого прикрытия, достаточного даже для ящерицы. Мы также знали точно расстояние для прицела и заботливо наставили на него наши виккерсовские орудия, благословляя их длинные мушки старого образца. Горное орудие мы приготовили к внезапному шрапнельному огню по неприятелю, когда Расим приступит к действиям.
Пока мы ждали, возвестили о новом подкреплении в сто человек из Аймы. Накануне они повздорили с Зейдом из-за платы за участие в войне, но перед лицом опасности великодушно решили предать забвению старые счеты. Их прибытие привело нас к решению броситься в атаку на врага одновременно с трех сторон. Итак, мы послали новоприбывших из Аймы людей с тремя пулеметами, чтобы они обошли правый фланг, либо западное крыло. Затем мы открыли с нашей центральной позиции огонь по туркам.
Неприятель почувствовал, что положение его перестает быть благоприятным. Старый генерал Гамид-Фахри собрал свой штаб и велел всем взять по винтовке.
— Я уже сорок лет солдат, но никогда не видел, чтобы мятежники так сражались. Примкните к рядам…
Но уже было слишком поздно.
Расим ускорил нападение со своими пятью пулемётами. Невидимые туркам, они смяли их левый фланг.
Люди из Аймы, которые знали каждую травинку местности, являвшейся их собственными пастбищами, подкрались невредимо на триста ярдов от турецких пулеметов. Неприятель, сдерживаемый угрозой лобовой атаки, впервые заметил людей из Аймы, когда они внезапным залпом смели пулеметные команды и привели в смятение правый фланг.
Увидев это, мы двинули вперед людей на верблюдах. Мохаммед эль-Газиб, управляющий хозяйством Зейда, предводительствовал ими в своих сверкающих, развеваемых ветром одеждах, держа над головой малиновое знамя племени аджейль. Все, кто остался, были с нами, наши слуги, артиллеристы и пулеметчики, широкой лавиной ринулись за ними.
Зейд хлопал подле меня в ладоши от радости при виде стройного порядка, с каким развертывается наш план в красных лучах заходившего солнца.
С одной стороны кавалерия Расима сметала разбитый левый фланг в овраг позади кряжа. С другой — люди из Аймы безжалостно добивали беглецов. Центр неприятеля в беспорядке катился назад через расщелину, преследуемый нашими людьми — пешими, конными и на верблюдах.
Я вспомнил о глубинах ущелья Хесы, отделяющего путь на Карак, о его неровных, бездонных тропах, стремнинах и оврагах, перерезающих путь. Предстояла кровопролитная резня, и я должен был почувствовать жалость к врагу. Но после всех треволнений битвы мой мозг слишком устал, чтобы я еще спустился вниз в это ужасное место и потерял ночь, спасая неприятелей.
Своим решением вступить в сражение я погубил двадцать или тридцать из наших шестисот людей, а раненых, возможно, было втрое больше. Это составляло одну шестую нашего отряда, погибшую ради сомнительного триумфа, ибо уничтожение тысячи жалких турок не влияло на исход войны.
В итоге мы захватили у неприятеля две горных гаубицы (системы Шкода, которые нам очень пригодились), двадцать семь пулеметов, двести лошадей и мулов, двести пятьдесят пленных. Говорили, что лишь пятьдесят истощенных беглецов вернулись к железной дороге. Арабы на пути турок восставали против них и подло убивали их, когда те убегали. Наши же люди быстро отказались от преследования, так как были утомлены, измучены и голодны.
Когда мы вернулись обратно, начал падать снег, и лишь очень поздно нам удалось ценой последних усилий собрать наших раненых. Турецкие же раненые остались на поле сражения и на следующий день все были мертвы.
Зима запирает нас
День за днем снег падал все гуще. Погода задерживала нас, и мы утратили всякую надежду, пока проходили однообразные дни. Мы должны были бы по пятам победы ринуться мимо Карака на Амман, гоня перед собою напуганных слухами турок. Сейчас же все наши потери и усилия оказались напрасными.
Дважды я пытался исследовать заваленное снегом плоскогорье, на котором были заметены даже следы от трупов турок, но долго оставаться там было невозможно. Днем немного оттаивало, а ночью все вновь замерзало.
Моему отряду больше повезло, чем остальным, так как один из людей подыскал нам недостроенный пустой домик из двух хороших комнат, с двором при нем. Мои деньги доставили нам топливо и даже зерно для наших верблюдов, которых мы держали под прикрытием в одном из углов двора, где Абдулла, любитель животных, мог чистить их скребницей, учить их отзываться на имя и брать из его рта куски хлеба. Все же это были тяжелые дни, так как при разжигании огня нас душили клубы зеленого дыма, а просветы окон закрывались подобием ставен нашего собственного производства.
Сквозь глиняную крышу весь день протекала вода, а по ночам по каменному полу прыгали блохи.
Нас было двадцать восемь человек в двух крошечных комнатушках, в которых стоял едкий запах от человеческих испарений.
В моем походном мешке был томик «Mort d’Arthur».[59] Он умерял мое отвращение. У этих людей были только физические потребности, и их нравы грубели среди нищеты. Их дикость, в обычное время скрытая расстоянием, теперь колола мне глаза, и незаживающее раненое место в левом бедре зябло и вызывало мучительный озноб.
День ото дня, по мере того как наше состояние становилось более грубым и животным, росла и пропасть между нами.
Так протащился январь 1918 г., и наступил томительный февраль. Отношения между нами стали так невыносимы, что я решил разделить отряд, а самому уехать на поиски денег, которые нам понадобились бы с наступлением ясной погоды. Зейд уже истратил первую часть суммы, назначенной для Тафила и Мертвого моря, частью на жалование, а частью на снабжение и награды победителям при Хесе. Где бы мы ни расположились фронтом, нам нужны были деньги для вербовки и оплаты новых сил. Лишь туземцы могли инстинктом сознавать ценность своей земли и отважно сражаться, защищая от врага очаги и поля.
Возможно, что Джойс уже устроил посылку мне денег, что было нелегко в данное время года. Вернее было спуститься с гор мне самому, что было приятнее, чем дышать зловонием из-за общей скученности в Тафила. Итак, пятеро из нас отправились в путь, воспользовавшись одним из дней, обещавших быть немного яснее, чем обычно.
После полудня погода опять омрачилась, и с севера и востока начал ожесточенно дуть ветер, вызывая в нас сожаление, что мы находились на голой равнине.
Когда мы вброд переходили быструю реку Шобек, пошел дождь с дикими порывами ветра. Мы безостановочно шли вперед, и еще долго после захода солнца понукали тащиться по долинам дрожащих верблюдов, которые скользили и падали. Несмотря на все трудности, мы делали почти две мили в час.
У меня было намерение ехать всю ночь, но вблизи Одроха нас окутал туман. Перспективы местности, казалось, изменились: далекие холмы выглядели небольшими, а близкие бугры огромными. Мы слишком свернули направо.
Опять начался мороз, и липкие камни в долине обледенели. Двигаться дальше по неправильному пути в такую ночь являлось безумием. Мы отыскали большую скалу. Позади нее под ее прикрытием мы поставили наших верблюдов плотной группой, хвостами к ветру. Если бы их поставить иначе, они могли бы пасть от холода. Мы приютились возле них, надеясь согреться и заснуть.
Я, по крайней мере, так и не согрелся и почти не спал. Я лишь один раз задремал и, вздрогнув, проснулся с ощущением, что чьи-то пальцы медленно гладят меня по лицу. Я вперил взор в ночную тьму. Снег падал большими, мягкими хлопьями. Так продолжалось минуту или две, затем последовал дождь, а после него еще сильнее ударил мороз.
Когда наступил день, мы увидали, что нужная нам дорога лежала на четверть мили влево. Мы побрели по ней пешком. Верблюды слишком обессилели, и мы сами скользили и падали на глинистой почве. Наши плащи раздувались от ветра, как паруса, и тянули нас назад. Наконец, мы их скинули с себя. Идти стало легче.
Поздним днем, покрыв десять миль, мы добрались до Аба-эль-Лиссана. Мы опять сели на наших верблюдов и безостановочно ехали вперед, пока перед нами не предстало чудесное видение равнины Гувейры, — теплой и уютной. Повеселевшие верблюды быстро доставили нас домой, в Гувейру.
Из Акабы для меня пришло тридцать тысяч фунтов золотом.
Так как все мои люди находились в Тафила или в Азраке, я попросил Фейсала дать мне временных провожатых. Он прислал мне своих двух всадников племени атейбы: Серджа и Рамейда. Чтобы помочь везти мое золото, он прибавил к отряду шейха Мотлога, проявившего свою доблесть, когда наши бронированные автомобили взрывали равнины ниже Мудаввары.
Золото было рассыпано по мешкам, в каждом на одну тысячу фунтов. Я дал по два мешка четырнадцати из двадцати человек Мотлога, а два остальных взял себе. Мешок весил двадцать два фунта, и в ужасных дорожных условиях два мешка являлись достаточным грузом для верблюда. Мы выступили в путь в полдень, надеясь на легкий первый переход, прежде чем мы вступим на мучительные горные дороги. Но, к несчастью, через полчаса пошел дождь, промочивший нас насквозь.
Мотлог заметил чью-то палатку в закоулке у известняковой горной вершины. Несмотря на мое настойчивое требование поспешить, он заявил, что проведет в ней ночь, а завтра посмотрим, на что будут похожи горы. Я понимал, что нерешительность приведет к роковой растрате времени. Итак, я простился с ним и поехал дальше со своими двумя людьми и шестью человеками племени хавейтат, направляющимися в Шобек и примкнувшими к нашему каравану.
Спор задержал нас, и из-за него мы к наступлению темноты добрались лишь до начала ущелья. Печальный мелкий дождь заставил нас пожалеть о нашей доблести и вселил зависть к Мотлогу, пользующемуся сейчас чьим-то гостеприимством. Внезапно нас привлекла красная вспышка слева, и мы, направившись по направлению к ней, нашли шейха Салеха ибн-Шефия, расположившегося там лагерем в палатке и в трех пещерах с сотней своих вольноотпущенных бойцов из Янбу.
Он пригласил меня, несмотря на то, что я промок до нитки, к своему ковру в палатку, и дал мне новую одежду. Насытившись, мы улеглись и безмятежно проспали всю ночь, слыша, как дождь барабанит по двойному холсту палатки.
Утром мы встали с рассветом и поднялись на высокую гряду. На всех вершинах были белые купола снега.
Когда мы вышли из-за последнего кряжа, нам прямо в лицо ринулся северо-восточный ветер, такой холодный и пронизывающий, что у нас перехватило дыхание, и мы поспешно вернулись под прикрытие. Казалось, что ветер окажется для нас роковым, но мы сбились в кучу и с трудом пробились сквозь него под полуприкрытие долины.
Сердж и Рамейд были испуганы новой болью в легких, и им казалось, что они задыхаются. Чтобы избавить их от морального страдания проходить через дружественный лагерь, я провел наш маленький отряд за холмом, где расположился Мавлюд.
В этом месте, на высоте 4000 футов над уровнем моря, расположился отряд Мавлюда и стоял здесь в течение двух месяцев без помощи. Они были вынуждены жить в неглубоких окопах у холма. У них не было другого топлива, кроме чахлой, сухой полыни, на которой они через день пекли хлеб. Они не имели другой одежды, кроме летней формы цвета хаки, по образцу британской формы. Они спали в ямах, полных паразитов, на пустых или полупустых мешках от муки, свившись клубком в шесть или восемь человек, чтобы на всех хватило поношенных одеял.
Почти половина из них погибла или заболела от холода и сырости, все же остальные остались на посту, ежедневно обмениваясь выстрелами с турецкими форпостами, и только непогода спасала их от сокрушительной контратаки. Мы многим были обязаны им, еще более Мавлюду, который своим мужеством укреплял в них сознание долга.
Весь наш день был полон трудностей. Почва горного кряжа у Абу эль-Лиссана покрылась корой от мороза, и нам мешал лишь жгучий ветер, слепивший глаза. Но затем опять начались наши мучения. Верблюды вышли к подножию вала из скользкой глины вышиной в двадцать футов и беспомощно заревели, словно желая сказать, что они не смогут втащить нас наверх. Мы соскочили, чтобы помочь им, но сами почти так же соскальзывали обратно. Наконец, мы сбросили наши новые сапоги и босиком втащили верблюдов наверх по склону.
До захода солнца нам пришлось спешиться не менее двадцати раз. Дождя, однако, не было, и мы непоколебимо продолжали двигаться на север. К вечеру мы достигли берега речки Басты, что означало, что мы делали более мили в час. Из опасений, что завтра и мы и наши верблюды окажемся слишком измученными, чтобы передвигаться с такой же скоростью, я во мраке двинулся через ручей. Он казался вздутым, и животные топтались на месте, опасаясь воды. Нам пришлось продолжать путь пешком и пересечь три фута холодной воды.
На высоком берегу ветер оглушил нас, словно ударив кулаком. Около девяти часов вечера мои спутники бросились с криками на землю и отказались идти дальше. Мы выстроили наших девять верблюдов тесным рядом и разлеглись между ними с полным комфортом. У каждого из нас было по два армейских одеяла и по пакету с хлебом. Таким образом, мы могли беззаботно спать в грязи и холоде.
На рассвете мы, освеженные, двинулись вперед. Погода смягчилась, но все сделалось серым, и в серой мгле неясно маячили покрытые угрюмой полынью горы. В туманных долинах тающий снег образовал ленивые потоки, и наконец, опять начали падать густые мокрые хлопья. В полдень, казавшийся сумерками, мы достигли заброшенных развалин Одроха.
Я хотел взять вправо, чтобы до Шобека избежать встречи с бедуинами, но наши спутники хавейтат повели нас прямо к их лагерю. Они были истощены, так как за семь последних часов мы проехали шесть миль. Двое моих людей атейба были не только истощены, но и деморализованы и, взбунтовавшись, поклялись, что ничто на свете не сможет их заставить отказаться от гостеприимства племени.
Лично я чувствовал себя вполне свежим и бодрым, и ненужная задержка раздражала меня. То, что Зейд сидел совершенно без денег, являлось для меня великолепным предлогом, чтобы поехать вперед одному. Это было вполне безопасно, ибо в такую погоду ни один турок или араб не высовывал носа наружу, и дороги были в моем безраздельном распоряжении. Я забрал у Серджа и Рамейда их четыре тысячи фунтов и, выругав их трусами, какими они в действительности не были, отпустил их и уехал.
На заходе солнца снег перестал падать. Мы шли вдоль реки и увидели бурую колею, идущую по противоположному холму, по направлению к деревне. Я хотел пересечь ее, но меня ввела в заблуждение тонкая кора, которой подернулись лужи, и я провалился под лед (который резал, как нож) и так глубоко зарылся, что стал опасаться, что мне придется провести всю ночь, увязнув до половины в мерзлой тине или, пожалуй, и совсем не вылезть из нее, что означало медленную смерть.
Водейха, эта понятливая верблюдица, отказалась идти в болото и, стоя в недоумении на твердой полосе, спокойно смотрела на мой полет в грязь. Все же я, при помощи уздечки, которую все еще держал в руках, старался заставить ее подойти поближе. Затем сразу откинулся назад в хрустящую трясину и, отчаянно цепляясь руками, схватил ее за шерсть лодыжек. Она испугалась, отпрянула назад и этим движением вытащила меня. Мы с ней поползли дальше вдоль по руслу на безопасное место и перешли там, после того, как я с опаской сел в воду и смыл налипшие комья зловонной тины.
Дрожа, я снова стал подыматься. Мы дошли до пригорка и спустились к основанию правильного конуса, вершина которого, как бы увеличенная стеной старого замка Монреаль, величественно выделялась на ночном небе. Морозило, и почва была твердой, сугробы снега, высотой в один фут, лежали по обеим сторонам тропинки, идущей зигзагами по холму. Сверкающий лед отчаянно хрустел под моими голыми ногами, когда мы подошли к воротам, и я, для достойного вступления, взгромоздился на терпеливую спину Водейхи и сел в седло. Я немедленно раскаялся в этом, так как только благодаря тому, что я пригнулся к ее шее, я избежал удара о камни свода, когда она рванулась, перепуганная этим странным местом.
Я знал, что ишан Абд эль-Маин должен был еще находиться в Шобеке, и уверенно проехал вдоль безмолвной улицы, озаренной светом звезд. На перекрестке меня кто-то окликнул хриплым голосом, Я спросил, где находится Абд эль-Маин, и мне ответили, что в доме управителя.
Подъехав туда, я крикнул. Дверь распахнулась, и в клубах повалившего оттуда дыма появились темные лица, разглядывавшие меня. Я дружески поздоровался с ними, говоря, что я приехал, чтобы съесть барана с хозяином. Один из рабов осветил мне каменные ступени, ведущие к входным дверям, и провел меня между множеством слуг сквозь извилистый коридор, заливаемый водой через худую крышу, в крошечную комнату. Там на ковре возлежал Абд эль-Маин. У меня дрожали ноги, и я опустился возле него. Пока я стягивал с себя вещи и развесил их сушиться перед огнем, он отыскал мне плащ. Затем Абд эль-Маин хлопнул в ладоши, чтобы поскорее подали ужин.
Он объяснил мне, что с ним тут двести людей, и у него совершенно нет ни провианта, ни денег, а посланные им гонцы к Фейсалу застряли в снегах. На это я, также хлопнув в ладоши, приказал принести мои седельные мешки и поднес ему в подарок пятьсот фунтов до получения им денежной помощи. Казалась забавной моя причуда поехать зимой одному с тяжелым грузом золота.[60] Но я повторил, что Зейд, как и он, находится в крайней нужде.
Спустя час он удалился. Я завернулся в ковры и крепко заснул.
Утром я встал с раскалывающей череп головной болью и заявил, что должен ехать дальше. Двое людей должны были отправиться со мной, хотя все говорили, что нам не удастся добраться в тот же день до Тафила.
Все же я считал, что погода не может быть хуже, чем вчера, и мы осторожно скатились по тропинке в равнину, через которую тянулась римская дорога с упавшими верстовыми столбами, носившими надписи славных императоров.
С этой долины сопровождавшие меня два труса убежали к своим товарищам на дворцовый холм. Я продолжал продвигаться, то слезая, то опять садясь на верблюда, так же, как и накануне, хотя в этот день дорога была еще более скользкой.
Пошел дождь и промочил меня, а потом подул сильный, холодный ветер и обледенил мою мокрую одежду.
Мне стоило колоссальных усилий сделать три первых поворота. Водейха, которой надоело бродить по костлявые колена в совершенно бесполезной белой массе, начала заметно ослабевать. Все же она прошла еще несколько шагов, как будто бы только для того, чтобы поскользнуться на краю тропинки. Мы оба упали с высоты 18 футов и ушли на один ярд в сугроб мерзлого снега. После падения она встала на ноги и стояла тихо, вся дрожа.
Если бы на ее месте был верблюд, он умер бы через очень короткое время, и я боялся, что такого падения не выдержит даже и верблюдица. Я завяз в сугробе по шею и тщательно старался вытащить Водейху, затем я потратил много времени, подталкивая ее сзади. Я поднимался, а она опускалась. Я подпрыгивал, тащил ее и опасался, что снег будет слишком плотен. Так я протоптал ей отличную, маленькую дорогу, шириной в один фут, глубиной в три фута и длиной в 18 шагов, действуя голыми руками и ногами. Поверхность снега так заледенела, что только вся тяжесть моего тела могла пробить его. Кора была до того остра, что кисти моих рук и щиколотки были изрезаны в кровь, которая окрасила снежную дорогу бледно-розовыми кристаллами.
Затем я вернулся к Водейхе, которая терпеливо ждала меня, и вскарабкался в седло.
Я осторожно подвигался пешком, ведя на поводу верблюда, нащупывая палкой колею или прокладывая новую, когда снежные наносы были слишком глубоки. В три часа я добрался до вершины, которую с западной стороны ветер очистил от снега. Тут мы с Водейхой покинули дорогу и, шатаясь, побрели вдоль неровного края кряжа. Когда он окончился, опять начались наши мытарства.
Мой выбившийся из сил верблюд вдруг остановился. Дело становилось серьезным, так как уже вечерело. Внезапно меня охватило сознание одиночества и того, что если ночь захватит нас на вершине горы, где никто не сможет прийти нам на подмогу, верблюд падет. Кроме того, со мной был солидный груз золота, и я все же не был уверен, насколько безопасно даже в Аравии оставить на дороге шесть тысяч соверенов на целую ночь.
Мне удалось стащить верблюда на другой склон горы, скрытый от ветра и весь день подверженный лучам солнца. Под тающим снегом лежала мокрая, глинистая почва. Почувствовав ее под своими ногами, мой верблюд, дико бросаясь в стороны и скользя, помчался со скоростью десяти миль в час по грязной дороге по направлению к Решидийе. Я уцепился за седло, в ужасе ожидая падения, при котором я мог легко свернуть себе шею.
Толпа арабов, людей Зейда, задержанных погодой на своем пути к Фейсалу, выбежала вперед, услышав наше шумное приближение, и радостными криками приветствовала такое замечательное вступление в деревню. Я спросил у них о новостях. Они рассказали мне, что все обстоит благополучно. Я опять сел в седло и, покрыв последние восемь миль, добрался до Тафила, где я отдал Зейду письма и деньги и радостно лег в постель… вторую ночь отдыхая от блох.
Осада Маана
Зейда все еще задерживала погода, что очень раздражало меня. Но случайное обстоятельство принудило меня покинуть его и вернуться в Палестину для неотложного совещания с Алленби. Тот рассказал мне, что военный кабинет настоятельно требует, чтобы он вызволил Западный фронт, попавший в положение, напоминающее шахматный пат. Ему надлежало, по крайней мере, взять как можно быстрее Дамаск, и, если возможно, Алеппо. Турцию надо было раз и навсегда исключить из числа воюющих держав. Помеха Алленби заключалась в его правом, восточном фланге, который на сегодняшний день замер у Иордана. Он пригласил меня, чтобы обсудить, не могли ли арабы освободить его от этого груза.
Я указал, что такой план иорданской операции является британской точкой зрения. Алленби согласился со мной и спросил, не можем ли мы все-таки его выполнить.
Я сказал:
— Не сейчас; прежде мы должны покончить с новыми факторами.
Первым из них являлся Маан. Прежде всего мы должны были овладеть им. Если бы усиленные транспортные средства придали большую подвижность частям арабской регулярной армии, они могли бы занять позицию в нескольких милях на север от Маана и надолго перерезать железную дорогу, вынудив тем самым гарнизон Маана выступить и начать с ними сражение, а в поле арабы легко нанесли бы поражение туркам. Нам потребовалось бы семьсот вьючных верблюдов, много пушек и пулеметов и, наконец, уверенность в том, что пока мы заняты Мааном, мы не подвергнемся фланговой атаке со стороны Аммана.
Основываясь на этом, выработали план. Алленби отдал приказ выступить к Акабу двум частям верблюжьего транспортного корпуса, составленного из египтян под начальством британских офицеров и проявившего большие успехи в беэр-шевской кампании. Это был большой дар, ибо грузоподъемность их верблюдов обеспечила бы нам возможность продвинуть наши четыре тысячи регулярных войск на восемьдесят миль от их базы. Нам также обещали орудия и пулеметы. Что же касается защиты против нападения со стороны Аммана, то Алленби сказал, что ее легко наладить. Он намеревался для обеспечения своего собственного фланга вскоре захватить Сальт за Иорданом и удерживать его силами одной индийской бригады.
Корпусное совещание открывалось на следующий день, и я должен был для него остаться.
На этом совещании было решено, что арабская армия немедленно двинется к маанскому плоскогорью, чтобы захватить Маан, а британская пересечет Иордан, овладеет Сальтом и уничтожит огромный туннель и железную дорогу на возможно большем протяжении к югу от Аммана. Шли споры о том, какое участие в британских операциях должны принять амманские арабы. Генерал Болс полагал, что они должны присоединиться при наступлении. Я возражал ему, так как позднейшее отступление к Салту породило бы среди арабов слухи и реакцию, и было бы удобнее приступать к действиям, пока наступление англичан не завершится.
Генерал Четвод, который должен был руководить наступлением, спросил, как смогут его люди при их предубеждении против всех, кто носит арабскую одежду, отличить дружественных арабов от враждебных. Я сидел между ними в таком же одеянии и, естественно, ответил, что те, кто носит арабскую одежду, в свою очередь, неприязненно относятся к людям в мундирах. Мой ответ был встречен смехом, и мы пришли к соглашению, что поддержим англичан в удержании Салта лишь после того, как они там обоснуются. Сейчас же после падения Маана арабские регулярные части двинутся дальше и получат приказы из Иерихона. Их будут сопровождать семьсот верблюдов, благодаря которым они смогут действовать в радиусе восьмидесяти миль, что вполне позволит им принять участие в главной атаке Алленби по линии выше Аммана от Средиземного моря до Мертвого. Это составит вторую фазу операций, направленную к захвату Дамаска.
Я поручился за горячее содействие Фейсала во всех деталях этого плана.
Как только совещание закончилось, я спешно вылетел в Акабу, чтобы посвятить во все Фейсала. Я сообщил добрую весть, что Алленби, в благодарность за нашу деятельность у Мертвого моря и Абу эль-Лиссана, предоставил в мое полное распоряжение триста тысяч фунтов и дал нам обоз из семисот вьючных верблюдов с персоналом и снаряжением.
По всей армии поднялась великая радость, так как обозный парк дал бы нам возможность доказать боевые качества арабских регулярных войск, над обучением и организацией которых долгие месяцы работали Джойс, Джафар и множество арабских и британских офицеров. Мы набросали начерно расписание и планы действий, и затем я, не теряя времени, отплыл на судне обратно в Египет.
В Каире, где я провел четыре дня, наши дела сейчас уж не зависели больше от слепых случаев. Сочувствие Алленби создало нам целый штаб. У нас были офицеры, ведавшие снабжением, эксперт по морским перевозкам, артиллерийский эксперт, разведочный отдел под начальством полковника Алана Доунея (брата создателя беэр-шевского плана, уже уехавшего во Францию).
Доуней являлся самым ценным из даров Алленби — более ценным, чем тысячи обозных верблюдов. Как офицер-профессионал, он обладал цеховым чутьем. Его разум отличался большой сметливостью, инстинктивно чувствуя особые преимущества восстания. Он сочетал в себе идеи регулярной войны и восстания, то есть то, что я некогда в Янбу мечтал найти в каждом офицере. И лишь Доуней преуспел в этом после трехлетнего опыта.
Раньше арабское движение развивалось как восстание дикарей, обладающее столь же незначительными средствами, как незначительны были его цели и перспективы. Отныне Алленби считал его значительной частью своего плана.
Мы с Джойсом начертили план поддержки первого удара Алленби. В нашем центре арабские регулярные войска под начальством Джафара атакуют Маан. Джойс с нашими бронированными автомобилями проскользнет к Мудавваре и разрушит железную дорогу — на этот раз окончательно, ибо сейчас мы были готовы отрезать Медину. Мурзук же поедет со мной на север, чтобы осуществить соединение с британскими силами.
После отъезда Джойса и Доунея я выступил с Мурзуком в путь из Абу эль-Лиссана третьего апреля 1918 г.
С нами отправились две тысячи сирханских верблюдов с грузом боевых припасов и провианта. Из-за обоза мы продвигались медленно и достигли железной дороги при наступлении темноты. Несколько человек ускакало вперед, чтобы обследовать линию при дневном свете и увериться в том, что ничто не нарушит спокойствия в течение долгих часов перехода через нее растянувшихся рядов верблюдов.
Перед заходом солнца мы увидали железнодорожное полотно, бегущее широким изгибом по открытой местности между низкими зарослями кустарника и травы.
Когда я въезжал на насыпь, из-за длинной тени водостока налево от меня показался турецкий солдат, без сомнения, проспавший там целый день. Он дико взглянул на меня и на револьвер в моей руке, а затем печально посмотрел на свою винтовку, валявшуюся вдали. Это был молодой крепкий человек угрюмого вида. Я пристально поглядел на него и мягко сказал:
— Аллах милостив!
Он понял смысл арабской фразы и вскинул на меня сверкнувшие глаза. Хмурое выражение его заспанного лица начало медленно расплываться от недоверчивой радости.
Однако он не произнес ни слова. Я стиснул ногами волосатые бока моего верблюда, он мерным шагом пересек рельсы и спустился по склону, но юный турок и не подумал стрелять мне в спину, когда я отъезжал от него. На безопасном расстоянии я оглянулся. Он приложил большой палец к носу и помахал мне рукой.
Мы разожгли костер, как сигнальный огонь для остальных и ждали, пока мимо проходили темные ряды верблюдов.
На следующий день мы выступили к Вади-эль-Джинзу. Там мы заночевали. Заал подстрелил дрофу, и мы попировали. Верблюды тоже пировали, бродя по колено в сочной траве, взращенной щедротами весны.
Четвертый легкий переход привёл нас к нашей заветной цели — к Атаре, где стояли лагерем наши союзники, шейхи Мифлех, Фахад и Адуб. Фахад еще не оправился от раны, но Мифлех вышел приветствовать нас медоточивыми словами. Его лицо выражало алчность, и он тяжело дышал, снедаемый ею.
Наш план, благодаря львиной доле участия в нем Алленби, обещал легко осуществиться. Мы, закончив приготовления, пересекли железнодорожное полотно к Тамеду, главному месту водоснабжения племени бенисахр. Оттуда под прикрытием их кавалерии мы должны были двинуться на Мадебу и основать в ней наш штаб-квартиру, в то время как Алленби должен был привести в порядок дорогу Иерихон — Салт, — нам следовало соединиться с британскими силами, не производя ни единого выстрела.
Тем временем мы вынуждены были лишь ждать событий в Атаре.
Наконец пришло известие, что англичане взяли Амман. В полчаса мы выступили в Темед через покинутую линию.
Следующее сообщение гласило, что англичане отступают, и, хотя мы и раньше предупреждали арабов о возможности этого, они пришли в уныние.
Третий гонец донес, что англичане только что бежали из-под Салта. Это полностью противоречило намерениям Алленби, и я поклялся, что это неправда.
В эту минуту галопом подскакал какой-то всадник и рассказал, что англичане лишь взорвали небольшой участок железной дороги к югу от Аммана после двухдневного тщетного штурма. Эти слухи меня серьезно встревожили, и я послал Адуба в Салт с письмом к генералу Четводу, прося у него сведений о действительном положении.
Очень поздно ночью в долине раздался стук копыт скачущего коня Адуба, и через несколько минут последний рассказал нам, что Джемаль-паша победоносно вступил в Салт, перевешав всех местных арабов, которые приветствовали англичан. Турки еще гонят Алленби вдоль Иорданской долины. Дела обстояли очень плохо.
Эта превратность судьбы, неожиданно разразившись, глубоко огорчила меня. План Алленби казался скромным, и тем более прискорбным являлось то, что мы так уронили себя в глазах арабов. Ведь они никогда не верили, что мы осуществим все то великое, что я обещал.
Я решил отдать приказ индусам вернуться из Азрака к Фейсалу. Мы выступили в путь на рассвете. Утром вблизи Вади-эль-Джинза мы встретили индусов, сделавших привал у одиноко растущего дерева. Лишь в сумерки пересекли мы железную дорогу.
Я покинул индусов, так как быстрое движение могло успокоить меня и рассеять охватившую меня тревогу. Мы неслись вперед в холодном мраке, направляясь к Одроху. Достигнув его вершины, мы заметили слева от себя сверкание огня. Яркие вспышки следовали одна за другой и могли происходить в окрестностях Джердуна. Мы натянули поводья и услыхали глухой гул взрывов. Появилось зарево огромного пламени и, все разгораясь, разделилось надвое. Может быть, то горел вокзал. Мы быстро поскакали, чтобы узнать причину у ишана Мастура.
Однако его стоянка оказалась покинутой, и по ней лишь бродил одинокий шакал. Я решил поспешить вперед к Фейсалу. Мы стремглав пустились рысью.
Приблизившись, мы услышали стрельбу впереди себя на Семне, постепенно поднимающемся валу, прикрывающем Маан. Отряды войск осторожно поднимались по его склону и останавливались у вершины. Очевидно, мы уже взяли Семну. Мы продвинулись вперед на новую позицию. На ее ровном склоне мы встретили верблюда с носилками. Ведущий его человек сказал:
— Мавлюд-паша, — и указал на свою ношу.
Я подбежал с криком:
— Неужели Мавлюд ранен?
Ведь Мавлюд-паша эль-Мухлюс являлся одним из лучших офицеров армии, а также преданнейшим нам человеком. Он ответил слабым голосом из носилок:
— Да, Лоуренс-бей, действительно, я ранен, но, хвала Аллаху, несерьезно. Мы взяли Семну.
Я сказал, что направляюсь туда. Мавлюд, почти лишившийся способности видеть и говорить (снаряд перебил ему берцовую кость выше колена), в лихорадке нагнулся над краем носилок, указывая на ряд пунктов для организации обороны горы.
Когда мы прибыли туда, турки начали засыпать ее снарядами. Вместо Мавлюда командовал Нури Сайд. Он стоял спокойно на вершине горы. Я спросил, где находится Джафар. Нури ответил, что в полночь он должен был атаковать Джердун. Я рассказал ему о ночных вспышках, которые, должно быть, обозначали его успех. Пока мы вместе радовались, прибыли его гонцы с донесением о захвате пленных и пулеметов, а также об уничтожении вокзала и трех тысяч рельсов. Такая блестящая удача на многие недели обезопасила северный фронт.
Затем Нури рассказал мне, что накануне на рассвете он кинулся на станцию Гадир эль-Хадж и разрушил ее, а также пять мостов и тысячу рельсов. Таким образом и южный фронт был обеспечен.
Поздно днем наступило мертвое затишье. Обе стороны прекратили свою бесцельную бомбардировку. Говорили, что Фейсал двинулся на Ухейду.
Мы пересекли маленькую разлившуюся речку возле временного госпиталя, где лежал Мавлюд. Махмуд, краснобородый, смелый врач, считал, что обойдется без ампутации. Фейсал находился на вершине горы, на самом краю ее, чернея в лучах солнца. Я опустил своего верблюда на колени Фейсал протянул ко мне руки и воскликнул:
— Во имя Аллаха, хороши ли вести?
— Я ответил:
— Хвала Аллаху, дающему нам победу.
Он затащил меня в свою палатку, чтобы мы могли обменяться новостями.
Фейсал слышал от полковника Алана Доунея больше о британской неудаче под Амманом, чем я знал. Он рассказал мне о вызванном скверной погодой замешательством и о том, как Алленби телефонировал генералу Ши, сопровождавшему Четвода, и принял одно из своих молниеносных решений, чтобы положить конец потерям. Мудрое решение, хотя оно глубоко нас уязвило. Полковник Джойс находился в госпитале, но быстро поправлялся, а Доуней стоял в Гувейре, готовый выступить на Мудаввару со всеми бронированными автомобилями.
Фейсал спросил меня о Семне и Джафаре, и я рассказал ему все, что знал, сообщив мнение Нури о дальнейших перспективах. Нури жаловался мне, что люди абу-тайи в течение всего дня ничего для него не сделали. Ауда отрицал это, и я напомнил ему историю нашего первого захвата плоскогорья, и как я их едко высмеивал за нападение на Абу эль-Лиссан. Мой рассказ оказался новостью для Фейсала. То, что я помянул старое, глубоко оскорбило старого Ауду. Он запальчиво поклялся, что сегодня он старался из всех сил, но условия не благоприятствовали его племени, и, видя, что я не поддаюсь его уверениям, он резко вышел из палатки.
Я провел следующие дни в наблюдении за операциями. Люди абу-тайи захватили два аванпоста к востоку от станции, а шейх Салех ибн-Шефиа взял бруствер с одним пулеметом и двадцатью пленными. Эти выигранные нами схватки позволили нам беспрепятственно окружить Маан, и на третий день Джафар собрал всю артиллерию на южном кряже, а Нури Сайд повел отряд в штурм на построеки железнодорожной станции. Но, когда он добрался до них, его прикрытие из французских орудий прекратило стрельбу. Мы блуждали на фордовском автомобиле, стараясь не отставать от движущегося вперед отряда, как вдруг нас встретил Нури, в полном облачении и перчатках, покуривавший свою трубку. Он послал нас обратно к начальнику артиллерии капитану Пизани[61] с настоятельной просьбой о помощи.
Мы нашли Пизани в отчаянии ломающим себе руки, так как все снаряды уже вышли. Он сказал, что умолял Нури не предпринимать атаки в такой момент, когда у него истощились запасы.
Нам ничего не оставалось, как слушать залпы, которыми осыпали наших людей из железнодорожной станции. Дорогу устилали скорчившиеся фигуры в хаки, и глаза раненых, блестящие от страдания, пристально следили за нами, словно обвиняя нас во всем. Их изувеченные тела содрогались.
И мы все видели и понимали, но все казалось нам беззвучным: сознание нашей неудачи отняло у нас слух.
Впоследствии мы признавались, что никогда не ожидали такой отваги от нашей пехоты, бодро сражавшейся под пулеметным огнем и умело использовавшей каждое прикрытие. Они так мало нуждались в руководстве, что погибли лишь три офицера. Маан доказал мне, что арабы достаточно решительны и без понуканий англичан. Таким образом, наше поражение оказалось не вполне напрасным, облегчив нам составление дальнейших планов.
Наутро 18 апреля Джафар благоразумно решил, что он не может допустить дальнейших потерь, и отступил к позициям у Семны.
Будучи старым школьным товарищем турецкого командира, он послал ему с парламентарием письмо, предлагая сдаться. Ответ гласил, что тот согласился бы, если бы не имел приказа сопротивляться до последнего патрона. Джафар предложил временную приостановку военных действий. Но турки не давали ответа, пока Джемаль-паша не успел оттянуть войска от Аммана, захватить обратно Джердун и переправить обоз с провиантом и боевыми припасами в осажденный город.
Железная же дорога оставалась испорченной еще в течение долгих недель.
Доуней атакует Тель-Шахм
Я немедленно сел в автомобиль, чтобы присоединиться к Доунею. Я беспокоился, как он проведет первую битву в условиях партизанской войны с таким чрезвычайным сложным видом оружия, каким является бронированный автомобиль. Доуней не знал арабского языка так же, как и капитан Пик и доктор Маршалл. Его войска состояли вперемешку из англичан, египтян и бедуинов. Итак, после полуночи я въехал в его лагерь над Тель-Шахмом и деликатно предложил ему свои услуги в качестве переводчика.
К счастью, он приветливо меня встретил и повел вдоль линии фронта. Мне открылось удивительное зрелище.
Автомобили были геометрически правильно расставлены и огорожены в одном месте, броневики — в другом. Снаружи были расставлены часовые и пикеты с пулеметами наготове. Даже арабы занимали тактическую позицию позади горы, находясь в резерве, но оставаясь невидимыми и неслышимыми. Каким-то колдовством ишан Газаа и сам Доуней удерживали их там. У меня чесался язык сказать, что единственное, чего недостает, — это врага.
Когда в беседе Доуней развернул свой план, мое восхищение усилилось. Он уже приготовил оперативные приказы, точно установив начальные моменты бомбардировок и последовательность передвижений.
Каждая часть армии получила определенное назначение. Мы атакуем «открытый пост» на заре (броневики), используя выгодное местоположение холма. Автомобили с закрытыми глушителями захватят вокзал до наступления дня и врасплох займут окопы. Затем тендеры 1 и 3 взорвут мосты, обозначенные на оперативном плане А и В при наличном моменте действия в 1 ч. 30 м., в то время как автомобили двинутся на «пост у скал» и при поддержке ишана Газаа и арабов внезапным штурмом возьмут его (начальный момент действий 2 ч. 15 м.).
Капитан Горнби двинется за ними с взрывчатыми веществами в «тальботах» №№ 40531 и 41226 и взорвет мосты Д, Е и F, пока отряд будет завтракать. После завтрака, при начальном моменте действий, точно в 8 часов, соединенные силы атакуют Южный пост: египтяне с востока, арабы с севера под прикрытием дальнего огня автомобилей и десятифунтовых пушек, расположенных на наблюдательном холме. Пост падет, и отряд перенесет свои силы к станции Тель-Шахм, которую будут бомбардировать с северо-запада пушки, а сверху — аэропланы. Последние вылетят с равнины Рамла (при начальном моменте действий в 10 часов). С запада же перейдут в наступление броневики. За автомобилями последуют арабы, в то время как Пик со своим корпусом из верблюдов спустился с Южного поста. «Станция будет взята в 11 час. 30 м.», — гласил план, под конец становившийся смешным (именно тут он не удался, так как турки, очевидно, не зная о нем, поспешили и сдались десятью минутами раньше).
На заре мы увидали, как автомобили безмолвно вкатываются в сонные песчаные траншеи, и оттуда выбегают пораженные турки, с поднятыми вверх руками. Горнби ринулся на своих двух тендерах «роллс-ройс», подложил под мост А сто фунтов пироксилина и уверенно взорвал его. Грохот чуть не выбросил Доунея и меня из нашего третьего тендера, в котором мы сидели, величественно любуясь всем происходящим.
Следующие мосты рухнули, потребовав каждый по десяти шашек.
Пока мы находились на мосту В, автомобили сосредоточили огонь своих пулеметов на брустверах «поста у скал», представлявшего собой кольцо толстых каменных стен на холме со склонами, слишком отвесными для колес. Газаа возбужденно ждал своей очереди. Турки были так напуганы градом пуль из четырех пулеметов, что арабы захватили их, почти не прерывая шага.
После предусмотренного завтрака и падения «Южного поста», которое произошло минута в минуту согласно плана, наступил центральный акт дневной программы — штурм станции.
Пик стянул к ней с севера своих людей. Аэропланы закружились над ней, сбрасывая свистящие бомбы в ее траншеи. Броневики устремились вперед, фыркая и пыхтя дымом, и в дымном тумане шеренга турок растерянно поднялась из главной траншеи, размахивая белыми тряпками.
Арабы вскочили на своих верблюдов, осмелевшие люди Пика пустились бегом, и весь отряд дико ринулся на станцию, легко осилив пришедшего в замешательство врага,
Спустя минуту бедуины с воем приступили к самому безудержному грабежу. На станции хранилось двести ружей, восемьдесят тысяч патронов, множество бомб, провианта и одежды. Все крушили стены и выносили, что попадется.
Какой-то злосчастный верблюд увеличил смятение, наступив на валявшийся снаряд. Последовал взрыв, вызвавший ужасную панику. Думали, что опять начался обстрел.
В промежутке египетский офицер нашел нетронутый склад и поставил возле него караул из солдат, так как у египтян не хватало провианта. Еще не насытившиеся волки Газаа не признавали права египтян на равную долю. Опять началась стрельба. Но по обсуждении мы добились того, что египтяне первыми отобрали себе довольствие, в котором нуждались. Затем последовала общая свалка, во время которой разнесли стены склада. Запасы Шахма были настолько велики, что из каждых десяти арабов восемь набрали себе всего вдосталь.
Наутро лишь Газаа и горсточка людей остались с нами для дальнейших операций. Программа Доунея предусматривала станцию Рамла, но его приказы не носили окончательного характера, так как позиция не была исследована. Поэтому мы послали вперед броневик под командованием лейтенанта Уэйда, дав ему на подмогу второй. Он осторожно ехал шаг за шагом в мертвом молчании. Наконец без единого выстрела он въехал в станционный двор, очень медленно, опасаясь мин, провода от которых усеивали почву.
Вокзал был закрыт. Уэйд постучал в двери и ставни, но не получил ответа. Выскочив из автомобиля, он обыскал все здание. В нем никого не было, но было достаточно всякого добра, чтобы вознаградить с лихвой доблесть Газаа и оставшихся с ним верных людей. Мы провели весь день, разрушая на многие мили железнодорожное полотно, пока не решили, что произвели такой ущерб, что понадобилась бы двухнедельная работа даже самого большого ремонтного отряда, чтоб восстановить все разрушенное.
На третий день нам предстояла Мудаввара, но мы не слишком надеялись на оставшиеся у нас силы. Арабы уехали, люди же Пика не отличались особой воинственностью. Однако и Мудаввара могла поддаться панике, как и Рамле, и мы проспали всю ночь на месте нашего последнего захвата. Неутомимый Доуней выставил часовых.
Утром мы пустились в путь, чтобы посмотреть на Мудаввару. Мы ехали с королевским великолепием в рычащих автомобилях по гладким песчаным и кремнистым равнинам, а позади нас на востоке бледно светило низкое солнце. Приблизившись, мы увидали, что возле станции стоил длинный поезд. Что он означал: подкрепление или эвакуацию?
Минуту спустя турки открыли по нас огонь из четырех орудий. Мы с постыдной поспешностью удалились в отдаленные ложбины. Оттуда мы сделали широкий круг к тому месту, где мы когда-то с Заалом впервые подложили мину под поезд. Там мы взорвали длинный мост, под которым, пользуясь жарким полднем, спал турецкий патруль.
Затем мы вернулись в Рамле и с большой настойчивостью принялись за уничтожение рельсов и мостов, чтобы сделать разрушения непоправимыми.
Фейсал послал шейха Мохаммеда эль-Дейлана атаковать еще нетронутые станции между нашим прорывом и Мааном. Таким образом, путь на протяжении восьмидесяти миль с семью станциями на нем целиком перешел в наши руки.
Действительная защита Медины кончилась с этой операцией.
Транспорт и снабжение
Новый офицер Юнг прибыл из Месопотамии для подкрепления нашего штаба. Он был офицером регулярной службы, человеком исключительных качеств с большим военным опытом, и знал арабский язык в совершенстве. Намеченная для него роль заключалась в том, чтобы выполнять аналогичные со мной функции в сношениях с племенами, благодаря чему наша деятельность против врага могла бы стать шире и лучше направленной.
Чтобы дать ему освоиться с новыми условиями, я поручил ему разрушить на протяжении восьми миль железную дорогу к северу от Маана, а сам уехал в Акабу, а оттуда поплыл в Суэц, чтобы обсудить будущее с Алленби.
Меня встретил Доуней, и мы имели короткий разговор прежде, чем отправиться в лагерь Алленби. Генерал Болс приветствовал нас веселой улыбкой и сказал:
— Ну, а мы уже в Салте.
Когда мы изумленно на него уставились, он объяснил, что старшины племени бени-сахр в один прекрасный день прибыли в Иерихон и предложили немедленное сотрудничество своих двадцати тысяч соплеменников в Темеде, и на следующий день, принимая ванну, Болс придумал новый план и полностью его выполнил.
Я спросил, кто был во главе людей бени-сахр. Не скрывая своего торжества, Болс ответил, что Фахад.
Все, что я слышал, начинало мне все меньше нравиться. Я знал, что Фахад не мог бы выставить и четырехсот людей, и что в эту минуту возле Темеда нельзя было бы обнаружить ни одной его палатки, так как все люди двинулись на юг к Юнгу.
Мы поспешили в управление, чтобы узнать правду, и, к несчастью, убедились, что все обстояло так, как рассказал нам Болс. Британская кавалерия экспромтом поднялась в горы Моаба, основываясь на каких-то воздушных обещаниях шейхов зебна, жадных людей, приехавших в Иерусалим, лишь чтобы вкусить от щедрот Алленби, но их там поймали на слове.
Разумеется, этот набег потерпел неудачу, пока я еще находился в Иерусалиме, ибо люди бени-сахр беспечно валялись в своих палатках, либо находились далеко от них с Юнгом. Мы были отрезаны и избежали огромного несчастья лишь благодаря инстинкту Алленби, как раз вовремя подсказавшему ему всю опасность положения. И все же мы тяжело пострадали.
Наше движение, развивавшееся гладко, пока против нас был лишь один бесхитростный враг, увязло в трясине непредвиденных случайностей. Мы всецело зависели от Алленби, а он не был удачлив. Германское наступление во Франции лишило его войск. Военное министерство обещало ему индийские дивизии из Месопотамии и индийские маршевые команды.[62] С ними он воссоздал бы свою армию по индийскому образу. Может быть, по окончании лета он опять обрел бы боеспособность, но сейчас мы должны были оставаться на месте.
За чаем Алленби упомянул об имперской верблюжьей бригаде, сожалея, что благодаря стесненному положению, в которое он попал, он должен упразднить ее, а людей использовать как кавалерийские подкрепления;
Я спросил:
— Что вы собираетесь сделать с их верблюдами?
Рассмеявшись, он ответил:
— Спросите «К».[63]
Я послушно пересек пыльный сад, ворвался к генерал-квартирмейстеру сэру Вальтеру Кэмпбеллу — истому шотландцу — и повторил свой вопрос. Он с твердостью ответил, что верблюды уже заклеймены тавром дивизионного транспорта для второй из новоприбывших индийских дивизий. Я объяснил, что хочу получить две тысячи из них. Его первый ответ звучал неопределенно. Вторым же он дал понять, что я могу хотеть этого, сколько мне угодно. Я приводил ему различные доводы, но Кэмпбелл казался неспособным усвоить мою точку зрения. Разумеется, природе генерал-квартирмейстеров свойственна скаредность.
Я вернулся к Алленби и громко сказал перед всеми присутствующими, что имеются свободных две тысячи двести верховых верблюдов и тысяча триста обозных. Все они временно приспособлены для транспортных нужд, но ведь верховые верблюды, разумеется, остаются верховыми верблюдами.
В штабе зашумели, словно и они сомневались, смогут ли верховые верблюды перевозить поклажу. Каждый британский офицер считает вопросом чести уметь разбираться в животных. Поэтому я не удивился, когда вечером главнокомандующий пригласил сэра Вальтера Кэмпбелла к обеду.
За супом Алленби завел разговор о верблюдах. Сэр Вальтер заявил, что они необходимы для индийской бригады. После ожесточенного спора Алленби с улыбкой сказал сэру Вальтеру Кэмпбеллу:
— «К», вы проиграли.
Мы получили верблюдов. Это был огромный, королевский дар, дар, представлявший арабам способность неограниченного передвижения. С ним арабы могли выиграть войну, когда и где им захочется.
На следующее утро я уехал, чтобы присоединиться к Фейсалу в его холодном гнезде у Абу эль-Лиссана. Я рассказал ему, что Алленби дал нам две тысячи верблюдов. Фейсал разинул рот и, схватив меня за колено, воскликнул:
— Что такое?
Я рассказал ему всю историю. Он вскочил и поцеловал меня. Затем он громко хлопнул в ладоши. Черное лицо раба появилось у входа в палатку.
— Скорее, — крикнул Фейсал, — созови всех.
Раб убежал.
— Все почти закончено, — сказал я. — Скоро ты сможешь меня отпустить.
Он принялся возражать, говоря, что я должен всегда оставаться с ними, и не только до взятия Дамаска, как я обещал некогда в Ум-Ледже.
У входа раздался топот ног, и один за другим старшины расселись на коврах, с удивлением глядя на радостное лицо Фейсала.
Фейсал сказал, что Аллах послал им средства к победе — две тысячи верховых верблюдов. Наша война не встретит больше помех, придет к победному концу и принесет арабам свободу.
Они удивленно забормотали, стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, как подобает мудрым людям, и устремили на меня глаза, чтобы узнать, каково мое участие в этом событии.
— Великодушие Алленби, — сказал я.
Шейх Заал живо ответил за всех их:
— Да сохранит Аллах его жизнь и вашу!
— Отныне мы будем одерживать победы! — сказал я и выскользнул из палатки, чтобы рассказать все Джойсу,
Старшины увлеклись за моей спиной безудержными ребяческими речами о своих грядущих подвигах.
Джойс также обрадовался и успокоился при известии о двух тысячах верблюдов.
Между тем нам нужно было все лето продержать наши силы на плоскогорье, осаждая Маан и мешая восстановлению железных дорог. Задача была трудная.
Но наше восстание безостановочно разрасталось. Фейсал, скрывшись в своей палатке, беспрерывно агитировал за арабское движение. Акаба бурлила. Арабские регулярные войска в третий раз одержали победу над Джердуном, разрушенный вокзал которого сделалось у них почти привычкой брать и затем отдавать обратно. Наши броневики случайно захватили турецкий отряд, совершавший вылазку из Маана, и уничтожили его, так что подобный удачный случай больше уж не повторился. Зейд, командуя половиной армии, расположенной к северу от Угейды, проявлял огромную энергию. Его веселость нравилась кадровым офицерам больше, чем поэтичность и сухая серьезность Фейсала. Таким образом, счастливое сочетание характеров обоих братьев заставляло людей самого различного толка симпатизировать тому или иному из вождей восстания.
В течение шести недель мы, готовые к военным действиям, оставались на месте. Зейд и Джафар со своими регулярными войсками продолжали успешный разгром сектора Маана. Ишан Насир в сопровождении Пика и Горнби двинулся к Хесе, в сорока милях к северу, и одним удачным ударом овладел восемью милями железной дороги. Благодаря их полному уничтожению задуманное турками наступление против Фейсала в Абу эль-Лиссане было сведено к нулю.
Мы с Доунеем воспользовались затишьем, чтобы вновь отправиться к Алленби.
В ставке главнокомандующего мы почувствовали резкую перемену в настроении. Хотя, как и всегда, она клокотала энергией и надеждой, но сейчас логика и координация действий проявлялись в необычайной степени. Новые силы прибывали своевременно из Месопотамии и Индии. В группировке и обучении их были достигнуты чрезвычайные успехи. 15 июня частное совещание высказало мнение, что в сентябре армия будет в состоянии перейти в генеральное наступление.
Действительно, перед нами открывался широкий путь. Мы зашли к Алленби, который прямо заявил, что в конце сентября он перейдет в грандиозное наступление, чтобы осуществить план генерала Сметса даже в отношении Дамаска и Алеппо. Наша роль сведется к тому же, что и весной: мы должны совершить набег на Деръа на двух тысячах новых верблюдов. Сроки и детали будут установлены в свое время.
11 июля 1918 г. мы вновь беседовали с Алленби и Бартоломью, его новым штабным генералом.
Уверенность Алленби была несокрушима, как стена. Перед атакой он поехал осмотреть свои войска, скрытно сконцентрированные и ждущие сигнала. Он высказал им свою уверенность, что с их помощью захватит тридцать тысяч пленных. И это в то время, когда исход целиком зависел от случая!
Бартоломью же казался озабоченным. Он заявил, что преобразовать армию к сентябрю было безнадежным делом, и если даже она будет приведена в готовность, все же мы не должны предполагать, что наступление последует в намеченный срок. Оно может быть произведено лишь в прибрежном секторе, лежащем против Рамлы, конечного пункта железной дороги, и только там могли быть собраны необходимые резервы и запасы.
План Алленби заключался в том, чтобы собрать большую часть пехоты и всю кавалерию под апельсиновыми и оливковыми рощами Рамлы, как раз накануне 19 сентября. Он надеялся одновременно провести в Иорданской долине демонстрацию, которая должна была бы убедить турок в том, что там производится концентрация войск. Два набега на Салт заставили турок сосредоточить все внимание исключительно на Заиорданье. Всякое передвижение там англичан или арабов сопровождалось контрпредосторожностями со стороны турок, показывавшими, как они их боялись. На прибрежном же секторе, где врагу действительно грозила опасность, у него были малочисленные силы. Успех зависел от того, удастся ли удержать неприятеля в этом роковом заблуждении.
Маскировочные действия сделались для Алленби главным стратегическим приемом. В соответствии с ним Бартоломью целым рядом хитроумных мероприятий должен был в нужное время создать у турок впечатление, что в Иорданской долине происходит сосредоточение войск для штурма.
Бартоломью требовал, чтобы мы со всей энергией и изобретательностью поддержали его. Все же он предупредил нас, что даже при этом успехе висел на волоске, так как турки могли спастись и сберечь свою армию простым отступлением на семь или восемь миль от своего прибрежного сектора. Британская армия походила бы в таком случае на рыбу, выброшенную на берег. Все железные дороги, тяжелая артиллерия, лагери британской армии — все оказалось бы не там, где нужно.
Мы с Доунеем вернулись в Каир в приподнятом настроении, размышляя над великолепными перспективами. Сообщения из Акабы опять возбудили вопрос об обороне плоскогорья от турок, которые недавно выгнали Насира из Хесы и замышляли удар по Абу эль-Лиссану в конце августа, когда наш отряд должен был пуститься в путь на Деръа. Если бы мы не смогли задержать турок еще на две недели, их угроза могла бы осуществиться и нанести нам тяжкий урон. Неотложно требовалось новое решение. В этой крайности Доунея осенила мысль об еще нераспущенном батальоне имперского верблюжьего корпуса. Ставка главнокомандующего могла бы прислать его нам, чтобы спутать расчеты турок.
Мы протелефонировали Бартоломью, который понял нас и поддержал нашу просьбу перед Болсом в Александрии и перед Алленби.
После деятельного обмена телеграммами мы добились своего. Полковник Бэкстон с тремя сотнями человек был выслан к нам на месяц на двух условиях: во-первых, мы должны немедленно снабдить их планом операций; во-вторых, они не должны понести никаких потерь. Бартоломью счел необходимым извиниться за последнее великолепное условие, которое он считал недостойным звания солдата.
Мы с Доунеем уселись за карты и наметили, что Бэкстон должен отправиться от Канала в Акабу, а оттуда в Рамм, чтобы ночной атакой взять Мудаввару. Затем пройти к Баиру, чтобы разрушить мост и туннель возле Аммана, и 30 августа вернуться в Палестину. Его деятельность дала бы нам месяц отдыха.
Согласно главному плану, Алленби намеревался перейти в наступление 19 сентября и требовал, чтобы мы выступили не раньше, чем за четыре, но не позднее, чем за два дня до него.
В соответствии с его указаниями я составил план, по которому в Азрак должны выступить пятьсот человек регулярной пехоты, посаженной верхом, батарея французских скорострельных шестидесятипятимиллиметровых горных орудий, соответственное количество пулеметов, два бронированных автомобиля, саперы, разведчики на верблюдах и два аэроплана. Концентрация их в Азраке закончится 13 сентября. 16-го мы окружаем Деръа и перерезаем возле нее железную дорогу. Два дня спустя мы отступаем на восток от Геджасской железной дороги, ожидая исхода действий Алленби.
Доуней облегчил организационную сторону, добившись присылки к нам из ставки главнокомандующего полковника Стерлинга, искусного штабного офицера, сметливого и благоразумного. Страсть Стерлинга к лошадям быстро и тесно сблизила его с Фейсалом и старшинами.
Арабским офицерам были розданы английские военные знаки отличия, отмечающие их подвиги при Маане. Заслуги Джафара-паши были остроумно отмечены пожалованием его С. М. G.[64] Джафар приехал в Палестину, чтобы получить его, и штаб воспользовался случаем, чтобы устроить маленькую церемонию представления к ордену, как знак почтения к бывшему пленнику. Эти знаки уважения со стороны Алленби поощряли арабскую армию. Нури Сайд вызвался возглавлять экспедицию в Деръа; смелость, авторитет и хладнокровие делали его идеальным руководителем ее. Он начал подбирать для нее лучших 400 человек из армии.
Полковник Бэкстон и имперский верблюжий корпус
Июль приходил уже к концу, а в конце августа экспедиция на Деръа должна была находиться в пути.
За этот промежуток времени верблюжий корпус Бэкстона должен был осуществить свою программу, нужно было известить Нури Шаалана, который присоединился к ним с отрядом людей Руаллы, показать броневикам путь в Азрак и найти площадки для спуска аэропланов. Месяц, полный хлопот!
Мы начали с Нури Шаалана, как с самого далекого от нас. Его пригласили встретиться с Фейсалом в Джефере к 7 августа.
Отряд Бэкстона оказался вторым. Я под секретом сообщил Фейсалу о его прибытии. Чтобы наверняка не понести никаких потерь, они должны были напасть на Мудаввару совершенно неожиданно. Я предполагал сам повести их в Рамм, в первый рискованный переход через гущу племени хавейтат около Акабы.
Итак, я поехал в Акабу, где полковник Бэкстон позволил мне разъяснить всем отрядам план предстоящего им похода. После этой церемонии мы выступили в путь и, миновав ущелье Итма, красные утесы Неджда, изгибы Имрана и скалу Хузайла, достигли Рамма.
Оставив там Бэкстона с отрядом и сопровождавших его Стерлинга и Маршалла, я вернулся в Акабу через окруженный отвесными стенами Итм.
Со мной ехали шесть молчаливых телохранителей, следовавших за мной, как тени. И меня охватила тоска по родине, ярко подчеркнувшая мое одиночество между этими арабами. Ведь я эксплуатировал их самые возвышенные чувства и превратил их любовь к свободе в лишний инструмент, способствующий победе англичан.
В Акабе собрались остатки моей охраны, так как приближался день празднования победы, и я обещал племенам Хаурана, что они проведут этот большой праздник в своих освобожденных селениях: за последнее время мы собирались на открытом для ветра берегу моря, волны которого соперничали в блеске с моими блестящими и пестро одетыми солдатами. Их было шестьдесят. Никогда еще Зааги не имел такого многочисленного отряда, и, когда мы ехали по бурым холмам Гувейры, он старался построить их по системе аджейль, с центральным ядром и флангами, разместив поэтов и певцов по правую и левую руку. Мы ехали под музыку. Зааги огорчало лишь то, что я не хотел иметь знамя, как полагается принцу.
Я ехал на своей Газале, очень старой верблюдице, которая была роскошно убрана. Ее верблюжонок недавно пал, и Абдулла, ехавший рядом со мной, снял шкуру с маленького трупа и, высушив, вез ее позади седла. Мы выступили под пение Зааги, но, по прошествии часа, Газала начала высоко поднимать голову, тяжело ступая и переставляя ноги, как в танце с мечами.
Я хотел подогнать ее, но Абдулла поравнялся со мной, выпрыгнул из седла, держа шкуру верблюжонка в руке
Он бросил Газале в морду горсть песку и она остановилась с тихим стоном. Разостлав перед ней маленькую шкуру, Абдулла заставил Газалу положить на нее свою голову. Она остановилась с громким ревом, обнюхала несколько раз сухую шкуру и, снова закинув голову, с воем рванулась вперед. Это повторялось несколько раз в день, но потом, она, по-видимому, стала забывать своего верблюжонка.
В Гувейре меня ждал аэроплан. Мое присутствие в Джефере было необходимо Нури Шаалану и Фейсалу. Они встретили нас самым дружелюбным образом.
Казалось невероятным, что старый Нури Шаалан добровольно присоединился к нам, молодым, а он действительно был стар; его бледное, изнуренное лицо с печатью горя и страданий оживлялось только иронической улыбкой. Под его лохматыми бровями веки собирались в глубокие складки, а сквозь них в глазные впадины проникали лучи полуденного солнца и горели в их глубине таким страстным огнем, что, казалось, в них сгорает сам человек. И только лишенные блеска черные волосы и дряблая кожа, покрытая сетью морщин, говорили о его семидесяти годах.
С Нури Шааланом были старшины его племени, знаменитые шейхи, облаченные в шелка. Старшим из них являлся Фарис: подобно Гамлету, он не прощал Нури убийства своего отца, шейха Соттама. Это был худой человек с отвислыми усами и неестественно бледным лицом. Затем следовали шейхи Трад и Султан, круглоглазые, степенные и прямые. Тут же присутствовали Миджхем, Халид, Дарзи ибн-Дугми, Хаффаджи и Рахейл.
Миджхем был также великим вождем, но вместе с тем был слаб и жестокосерд.
Возле меня сидел Рахейл, чванясь своим ярким нарядом. Пользуясь общей беседой, он шепотом сообщил мне имя каждого шейха. Им же не нужно было спрашивать, кто я такой, ибо моя одежда и внешность выделялись среди людей пустыни. То, что я являлся единственным человеком с выбритым лицом, создало мне всеобщую известность, которую я еще усугубил тем, что всегда носил белоснежную (по крайней мере, снаружи) одежду из шелка сомнительного качества с ало-золотым головным шнурком из Мекки и золотым кинжалом.
Уже неоднократно на таких совещаниях Фейсал привлекал на свою сторону новые племена и заражал их своим энтузиазмом. Часто приходилось и мне это делать. Но никогда еще до сего дня мы не выступали так активно сообща, поддерживая друг друга. Даже руалла растаяли, и мы могли добиться от них всего одним своим словом. Присутствующие сидели, затаив дыхание, с блеском веры в проницательных глазах, в упор смотревших на нас.
Фейсал пробудил в них национальное чувство одной фразой, которая заставила их задуматься над историей и языком арабов; затем он на мгновение погрузился в молчание: эти безграмотные люди страстно любили красоту слова и смаковали каждое слово отдельно. Вторая фраза уяснила им дух Фейсала, их товарища и вождя, принесшего все в жертву национальной свободе. Затем снова наступило молчание, во время которого они представляли себе его, проводящего день и ночь в палатке, поучая, проповедуя, приказывая и завязывая дружбу; и они постепенно проникались идеей, скрывавшейся под внешностью этого человека, который сидел здесь, как икона, освобожденный от желаний, честолюбия, слабости и ошибок; эта сильная и разносторонняя личность была во власти отвлеченной идеи, с одним только чувством и целью — жить и умереть для служения ей.
Разумеется, это был художественный облик человека, не человек во плоти и крови, но тем не менее подлинный, хотя его личность как бы отказалась от третьего измерения в пользу идеи и от всех богатств и красот мира. Фейсал, будучи нашим вождем, в действительности был покорным слугой национальной идеи, ее орудием, отнюдь не господином.
Наш разговор был искусно направлен на то, чтобы вскрыть тайные помыслы присутствовавших. Вскоре мы заметили, что наши речи задели их за живое. Мы умолкли, наблюдая за их движениями и речью и за тем, как они заражали друг друга своим пылом, пока атмосфера не раскалилась, и в их невнятных фразах не обнаружился первый толчок к жажде познания, которая светилась в их глазах. Они стали торопить нас, как если бы они сами были зачинщиками, а мы — лишь сторонниками-наблюдателями. Они стремились передать нам всю силу своей веры.
Мы обсудили все подробности предстоящих действий, и в тот же вечер я вылетел обратно в Гувейру, а к ночи прилетел в Акабу, где встретил только что прибывшего туда Доунея и рассказал ему, что, несмотря на крупные события, все идет, как по маслу. На следующее утро аэроплан привез нам известия о положении отряда Бэкстона в Мудовваре.
Они решили штурмовать ее перед рассветом, главным образом, бомбардировкой с аэропланов. Отряд разделился на три части, одна должна была занять станцию, а две другие — главные редуты.
Выступление было намечено на четыре часа, но дорога оказалась трудно проходимой, и почти уж наступил день, прежде чем они открыли действия против южного редута.
Забросав его сначала бомбами, отряд ринулся на редут и легко завладел им. В ту же минуту второй отряд захватил станцию. В среднем редуте поднялась тревога, но и он сдался спустя двадцать минут.
Северный редут, где имелась пушка, казался храбрее и засыпал наши войска снарядами. Бэкстон, под прикрытием южного редута, открыл огонь из орудий, посылая с обычной меткостью снаряд за снарядом. Затем в воздухе поднялись аэропланы и начали бомбардировку. В семь часов утра неприятель сдался до одного человека. Мы потеряли четырех убитыми и десяток ранеными. Турки же потеряли двадцать одного убитыми, а полтораста человек сдалось в плен с двумя полевыми орудиями и тремя пулеметами.
Немедленно люди Бэкстона взорвали все стены и вдребезги разнесли насосы и две тысячи ярдов железнодорожного путьи.
В сумерки Бэкстон скомандовал отряду: «Шагом марш!» — и четыреста верблюдов, поднявшись, как один, и ревя, словно в день Страшного Суда, выступили в путь к Джеферу. Оттуда мы и получили известия о случившемся. Отряд отдохнул день, возобновил запасы провианта и отправился в Баир, где мы с Джойсом еще раньше условились примкнуть к нему.
Вечером 15 августа 1918 г. мы с Бэкстоном устроили в Баире военный совет. Майор Юнг прислал в Баир довольствие на четырнадцать дней для людей и животных. Из него у нас оставалось запасов на восемь дней для людей, на десять — для верблюдов.
Нам пришлось приноровить наш план к этому новому условию. Бэкстон очистил свой отряд от всех непригодных людей, а я из двух бронированных автомобилей оставил лишь один и наметил новую дорогу.
Бэкстон и его люди выступили в середине дня, а я отложил свой отъезд до вечера, наблюдая, как мои люди грузили на тридцать вьючных верблюдов шесть тысяч фунтов пироксилина. Бэкстона мы нагнали к утру.
Ночь мы провели в Вади-Гадаф. Следующий день не отличался от предыдущего, — мы опять с упорством осилили сорок миль. Третий день являлся последним перед взрывом моста. Утром мы увидали Муаггар, место нашей засады.
Мы настойчиво подвигались вперед. С юга показался турецкий аэроплан, пролетел вдоль нашей колонны и исчез впереди, в направлении Аммана.
В полдень мы с трудом добрели до Муаггара. Мы разослали людей в окрестные деревни, чтобы разузнать новости. Они вернулись с вестью, что нам не везет. Три турецких отряда, числом в сорок человек, провели минувшую ночь в трех деревнях, соседних с большим мостом, в деревнях, границы которых мы неминуемо должны были пересечь.
Мы наскоро устроили совет. Аэроплан мог нас заметить и не заметить. В худшем случае это вызвало бы усиление охраны моста, чего я не слишком боялся. Турки сочли бы нас авангардом отряда, совершившего третий набег на Амман, и, вероятно, предпочли бы сконцентрировать свои войска, чем разбрасывать их. Люди же Бэкстона являлись великолепными бойцами, а он еще раньше разработал замечательные планы. Успех казался предрешенным.
Но возникло сомнение в ценности моста, вернее — в том, во сколько английских жизней он нам обойдется, и насколько их число будет соответствовать запрещению Бартоломью иметь потери.
Люди Бэкстона не могли бы рассеяться после взрыва, как стая птиц, и найти сами обратную дорогу в Муаггар, В ночном сражении некоторые из них были бы отрезаны и могли погибнуть. Нам пришлось бы дожидаться их, что могло бы нам стоить еще больших потерь. Весь урон мог составить пятьдесят человек, а я исчислял ценность моста менее чем в пять. Его разрушение могло настолько устрашить турок и привести их в такое замешательство, что они оставили бы нас в покое до 30 августа, когда наша длинная колонна выступит в Азрак. Сегодня было уж 20-е. В июле опасность казалась серьезной, но сейчас она уже почти миновала.
Бэкстон согласился со мной. Мы решили отказаться от нашего замысла и немедленно двинуться обратно.
Наши люди были разочарованы, услыхав о перемене. Они горячо верили, что план будет выполнен полностью.
Желая выиграть хотя бы то, что мы могли, я послал всех старшин, чтобы они распустили преувеличенные слухи о нашей численности и рассказывали бы о нашем приходе, как о рекогносцировке армии Фейсала, намеревающейся с новолунием штурмом занять Амман. Прослышав о нас, турки пришли в ужас. Их кавалерия ринулась вперед. Пустые жестянки из-под мяса, которыми была усыпана вершина горы, и глубокие следы огромных автомобилей, изрезывавшие склоны долины, подтвердили бессвязные рассказы поселян. Не пролив ни капли крови, мы добились задержки врага на неделю. Разрушением же моста мы бы выиграли две недели.
Мы подождали, пока сгустились сумерки, и выступили в Азрак, лежавший в пятидесяти милях. Наступила светлая, лунная ночь. Мы двигались вперед до бледного утра.
Через два дня пути, выбившись из сил, мы добрались до Азрака.
Там мы отдыхали в течение двух дней. На третий мы пустились в путь в Баир.
Оттуда я решил поехать с броневиками в Абу эль-Лиссан, ибо в Баире Бэкстон находился между испытанными друзьями и мог действовать без моей помощи.
Джойс, Доуней и Юнг рассказали, что все идет чудесно. Действительно, приготовления закончились, и Джойс уехал в Каир, а Доуней — в ставку главнокомандующего, чтобы рассказать Алленби о наших успехах и о неукоснительном осуществлении его плана.
Наши дрязги
Судно, пришедшее из Джедды, привезло почту из Мекки. Фейсал развернул «Эль-Кибелла» (газету короля Хуссейна),[65] и с ее страниц на него взглянул королевский указ, гласящий, что дураки называют Джафар-пашу командующим войсками арабской северной армии, тогда как даже нет такого чина и вообще нет чина выше капитана в арабской армии, в рядах которой шейх Джафар наравне с другими лишь выполняет свой долг.
Король Хуссейн, узнав, что Алленби представил Джафара к отличию, опубликовал свой указ, не предупредив о нем Фейсала. Он намеревался этим досадить северным городским арабам, сирийским и месопотамским офицерам, которых король презирал за распущенность; в то же время он боялся их образованности. Он знал, что они сражаются не ради его господства, а ради освобождения своих областей, чтобы самим управлять ими, и жажда власти непреодолимо охватила старика.
Джафар заявил Фейсалу о своей отставке. Его примеру последовали наши дивизионные офицеры и штабы, с полковыми и батальонными командирами. Я упрашивал их не обращать никакого внимания на причуды семидесятилетнего, отрезанного в Мекке от мира, старика, величие которого они сами создали. Фейсал же отказался принять их отставку, указав, что приказы о производстве были изданы им, и что указ оскорбляет его одного.
Придя к такому выводу, он телеграфировал в Мекку и получил ответную телеграмму, называвшую его изменником и ставившую его вне закона. Он сложил с себя командование на Акабском фронте. Хуссейн назначил Зейда ему в преемники. Зейд немедленно отказался. Шифрованные послания Хуссейна стали бессмысленными от ярости, и военная жизнь Абу эль-Лиссана внезапно застопорилась.
Доуней до отхода судна позвонил мне из Акабы и уныло спросил, не потеряна ли всякая надежда. Я ответил, что все зависит от случая, но что, может быть, мы преодолеем трудности.
Перед нами открывались три пути. Первый — найти средство давления на короля Хуссейна, чтобы он взял назад свое постановление. Второй — продолжать нашу деятельность, не признавая его. Третий — провозгласить формальную независимость Фейсала от отца.
Каждый путь находил своих сторонников как между англичанами, так и между арабами. Мы послали Алленби телеграмму, прося смягчить инцидент. Хуссейн был упрям и изворотлив, и могли потребоваться недели, чтобы вырвать у него извинение. В обычных условиях мы могли бы допустить потерю этих недель, но сейчас мы находились в злосчастном положении, ибо через три дня нам следовало, во всяком случае, выступить в экспедицию на Деръа. Мы должны были найти какое-либо средство продолжать войну, пока в Египте не найдут разрешения вопроса.
Моим первым долгом являлось срочное извещение Нури Шаалана о том, что я не смогу встретиться с ним на сборе его племен в Кафе, но что я буду в Азраке к его услугам с первого дня новолуния. Это было печально, потому что Нури мог заподозрить, что я переменил решение, и отменить сбор, а без племен руалла исчезла бы половина нашей силы и значения при походе на Деръа 16 сентября. Однако нам приходилось рискнуть этой меньшей потерей, ибо без Фейсала, регулярных войск и орудий экспедиция совсем не могла состояться.
Второй моей обязанностью было отправить в Азрак караваны с грузом провианта и боевыми припасами. Все эшелоны, под начальством назначенных офицеров, выступили в путь согласно программе, разумеется, не вовремя, но лишь с одинаковым опозданием.
Следующим нашим долгом являлось своевременное отправление войск в Азрак. Чтобы осуществить это, следовало восстановить их доверие к их офицерам. Здесь мы прибегли к такту Стерлинга. Нури Сайд был достаточно честолюбив, как всякий солдат, чтобы использовать как можно лучше подвернувшийся ему благоприятный случай, и охотно согласился двинуться на Азрак, не дожидаясь извинения Хуссейна.
Люди поддавались доводам. Мы старались им доказать, что такие важные вопросы, как о провианте и платье, целиком зависели от сохранения их организации. Они не устояли, и отдельные колонны посаженной в седло пехоты, пулеметчиков, гуркасов, египетских саперов, артиллеристов двинулись в путь с двухдневным опозданием.
Последней обязанностью было восстановить верховную власть Фейсала. Без него всякие серьезные попытки военных действий между Деръа и Дамаском являлись бы тщетными. Мы могли бы провести нападение на Деръа, чего от нас ожидал Алленби, но захват Дамаска, чего я ждал от арабов, ради чего я сражался рядом с ними на полях битвы, пережил множество мучений и расточал свой разум и силу, зависел от присутствия Фейсала с нами на фронте. Он решительно приказал выступить по моему приказу.
Что касается получения извинения из Мекки, то Алленби и полковник Вильсон старались об этом из всех сил. Если бы они потерпели неудачу, моим намерением было обещать Фейсалу непосредственную поддержку британского правительства и объявить его в Дамаске суверенным эмиром. Это было вполне возможно, но я хотел избежать этого, оставив на крайний случай. До сих пор арабы в своем восстании шли по прямым путям, и мне не хотелось, чтобы они пришли в жалкое состояние раскола перед окончательной победой и миром.
Король Хуссейн вел себя, как мы и ожидали. Он многоречиво протестовал, бесконечно разглагольствуя и совершенно не понимая тяжелых последствий своего вмешательства в дела Северной армии. Чтобы разъяснить их, мы послали ему откровенный отчет о случившемся.
Его телеграммы шли через весь Египет и через наших радистов в Акабе пересылались мне, чтобы я направлял их Фейсалу.
Арабский шифр был прост, и я исписывал целые страницы, переставляя его до полной бессмыслицы, прежде чем передать Фейсалу.
Наконец от него пришло длинное послание, содержавшее в первой половине уклончивые извинения и взятие назад злосчастного указа, а во второй — повторение оскорбления в новой форме. Я уничтожил конец письма и захватил с собой начало, помеченное «очень срочно», в палатку Фейсала, где он сидел в кругу своих штатных офицеров.
Глаза всех устремились на него, пока он читал письмо. Фейсал был поражен и с удивлением уставился на меня, ибо краткие слова не соответствовали сварливому, упрямому нраву его отца. Но он овладел собой, прочел извинение вслух и под конец взволнованно сказал:
— Телеграф спас нашу честь.
Это вызвало взрыв восхищения, а он наклонился и нашептал мне на ухо:
— Я говорю о чести почти всех нас.
Это было так хорошо сказано, что я засмеялся и сказал скромно:
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
Он ответил:
— Я предложил служить в этом последнем походе под вашим начальством: почему этого было недостаточно?
— Потому, что это идет вразрез с вашей честью.
— Вы всегда ставите мою честь выше вашей, — и он решительно встал со словами: —Теперь, правоверные, воздадим хвалу Аллаху и — за работу.
В течение трех часов мы разработали программу действий. Я распрощался. Джойс только что вернулся из Египта, и Фейсал обещал самое позднее 12 сентября присоединиться ко мне с Джойсом и Маршалом. Я в «роллс-ройсе» двинулся на север, надеясь, что, хотя уж было четвертое число, я все же успею вовремя собрать племена руалла под начальством Нури Шаалана для нашего нападения на Деръа.
В авангарде
Мы ехали втроем: лорд Уинтертон, ишан Насир и я. Лорд Уинтертон являлся нашим последним рекрутом. Это был опытный офицер из верблюжьего корпуса Бэкстона.
В Баире мы услышали от встревоженных людей бени-сахр, что турки накануне внезапно кинулись из Хесы на запад в Тафила.
Мифлех решил, что я сошел с ума или проявляю крайне неуместную веселость, когда я во все горло расхохотался, услышав эту весть, так как, приди она к нам раньше на четыре дня, она бы задержала экспедицию на Азрак. Но сейчас, когда мы уже выступили — враг мог взять хотя бы и Абу эль-Лиссан, и Гувейру, и самое Акабу — добро пожаловать! Каждый человек которого они сейчас посылали на юг, являлся для них только потерей.
В Азраке мы нашли несколько слуг Нури Шаалана, автомобиль с офицером-летчиком, несколько запасных частей и холщовый ангар для двух аэропланов, защищавших наши силы. Мы провели первую ночь на аэродроме и подверглись нашествию москитов.
Вследствие этого на заре нам пришлось перенести лагерь на открытые ветрам высоты Меджаберского кряжа.
После полудня прибыл бронированный автомобиль для усиления нашей обороны, хотя опасность со стороны неприятеля являлась незначительной. Область между нами и железной дорогой прикрывали три племени.
В Деръа находилось лишь сорок всадников, в Аммане — ни одного. И до сих пор турки не имели никаких известий о нас. Один из их аэропланов утром девятого числа пролетел над нами и исчез, вероятно, не заметив нас.
Наш лагерь на вершине являлся великолепной позицией для наблюдений за дорогами на Деръа и Амман.
Днем мы, 12 англичан с Насиром и его рабом, лениво бродили, купались при заходе солнца, бездельничали, мечтали, с удобством спали по ночам, или, точнее, я наслаждался благодетельной передышкой между заключением дружбы с Абу эль-Лиссаном и объявлением войны в следующем месяце.
Это ощущение покоя лежало отчасти во мне самом, так как в этом походе на Дамаск (таковым он был уже в нашем представлении) мне изменила моя обычная уравновешенность. Я чувствовал за собою страстное возбуждение арабов. Сказался результат агитации этих лет, и вся страна объединилась и двигалась к своей исторической столице. В уверенности, что это оружие, допущенное мной самим, соответствовало моей конечной цели, я, казалось, забывал своих сотоварищей-англичан, которые не были посвящены в мою идею и просто воевали. Я сделал ошибку, что не посвятил их в свои планы.
Много позже я узнал, что Уинтертон вставал каждое утро и изучал горизонт, чтобы моя беспечность не дала возможности застать нас врасплох. На самом деле я знал (и, вероятно говорил), что мы были в безопасности, на сколько это возможно на войне.
Мой план заключался в том, чтобы ввести в заблуждение врага ложными подготовлениями к атаке на Амман. В действительности же мы намеревались отрезать путь на Деръа.
Укрепившись в Азраке, мы выполнили первую часть плана. Мы послали тысячу золотых соверенов племени бени-сахр и приобрели весь ячмень, имевшийся на их молотилках. Мы просили не разглашать того, что ячмень нам понадобится через две недели для наших животных и для наших британских союзников. Шейх Тафила Диаб немедленно передал об этом в Карак.
В придачу Фейсал предупредил в Баире клан зебн о том, что понадобятся его слуги. Горнби, уже (быть может, немного преждевременно) носивший арабское платье, детально готовился к великому штурму Мадебы.[66] Он намеревался двинуться около девятнадцатого числа, когда узнает о выступлении Алленби. Однако турки разрушили его план своим наступлением на Тафила, и Горнби пришлось защищать против них Шобек.
Что касается Деръа, то нам пришлось составить надлежащий план атаки. В качестве предварительной операции мы решили перерезать железнодорожную линию вблизи Аммана, таким образом воспрепятствовать подходу в Деръа подкреплений из Аммана и укрепив в Аммане убеждение о том, что наше ложное нападение на него являлось подлинным.
Главной же нашей целью являлось перерезать железные дороги в Хауране[67] и держать их в таком состоянии, по крайней мере, неделю. Для достижения этого, казалось, существовало три пути.
Первый — двинуться на север от Деръа к Дамасской железной дороге, перерезать ее, а затем переправиться к Ярмукской железной дороге.
Второй — двинуться на юг от Деръа к Ярмуку.
Третий — ринуться напрямик на город Деръа.
Третий план мог бы быть выполненным лишь при условии, если наши воздушные силы пообещают настолько энергичную бомбардировку вокзала Деръа при дневном свете, что ее эффект будет равноценен артиллерийскому обстрелу и даст нам возможность отважиться на штурм города с нашим малочисленным отрядом. Вице-маршал воздушных сил Салмонд надеялся добиться этого, но все зависело от того, сколько он получит или успеет своевременно собрать мощных самолетов.
Алан Доуней должен был прилететь к нам 11 сентября с окончательным решением. До тех пор мы не могли отдать предпочтение ни одному из планов.
Из наших резервов первыми прибыли 9 сентября люди моей охраны. Они сообщили, что Нури почти готов и решил присоединиться к нам.
11-го прибыли броневики, и полковник Джойс со Стерлингом, но без Фейсала. Майор Маршалл остался, чтобы на следующий день сопровождать его в качестве оруженосца, а там, где принимал участие Маршалл, всегда все шло без сучка и задоринки. Затем прибыл обоз, майор Юнг и капитан Пик.
Азрак сделался многолюдным, и у его озер вновь зазвучали громкие голоса.
11-го же числа прилетел аэроплан из Азрака. К несчастью, Доуней опять заболел, и заменивший его штабной офицер, новичок, позабыл передать, что 6 сентября Аленби сказал Бартоломью:
— Зачем нам ломать голову над Мессудие? Пусть кавалерия идет прямо к Афуле и Назарету.
Тем самым целиком менялся весь план, и огромное бесплановое наступление заменялось определенной целью.
Нам не сообщили о нем ни слова, но от пилота, которого информировал Салмонд, точно узнали о количестве самолетов-бомбовозов. Число их было ниже минимума, необходимого для Деръа. Поэтому мы попросили лишь начать бомбометание, которое бы удержало турок в Деръа, пока мы не обойдем ее кругом с севера, чтобы обеспечить разрушение дамасской линии.
На следующий день прибыл Фейсал, а следом за ним войска, Нури Сайд и Джемиль.
После полудня появился Нури Шаалан в сопровождении шейхов.
Прибыл также Ауда абу-тайи с Мохаммедом эль-Дейланом. Маджид ибн-Султан из Адвана вблизи Салта прискакал, чтобы узнать правду о нашем нападении на Амман.
Поздно вечером на севере раздалась трескотня ружейной перестрелки, и шейх Талал эль-Гарейдин, мой старый товарищ, подскакал яростным галопом с сорока или пятьюдесятью верховыми крестьянами. Его полнокровное лицо сияло от радости по случаю нашего долгожданного прибытия. Друзы и горожане-сирийцы, люди Исавийе и Хаварне умножили собой наше собрание. Все были бодры и чувствовали себя прекрасно.
Все, кроме меня одного. Толпа испортила удовольствие, которое вызывал во мне Азрак. Я спустился в долину к нашему уединенному Айн-эль-Эссаду и пролежал там весь день в своей старой берлоге между тамарисками, в запыленных зеленых ветвях, в которых носился ветер и шелестела листва, напоминая деревья в Англии.
Она шептала мне, что я смертельно устал от этих арабов, ничтожных, типичных семитов. В своей безграничной способности проявлять добро и зло, они достигали предельных результатов, поднимаясь на высоту и падая вниз в размахе, недостижимом для нас, и все же в течение двух лет я с пользой для себя притворялся их товарищем.
Тем временем, вследствие моей отлучки, Джойс взял на себя всю ответственность. По его приказу Пик с египетским верблюжьим корпусом, броневиками, отрядом саперов и гурков выступил в путь, чтобы перерезать железнодорожную линию у Ифдеина.
По плану, капитан Скотт-Хиггинс со своми проворными индусами должен был после наступления темноты внезапным натиском захватить блокгауз. Затем Пик до рассвета разрушает путь. Утром автомобили прикроют их отступление на восток через равнину, по которой мы, главный отряд, направимся из Азрака на север к Умтайе, большой впадине, наполненной дождевой водой, в пятнадцати милях ниже Деръа, служившей нам передовой базой. Мы дали им проводников из племени руалла и проводили их, возлагая много надежд на эту важную предварительную операцию.
Наша колонна выступила в путь как раз на рассвете.
Дела с Нури и Фейсалом задержали меня на целый день в Азраке, но Джойс оставил мне автомобиль, на котором я на следующее утро нагнал армию.
У Джойса были дурные новости. Пик уже присоединился к нему, доложив о неудачной попытке добраться до железнодорожной линии из-за недоразумений с арабами, жившими по соседству с участком, намеченным для разрушения. Мы придавали большое значение разрушению Амманской железной дороги, и всякая задержка являлась преступлением. Я оставил автомобиль, захватил груз пироксилина и, сев на своего верблюда, бросился во главе отряда на восток в направлении железной дороги.
Мы достигли Умтайе как раз перед заходом солнца и направились к железной дороге, надеясь стремительным наскоком разрушить ее. Сумерки дали нам возможность приблизиться, не вызвав тревоги, и к нашей радости мы обнаружили, что проход доступен для броневиков: как раз перед нами находились два хороших моста.
Я решил вернуться утром с автомобилями и большим запасом пироксилина, чтобы уничтожить большой четырехпролетный мост. Восстановление его отняло бы у турок несколько дней. Таким образом была бы возмещена неудача Пика. Это было счастливое открытие, и мы поскакали обратно, намечая по пути лучшую дорогу для автомобилей.
Утром, пока войска завтракали, мы, устроив совет, объясняли арабским вождям возможность набега автомобилей на железнодорожную линию. Было принято решение, что два броневика должны опуститься к мосту и атаковать его, в то время как главный отряд двинется дальше к горе Телль-Арару на Дамасской железной дороге, в четырех милях на север от Деръа. Завладев линией, отряд займет там позицию на рассвете следующего дня, 1 сентября, а мы, покончив с мостом, присоединимся к ним с автомобилями.
Около двух часов дня, когда мы направлялись к железной дороге, нашим глазам открылось величественное зрелище реющих бомбовозов, с жужжанием стремившихся к Деръа в свой первый налет. Непривыкший к воздушным атакам, незащищенный турецкий гарнизон понес тяжкие потери.
Мы в двух пассажирских и двух бронированных автомобилях, зигзагами пересекли поросшие травой склоны и пробирались между стенами по усыпанным грубым камнями равнинам.
На подъеме к югу от моста стоял каменный блокгауз. Мы остановились, чтобы оставить здесь под прикрытием пассажирские автомобили. Я пересел в бронированный автомобиль, захватив с собой полтораста фунтов пироксилина, намереваясь спуститься в долину к мосту.
Его своды, которые скроют нас от выстрелов поста, дадут мне возможность подложить и поджечь подрывные снаряды. Тем временем второй автомобиль, открыв активные действия, займет блокгауз, чтобы прикрыть мою операцию.
Оба броневика двинулись одновременно. Когда семь или восемь человек турецкого гарнизона заметили нас, их охватило удивление, и они, выскочив из окопов, ринулись на нас в полном порядке с ружьями наперевес. Их толкала либо паника, либо непонимание происходящего, либо нечеловеческая отвага.
Через несколько минут второй автомобиль открыл по ним стрельбу. Тем временем возле моста появилось четверо турок, которые начали стрелять в нас. Наши пулеметчики установили прицел и открыли огонь. Один из турок упал, другой был ранен, остальные бросились бежать, но передумали и вернулись, показывая, что сдаются. Мы отняли у них винтовки, а их самих отослали в долину к автомобилям. В ту же минуту блокгауз сдался. Мы были очень довольны, что в пять минут и без всяких потерь захватили мост и прилегающий участок железнодорожного полотна.
Джойс в своем броневике ринулся вниз с пироксилином. Мы поспешно расположились возле моста, представлявшего собой прелестную игрушку вышиной в пятнадцать футов, украшенную сияющей плитой из белого мрамора с надписью в честь султана Абдул-Гамида. Мы заложили в отверстия стоков у мостовых устоев шесть небольших зарядов и, взорвав их, разнесли вдребезги все пролеты моста.
Потом мы посадили нескольких пленных поверх груза и двинулись. К несчастью, в своем упоении мы ехали слишком беззаботно, и с моей машиной вскоре случилась серьезная поломка.
Мы пришли в отчаяние, так как успели отъехать лишь на триста ярдов от железной дороги и рисковали потерей броневика, так как враг находился близко.
Шофер Ролльс, наш искуснейший механик, чуть не плакал из-за происшедшего несчастья. Мы обступили его толпой, офицеры рядом с рядовыми, англичане вперемешку с арабами и турками. Все со страхом смотрели на выражение его лица.
Когда Ролльс понял, что он, рядовой солдат, должен командовать в этих критических обстоятельствах, его лицо, казалось, застыло в упорной решимости.
Наконец он заявил, что имеется лишь один шанс на исправление, и он попытается использовать его. Его искусство было настолько велико, что он успешно выполнил свою задачу. Автомобиль без всяких дополнительных починок служил мне до самого Дамаска. Воистину великими были и Ролльс и «роллс-ройс»! В пустыне они стоили сотен людей!
Починка автомобиля задержала нас на несколько часов, и, покончив с нею, мы провели ночь в Умтейе. Мы были уверены, что, выступив в путь завтра на рассвете, не слишком опоздаем при встрече с Нури Саидом. Ведь мы могли ему сказать, что линия на Амман, благодаря разрушению главного моста, была закрыта для движения на целую неделю. Она служила скорейшим путем для прибытия подкрепления в Деръа, и ее уничтожение делало наш тыл безопасным.
Мы оказали помощь даже бедняге Зейду, находившемуся позади в Абу эль-Лиссане, ибо турки, сосредоточившие свои силы в Тафила, отложили атаку до исправления своих коммуникационных линий.
Наша последняя кампания начиналась благоприятно.
Мы перерезываем главные линии
Мы выступили в путь до рассвета и, несмотря на неблагоприятную дорогу, к восьми часам утра нагнали арабскую армию на вершине откоса, ведущего к железной дороге.
Ряды людей приводились в боевую готовность для атаки небольшого редута, охранявшего мост и находившегося между нами и склоном горы Телль-Арара, с вершины которой открывался вид на весь округ до Деръа.
Конные всадники племени руалы, которых вел шейх Трад, ринулись по длинному склону к железнодорожному полотну. Майор Юнг бросился за ними на своем «форде».
Наблюдая с кряжа, мы полагали, что линия будет захвачена без единого выстрела, но внезапно турецкий пост, к которому мы отнеслись с излишним пренебрежением, открыл яростную стрельбу. Наши храбрецы, стоявшие в великолепных позах, попрятались.
Нури Сайд двинул вниз пушки и выпустил несколько снарядов. Войска и люди племени руалла все же легко овладели редутом, потеряв лишь одного убитого.
Таким образом, к девяти часам утра в наши руки перешли южные десять миль Дамасской линии. Это была единственная железная дорога, ведущая в Палестину и Хиджаз, и я почти не верил нашему счастью, почти не верил что мы выполнили так просто и скоро наше обещание, которое дали Алленби.
Арабы потоком хлынули вниз с кряжа. Наши солдаты могли невооруженным глазом видеть три узловых станции — Деръа, Мезериб и Газале.
Но я видел еще дальше: на север — Дамаск, турецкую базу, единственное звено их связи с Константинополем и Германией, которое было сейчас перерезано; на юге — отрезанные Амман, Маан и Медину; на западе — изолированного в Назарете генерала Лимана фон Сандерса,[68] Наблус и Иорданскую долину.
Сегодня было 17 сентября — назначенный день. Через сорок восемь часов Алленби бросит вперед все свои силы.
Мне хотелось, чтобы вся железнодорожная линия была разрушена в одну минуту, но вся работа, казалось замерла. Армия уже выполнила свою задачу; Нури Сайд расставлял пулеметы вдоль склона Арара, чтобы отразить всякие вылазки из Деръа. Но почему не продолжалось уничтожение железнодорожного пути?
Я кинулся вниз и застал египетский отряд капитана Пика за завтраком. Я онемел от изумления при виде этой картины. Однако, через час им сделали перекличку, и они приступили к подрывной работе. Французские артиллеристы, у которых также был пироксилин, спустились к соседнему мосту. Они не были очень искусны, но при второй попытке частично разрушили его.
Прежде чем начало мелькать знойное марево, мы с вершины Телль-Арара внимательно осмотрели Деръа через мой сильный бинокль, чтобы узнать, что задумывали турки на сегодняшний день. Мы сделали тревожное открытие. На турецком аэродроме было заметно большое оживление. Команды вытаскивали на открытое место одну машину за другой. Я мог сосчитать восемь или девять аэропланов, выстроенных в ряд.
В остальном все было, как мы и ожидали. Немногочисленные пехотинцы сдваивали ряды, занимая оборонительные позиции. Турецкие пушки стреляли по нас, но до нас было целых четыре мили. Из паровозных труб шел дым, но поезда не были бронированы.
Позади нас, по направлению к Дамаску, местность казалась неподвижной, как географическая карта. Справа у Мезериба не было заметно никакого движения. Инициатива была в наших руках.
Мы надеялись при помощи шестисот изобретенных мной и Пиком специальных взрывных снарядов, имеющих форму тюльпана, вывести из строя шесть километров рельсового пути. На исправление его у турок ушла бы добрая неделя.
Я повернулся, чтобы отправиться к войскам, и в эту минуту случилось два происшествия. Взорвался первый снаряд Пика. Поднялся столб черного дыма, похожий на тополь. В то же время первый турецкий аэроплан отделился от земли и полетел к нам.
Мы с Нури Саидом притаились под нависшим утесом, расщелины которого представляли собой глубокие естественные траншеи на южном склоне горы. Мы хладнокровно ожидали разрыва бомбы, но аэроплан, оказалось, производил лишь разведку и, закончив ее, вернулся в Деръа.
Должно быть, он привез дурные вести, ибо три двухместных аэроплана, четыре самолета-разведчика и один старый желтобрюхий «Альбатрос», быстро взвившись в воздух один за другим, закружились над нами, сбрасывая бомбы или, снизившись, осыпая нас пулеметным огнем. Нури разместил своих артиллеристов в расселинах утеса, и скоро их орудия загрохотали в ответ. Неприятельские аэропланы пришли в замешательство и, делая круги, улетели. Вернулись они, взяв гораздо большую высоту. Их цель становилась неясной.
Мы велели нашим войскам рассеяться, а нерегулярные части рассеялись сами. На равнине не имелось ни одного прикрытия, под которым мог бы скрыться даже кролик. Единственная надежда на безопасность заключалась в том, чтобы представлять собой как можно менее определенную мишень, но опасение закралось в наши сердца, когда мы увидали разбежавшиеся повсюду тысячи наших людей. Казалось странным стоять на горной вершине, глядя на волнистый четырехугольник с поперечником в две мили, усыпанный людьми и животными, застилаемый ленивыми клубами дыма от взрывающихся бомб и вздымающейся пыли, подхлестываемой градом пулеметных пуль.
Дело становилось жарким, но египтяне размеренно продолжали свою работу. Четыре отряда зарывали снаряды, а Пик и один из его офицеров поджигали каждый ряд, как только он был заложен.
В каждом снаряде содержалось по две шашки пироксилина. Этого количества было недостаточно, чтобы получались заметные взрывы, и вражеские аэропланы, казалось, не замечали, что происходит под ними. По крайней мере, они не слишком засыпали наших людей бомбами, а те постепенно, по мере того, как их разрушительная работа подвигалась вперед, выбирались из опасной зоны на спокойную местность на севере. Мы отмечали их продвижение, сваливая телеграфные столбы.
Мы с Нури Саидом и Джойсом собрались на совет, обсуждая, как добраться до ярмукского участка Палестинской линии, чтобы завершить нашу деятельность по разрушению Дамасской и Хиджазской железных дорог.
С одной стороны, бомбы могли причинить нам тяжкий урон при переходе через открытую равнину, с другой — взрывной отряд Пика оказался бы во власти Деръа, если бы турки отважились на вылазку; сейчас они были в смятении, но время могло вернуть им храбрость.
Пока мы колебались, все каким-то чудом разрешилось само собой. Лейтенант Джунор, летчик единственного аэроплана, находившегося в Азраке, услышал о вражеских аэропланах возле Деръа и самолично решил выполнить воздушную программу.
В самую тяжелую для нас минуту его машина внезапно появилась над нами.
Мы наблюдали за ним со смешанным чувством, ибо его безнадежно устарелая машина легко могла стать добычей любого вражеского самолета-истребителя. Но неприятеля сперва охватило удивление, когда загрохотали его два орудия. Неприятельские аэропланы рассеялись, чтобы внимательно осмотреть своего неожиданного противника. Джунор полетел на запад через железную дорогу, а те пустились за ним в погоню, пренебрегая находящейся на земле мишенью.
Нас оставили в полном покое. Нури использовал затишье, чтобы собрать триста пятьдесят человек с двумя орудиями и спешно направил их за Телль-Арар к Мезерибу.
Мы послали крестьян вслед за солдатами. Спустя полчаса, когда я созывал свою охрану, чтобы добраться до Мезериба первым, опять раздалось жужжание моторов. К нашему удивлению, Джунор появился вновь, все еще невредимый, хотя и окруженный с трех сторон вражескими аэропланами, осыпавшими его пулями. Отстреливаясь, он делал великолепные повороты и скольжения. Туркам мешала их многочисленность, но, разумеется, исход схватки казался предрешенным. В нас теплилась слабая надежда, что Джунор сможет спуститься невредимым, и мы ринулись к железной дороге, где простиралась полоса почвы, почти свободная от камней. Пока Джунор снижался, все поспешно помогали ее расчистить. Он бросил нам записку, что его бензин весь вышел. Мы лихорадочно работали в течение пяти минут, а затем подали ему сигнал на посадку. Он начал крутой спуск, но в эту минуту подул сильный порыв ветра под острым углом. Джунор прекрасно провел посадку, но ветер еще раз подул навстречу. Шасси сломалось, и аэроплан перевернулся.
Мы кинулись на подмогу, но Джунор уже вылез из кабинки, совершенно невредимый, если не считать пореза на подбородке. Он вытащил пулемет Льюиса, орудие Виккерса и барабаны с трассерами. Мы бросили все в «форд» Юнга и обратились в бегство. И в ту же минуту один из турецких аэропланов снизился и бросил бомбу на место катастрофы.
Через пять минут Джунор уже просил дать ему новое поручение. Джойс дал ему «форд», и он смело поехал вдоль железнодорожного полотна почти до самой Деръа и взорвал там рельсы, прежде чем турки успели его заметить. Они нашли его усердие чрезмерным и открыли по нем орудийную стрельбу, но Джунор с грохотом умчался в своем «форде», оставшись невредимым в третий раз.
Моя охрана ждала на склоне горы, выстроившись двумя длинными рядами. В виду нашего большого опоздания я решил открыто двинуться к Мезерибу самым быстрым шагом. К несчастью, мы привлекли внимание врага. Один из аэропланов медленно пронесся над нами, сбрасывая бомбы: первая, вторая, третья — все дали промахи, но четвертая угодила прямо в середину. Двое из моих людей упали. Их верблюды, обливаясь кровью, бились на земле. Но люди не получили даже царапины, и вскочили на круп верблюдов позади двоих из своих друзей.
Мы стремительно поскакали к Мезерибу, где шейх Дарзи ибн-Дагми встретил нас известием, что солдаты Нури Сайда находятся лишь в двух милях позади нас. Из-за старой крепости мы осмотрели озеро и заметили движение на французской железнодорожной станции.
Крестьянские парни рассказали нам, что турки держат ее в своих руках. Однако подступы к ней казались слишком заманчивыми. Абдулла повел наступление и, захватив станцию, нашел там хлеб, муку и небольшую добычу оружия, лошадей и украшений. Последние раздразнили моих людей. Они бросились бежать по траве, торопясь, словно мухи на мед. Шейх Таллал прискакал галопом.
Мы поднялись вместе на дальнюю насыпь и увидали в трехстах ярдах впереди турецкую станцию. Мы могли бы ее занять, прежде чем атаковать большой мост ниже Телль эль-Шехаба. Со всех сторон показались турки. Таллал беззаботно двинулся вперед.
— Все в порядке, — сказал он, — я знаю начальника станции.
Но когда мы находились в двухстах ярдах от нее, нас оглушил залп из двадцати винтовок. Мы остались невредимыми и скрылись в высокой сорной траве, почти сплошь состоявшей из чертополоха. Проклиная Таллана, мы осторожно поползли обратно.
Нури Сайд был точен. Он прибыл вместе с Насиром, и мы обсудили наше положение. Нури указал, что промедление у Мезериба может привести к тому, что мы потеряем нечто более важное — мост. Я согласился, но считал, что лучше получить синицу в руки, чем журавля в небе, так как разрушение Пиком главной линии задерживалось на неделю, а в конце недели положение могло перемениться.
Итак, в ход были пущены пушки, и несколько их сильно взрывчатых снарядов разнесли станцию. Под прикрытием их и наших двадцати пулеметов Нури, в перчатках и при шпаге, вышел вперед, чтобы принять сдачу сорока оставшихся в живых турецких солдат.
Сотни крестьян Хаурана, обезумев, ринулись грабить богатейшую станцию. Мужчины, женщины и дети дрались, как собаки, из-за каждой вещи. Они расхитили двери и окна, дверные и оконные рамы и даже ступеньки лестниц. Какой-то ловкач взломал несгораемый ящик и нашел внутри почтовые марки. Другие разгромили вереницу вагонов, стоявших на запасном пути, и нашли там самые разнообразные товары. Десятки тонн этих товаров были расхищены, а еще больше было уничтожено и разбросано по земле.
Мы с Юнгом перерезали телеграфные провода, являвшиеся действительно главной связью палестинской армии с родиной. Безнадежное отсутствие инициативы у турок приводило к тому, что их армия сильно нуждалась в руководстве, и, таким образом, разрушив телеграф, мы значительно способствовали превращению ее в беспорядочное скопище.
Покончив с телеграфом, мы занялись нашей добычей. Между захваченным подвижным составом находилось два товарных вагона, битком набитых всякими деликатесами для какой-то германской походной лавки. Арабы, с недоверчивостью относившиеся к жестянкам и бутылкам, почти все уничтожили, но мы раздобыли немного мяса и консервированного супа, а позднее Нури Сайд дал нам спаржу. Он увидал, как один из арабов вскрывает банку, и с притворным ужасом он крикнул тому:
— Свиные кости!
Крестьянин сплюнул и бросил ящик, а Нури Сайд набил до отказа спаржей свои седельные мешки.
Когда грабеж закончился, мы позволили людям поужинать и отдохнуть перед ночным нападением на Шехабский мост, лежавший в трех милях к западу. Мы хотели атаковать его с наступлением темноты, но нас сначала задержал ужин, а затем к нам нагрянули толпы посетителей, так как сигнальные огни наших костров известили о нашем прибытии почти весь Хауран.
Гости могли нам помочь своими новостями, и их приходилось встречать приветливо. Они прибывали с севера неиссякающим потоком верхом на лошадях, на верблюдах, пешком, сотни за сотнями, охваченные грозным и величественным энтузиазмом, ибо они думали, что мы окончательно заняли страну, и что Насир закрепит свою победу, взяв Деръа той же ночью. Прибыли даже члены городского магистрата Деръа, чтобы открыть нам ворота своего города. Приняв их предложение, мы должны были бы поддерживать водоснабжение железнодорожной станции, которая сдалась бы неизбежно. Но позднее, если бы турецкая армия еще продержалась, она могла бы снова выгнать нас оттуда, и мы утратили бы поддержку жителей равнины, обитавших между Деръа и Дамаском, от которых зависела наша окончательная победа.
В общем, все говорило против немедленного взятия Деръа. Нам опять пришлось отослать обратно наших друзей, придумав оправдания, которые были доступны их пониманию.
Дело двигалось очень медленно, а когда, наконец, все было готово, появился новый гость, совсем мальчик, старшина Телль эль-Шехаба. Его деревня являлась ключом к мосту. Он описал позицию, рассказал, что там находится многочисленная стража, и указал ее местоположение.
Задача была. труднее, чем мы полагали, если его рассказ соответствовал действительности. Но мы сомневались в этом, так как его недавно умерший отец был враждебно настроен к нам, и преданность сына нашему делу казалась слишком внезапной. Однако он закончил свою речь заявлением, что вернется через час со своим другом офицером, командующим гарнизоном. Мы послали его, чтобы он привел своего турка. Нашим людям мы велели еще раз прилечь на краткий отдых.
Мальчик скоро вернулся с турецким капитаном, армянином, жаждавшим причинить вред своему правительству каким бы то ни было способом. Его младшие офицеры и некоторые унтера, заявил он, верны туркам. Он предложил, чтобы мы подошли вплотную к деревне и тайком залегли там, между тем как трое или четверо самых сильных наших людей спрячутся в его комнате. Он призовет своих подчиненных одного за другим, и наша засада сможет их перевязать поодиночке.
Его предложения словно сошли со страниц авантюрного романа, и мы с энтузиазмом согласились. Было девять часов вечера. Ровно в одиннадцать мы должны были окружить деревню и подождать шейха, чтобы он провел наших людей в дом коменданта.
Оба заговорщика, довольные, отправились обратно, а мы разбудили наш отряд, заснувший мертвым сном возле нагруженных верблюдов. Не было видно ни зги.
Моя охрана приготовила для моста взрывные снаряды из гремучего студня. Я набил свои карманы детонаторами. Насир разослал людей к каждому отделению верблюжьего корпуса, чтобы известить о предстоящей атаке.
Наш отряд длинным двойным рядом, крадучись, спустился по извилистой тропе возле оросительного рва. Если бы нас ожидала измена, эта лишенная прикрытий дорога оказалась бы для нас смертельной западней, безвыходной, узкой, извилистой и скользкой от воды, протекавшей по дну. Поэтому Насир и я шли первыми с нашими людьми. Их привычное ухо улавливало каждый звук, а глаза все время были настороже. Впереди нас оглушительно грохотал водопад.
Мы крались медленно и осторожно. Шаги наших босых ног были беззвучны. Позади, затаив дыхание, ползли, как змеи, наши солдаты. Волны сырого воздуха от реки встретили нас своей прохладой.
В эту минуту слева спустился к нам Рахейл и, схватив меня за руку, указал на столб белого дыма, медленно подымающийся из долины. Мы подбежали к краю спуска и уставились во мрак. Глубину застилал поднявшийся от воды серый туман, и мы видели лишь бледную тусклость плывущего спиралями дыма. Где-то внизу проходила железная дорога, и мы остановились, боясь, не ждет ли нас здесь ловушка. Втроем мы спустились шаг за шагом по скользкому склону горы, пока не расслышали голоса и пыхтение паровоза. Внизу, должно быть, стоял поезд. Успокоившись, мы опять двинулись к нашей цели — ниже деревни.
Мы растянулись в ряд и прождали пять минут, затем десять. Минуты проходили с томительной медленностью. Наконец, мы позволили людям сойти с верблюдов на землю, и сели, удивляясь задержке бдительности турок и желая узнать, что означает этот молчаливый поезд, стоявший под нами в долине. Наши шерстяные плащи набухли и отяжелели от сырости. Мы дрожали от озноба.
Спустя много времени темноту прорезало светлое пятно. То был мальчик-шейх, державший свой коричневый плащ раскрытым, показывая нам, как флаг, свою белую рубашку. Он прошептал, что его план потерпел неудачу. Только что прибыл какой-то поезд (тот самый, который шумел в лощине) и привез германские и турецкие резервы из Афуле, посланные Лиманом фон Сандерсом на выручку охваченной паникой Деръа. Они посадили офицера-армянина под арест за то, что он отлучился со своего поста. С ними была уйма пулеметов, а часовые безостановочно наблюдали за подступами. Действительно, на тропинке недалеко от нас разместился сильный пикет.
Нури Сайд предложил, чтобы главный отряд занял местность. У нас было достаточно бомб, на нашей стороне был перевес в численности и боевая готовность. Нам представлялся прекрасный случай, но я все подсчитывал, во сколько жизней нам обойдется дело, и, как всегда, нашел цену слишком дорогой. Поэтому я заявил Нури, что голосую против. Мы сегодня уже дважды перерезали Дамасско-Палестинскую железную дорогу, а прибытие сюда гарнизона из Афуле являлось нашей третьей услугой Алленби.
После минутного размышления Нури согласился со мной. Мы пожелали спокойной ночи юноше, который честно стремился оказать нам такую большую помощь. Мы прошли вдоль рядов, шепотом приказывая каждому бесшумно двинуться обратно. Затем мы сели группой, держа винтовки наперевес и ожидая, пока наши люди выберутся из опасной зоны.
Борьба по всему фронту
Перед рассветом от Телль-Арара прибыли орудия и остальные войска Нури Сайда. Мы написали Джойсу, что завтра вернемся на юг, к Насибу, чтобы замкнуть окружение Деръа. Я предложил ему прямо двинуться обратно к Умтайе и ожидать нас там, ибо Умтайе с его обильными запасами воды, великолепным пастбищем и одинаковой отдаленностью от Деръа, Джебель-Друза и пустыни Руалла, казалось идеальным местом, где мы могли собраться, ожидая известий об успехах Алленби.
Неохотно мы собрались на следующий день для новых трудов, созвали весь отряд и, растянувшись на огромном протяжении, двинулись через станцию Мезериб. Мы с Юнгом не спеша закладывали снаряды, в то время как войска разбрелись по развороченной земле по направлению к Ремте, чтобы их не могли заметить ни из Деръа, ни из Шехаба. Над нами гудели турецкие аэропланы, производя наблюдения. Поэтому мы отослали наших крестьян через Мезериб обратно в их деревни. Благодаря этому турецкие летчики донесли, что нас очень много, — возможно, восемь или девять тысяч человек, и что наши центробежные передвижения, казалось, направлены одновременно во всех направлениях.
К их вящему изумлению наши снаряды взорвали водонапорную башню в Мезерибе спустя много часов после того, как мы через него прошли. Немцы в эту минуту выступали из Шехаба, направляясь в Деръа, но необъяснимый грохот заставил их вернуться и задержаться там до вечера.
Между тем мы были далеко и настойчиво брели к Нисибу, горной вершины которого достигли к четырем часам дня. Мы предоставили нашей посаженной в седло пехоте короткий отдых, а тем временем двинули наших артиллеристов и пулеметчиков к гребню первого кряжа, откуда шел спуск к железнодорожной станции.
Мы расположили их там под прикрытием орудия и велели нарочно открыть огонь на две тысячи ярдов по станционным зданиям. Артиллеристы, соперничая друг с другом, так принялись за дело, что вскоре в крышах и навесах появились неровные дыры. В то же время мы двинули наших пулеметчиков налево, чтобы обстрелять окопы, откуда по нас открыли в ответ жаркую, упорную стрельбу. Однако наши войска имели естественное прикрытие, и на их стороне было то преимущество, что послеполуденное солнце сияло за их спинами. Поэтому мы не понесли никаких потерь, — так же, впрочем, как и неприятель. Разумеется, все это было лишь игрой, и захват станций не входил в наш план. Нашей действительной целью являлся большой мост, лежавший к северу от деревни. Турки удерживали мост посредством небольшого редута и поддерживали связь с ним через пехотинцев, расположенных в деревне под прикрытием ее стен.
Мы обратили два орудия и шесть пулеметов против редута у моста, надеясь вынудить его защитников покинуть его. Пять пулеметов направили свой огонь по деревне. Через пятнадцать минут ее старшины, очень встревоженные, прибыли к нам. Нури обещал прекратить огонь при условии, что турки будут немедленно выгнаны из домов. Они обещали нам это.
Мы удвоили наш обстрел станции и моста. Огонь с четырех сторон сделался жестоким, благодаря нашим двадцати пяти пулеметам, а также турецким, имевшимся у них в изобилии. Наконец, мы направили все четыре орудия против редута и после нескольких залпов увидали его охрану бегущей из своих разрушенных окопов через мост под прикрытие железнодорожной насыпи.
Последняя была вышиной в двадцать футов. Если охрана моста намеревалась защищать мост из-за его сводов, она находилась бы на прекрасной позиции. Однако мы рассчитывали, что станция соблазнит турок оставить мост. Я отделил половину своего отряда, нагруженного взрывчатым веществом, и двинулся с ним вдоль гребня пулеметного бруствера, пока мы не очутились на расстоянии полета камня, брошенного из редута.
Редут оказался действительно покинутым. Мы спешились и подали Нури сигнал прекратить стрельбу. В молчании мы осторожно прокрались через своды моста и нашли их тоже оставленными.
Поспешно мы сложили пироксилин в кучу возле устоев моста, толщиной около пяти футов и вышиной в двадцать пять футов. Мост, семьдесят девятый для меня по счету, был великолепен, но в стратегическом отношении он был самым важным пунктом, ибо мы собирались обосноваться в лежащем против него Умтайе, пока Алленби не выступит вперед и не освободит нас. Поэтому я решил не оставить от моста камня на камне.
Нури тем временем торопил пехоту, артиллеристов и пулеметчиков спуститься в сгущающемся мраке ночи к железнодорожному полотну, приказав отойти от него на милю в пустыню, выстроиться в колонну и ждать.
Однако прохождение такого большого количества верблюдов по полотну продолжалось томительно долго.
Раздраженные, мы сидели под мостом, держа спички в руке, чтобы немедленно поджечь запал (несмотря на близость войск), если бы поднялась тревога. К счастью, все шло благополучно, и через час Нури подал мне сигнал. Полминуты спустя, лишь только я успел вскочить в турецкий редут, восемьсот фунтов пироксилина сразу взорвалось, и в почерневшем воздухе засвистали летящие камни. Находясь на расстоянии лишь двадцати ярдов, я был оглушен грохотом, который должен был быть слышен на полпути к Дамаску.
Мы созвали все свои войска и проехали две или три мили по открытой местности, направляясь к Умтайе.
Дорога, усыпанная моренами из скользких долеритов, стала очень неровной, и мы с радостью сделали привал и разлеглись шеренгами для вполне заслуженного нами сна. Однако казалось, что мы с Насиром должны отвыкнуть от него. Поднятый нами шум у Нисиба возвестил всем окрестностям о нашем присутствии. Едва мы успели успокоиться, как со всех сторон к нам хлынули посетители, чтобы обсудить последние события. Шли слухи, что мы лишь совершаем набег, а не оккупируем территорию, и что затем мы удерем отсюда, как удрали англичане от Салта, предоставив нашим местным друзьям расплачиваться за все.
Наш ночной покой беспрестанно нарушался этими пришельцами, с криком окружавшими наш бивуак и, по крестьянскому обыкновению, слюнявившими нам поцелуями руки с торжественными заявлениями, что мы их всесильные владыки, а они наши смиреннейшие слуги. Может быть, на этот раз мы не приняли их с нашей обычной любезностью, но в отместку они подвергли нас пытке, заставляя нас бодрствовать через силу… В течение трех дней и трех ночей мы напряженно работали, обдумывая, приказывая и выполняя приказы; и сейчас потеря для отдыха и четвертой ночи вызывала острую горечь.
Их причитания угнетали нас все сильнее и сильнее, пока, наконец, Насир не отвел меня в сторону и не шепнул мне, что, очевидно, где-то поблизости существует центр недовольства. Я отпустил своих телохранителей, чтобы они вмешались в толпу поселян и выяснили, в чем дело. По их донесениям оказалось, что недовольство идет из ближайшего поселения Тайибе, жители которого вчера были потрясены возвращением бронированных автомобилей Джойса, вызванным случайными обстоятельствами. Этот случай породил опасения, что при нашем отступлении Тайибе окажется местом, подвергающимся наибольшей опасности.
Я подозвал Азиза, и мы поскакали прямо к Тайибе по неровным слоям лавы, заваленным каменными глыбами. В хижине старшины восседал конклав, чьи страхи заразили наших посетителей. Они спорили, кого послать к туркам, чтобы умолять их о пощаде, как вдруг мы неожиданно вошли. Наше прибытие лишь вдвоем пристыдило их как доказательство полнейшей безопасности. Мы поговорили часок на сторонние темы — о хлебах и ценах на сельскохозяйственные продукты — и выпили кофе. Затем мы поднялись, чтобы уехать. После нашего ухода болтовня возобновилась, но их настроение изменилось в нашу пользу, и они не дали знать неприятелю о нас. А на следующий день турки подвергли их селение бомбардировке и артиллерийскому обстрелу за такое упорное сообщничество с нами.
Мы вернулись до наступления рассвета и расположились, чтобы заснуть. Но тут раздался оглушительный грохот со стороны железной дороги, и за нашими спящими войсками взорвался снаряд. Турки выслали бронированный поезд с полевым орудием.
Мы поспешно двинулись по ужасной дороге. Показался турецкий аэроплан и закружился над нами, чтобы помочь артиллеристам. Снаряды начали падать возле нас. Мы удвоили быстроту шага и растянулись в ломаную линию, лишенную всякого прикрытия. Внезапно аэроплан нерешительно застыл в воздухе, а затем отклонился в сторону по направлению к железной дороге и, казалось, снизился. Турецкое орудие выпустило еще один удачно направленный снаряд, который убил двух верблюдов, но после этого потеряло прицел. Около пятидесяти следующих выстрелов не причинили нам вреда, и мы успели выйти из пределов досягаемости для снарядов. Турецкое орудие приступило к наказанию Тайибе.
Джойс в Умтайе проснулся от канонады и вышел, чтобы встретить нас. Позади его высокой фигуры развалины были расцвечены пестрой толпой, составленной из представителей всех деревень и племен хаурана, прибывших засвидетельствовать уважение и предложить — по крайней мере на словах — свои услуги. К неудовольствию уставшего Насира, я оставил его с ними, а сам ушел с Джойсом и Уинтертоном, рассказывая им о снизившемся аэроплане и высказывая предположение, что его подбил какой-нибудь бронированный автомобиль с места своей стоянки. В эту минуту появились еще два неприятельских аэроплана и сделали посадку у того же самого места, где снизился первый.
Однако завтрак, первый за долгое время, был уже приготовлен. Мы сели, и Джойс рассказал, как обитатели Тайибе стреляли по нему, когда он проезжал мимо, вероятно, чтобы подчеркнуть свое мнение о чужаках, которые сначала разворачивают гнездо турецких шершней, а затем улепетывают.
Завтрак окончился. Мы вызвали из числа автомобилистов добровольца, чтоб обследовать неприятельский аэродром. Все выступили вперед с молчаливой готовностью и охотой, от которых у меня перехватило дух. Наконец, Джойс выбрал двоих автомобилистов с двумя машинами — одной для Джунора, а другой для меня — и мы проехали пять миль к долине, у входа в которую, казалось, снизились аэропланы.
Мы заглушили шум автомобиля и медленно поползли вперед по дороге. Приблизительно в двух тысячах ярдов от железной дороги она изгибалась кругом, через гладкий луг, у дальнего края которого стояло три аэроплана. Это было великолепно! Мы ринулись вперед, но нам преградил путь глубокий ров, окаймленный отвесными насыпями из растрескавшейся земли и совершенно непроходимый.
Мы в ярости устремились вдоль него по дороге. Когда мы остановились, два аэроплана начали разбег. Мы открыли по ним огонь, пытаясь нащупать прицел по пыльным клубам, но самолеты уже отделились от земли и, прошумев над нами, исчезли.
Третья машина закапризничала. Ее пилот и наблюдатель отчаянно запускали пропеллер, пока мы приближались. Наконец, они спрыгнули в железнодорожный ров, а мы начали посылать пулю за пулей в остов самолета, пока он не заплясал под их градом. Мы выпустили полторы тысячи пуль по нашей мишени, а затем повернули обратно.
К несчастью, оба спасшихся бегством аэроплана успели слетать в Деръа и, пылая злобой, вернуться. Один из них не проявил особого ума и сбросил на нас четыре бомбы с большой высоты, дав промах. Но второй ринулся вниз и начал метко и аккуратно сбрасывать бомбы. Мы медленно поползли назад, беззащитные между камней, чувствуя себя обреченными, как сардинки в жестяной коробке, когда бомбы начали падать все ближе. Одна из них осыпала градом мелких камней управляющую часть автомобиля, но лишь изранила нам руки. Другая изодрала переднюю шину и чуть не перевернула автомобиль. Все же мы благополучно добрались до Умтайе и донесли Джойсу о нашем успехе. Мы доказали туркам, что аэродром непригоден для пользования, и что Деръа в равной степени доступна для автомобильной атаки.
Позднее я прилег в тени одного из автомобилей и заснул. Все арабы пустыни и пролетавшие турецкие аэропланы, которые бомбардировали нас, не могли нарушить моего мирного отдыха. В огне событий люди стали лихорадочно неутомимыми, но сегодня мы счастливо закончили наш первый набег, и мне было необходимо отдохнуть перед следующими походами. Как и всегда, я заснул, как убитый, лишь только лег, и проспал до полудня.
Помощь королевского воздушного флота
Со стратегической точки зрения наша задача заключалась в том, чтобы оставаться в Умтайе, дававшем нам господство над тремя железными дорогами Деръа. Если бы мы продержались тут еще неделю, мы задушили бы турецкие армии, как бы незначительны ни были успехи Алленби. Однако с тактической точки зрения Умтайе являлся опасным местом. Слабый отряд, состоявший исключительно из регулярных войск без прикрытия партизан, не мог без потерь удержать его, и все-таки мы должны были бы пойти на это, даже если бы беспомощность наших воздушных сил продолжала оставаться очевидной.
У турок было, по крайней мере, девять аэропланов. Мы расположились лагерем в двенадцати милях от их аэропланов, в открытой пустыне, возле единственного источника воды, с большими табунами верблюдов и лошадей, которые, по необходимости, паслись вокруг нас. Первая же турецкая бомбардировка казалась достаточной, чтобы переполошить наших партизан, являвшихся нашими глазами и ушами. Как только они превратят свою службу и отправятся по домам, наша боеспособность будет подорвана. Тайибе, первая деревня, которая служила нам прикрытием от Деръа, находилась в таком же положении — она лежала беззащитная, содрогаясь под огнем многократных обстрелов.
Если мы собирались оставаться в Умтайе, Тайибе должна была быть в ладу с нами.
Прежде всего мы должны были получить воздушное подкрепление от Алленби, намеревавшегося на второй день послать в Азрак самолет за донесениями. Я решил, что мне полезно поехать и переговорить с ним. Я мог бы вернуться к двадцать второму числу. Умтайе продержалась бы до тех пор, ибо мы всегда могли обмануть вражеские аэропланы, передвинувшись к Умель-Сурабу, соседней деревне.
Но чтобы находиться в безопасности в том или другом месте, мы должны были удерживать инициативу в своих руках. Фланг со стороны Деръа был временно закрыт из-за недоверчивости крестьян. Оставалась Хиджазская линия. Мост на сто сорок девятом километре был почти исправлен. Мы должны были его вновь разрушить и вместе с тем разрушить еще один мост на юге, чтобы преградить к первому доступ ремонтных поездов. Попытка Уинтертона, произведенная вчера, доказывала, что первая задача требовала участия войск и орудий. Вторая могла быть осуществлена набегом.
Итак, я заявил Джойсу, что египтяне и гурки возвращаются в Акабу, и попросил одолжить мне бронированный автомобиль, чтобы я мог отправиться с ними и сделал бы все, что может быть сделано. Мы отыскали Насира и Нури Сайда и сообщили им, что я вернусь двадцать второго числа с боевыми самолетами, что избавит нас от турецких истребителей и бомб.
Приключения и подрывные работы этой ночи прошли в фантастическом беспорядке. При заходе солнца мы двинулись к открытой долине в трех милях удобного пути от железной дороги. Нам могли угрожать неприятности со стороны станции Мафрака. Мой броневик в сопровождении «форда» лейтенанта Джунора должен был охранять этот фланг против вражеского наступления. Египтянам предстояло двинуться прямо к железнодорожному полотну и взорвать свои снаряды.
Мое руководство потерпело полную неудачу. Мы блуждали в течение трех часов в лабиринте долин и не могли найти ни железной дороги, ни египтян, ни нашего исходного пункта. Наконец мы заметили какой-то огонь и, поехав в его направлении, очутились против Мафрака. Мы услыхали пыхтение паровоза, отходившего от станции на север, и погнались за ним, надеясь захватить его, пока он не доехал до разрушенного моста. Не успели мы нагнать его, как раздались далекие взрывы тридцати снарядов Пика.
Несколько верховых стремглав проскакали мимо нас, направляясь на юг. Мы обстреляли их. Патрулирующий поезд вернулся, отступая с возможной быстротой перед опасностью, грозившей ему от снарядов Пика. Мы помчались с ним бок о бок, открыв огонь из нашего орудия Виккерса по товарным вагонам, а Джунор осыпал их во мраке зеленым градом светящихся пуль из своего пулемета Льюиса. Завывания турок, пришедших в ужас от этой световой атаки, заглушили нашу стрельбу и грохот паровоза. Турки яростно отстреливались, и внезапно наш огромный автомобиль засопел и остановился. Неприятельская пуля пронзила незащищенную часть резервуара с бензином, единственное незабронированное место на всем автомобиле. Мы потеряли час, чтобы заткнуть пробоину.
Покончив с ней, мы поехали вдоль безмолвного железнодорожного полотна, но не могли отыскать наших друзей. Поэтому, отъехав на милю, мы остановились, и я, наконец, мог выспаться в течение трех часов, оставшихся до рассвета.
Я проснулся освеженным и узнал местность. Мы поспешно двинулись вперед, миновав египтян, и рано днем добрались до Азрака. Там находились Фейсал и Нури Шаалан, горя желанием услышать наши новости. Я все подробно рассказал и вслед затем отправился к Маршаллу во временный госпиталь.
На рассвете неожиданно прибыл Джойс.
Позднее прибыл самолет из Палестины, и мы услыхали первую изумительную весть о победе Алленби. Он вдребезги разбил турок, прорвался через их фронт и далеко отогнал неприятеля.[69] Картина нашего военного положения изменилась, мы срочно сообщили Фейсалу о перемене, советуя ему поднять всеобщее восстание, чтобы использовать благоприятную ситуацию.
Час спустя я благополучно прибыл в Палестину. Воздушный отряд дал мне в Рамле автомобиль, чтобы я добрался до ставки главнокомандующего, и я застал там великого Алленби в состоянии полной неподвижности. Лишь в глазах его загорался огонь, когда Болс, суетясь, докладывал каждые пятнадцать минут о все растущем успехе. Алленби был настолько в нем уверен еще до своего выступления в поход, что донесения были ему почти скучны.
Он набросал мне план своих дальнейших действий. Историческая Палестина находилась в его руках, и разбитые турки, засев в горах, ожидали, что его погоня за ними ослабеет. Но Алленби не помышлял ни о чем подобном! Генералы Бартоломью и Иванс приготовились нанести три новых удара: один через Иордан по Амману силами новозеландских войск генерала Чайтора; второй — через Иордан на Деръа силами генерала Барроу и его индусов; третий — через Иордан по Кунейтре австралийскими войсками генерала Чавела. Чайтор остался бы на отдыхе в Аммане, Барроу и Чавел же, осуществив первую часть плана, устремились бы к Дамаску. Мы должны были помогать на всех трех направлениях, и я не мог угрожать Дамаску, пока мы все не соединимся.
Я объяснил, что наши планы рушатся благодаря слабости наших воздушных сил. Алленби нажал звонок, и через несколько минут вице-маршал воздушного флота Салмонд и командир воздушного флота Бортон уже совещались с нами. Их аэропланы являлись необходимой частью в плане Алленби (этот человек в совершенстве умел использовать пехоту и кавалерию, артиллерию и воздушный флот, морской флот и броневики, маскировки и нерегулярные войска, и каждую отдельную часть порознь наилучшим образом!) — и они уже выполняли предназначенную им роль. Небо ускользнуло из рук турок, за исключением нашего фланга, что я умышленно подчеркнул. Тем лучше, заявил Салмонд, — они пошлют два истребителя Бристоля для операций в Умтайе, пока у нас не минует в них надобность. Есть ли у нас запасные части к ним? Бензин? Ни капли? Как его можно туда доставить? Только воздушным путем? Воздушно-боевым отрядом? Неслыханное дело!
Однако, Салмонд и Бортон были людьми жадными, к новшествам. Они наметили грузы для DH 9 и «хэнли-пэйджа», а Алленби сидел рядом и улыбался, уверенный, что все будет сделано. По его плану сотрудничество воздушного флота осуществлялось умело и гибко, служба связи была совершенна, полна и быстра. Именно королевский воздушный флот превратил отступление турок в бегство, именно он уничтожил их телефонную и телеграфную связь, блокировал их обозные колонны, рассеял пехотные части неприятеля. Салмонд и Бортон принимали участие, так сказать, не только в тактической деятельности Алленби, но и в его стратегии. Кульминационным моментом воздушной атаки являлся разгром злополучных турок в долине, по которой Эсдраелон сбегает к Иордану у Бейсана. Современное автомобильное шоссе — единственный путь, пользуясь которым турецкие дивизии могли спастись бегством — шло зигзагами между скалой и пропастью в ущелье. В течение четырех часов наши аэропланы, сменяя друг друга над обреченными колоннами турок, подвергли их дождю из девяти тонн бомб и гранат и пятидесяти тысяч патронов мелкокалиберных орудий. Когда дым рассеялся, стало видно, что в рядах неприятеля исчезли всякие следы военной организованности. Они превратились в дезорганизованный отряд трепещущих беглецов, спасающих свою жизнь, прячась за каждым выступом обширных холмов. Турецким командирам так и не удалось вновь собрать их. Когда на следующий день наша кавалерия вступила в безмолвную долину, она насчитала девяносто орудий, пятьдесят грузовиков и около тысячи повозок, брошенных со всеми принадлежностями. Королевский воздушный флот потерял четырех человек убитыми. Турки же — целый корпус.
Начальники воздушного флота обратились ко мне с вопросом, достаточно ли удобны наши посадочные площадки для спуска самолета хандли-пэйджа с полным грузом. Я лишь один раз видел огромный самолет под его навесом, но решительно ответил: «Да!».
Все же они предпочли на следующий день послать со мной эксперта, чтобы убедиться в этом. Салмонд поднялся и сказал:
— Отлично, сэр, мы сделаем все необходимое.
Я вышел, чтобы позавтракать.
Перед рассветом следующего дня на австралийском аэродроме стояли два истребителя «Бристоль» и один DH 9. В одном сидел капитан воздушных сил, сэр Росс Смит, мой старый летчик, которого избрали летать на новом самолете типа «хэнли-пэйдж», единственной в Египте машине этого класса, являвшейся гордостью Салмонда.
Мы добрались до Умтайе за один час. Армия уже ушла. Отсюда мы отправились обратно в Ум-эль-Сураб, где и нашли ее. Арабы, услыхав шум аэропланов, начали всюду прятаться, но Юнг подал нам сигнал посадки и зажег дымовые снаряды.
Росс Смит озабоченно измерил шагами длину и ширину приготовленной площадки и исследовал ее недостатки. Когда готовили завтрак, он присоединился к нам с просветленным лицом. Почва вполне подходила для самолета «Хэндли-Пэйдж». Юнг рассказал нам о многократных бомбардировках, которым они подверглись вчера и позавчера, потеряв убитыми нескольких солдат и артиллеристов. Эти обстрелы так измучили войска, что они ночью двинулись в Ум-эль-Сураб. Однако идиоты турки продолжали бомбардировать Умтайе, хотя наши люди отправлялись туда за водой лишь в полдень и ночью, когда военные действия не производились.
Я также услышал о последнем взрыве полотна железной дороги, произведенном Уинтертоном. При этом произошел забавный случай: он встретил какого-то неизвестного солдата и объяснил ему на ломаном арабском языке, как хорошо идут дела. Солдат возблагодарил Аллаха за его милости и исчез во мраке, а минуту спустя турки со всех сторон открыли пулеметный огонь. Несмотря на это, Уинтертон использовал все свои снаряды и отступил в полном порядке, не понеся никаких потерь.
К нам подошел Насир и начал передавать нам все местные сплетни о том, что такой-то ранен, такой-то убит, что один клан готов был присоединиться к нам, и некоторые из его людей уже присоединились, но остальные ушли домой.
Три сверкающих аэроплана очень воодушевили арабов. Они восхваляли англичан и свое собственное мужество и выносливость, когда я рассказывал им почти невероятную эпопею об успехах Алленби: Наблус взят, Афуле взято, взяты Бейсан, Семах и Хайфа. По лагерю пробежала дрожь восторга и самоуверенности. Я решил вызвать Фейсала и Нури Шаалана, чтобы они приняли участие в последнем бою.
Тем временем наступило время для завтрака, и в воздухе запахло колбасой. Мы сели в круг и приготовились было к еде, но караульный на разрушенной башне закричал:
— Аэроплан в воздухе!
Аэроплан приближался со стороны Деръа. Наши австралийцы яростно бросились со всех ног к своим еще не остывшим аэропланам и в одну минуту подготовили их к отлету. Росс Смит со своим наблюдателем вскочил в один из них и, как кошка, вскарабкался наверх. За ним поднялся лейтенант Питере, а третий летчик стоял возле DH 9 и упорно смотрел на меня.
Я притворился, что не понимаю его. Нет, я вовсе не собирался принять участие в воздушном бою, и меня не интересовало мнение пилота. Ведь он был австралиец и не имел отношения к арабам, для которых мне приходилось выступать в роли актера.
Он относился ко мне со слишком большим уважением, чтобы заговорить: он лишь укоризненно глядел на меня, наблюдая начавшийся воздушный бой. Там был один неприятельский двухместный самолет и три истребителя. Росс Смит ринулся на первый, и после пятиминутной резкой пулеметной трескотни германский самолет внезапно круто спустился к железнодорожному полотну. Он вспыхнул позади низкого кряжа, и оттуда поднялись клубы черного дыма. Арабы вокруг нас разразились громкими восклицаниями. Пять минут спустя Росс Смит вернулся и весело выскочил из своего самолета, клянясь, что арабский фронт ему нравится.
Наша вареная колбаса еще не успела простыть. Мы съели ее и напились чаю (наши последние запасы из Англии, начатые ради гостей), но едва взялись за виноград из Джебель Друза, как караульный опять замахал плащом и завопил:
— Аэроплан!
На этот раз, выиграв состязание, первым поднялся Питере, а Росс Смит вторым, оставив неутешного лейтенанта Трайлля в резерве. Но неприятель трусливо повернул назад с такой быстротой, что Питере смог настигнуть его лишь возле Арара, где и подбил свою добычу. Позднее, когда волна войны докатилась туда, мы нашли груду бесформенных обломков и два обуглившихся тела немцев.
Росс Смит заявил, что охотно остался бы здесь на арабском фронте, где враг появляется каждые полчаса. Он глубоко завидовал оставшемуся Питерсу, но, однако, должен был вернуться за своим «хэнли-пэйдж», бензином, провиантом и запасными частями. Третий самолет летел в Азрак, и я отправился с ним, чтобы повидать Фейсала.
Мы вернулись в Азрак спустя всего лишь тридцать часов с того времени, как его покинули. Я повернул гурков и египтян обратно, чтобы они присоединились ко всей армии для новых подрывных работ на севере. Мы забрались с Фейсалом и Нури Шааланом в зеленый «воксхолл», и направились в Ум-эль-Сураб, чтобы присутствовать при спуске «хэнли-пэйджа».
Мы быстро передвигались по ровным голышам или глинистым равнинам, и наш мощный автомобиль пыхтел вовсю, но счастье нам не улыбалось. Пришло донесение о несогласиях среди арабов, и мы были вынуждены свернуть в сторону к одному из местных лагерей Сирхан. Однако мы извлекли пользу из потери времени, приказав их бойцам выступить в Ум-тайе.
Наш автомобиль опять ринулся на север. Не доезжая двадцати миль до Ум-эль-Сураба, мы заметили одинокого бедуина, бегущего к югу со всех ног. Ветер развевал его седые волосы и бороду. Он переменил направление, чтобы пробежать мимо нас, и, взмахивая костлявыми руками, крикнул:
— Самый большой аэроплан в мире!
Затем он опять повернул на юг, чтобы разгласить между палатками свою великую весть.
В Ум эль-Сурабе на траве величественно стоял «хэндли». Самолеты Бристоля, как птенцы, приютились под его широко распростертыми крыльями. Арабы любовались им, говоря:
— Наконец-то нам в самом деле прислали настоящий аэроплан. Ведь эти штуки были лишь его жеребятами.
Еще не наступила ночь, как слух о нем достиг холмов Джебель-Друза и долин Хаурана.
С аэропланом прибыл сам Бортон, чтобы сговориться о помощи. Мы беседовали с ним, в то время как наши люди вытаскивали из корпуса самолета и сеток для бомб целую тонну бензина, нефть и запасные части для истребителей Бристоля, чай, сахар и довольствие для наших людей, письма, телеграммы агентства Рейтер и всякие медикаменты для нас. Затем ранними сумерками огромный самолет поднялся на воздух и направился в Рамле с согласованной программой ночной бомбардировки Деръа и Мафрака, чтобы завершить развал железнодорожного движения, начало которому положил наш пироксилин.
Мы со своей стороны не должны были ослаблять своего нажима на неприятеля при помощи пироксилина. Ведь Алленби поручил нам тревожить и сдерживать турецкую четвертую армию, пока Чайтор не вытеснит ее из Аммана, и отрезать ей пути отступления. Это отступление являлось лишь вопросом дней; мы решили, что на следующей неделе мы поднимаем восстание на равнинах между нами и Дамаском. Поэтому Фейсал решил присоединить к нашей колонне людей племени руалла, которых привел Нури Шаалан из Азрака, с верблюдами. Тем самым наши силы увеличивались до четырех тысяч человек, из которых свыше трех четвертей являлись партизанами, на последних вполне можно было положиться, так как Нури, суровый, молчаливый, не останавливающийся ни перед чем старик, держал все племя в ежовых рукавицах.
Турки терпят поражение
Следующий день я отдыхал в палатке Насира среди его посетителей-крестьян.
Нури Сайд с двумя орудиями, Стерлинг, Уинтертон, Юнг, со своими броневиками открыто подошли во главе значительного отряда к железной дороге, разрушили полотно на протяжении одного километра и сожгли деревянное сооружение, при помощи которого турки чинили мост, взорванный мной и Джойсом перед нашим первым нападением на Деръа.
Нури Шаалан, в черном широком плаще, лично вел своих всадников племени руалла. В его присутствии племя проявило такую доблесть, что она вызвала похвалу даже со стороны Нури Сайда.
Задание Нури на сегодняшний день заключалось в том, чтобы нанести туркам окончательный удар, после которого они отказались бы от попыток восстановить железнодорожную линию между Амманом и Деръа.
В соответствии с этим, на рассвете следующего дня мы с Уинтертоном и Джемилем выехали в автомобилях, чтобы осмотреть линию к югу от станции Мафрак. Нас встретил интенсивный пулеметный огонь, по силе и точности превосходивший все, что мы до сих пор испытали.
Мой план заключался в том, чтобы подъехать под манивший нас мост, и, укрывшись под его сводом, подложить снаряд под быки. Поэтому я пересел в броневик, захватив с собой шестьдесят фунтов пироксилина, и велел шоферу двинуться под арку.
Уинтертон и Джемиль следовали позади в резервном автомобиле.
— Очень жарко! — вздыхал Джемиль.
— Там, куда мы направляемся, будет, вероятно, еще жарче, — ответил Уинтертон.
Мы медленно продвигались под градом пулеметных пуль, барабанивших по нашей броне, когда из-за железнодорожного полотна кто-то кинул в нас ручную гранату.
Это новое обстоятельство делало неисполнимым мой план проникновения под мост. Наш автомобиль не мог бы устоять против разрывов гранат. Поэтому мы отступили, решив повторить попытку после наступления темноты.
Ум эль-Сурабе мы выяснили, что Насир хочет еще раз расположиться лагерем в Умтайе. Его намерение мне очень понравилось, и мы двинулись, тем самым создавая себе уважительную причину, чтоб этой ночью ничего не делать в отношении железной дороги. Вместо этого мы сидели и делились воспоминаниями, ожидая полуночи, когда самолет «“Хэндли-Пейдж”» приступит к бомбардировке станции Мафрак. Полночь наступила, и мы услыхали взрывы одной стофунтовой бомбы за другой, пока станция не запылала и стрельба турок не замерла.
Всю ночь и следующий день пожар товарных вагонов разгорался все ярче и ярче. Он служил доказательством разрухи у турок, о которой арабы рассказывали со вчерашнего дня. Они говорили, что четвертая армия турок откатывается от Аммана беспорядочной толпой.[70]
Мы созвали совет. Наша деятельность против четвертой армии была закончена. Жалкие остатки ее, ускользнувшие от арабов, могли бы добраться до Деръа безоружными беглецами. Сейчас мы должны были приложить старания к тому, чтобы вынудить Деръа как можно скорей эвакуироваться, и тем самым помешать туркам составить арьергард из беглецов. Я предложил выступить в поход на север, миновать Телль-Арар и, перейдя на рассвете следующего дня железную дорогу, добраться до деревни Шейха Саада. Она находилась в дружественной нам местности, изобиловала водой, представляла удобнейшую позицию для наблюдений и обеспечивала возможность отступления на запад или север и даже на юго-запад, если бы мы подверглись прямому нападению. В то же время она отрезала Деръа и Мезериб от Дамаска.
Шейх Талан эль-Харейдин усердно поддерживал меня. Нури Шаалан кивнул головой в знак согласия, а вслед за ним согласились Насир и Нури Сайд. Броневики не могли отправиться с нами. Было лучше, чтобы они остались в Азраке до нападения Деръа, когда нам понадобится помощь при походе на Дамаск. Истребители «Бристоль» также уже выполнили свою роль, очистив воздух от турецких аэропланов. Они могли вернуться в Палестину с известием о нашем походе к Шейху Сааду.
Они поднялись в воздух, друг за другом. Наблюдая за их полетом, мы заметили, что рядом с дымом, лениво подымающимся от развалин Мафрака, появилось огромное облако пыли. Один из самолетов вернулся и сбросил нацарапанную каракулями записку, что большой отряд вражеской кавалерии движется от железной дороги по направлению к нам.
Это была неприятная новость, так как мы не были в состоянии боевой готовности. Автомобили успели уехать, аэропланы улететь, одна рота посаженной в седло пехоты отсутствовала, мулы Пизани были не разгружены и выстроены в колонну. Я подошел к Нури Сайду, стоявшему с Насиром на вершине холма, и мы могли решить, обратиться ли нам в бегство или остаться. Наконец мы решили, что благоразумнее бежать, и поспешно двинули прочь регулярные войска.
Все же вряд ли мы могли оставить дело в таком положении. Поэтому Нури Шаалан и Таллан повели всадников племен руалла и хауран обратно, чтобы задержать преследование. У них неожиданно оказался союзник, так как наши автомобили, направляясь в Азрак, также заметили неприятеля.
Турки оказались не отрядом кавалерии, направлявшейся в атаку против нас, а сбродом беглецов, искавших кратчайший путь домой. Мы захватили несколько сот пленных и много транспорта, вызвав такую панику и ужас среди турок, что войска, находившиеся на много миль от арабов, начали бросать все свое снаряжение, включая даже винтовки, и, сломя голову, ринулись в Деръа, где они надеялись найти безопасное убежище.
Однако эта помеха задержала нас. Едва ли мы могли, с одетыми в хаки солдатами регулярного верблюжьего корпуса, двигаться ночью без сопровождения туземной кавалерии, необходимой, чтобы служить порукой подозрительным крестьянам в том, что мы не являемся турками. Поэтому поздно днем мы сделали привал, чтобы дать возможность Таллалу, Насиру и Нури Шаалану нагнать нас.
Они настигли нас после наступления темноты. Наши объединенные силы двигались на север, пересекая пашни и минуя богатые деревни.
К нам подбежали арабские женщины, ведя на поводу осликов, нагруженных горшками с водой, крича, что недавно поблизости спустился какой-то аэроплан. Они заметили на его фюзеляже знаки ишана. Пик поскакал к указанному месту и нашел двух австралийцев. Радиатор их самолета «Бристоль» был поврежден во время полета над Деръа. Они удивились и обрадовались, встретив друзей. Починив пробоину, они благополучно улетели дальше.
Каждую минуту люди подъезжали и присоединялись к нам. Отважные юноши бежали пешком, чтобы примкнуть к рядам наших людей.
К полудню мы вступили на засаженные арбузами поля. Солдаты разбежались по ним, пока мы высматривали железнодорожное полотно, покинутое и безлюдное, дрожащее в лучах знойного солнца. Когда мы наблюдали за путями, прошел поезд. Лишь прошлой ночью полотно было исправлено, и это был только третий поезд. Дикой ордой, растянувшейся на две мили, мы двинулись, не встретив сопротивления, к железнодорожной линии, и начали поспешно взрывать рельсы. Все, у кого имелось взрывчатое вещество, использовали его каждый по своему усмотрению. Сотни наших новичков были полны рвения, и, хотя работой никто и не руководил, разрушения достигли больших размеров.
Очевидно, наше возвращение привело в изумление и сбило с толку неприятеля. Мы должны были полностью использовать этот случай. Я подошел к Нури Шаалану, Ауде и Таллалу и спросил, что предпринимает каждый из них. Энергичный Таллал решил атаковать Эзраа, крупное хлебное депо на севере; Ауда — Хирбет эл-Газале, ближайшую станцию на юге; Нури же хотел устремиться со своими людьми по главной дороге к Деръа.
Все три предложения были хороши. Шейхи разошлись, чтобы заняться их осуществлением. Я же со своей охраной поскакал с такой быстротой, что на заре мы вступили в деревню Шейх Саад.
Когда мы проходили между утесами в поле, лежавшее за деревьями, подымающееся солнце возродило жизнь на земле. Люди из большой палатки справа пригласили нас быть у них гостями.
Ночные отряды вернулись с богатой добычей. Эзраа находились в слабых руках алжирского эмира Абд-эль-Кадера, в распоряжении которого были лишь его наймиты, несколько добровольцев и немного войск. Когда Таллал приблизился, добровольцы перешли на его сторону, войска обратились в бегство, а число наймитов являлось настолько незначительным, что Абд-эль-Кадеру пришлось уступить местность без боя. Наши люди слишком отяжелели от огромной добычи, чтобы заняться его преследованием.
Ауда прибыл и начал хвастаться. Он занял Эль-Газале штурмом, захватив оставленный поезд, орудия и двести человек, в том числе часть немцев.
Нури Шаалан доложил о четырехстах пленных с мулами и пулеметами.
Над нами упорно кружился английский аэроплан, разведывая, являемся ли мы арабским отрядом. Юнг разостлал на земле сигналы, и летчики сбросили ему записку о том, что Болгария сдалась союзникам.[71]
Мы даже не знали, что на Балканах ведутся наступательные действия, и, таким образом, известие показалось нам маловажным. Несомненно, конец не только великой войне, но и нашей, был близок. Последнее напряженное усилие, — и наши испытания закончатся, и каждый сможет вернуться к своим делам, забыв о безумиях войны.
Прибыла армия Фейсала. Рощи закишели людьми. Каждый отряд выбирал себе свободное место получше и развьючивал своих верблюдов. Наши люди повели животных к потоку, извивавшемуся между зелеными кустарниками, оливковыми деревьями и пальмами, цветами и возделанными фруктовыми садами, казавшимися нам странными после наших двухлетних скитаний по каменистой пустыне.
Обитатели Шейха Саада боязливо подходили, чтобы поглядеть на армию Фейсала, давно заслужившую себе легендарную славу. Эта армия сейчас находилась в их деревне во главе с вождями, носившими знаменитые и грозные имена — Таллал, Насир, Нури, Ауда. Мы в свою очередь смотрели на поселян, втайне завидуя их мирной крестьянской жизни.
Мы, впятером или вшестером, поднялись на развалины, откуда через южную равнину можно было определить, насколько безопасно наше положение. К нашему изумлению, мы заметили сверху малочисленную роту регулярных войск в мундирах — турок, австрийцев и немцев — с восемью пулеметами на вьючных животных. Они изнемогая, шли из Галилеи к Дамаску, потерпев поражение от Алленби.
Мы не подняли тревоги, чтобы избавить наши утомленные войска от новых мук: лишь Дарзи ибн-Дагми с Хаффаджи и другими членами семьи спокойно сели в седло и напали на неприятеля со стороны узкого прохода. Офицеры попробовали защищаться и были убиты. Солдаты же побросали оружие и сдались.
Вдали на востоке показались толпы народа, движущиеся на север. Мы отправили людей хавейтат, чтобы захватить их, и через час они вернулись. Каждый из них со смехом вел мула или вьючную лошадь, несчастных, бессильных животных, слишком ясно доказывающих своим видом, каким лишениям подвергалась разбитая армия. Их всадниками были невооруженные солдаты, спасавшиеся бегством от англичан. Люди хавейтат гнушались брать подобных пленных.
— Мы отдали их деревенским ребятам в качестве слуг, — усмехнулся Заал, улыбаясь своими тонкими губами.
С запада к нам пришли вести, что немногочисленные роты турок отступают перед атаками генерала Чавела. Мы послали против них вооруженные отряды из людей наим, крестьянского племени, примкнувшего к нам прошлой ночью в Шейх-Мискине. Так давно подготовлявшееся нами восстание масс сейчас вздымалось бурным потоком, так как с каждым нашим успехом вооружались все новые мятежники. В двухдневный срок мы могли бы двинуть шестьдесят тысяч вооруженных людей.
Над горой, за которой скрывалась Деръа, мы увидели густой дым. Какой-то всадник легким галопом подскакал к Таллалу и сообщил, что немцы подожгли аэропланы и склады, и приготовились эвакуировать город. Английский аэроплан сбросил записку, что войска генерала Барроу находятся вблизи Ремте, и что две турецких колонны, одна в составе четырех тысяч человек, а вторая в составе двух тысяч, отступают в нашем направлении из Деръа и Мезериба.
Мне казалось, что эти шесть тысяч человек представляли собой все, что оставалось от турецкой четвертой армии в Деръа и от седьмой армии, которая задерживала наступление Барроу. Уничтожив их, мы бы целиком выполнили здесь свою задачу. Все же, пока мы в этом не убедимся, следовало удерживать в наших руках Шейх-Саад. Поэтому мы решили большую турецкую колонну в составе четырех тысяч человек пропустить, послав за ней лишь Халида с его людьми руалла и частью северных крестьян, чтобы они тревожили ее с флангов и с тыла.
Ближайшая колонна в две тысячи человек была более нам под силу. Их легко остановит половина наших регулярных войск с двумя орудиями. Таллал был встревожен, так как намеченная ими дорога вела через его собственную деревню Тафас. Он склонил нас к решению поспешить туда и овладеть мостом на юг от нее. К несчастью, при измученности наших людей спешка становилась сомнительной. Я поскакал со своим эскадроном в Тафас, надеясь занять незаметную позицию в виде заслона и отступать с боем, пока не подоспеют остальные. На половине пути нам попались навстречу верховые арабы, которые гнали ватагу ограбленных догола пленных по направлению к Шейх Сааду.
Арабы рассказали, что турецкая колонна — последний уланский полк Джемаль-паши — уже вступила в Тафас. Когда показалась деревня, мы, обнаружив, что турки заняли ее и что оттуда доносились звуки случайных выстрелов, сделали возле нее привал. Тонкие столбы дыма подымались между домами.
Мы залегли для наблюдений и увидали, что неприятельский отряд уходит от своего сборного пункта, находившегося за домами. Они маршировали в полном порядке в направлении Мискина, а уланы впереди и в тылу. Смешанный строй состоял из пехоты, расположенной в колонну, защищаемую с флангов пулеметами и содержавшую в центре орудия и транспорт. Мы открыли огонь по фронтовой части их линий, когда она показалась из-за домов. Турки в ответ направили на нас два полевых орудия. Шрапнель, как и обычно, давала перелет и, не причинив вреда, пролетала над нашими головами.
Нури подъехал к нам вместе с капитаном французской артиллерии Пизани. Перед шеренгами войск скакали Ауда абу-Тайи и Таллал, взбешенный рассказами людей клана о страданиях, которым подверглась деревня. Сейчас ее покидали последние ряды турок.
Наша пехота заняла позицию и открыла частую стрельбу, приведя в смятение вражеский арьергард.
Деревня лежала безмолвная, застланная медленными клубами дыма. Приблизившись, мы увидали серые груды трупов. Вдруг из-за груды вышла маленькая фигурка. Это был ребенок трех или четырех лет. Его грязная рубашонка на одном плече и боку залита была кровью, которая струилась из широкой рваной раны на шее.
Ребенок пробежал несколько шагов, затем остановился и удивительно звонким голосом (может быть, потому что все остальные молчали) закричал:
— Не бей меня, баба.[72]
Абд эль-Азиз (это была его деревня, и ребенок мог принадлежать к его родне), соскочил с верблюда и опустился на колени в траву рядом с ребенком. Порывистое движение испугало ребенка, он протянул руки и попытался крикнуть, но вместо этого упал, кровь хлынула и залила его рубашку; мне кажется, что он тут же умер.
Мы миновали трупы, направляясь к деревне. Сейчас нам было понятно, что ее безмолвие означает смерть и ужас. На окраинах шли низкие глиняные стены овчарен, и на одной из крыш я заметил что-то красно-белое. Вглядевшись, я увидел на ней лежавшее лицом вниз тело женщины, пригвожденное между ее голыми ногами зубчатым штыком, рукоятка которого зловеще торчала в воздухе. Возле нее валялось около двадцати трупов, убитых самыми разнообразными способами.
Мы бросились за врагом, пристреливая по дороге отставших, которые молили нас о пощаде. Таллал видел то же, что видели и мы. Он застонал, как раненое животное, поднялся на возвышенность и некоторое время пробыл там. Сидя на своей кобыле и дрожа всем телом, он, не отводя глаз, глядел вслед туркам. Я приблизился, чтобы поговорить с ним, но Ауда схватил мои поводья и остановил меня. Медленным движением Таллал надвинул покрывало на лицо и затем, казалось, внезапно овладел собой, так как ударил стременами по бокам своей кобылы и стремглав пустился галопом, низко наклонившись и раскачиваясь в седле, прямо к главному отряду неприятеля.
Мы окаменели, следя за тем, как он мчался вперед. Стук копыт его лошади, как барабанный бой, неестественно громко отдавался в наших ушах, ибо и мы, и турки прекратили стрельбу. Обе армии ждали, что он сделает, а он несся вперед в вечернем безмолвии, пока до неприятеля не оставалось лишь несколько шагов. Тут он выпрямился в седле и дважды издал ужасным голосом свой военный клич:
— Таллал, Таллал!
И сейчас же затрещали винтовки и пулеметы турок. Таллал и его кобыла, изрешеченные пулями, рухнули мертвыми.
У Ауды был серьезный и свирепый вид.
— Да смилуется над нами Аллах! Мы отплатим за него, — сказал он.
Он дернул поводья и медленно двинулся вслед за врагом. Мы созвали крестьян, опьяненных страхом и кровью, и приказали им напасть с обеих сторон на отступающую колонну. Старый боевой лев проснулся в Ауде и вновь превратил его в нашего вождя. Искусным маневром он загнал турок на неровную местность и расколол их на три части.
Третья из них, самая малочисленная, состояла главным образом из немецких и австрийских пулеметчиков, столпившихся вокруг трех автомобилей, и из горсточки верховых офицеров и кавалеристов. Они великолепно сражались и, несмотря на нашу отвагу, отражали нас раз за разом. Арабы бились, как дьяволы, пот слепил им глаза, пыль иссушила горло. Пламя ожесточения и мести так бушевало в них, что они едва могли управлять руками, чтобы стрелять. По моему приказу мы, первый раз за время нашей войны, не брали пленных.
Наконец мы расправились с этим взводом и пустились в погоню за остальными двумя, опередившими нас. Они находились в паническом страхе, и к заходу солнца мы почти всех перебили. Когда наступила ночь, плодородная равнина была вся усеяна трупами людей и лошадей. Но в ярости, порожденной ужасами Тафаса, мы не прекратили расправы с врагом, убивая одного за другим, пристреливая даже упавших и животных, словно их смерть и струящаяся кровь могли утолить наши душевные страдания.
Однако, несмотря на раны, боль и усталость, я не мог избавиться от дум о Таллале, великолепном вожде, отличном наезднике, учтивом и неутомимом спутнике, и, немного погодя, я, захватив второго верблюда и одного человека из моей охраны, поскакал вперед в ночную мглу, чтобы присоединиться к нашим людям, которые гнались за второй большой колонной турецких войск из Деръа.
Было очень темно, ветер дул сильными порывами с юга и востока, и, лишь руководясь треском выстрелов, которые ветер доносил к нам, и случайными вспышками орудий, мы, наконец, добрались до места сражения. По всем полям и долинам турки, спотыкаясь, брели наудачу на север. Наши люди не отставали от них. Ночная темнота сделала их смелее, и сейчас они вплотную приблизились к неприятелю.
Турки пытались при заходе солнца встать на привал и разбить лагерь, но Халид заставил их двинуться дальше. Они шли беспорядочной, разбросанной толпой.
Наконец, я отыскал Халида и попросил его созвать людей клана руалла и предоставить крестьянам расправиться с турецким сбродом. Нам предстояла работа посерьезнее на юге. В сумерки распространился слух, что Деръа никем не занята. Брат Халида, шейх Трад, с доброй половиной людей анейзе поскакал туда, чтобы проверить это.
Я хотел, чтобы Халид подоспел на подмогу своему брату. Через час или два сотни всадников на конях и верблюдах собрались возле него. По пути в Деръа он атаковал при свете мерцающих звезд несколько отрядов турок и рассеял их. Прибыв в Деръа, он увидал, что Трад беспрепятственно овладел селением.
С помощью туземных крестьян люди руалла разграбили турецкий лагерь, найдя особенно богатую добычу у яростно пылающих складов, горящие крыши которых грозили жизни людей. Но это не останавливало их. То была одна из тех ночей, когда обезумевшим людям смерть кажется невозможной, несмотря на множество гибнущих вокруг людей.
Шейх Саад провел вечер, полный тревоги, выстрелов и криков. Крестьяне грозились убить пленных в возмездие за смерть Таллала.
Я приехал в деревню после полуночи и нашел гонцов Трада, только что прибывших из Деръа. Насир уехал, чтобы присоединиться к нему. Раньше мне хотелось спать, ибо я уже проводил в седле четвертую ночь, но возбуждение не давало мне чувствовать усталости в теле. Итак, в два часа утра я сел на третьего верблюда и затрусил к Деръа.
Нури Сайд и его штаб скакали по той же дороге впереди посаженной в седло пехоты, и наши отряды двигались вместе почти до рассвета. Но мое нетерпение, усиливаемое ночным холодом, не мирилось дольше с медлительным шагом. Я дал свободу своему великолепному, норовистому верблюду, и он ринулся через поле, оставив моих усталых попутчиков далеко позади себя. Таким образом, когда наступил полный рассвет, я вступил совершенно один в Деръа.
Мы присоединяемся к англичанам
Насир находился в Деръа, налаживая военное управление и полицейскую службу. Я справился о генерале Барроу. Какой-то араб, только что прискакавший с запада, рассказал, что он обстрелян англичанами, разворачивавшими колонны для атаки города. Чтобы предупредить атаку, я с людьми Зааги поднялся на гору Бувейб, на вершине которой виднелся укрепленный пост индийских пулеметчиков. Они направили на нас дула, гордясь такими пышно разодетыми мишенями. Однако показался офицер с несколькими английскими кавалеристами, и я им разъяснил, кто я. Действительно, их обходное движение вокруг Деръа было в разгаре, и пока мы наблюдали за ним, английские аэропланы начали бомбардировать злополучного Нури Сайда, когда он въехал на железнодорожную станцию. Чтобы прекратить обстрел, я поспешил вниз и отыскал генерала Барроу, осматривавшего заставы, разъезжая в автомобиле.
Он заявил, что должен расставить часовых в селения для того, чтобы сохранить порядок среди черни. Я учтиво объяснил ему, что арабы уже назначили своего военного управителя. Его саперы, сказал Барроу, должны осмотреть насосы у колодцев. Я ответил, что рад их помощи, указал на паровоз, движущийся к Мезерибу (где наш маленький шейх препятствовал туркам взорвать мост у Телл-эль-Шехаба, который стал сейчас собственностью арабов), и попросил, чтобы он приказал часовым не вмешиваться в нашу работу вдоль линий.
Барроу не был осведомлен о взаимоотношениях англичан с арабами. Он считал арабов побежденным народом и был поражен моим спокойным заявлением, что он наш гость. Моя голова в эти минуты деятельно работала над тем, как бы ради нашей общей пользы не дать лишенным воображения англичанам сделать первые роковые шаги, которыми они, несмотря на самые благие намерения, обыкновенно выводили покорных туземцев из повиновения и создавали положение, впоследствии требовавшее годы агитации, реформ и усмирения восстаний.
Барроу подчинился, попросив меня достать ему фураж и продовольствие. Я указал ему на небольшое шелковое знамя Насира, водруженное на балконе обгоревшего здания правительственных учреждений, под которым стоял зевающий часовой. Барроу вытянулся во весь рост и внезапно отдал знамени честь. Между арабскими офицерами и рядовыми пробежала дрожь удовольствия при виде приветствия генерала.
В свою очередь мы стремились ограничить признание наших прав в пределах политической необходимости. Мы внушили всем арабам, что индийские войска являются нашими гостями и что они могут делать все, что пожелают. Эта точка зрения привела к неожиданным последствиям. Из селения исчезли все цыплята, а трое кавалеристов похитили знамя Насира, соблазнившись серебряными кистями и гвоздями на его изящном древке.
Между тем мы повсюду захватывали турок и их орудия. Число наших пленных исчислялось тысячами. Вести о нашей победе достигли Азрака. Через день прибыл Фейсал. За ним тянулась вереница наших броневиков. Он поместился в вокзале.
Генерал Барроу, получив воду и провиант, должен был оставить нас. Он намеревался встретиться с генералом Чавелем возле Дамаска, чтобы вместе вступить в город. Он попросил нас удерживать правый фланг, что вполне соответствовало моему желанию, ибо там, вдоль Хиджазской линии, находился Насир, мешавший отступлению главных турецких сил и уменьшавший их численность непрерывными атаками. У меня еще оставалось много дела и поэтому я остался в Деръа на вторую ночь, наслаждаясь ее тишиной, наступившей после ухода войск.
Обуреваемый мыслями о будущем и воспоминаниями о прошлом, я не мог заснуть всю ночь. Перед рассветом я разбудил полковника Стерлинга и шоферов. Мы вчетвером влезли в наш «роллс-ройс», названный нами «Голубым туманом», и пустились в путь по направлению к Дамаску вдоль грязной дороги, только что проложенной, но уже запруженной колоннами транспорта и арьергардом дивизии Барроу.
В полдень мы увидели знамя Барроу у потока, где он поил своих лошадей. Я подъехал к нему на своем верблюде. Подобно многим завзятым кавалеристам, он относился к верблюдам с некоторым презрением и намекнул мне в Деръа, что едва ли нам удастся не отстать от его кавалерии, которая достигнет Дамаска тремя форсированными переходами.
Поэтому, увидев меня быстро подъезжающим к нему, он удивился и спросил, когда мы выступили из Деръа.
— Утром, — сказал я.
Его лицо вытянулось.
— Где вы остановитесь на ночь?
— В Дамаске! — весело ответил я и поскакал вперед, нажив себе нового врага.
Я нашел Стерлинга, и мы двинулись дальше. В каждой деревне мы оставляли записки для британских авангардов, сообщавшие им о нашем местонахождении и о местопребывании врага. Меня и Стерлинга раздражала осторожность, с какой Барроу вел наступление: разведчики осматривали пустынные долины, отряды подымались на каждый безлюдный холм.
Ведь нельзя было ждать никаких стычек до Киеве, где мы должны были встретить Чавела, и где наша дорога подходила к Хиджазской линии. На железной дороге находились Насир, Нури Шаалан и Ауда со своими племенами, все еще тревожа турецкую колонну из четырех тысяч человек (но в действительности содержавшую около семи тысяч), замеченную три дня тому назад нашим аэропланом возле деревни Шейх-Саада. Они безостановочно сражались с ней все то время, пока мы отдыхали.
Приблизившись, мы услыхали стрельбу и увидали разрывы шрапнелей позади кряжа направо от нас, где проходила железная дорога. Скоро показалась голова турецкой колонны, приблизительно в две тысячи человек, рассеявшаяся беспорядочными группами и останавливавшаяся время от времени, чтобы обстрелять арабов из своих горных орудий. Мы ринулись вперед, чтобы нагнать их преследователей. Несколько верховых арабов галопом подскакали к нам. Мы узнали Насира на его темно-гнедом жеребце, великолепном животном, все еще ретивом после сделанной им сотни миль безостановочного бега. За ним мы увидали старого Нури Шаалана и около тридцати его слуг. Они рассказали, что те немногочисленные турецкие силы, которые находились перед нами, были всем, что осталось от семи тысяч турок. Люди руалла бесстрашно нападали на них с обоих флангов, между тем как Ауда ускакал за Джебель Маниа, чтобы собрать своих друзей и залечь там в засаде, дожидаясь этой неприятельской колонны. Арабы надеялись загнать ее туда через горы. Означало ли наше появление прибытие подмоги?
Я сказал им, что англичане идут за нами. Если только можно задержать врага лишь на один час…
Насир взглянул вперед и увидал обнесенную стенами и окруженную лесом мызу, заграждавшую ровную дорогу. Он подозвал Нури Шаалана, и они поспешили туда, чтобы задержать турок.
Мы вернулись на три мили обратно к передовому отряду индусов и рассказали их дряхлому, угрюмому полковнику, какой подарок подготовили ему арабы. Он, казалось, не испытывал особого желания нарушить великолепный порядок, в котором маршировали его люди, но, наконец, отделил один эскадрон и послал его через равнину против турок, направивших на нас легкие орудия. Один или два снаряда разорвались почти между рядами солдат, и тут, к нашему ужасу (ибо Насир пошел на большой риск, ожидая мощной подмоги), полковник отдал приказ к отступлению и быстро отошел к дороге. Мы со Стерлингом бешеными прыжками ринулись за ним, умоляя его не бояться горных орудий, огонь которых был не более опасен, чем выстрелы из пистолета «Вери», но ни уговоры, ни наш гнев не смогли заставить старика сдвинуться хоть на дюйм. Мы помчались в третий раз обратно вдоль дороги в поисках высшего начальства.
Украшенный красными нашивками адъютант сообщил нам, что с другой стороны идет генерал Грегори. Мы поехали за генералом, одолжили ему автомобиль, чтобы капитан Генерального штаба, прикомандированный к бригаде, мог доставить срочный приказ кавалерии. Один всадник галопом помчался к конной артиллерии, которая открыла огонь, как раз когда последний луч света скользнул по вершине горы и исчез в облаках. Подоспели миддльсекские вспомогательные войска кавалерии,[73] и их бросили на подмогу арабам, чтобы атаковать турецкий тыл.
К ночи неприятель пришел в полное смятение и, бросив орудия, транспорт и все снаряжение, устремился через низкий участок горной цепи по направлению к вершинам Маниа, полагая, что они найдут за ними спасение в безлюдной стране. Однако в безлюдной стране находился Ауда, и в эту ночь своей последней битвы старик убивал одного врага за другим, грабил их и брал в плен, пока заря не положила конец сражению. Так погибла турецкая четвертая армия, в течение двух лет являвшаяся для нас камнем преткновения.
Удача и энергия Грегори позволили нам не бояться встречи с Насиром. Мы поехали в Киеве, где условились встретиться с ним около полуночи.
Вступление в Дамаск
Наша война была закончена — даже несмотря на то, что мы провели эту ночь в Киеве, ибо арабы сказали нам, что дороги не безопасны, а у нас не было никакого желания глупо умереть в ночном мраке у самых ворот Дамаска.
Австралийцы, любители спорта, рассматривали кампанию, как азартную игру, в которой ставкой был Дамаск. В действительности же мы все зависели от руководства Алленби, и победа являлась всецело логическим следствием его гения и трудов Бартоломью.
В соответствии с их тактическим планом австралийцы с севера и запада окружили Дамаск, перерезав железнодорожные пути, прежде чем в него могла вступить южная колонна.
Алленби надеялся, что мы, арабские вожди, будем присутствовать при вступлении в город, отчасти потому, что Дамаск являлся для арабов неизмеримо большим, чем простой военный трофей, а отчасти из побуждений, согласных с законами благоразумия. Движение Фейсала превратило вражескую страну в дружественную союзникам, дав им возможность, по мере их продвижения вперед, пускать обозы без охраны, управлять городами без военных гарнизонов.
Окружив Дамаск, австралийцы могли бы оказаться вынужденными, вопреки приказам, вступить в город. Если бы кто-либо оказал им сопротивление, это могло бы испортить положение в будущем. Нам была предоставлена одна ночь, чтобы заставить жителей Дамаска встретить британскую армию как своих союзников.
Это означало полную революцию, если не в убеждениях, то в поведении. Дамасский комитет сторонников Фейсала[74] уже несколько месяцев готовился захватить бразды правления в городе, как только турки будут разбиты. Мы должны были лишь связаться с ним, чтобы известить о приближении союзников и о том, что от него требуется. Поэтому, когда сумерки сгустились, Насир послал всадников руалла в город, поручив им отыскать Али Ризу, председателя нашего комитета, либо Шукри эль-Айуби, его заместителя, и сообщить им, что они могут завтра оказать нам действенную помощь, немедленно создав правительство.
Действительно, это и было сделано к четырем часам дня, прежде чем мы приступили к действиям. Али Риза отсутствовал, так как в последнюю минуту был назначен турками командовать отступлением их армий из Галилеи, но Шукри эль-Айуби получил неожиданную поддержку от алжирцев, братьев эмира Мохаммеда Сайда и эмира Абд-эль-Кадера. С помощью их сторонников арабский флаг зареял на городской ратуше до захода солнца, когда мимо дефилировали последние эшелоны немцев и турок. Говорят, что ехавший последним генерал иронически отдал флагу честь.
Я отговорил Насира от немедленного вступления в город. Для его достоинства было бы лучше, если бы он спокойно вошел в город на рассвете. К полуночи, когда мы расположились на отдых, четыре тысячи наших вооруженных людей уже находились в городе.
Завтра мне предстояла работа, потому мне следовало бы заснуть, но я не мог. Ведь в течение двух лет Дамаск являлся пределом наших мечтаний!
Оставляя Дамаск, немцы подожги склады и запасы боевого снаряжения, и каждую минуту нас оглушали взрывы, пламя от которых окрасило небо. При каждом таком грохоте земля, казалось, сотрясалась. Устремив взгляд на север, мы видели, как по бледному небу рассыпались снопы желтых точек, так как снаряды, взлетая при взрывах магазинов на ужасную высоту, в свою очередь взрывались. Я повернулся к Стерлингу и проговорил:
— Дамаск горит!
Мне причиняла боль мысль о великом городе, обращенном в пепел как цена свободы.[75]
Когда рассвело, мы поехали к верховью горного кряжа, высившегося над городским оазисом. Мы боялись взглянуть на север, ожидая увидеть развалины. Но вместо развалин простирались безмолвные сады, застланные зеленым туманом от реки, и в оправе тумана маячил город, прекрасный, как и всегда, похожий на жемчужину под лучами утреннего солнца. От ночного смятения остался лишь одинокий высокий столб дыма, подымавшийся, угрюмо чернея, от складов Кадезда, конечной станции Хиджазской железной дороги.
Мы поехали вдоль прямой, окаймленной насыпью дороги через орошенные поля, на которых крестьяне начинали свой трудовой день. Скакавший галопом всадник замедлил шаг, увидав наши головные покрывала. Он весело приветствовал нас, протягивая гроздь золотистого винограда.
— Добрые вести: Дамаск приветствует вас.
Он прибыл от имени Шукри.
Насир следовал за нами. Мы передали ему, что он может с почетом вступить в город, на что он заслужил исключительное право своим участием в пятидесяти битвах. Рядом с Нури Шааланом они в последний раз пустили своих лошадей вскачь и исчезли в клубах пыли вдоль длинной дороги. Мы со Стерлингом отыскали небольшой прохладный ручеек. Мы остановились у него, чтобы помыться и побриться.
Несколько индусских кавалеристов уставились на нас, на наш автомобиль, на американские рейтузы и хитон шофера. Я был в полном арабском облачении. Стерлинг же был одет в костюм британского штабного офицера, и лишь на голове у него было арабское покрывало. Индусский сержант, бестолковая и злобная личность, решил, что он захватил нас в плен. Освободившись от его ареста, мы последовали за Насиром.
Мы проехали совершенно беспрепятственно вдоль длинной улицы к правительственным зданиям на берегу реки Барады. Путь был запружен народом, теснившимся на тротуарах, на мостовой. У окон, на балконах и на крышах, всюду стояли люди. Многие плакали, кое-кто посмелее выкрикивал наши имена. Но по преимуществу они лишь смотрели во все глаза, с сияющими от радости лицами.
У городской ратуши дело обстояло иначе. Ее ступени и лестницы были запружены волнующейся чернью — воющей, обнимающейся друг с другом, пляшущей, поющей. Они расчистили нам путь в переднюю, где сидели сияющие Насир и Нури Шаалан. По обеим сторонам от них стояли эмир Абд-эль-Кадер, мой давнишний враг, и его брат эмир Мохаммед Сайд. Я онемел от изумления. Мохамедд Сайд выскочил вперед и крикнул, что они, внуки эмира Абд-эль-Кадера, с пашей Шукри эль-Айуби, из дома Саладина, образовали вчера правительство и перед посрамленными турками и немцами провозгласили Хуссейна «королем арабов».
Пока он горланил свой напыщенный вздор, я повернулся к Шукри, который не был политиком, но которого народ любил и считал почти мучеником из-за перенесенных им от Джемаля-паши страданий. Он рассказал мне, как алжирцы, единственные во всем Дамаске, помогали туркам до тех пор, пока не увидали, что те бегут. Тогда они ворвались в комитет сторонников Фейсала, тайно заседавший, и нагло захватили власть.
Они были религиозными фанатиками. Я повернулся к Насиру, надеясь с его помощью обуздать их наглость с самого начала, но меня отвлекло новое обстоятельство. Вопящая и напирающая на нас толпа разделилась, словно ее пробивал таран. Люди разбегались в стороны между изломанными стульями и столами. До нас донесся ужасный, торжествующий рев знакомого голоса.
Мы увидели Ауду абу-Тайи и старшину друзов Султана эль-Атраша,[76] сцепившихся друг с другом. Их люди ринулись вперед, в то время как я бросился, чтобы разнять дерущихся, опрокинув Мохаммеда эль-Дейлана, спешившего с той же целью. Вдвоем мы оторвали их друг от друга и оттащили Ауду на шаг назад, в то время как Хуссейн эль-Атраш отбросил более легкого Султана в толпу и увел его в боковое помещение.
Я осмотрелся, разыскивая Насира и Абд-эль-Кадера, чтобы призвать к порядку их правительство. Их не было. Алжирцы уговорили Насира отправиться к ним подкрепиться. Это было очень удачно, так как имелись более неотложные общественные дела. Мы должны были доказать, что старые дни миновали и что у власти действительно туземное правительство. Для этого моим лучшим орудием, в качестве правящего губернатора, был бы Шукри. Мы сели с ним в автомобиль, чтобы объехать город и показаться народу, учитывая, что рост его влияния сам по себе должен был послужить знаменем революции для граждан Дамаска.
Когда мы въезжали в город, на улицах толпы народа приветствовали нас: сейчас вместо каждой сотни человек толпились тысячи. Все жители города, включая женщин и детей, города с населением в четверть миллиона, казалось, высыпали на улицы. Достаточно было нашего появления, чтобы вспыхнуло общее ликование. Дамаск обезумел от радости. Мужчины подбрасывали свои фески с приветственными восклицаниями, женщины срывали с себя покрывала. Домохозяева кидали цветы, занавесы, ковры на дорогу перед нами, их жены высовывались через оконные решетки и обрызгивали нас из ковшей благовониями.
Нищие дервиши взяли на себя роль скороходов, открывая и замыкая собой наше шествие. Они выли и царапали себя, охваченные безумием. И все крики и женский визг заглушил размеренный рев мужских голосов, воспевающих Фейсала, Насира, Шукри, «Оренса».
Мне сказали, что Чавел въехал в пределы города. Наши автомобили встретились на улицах южного предместья. Я описал ему возбуждение, царящее в городе, и попросил его оставить своих людей за городскими стенами, так как сегодня ночью предстоит такой карнавал, какого город не устраивал в течение шести столетий, и гостеприимство Дамаска могло бы подорвать дисциплину среди солдат.
Сколачивание кабинета
Мы медленно двинулись обратно к городской ратуше, чтобы сцепиться с Абд эль-Кадером, но он еще не вернулся. Я послал за ним, за его братом и за Насиром и получил короткий ответ, что они спят. Я сам должен был бы последовать их примеру, но вместо этого мы насыщались в пышной гостиной, сидя на расшатанных позолоченных стульях вокруг позолоченного стола, ножки которого также были расшатаны. Я детально объяснил гонцу, что мне нужно. Он исчез, и через несколько минут появился родич алжирцев, очень взволнованный, и сказал, что они идут сюда. Это была явная ложь, но я ответил, что это хорошо, так как через полчаса я приведу сюда британское войско. Он поспешно убежал, и Нури Шаалан тихо спросил меня, что я намереваюсь делать.
Я заявил, что смещу Абд эль-Кадера и Мохаммеда Сайда и назначу на их место Шукри до прихода Фейсала, а делаю я это таким мягким образом потому, что мне неприятно оскорбить чем-нибудь Насира. Кроме того, у меня не было собственных средств воздействия, если те начнут сопротивляться. Нури спросил:
— Разве англичане не придут?
Я возразил, что они придут наверняка, но плохо то, что они могут потом не уйти.
Он минуту размышлял и сказал:
— Вы можете взять людей руалла, если хотите быстро сделать все, что нужно.
Тотчас же старик вышел, чтобы собрать для меня свое племя.
Алжирцы прибыли со своей охраной. Их глаза кровожадно горели. По дороге они встретили на площади собравшихся мрачных соплеменников Нури Шаалана и Нури Сайда с его регулярными войсками, а внутри дома — моих телохранителей, слоняющихся по прихожей. Алжирцы ясно поняли, что игра проиграна. Все же наша встреча была бурной.
В качестве представителя Фейсала я объявил, что их гражданское правительство Дамаска упраздняется и что Шукри-паша Айуби назначается полномочным военным губернатором. Нури Сайд должен был стать начальником войск, Азми-бей — начальником административного управления, Джемиль-бей — начальником общественной охраны. Мохаммед Сайд едко ответил мне, что я христианин и англичанин, и обратился к Насиру за поддержкой.
Несчастному Насиру оставалось только с жалким видом созерцать ссору своих друзей. Абд-эль-Кадер вскочил и, начав осыпать меня язвительными проклятиями, довел себя до белого каления. Но я не обратил на него никакого внимания. Это взбесило его еще больше. Внезапно он прыгнул вперед с обнаженным кинжалом.
С быстротой молнии Ауда, разъярившись, бросился на него. Абд эль-Кадер отступил испуганный. Алжирцы поднялись и выбежали взбешенные из зала. Меня убеждали, что их нужно схватить и расстрелять, но я не поддался на уговоры.
Мы приступили к работе. Нашей задачей было образование арабского правительства с достаточно широкими полномочиями и с преобладанием туземцев, чтобы использовать энтузиазм и самопожертвование арабского восстания, переключив их в обстановку мира.
Мятежники, в особенности победившие мятежники, являются, естественно, дурными подданными и еще худшими управителями. Печальным долгом Фейсала было избавиться от своих военных друзей, заменив их такими элементами, которые в прошлом добросовестно служили турецкому правительству. Насир в слишком слабой степени был государственным политиком, чтобы сознавать это. Но Нури Сайд и Нури Шаалан понимали, что это необходимо.
После некоторых назначений и мер, проведенных с их помощью, машина управления начала функционировать.
День подходил к концу, все население высыпало на бурлящие улицы. Мы назначили инженера для надзора за электрической станцией, обязав его приложить все силы к тому, чтобы к сегодняшнему же вечеру осветить город. Возобновление уличного освещения было бы самым убедительным доказательством наступившего мира. Это было выполнено, и порядок, воцарившийся в первый же вечер победы, в значительной мере был обязан мирному сиянию уличных огней, хотя усердствовала и наша новая полиция.
Затем мы занялись санитарными мероприятиями. Улицы были усеяны брошенными повозками и автомобилями, различными пожитками, вещами, трупами — остатками разбитой армии. Среди турок свирепствовали тиф, дизентерия, ломбардская проказа и другие болезни, и больные отползали умирать в каждое тенистое убежище вдоль пути их похода. Нури набрал команды санитаров, чтобы они произвели предварительную очистку зачумленных дорог и площадей, и распределил врачей по больницам, обещав на следующий день прислать медикаменты и провиант, — все, что только удастся раздобыть.
Затем возник вопрос о тюрьмах. Во время турецкого отступления их покинули и сторожа, и заключенные. Шукри умело использовал это, объявив гражданскую, политическую и военную амнистию. Нужно было разоружить граждан или, по крайней мере, убедить их не носить винтовок. Выпустив прокламации, мы достигли в течение трех или четырех дней своей цели, не применяя принудительных мер.
Началась работа по оказанию помощи. Неимущие уже в течение многих дней чуть ли не умирали от голода. Была налажена раздача попорченного провианта из армейских складов. Затем нужно было снабдить пищевыми припасами все население города, которое через два дня начало бы голодать, так как в Дамаске не оставалось никаких запасов. Наладить временное снабжение из окрестных деревень было не трудно. Для этого надо было восстановить уверенность в безопасности дорог и дать вьючных животных взамен уведенных турками. Англичане не поделились бы своими. Мы отделили часть животных нашего собственного транспорта.
Но регулярное снабжение продовольствием требовало железной дороги. Надо было немедленно подыскать и поставить вновь на работу стрелочников, машинистов, кочегаров, рабочих — весь персонал, обслуживающий железнодорожное движение. Затем мы вспомнили о телеграфе. Почта могла подождать денек-другой.
Были необходимы квартиры для наших и для английских войск, безотлагательным делом являлось возобновление торговли и открытие магазинов, упорядочение рынков и денежного обращения.
Денежное обращение было в ужасном состоянии. Австралийцы награбили миллионы турецких банкнот, единственных денежных знаков, имевших хождение, и совершенно обесценили их, швыряясь лирами на все стороны. Какой-то кавалерист отдал банкнот в пятьсот лир парню, который три минуты подержал его лошадь. Юнг показал себя новичком, пытаясь укрепить курс лиры последними остатками нашего золота, полученного в Акабе. Но нужно было фиксировать новые цены, и это потребовало работы печатного станка.
Едва это было проделано, как возникла потребность в газете. Кроме того, надо было разрешить вопрос водоснабжения, противопожарных мер и сбор налогов.
Все это вместе взятое доставило нам уйму хлопот. Наша деятельность ограничивалась внешней стороной, отделкой фасада за счет подлинного строительства.
Это шло так успешно, что когда я 4 октября покидал Дамаск, сирийцы имели de facto свое правительство которое просуществовало два года — без иностранной помощи, в оккупированной стране, опустошенной войною, и вопреки желанию некоторых влиятельных элементов среди союзников.[77]
В тот же день я сидел один в своей комнате, работая и размышляя, когда муэдзины начали призывать к вечерней молитве. Их голоса разносились в сыром воздухе вечера над праздничным городом, расцвеченным огнями. Один из них, с особенно звонким и сочным голосом, выкрикивал с минарета соседней мечети. Очнувшись, я заметил, что невольно прислушиваюсь к его словам:
— Аллах один велик во всем мире. Я утверждаю, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Придите к молитве — и обретете покой. Аллах акбар, ля илляхи иль Алла.
Под конец он понизил голос почти до разговорного тона и тихо добавил:
— И он милосерден сегодня к нам, о люди Дамаска!
Крик муэдзинов замолк, ибо все, казалось, вняли призыву к молитве в эту первую ночь полной свободы.
Б. Г. Лиддел Гарт Полковник Лоуренс
Из предисловия автора
Я начал писать эту книгу с намерением дать исторический обзор того восстания арабов, в котором Т. Е. Лоуренсу, естественно, пришлось бы отвести большое место. Я ставил себе целью снять покров «легенды», которым был окутан этот особенно интересный эпизод мировой войны, и выявить его роль в основных военных событиях и в истории ведения иррегулярных военных действий. Мне хотелось также установить действительные размеры личного участия Лоуренса, которое, как я полагал, менее, чем приписывает ему легенда.
По мере того, как я углублялся в изучение вопроса, картина менялась. Крупные события являлись результатом деятельности Лоуренса, прочие становились незначительными. Я увидел, что правда оказалась больше той, которая содержалась в сделанном Лоуренсом разъяснении, что якобы его роль была только координирующей, что он лишь «раздул искры в пламя, превратив ряд не связанных друг с другом выступлений в сознательную военную операцию».
По мере уточнения событий личность Лоуренса выявлялась все более и более отчетливо. Наконец, я убедился, что восстание арабов было делом его рук. Это и послужило поводом к переработке мною книги заново и к освещению в ней прежде всего роли Т. Е. Лоуренса. Мне повезло в том отношении, что Т. Е. Шоу (Лоуренс) снабжал меня многими заметками и комментариями, которые помогали мне вскрывать как его замыслы и действия, так и весь ход событий. Однако я должен прямо заявить, что на высказываемые мною мнения или суждения Лоуренс не оказывал никакого влияния.
В поисках фактов при изучении различных источников я встретился с двумя прямо противоположными оценками достигнутых Лоуренсом результатов, а также его характера и качеств его руководства. В то время, как одни оценивали Лоуренса очень высоко, другие относились к нему весьма скептически. Это объясняется просто. Высоко оценивали его те, кто в течение длительного периода были в тесном контакте с Лоуренсом; скептически же относились к нему люди, сталкивавшиеся с Лоуренсом случайно или же знакомые с его работой понаслышке.
Отсюда ясно, какая из двух оценок заслуживает большего внимания.
Глава I. «Крестоносец»
Лоуренс родился 15 августа 1888 г. в Северном Уэльсе. Отец его располагал средствами, не превышающими по размеру доходов ремесленника, увеличить же их трудом мешала ему кастовая гордость землевладельца.
Первые восемь лет жизни Лоуренса прошли в скитаниях по Шотландии и Британии. Странствования семьи случайно привели ее в Оксфорд. Здесь Лоуренс поступил в школу со знанием французского языка, которое он приобрел, еще будучи ребенком, и с большим запасом сведений, почерпнутых из книг. У него были хорошие способности, и уже в возрасте шести лет он читал газеты и книги.
«Школа, — говорил он впоследствии, — была бесполезным и отнимавшим много времени занятием, которое я ненавидел от всей души». Школьные уроки были пустяком в сравнении с чтением на трех языках, которыми он уже овладел, и археологией, которая в то время была его детской страстью. Он выискивал обломки римской и средневековой посуды и один совершал далекие поездки на велосипеде, чтобы собрать остатки старинной церковной утвари или же сфотографировать замки. Изучение им средневекового искусства было связано с изучением оружия и привело к новой страсти — изучению военного искусства.
Еще будучи школьником, Лоуренс проводил каникулы в поездках по Франции, где усердно посещал соборы и замки, путешествуя налегке и почти без денег. На протяжении ряда лет он осмотрел во Франции, Англии и Уэльсе все замки XII столетия. Увлечение военной архитектурой пробудило в нем интерес к изучению осадных операций, а затем и военных походов, частью которых эти операции являлись.
Воображение Лоуренса захватила тема крестовых походов, но его симпатии были на стороне противников крестоносцев. Самая идея крестовых походов, или, вернее, идея, лежавшая в их основе, произвела на Лоуренса сильное впечатление, породив мечту о крестовом походе, во главе которого он представлял самого себя. Естественно, что ему мечталось о крестовом походе в его новой форме, т. е. для освобождения нации от рабства. При этом нацией, нуждавшейся в освобождении и взывавшей о помощи, ему казались арабы, к которым он проявлял большой интерес.
Таким образом уже очень рано у Лоуренса появилось предчувствие своей миссии, хотя и в смутной форме. Это усилило его интерес к военной стороне истории и археологии. Он начал изучать историю войн и в особенности войн, которые порождались восстаниями. Он углубился в изучение этого вопроса, читая все, что только мог достать.
Когда ему было около 20 лет, Лоуренс в силу личных обстоятельств внезапно решил приобрести военный опыт и некоторое время служил в войсках. Это дало ему возможность заметить впоследствии разницу между довоенной и послевоенной армиями, особенно в отношении пьянства, грубого поведения и обращения. Однако стеснения военной службы являлись для него обременительными и усилили его замкнутость.
В школе он попытался добиться права на получение стипендии по математике, но последующее пресыщение этим предметом заставило его незадолго до того, как ему исполнилось 20 лет, переключиться на изучение истории. Через шесть месяцев он держал экзамен на право получения стипендии по историческим наукам, но «срезался». В следующий раз он все же получил стипендию в Оксфорде. В колледже он прожил один учебный год, все же остальное время своей десятилетней учебы жил дома.
В своих занятиях Лоуренс проявил полную самостоятельность. Он решил сдать зачет по историческому факультету, но как на рекомендуемые пособия, так и на необходимость аккуратного посещения установленных занятий мало обращал внимания. Чтение непрерывно расширяло его кругозор и пробудило в нем интерес к ряду не имевших отношения к его курсу вопросов, начиная от средневековой поэзии и кончая современной стратегией. Иногда он забирал из Оксфордской библиотеки сразу по шесть книг, записывая их и на себя и на своего отца.
Однако подобный метод изучения не совпадал с требованиями университетского курса. Но Лоуренсу повезло в том отношении, что он выбрал Оксфорд, а не более современный университет. Ввиду его пренебрежения к изучению обычного курса, Лоуренсу было предложено защитить диссертацию по какому-либо специальному вопросу. Он выбрал «Влияние крестовых походов на средневековую военную архитектуру Европы».
По этой теме Лоуренс уже имел богатый запас знаний, приобретенный им во время посещений замков Франции и Англии. Теперь, прежде чем представить свою дипломную работу, он решил использовать каникулы для осмотра замков крестоносцев в Сирии, а также для исследования остатков древнего племени хидтитов, культуру которых он изучал вместе с д-ром Хоггартом. Лоуренс был знаком с Хоггартом еще до того, как задумал совершить свое путешествие в Сирию. «Я[78] обратил на себя его внимание тем, что организовал залы средневековой утвари в Ашмолин». Когда Лоуренс вынашивал идею использования своих каникул в Сирии, Хоггарт предостерегал его, указывая, что лето является плохим временем для подобного путешествия и что потребуются значительные расходы на носильщиков и лагерное оборудование. Лоуренс на это возразил, что он собирается идти пешком и один, а это обеспечит ему гостеприимство в тех деревнях, через которые он будет проходить. «Возможно также, — допускал он в дальнейшем, — что это приведет к моему немедленному аресту недоверчивыми турецкими властями, но лорд Керзон выхлопотал для меня у турецкого правительства открытое письмо к своим губернаторам в Сирии с просьбой оказывать мне всяческое содействие. Это, несомненно, будет довольно пикантным паспортом для бродяги, странствующего по Сирии».
Но даже и при таких условиях это путешествие было рискованным. Тем не менее, оно закончилось успешно. Лоуренс прошел пешком по той стране, по которой 10 лет спустя пронеслась кавалерия Алленби, на которой находился сам наш герой. После посещения и фотографирования в деталях более 50 развалин замков Сирии он направился в Литнаб, где собрал коллекцию печатей хидтитов, а затем свернул на восток через долину Евфрата.
Первые навыки разговорного арабского языка Лоуренс приобрел, будучи еще в Оксфорде, и расширил их практикой разговоров в сирийских деревнях, где он обычно останавливался на ночлег. Для человека, более избалованного комфортом, гостеприимство, которое он встречал в этих бедных жилищах, было бы в тягость, но для Лоуренса оно являлось лишь интересным. Он не просил ни европейских напитков, и, вопреки европейским предубеждениям, свободно пользовался руками. Хотя Лоуренс и выглядел мальчиком, однако в его манере было что-то такое, что привлекало внимание арабов и более наблюдательных европейцев, с которыми он встречался.
В конце путешествия Лоуренса близ Евфрата какой-то турок, пошел за ним следом, приняв его дешевые медные часы за золотые. Выбрав удобный момент, он бросился на Лоуренса и повалил на землю, пытаясь выстрелить в него из его же револьвера. Однако турок просчитался, так как Лоуренс успел спустить предохранительную чеку, прежде чем турок вступил с ним в борьбу. Лишь случайное вмешательство пастуха не позволило нападавшему размозжить голову Лоуренсу. Спасшийся от смерти Лоуренс с сильной головной болью пошел в ближайший город и не успокоился до тех пор, пока не добился помощи турецкого полицейского, который и привел обратно в деревню нападавшего. После продолжительных переговоров бандит сдался, и его «добыча» была отобрана.
Однако этот случай не отбил у Лоуренса охоты к странствованиям в одиночестве. Он был захвачен образом жизни бедуинов. Пустыня «проникла» в его кровь, так же, как и малярия.
Возвратясь в Оксфорд после четырехмесячного путешествия, он засел за составление своей диссертации.
На последнем экзамене при получении ученой степени диссертация Лоуренса получила высшую награду. Теперь он стал думать о получении звания бакалавра литературы по средневековой утвари.
Но еще большим удовольствием, чем получение высшей награды, были для Лоуренса восторженные отзывы о его работе Хоггарта. Хоггарт с того момента сделался его покровителем и «добрым духом». «Я обязан ему всем, — говорит Лоуренс, — за исключением моего поступления в авиацию».
Хоггарт настоял на том, чтобы Лоуренсу предоставили стипендию, предусматривающую отпуск средств на научные поездки, и пригласил его принять участие в экспедиции Британского музея в долину Верхнего Евфрата, где находилось предполагаемое место древнего города хидтитов. Во время этого путешествия Лоуренс проявил себя человеком самых разносторонних способностей. Особенно ценным он оказался благодаря своему умению поддерживать бодрое настроение у туземных рабочих.
Когда наступившие ноябрьские дожди прервали работу, Хоггарт отправил Лоуренса в Египет, для того, чтобы он мог несколько овладеть научными методами производства раскопок под руководством сэра Флиндерса Пэтри, лагерь которого находился близ Фэйоун. Рассказывают, что когда Лоуренс спросил на станции, как можно найти Пэтри, ему ответили: «Идите в направлении пустыни до того места, где увидите тучи мух, а затем сверните туда, где мух будет больше всего; там вы и найдете Флиндерса Пэтри». Однако последний, по-видимому, безразлично относившийся к окружающему, неожиданно проявил строгие требования приличия. Появление Лоуренса в трусиках и спортивном пиджаке, который он привык носить, вызвало замечание со стороны великого египтолога: «Молодой человек, мы здесь в крикет не играем». Однако вскоре Флиндерс Пэтри изменил свое первое впечатление о новом пришельце, а сам Лоуренс пришел к выводу, что раскопки в Египте с точки зрения прояснения неизвестности, окружавшей культуру хидтитов, представляют мало интереса.
Работа Лоуренса в то время была чрезвычайно разнообразной, так как он занимался фотографией, изучением скульптуры и утвари и перепиской древних надписей. Двадцать лет спустя он говорил: «Это было лучшее время моей жизни», — очевидно, даже лучшее, чем пребывание в авиации. Во время продолжительных зимних наводнений или в периоды летней жары он возвращался в Англию, да и то на короткий срок, а остальное время проводил в путешествиях по Среднему и Ближнему Востоку или же оставался один на раскопках. Во время сезона раскопок Лоуренс получал 15 шиллингов в день; остальное время года, путешествуя, он жил на стипендию в 100 фунтов стерлингов в год, которые дополнялись случайными и притом чрезвычайно разнообразными заработками. Например, однажды он поступил работать контролером на «угольщиках» в Порт-Саиде.
За пять лет он досконально изучил Сирию, большую часть Северной Месопотамии, Малую Азию, Египет и Грецию. Он постоянно странствовал, но только там, где это не вызывало больших затрат.
То, что Лоуренс путешествовал в одиночестве, не только сберегало ему деньги, но и давало возможность установить более тесную связь с местными арабами и курдами, и таким образом лучше понять их образ жизни. Он хорошо изучил разговорный язык, а недостатки знания компенсировались живостью речи и глубоким пониманием туземной жизни.
«Моя бедность, — говорит Лоуренс, — позволила мне изучить те массы, от которых богатый путешественник отрезан своими деньгами и спутниками. Я окунулся в самую гущу масс, воспользовавшись проявлением ко мне их симпатий». Благодаря этому Лоуренс усвоил то, что в дальнейшем являлось «секретом» его силы. «Среди арабов, — говорит он, — не было ни традиционных, ни природных различий, за исключением неограниченной власти, предоставляемой знаменитому шейху. Арабы говорили мне, что ни один человек, несмотря на его достоинства, не смог бы быть их вождем, если бы он не ел такой же пищи, как и они, не носил бы их одежды и не жил бы одинаковой с ними жизнью».
Именно благодаря полному отказу от условностей культурной жизни, который другие европейцы рассматривали бы как унижение, Лоуренс сделался «натурализованным» арабом, вместо того чтобы оставаться просто европейским туристом в Аравии. Ему помогло его безразличие к окружающей обстановке, так несвойственное европейцам, и в особенности англичанам. Дело облегчалось также его страстью к бродяжничеству.
В своих случайных скитаниях Лоуренс носил туземное платье. Небольшого роста, сухой, гладко выбритый, блондин, Лоуренс, конечно, весьма мало походил на араба. Все же последние принимали его за одного из своих. Он говорил, что в Северной Сирии, где в результате расовых смешений имеется много светловолосых туземцев, говорящих лишь на ломаном арабском языке, это не было особенно трудно: «Я никогда не мог сойти за араба, но меня легко принимали за одного из туземцев, говорящих по-арабски».
Затем Лоуренс переходит к более глубокому объяснению своей способности «влезать в шкуру араба», переодевшись в его одежду. Для него это было тем легче, что он уже разделял глубоко укоренившееся у арабов стремление к неограниченной свободе. Так же, как и они, он нашел в пустыне ту простоту, которая была ему по душе, и хотя Лоуренс никогда не терял способности ценить более изысканные удовольствия культурного общества, но именно в пустыне он нашел то одиночество, которое его удовлетворяло.
Однако представлять его себе всегда занятым только размышлениями было бы неверно. Он не был отшельником. Гораздо правильнее сказать, что Лоуренс был человеком, который всегда все «схватывал», и что отражение схваченных им впечатлений было скорее процессом быстрой умственной оценки, чем длительных размышлений. Все, кто встречался с Лоуренсом, улавливали эту его черту, понимание которой в значительной степени зависело от их собственного образа мышления и, таким образом, часто бывало различным. Это привело к тому, что некоторые из его друзей окрестили его «человеком-хамелеоном».
Во внешности Лоуренса имеется странная двойственность. При случайном взгляде на него, его легко можно не заметить благодаря малому росту, обветренному лицу и скучающему виду, который часто служит ему весьма удобной маской, если он хочет отойти на задний план. Однако при более пристальном рассмотрении он поражает размерами своей головы с белокурыми волосами над высоким лбом и странно проницательными голубыми глазами. Общее выражение, когда лицо спокойно, является скорее суровым, но суровость исчезает, когда Лоуренс говорит или улыбается: у него удивительно приятный голос и обворожительная улыбка.
Пища его не интересует, и когда Лоуренс один, он довольствуется одним блюдом в день, и притом самым простым. Он не пьет и не курит.
«Во время моих экскурсий, — говорил он мне, — я всегда путешествовал с кем-либо из нашей партии, производившей раскопки. Мы получали громадное удовольствие, когда, наняв несколько верблюдов, ехали к сирийскому побережью, где купались, помогали уборке урожая и осматривали города».
Соблазнившись сведениями о существовании статуи женщины, сидящей на спинах двух львов, которая могла оказаться произведением хидтитов, он, переодевшись в туземную одежду, отправился на розыски в сопровождении одного из своих рабочих. Поскольку район был расположен слишком далеко на севере, чтобы можно было предполагать наличие в нем странствующих арабов, он и его спутник были арестованы по подозрению в дезертирстве из турецкой армии. Они были брошены в шумную и полную насекомых темницу. При падении Лоуренс разбил себе бок, а у его спутника произошло сильное растяжение связок. Всю ночь они пробыли в заключении, обдумывая перспективы принудительной военной службы. Все же утром Лоуренсу удалось подкупить стражу и выйти на свободу.
Занятия, которые находил себе Лоуренс, были весьма характерны. Его время не было разделено просто на работы по раскопкам у могильного холма и на скитания среди туземцев. Он часто совершал прогулки по Евфрату, пользуясь, несмотря на опасные течения, челноком, снабженным небольшим мотором, который он привез с собой, с трудом собрав средства на его приобретение. Он тренировался в стрельбе из автоматического пистолета по мелкой мишени, пока не сделался исключительно хорошим стрелком. В плохую погоду он занимался фотографией, которая была его специальностью, но находил также время и для чтения. Хижина, в которой он жил, содержала библиотеку, представлявшую собой нечто вроде «Оксфорда на Евфрате».
С туземными рабочими, главным образом с курдами и арабами, у него были наилучшие отношения. Этим он был обязан в значительной степени умению разговаривать с ними, а преданность, которую он к себе внушал, являлась результатом силы его характера и в особенности его спокойного, бесстрашного вида.
Юнг, один из тех людей, которые посетили его в это время, рассказывает, что «Лоуренс одним лишь своим пребыванием превратил раскопки в британское консульство в миниатюре». Юнг приводил следующие подробности о «его методах утверждения своего положения как неофициального консула или представителя великобританского правительства». Совершая прогулку на лодке, они встретились с несколькими рослыми курдами, которые глушили рыбу динамитом. Лоуренс направился прямо к самому рослому из них и заявил ему, что с точки зрения турецкого закона недопустимо это «постыдное занятие». Тут же он приказал курду отправиться вместе с ним в полицейский участок. Курд, презрительно посмотрев на него, категорически отклонил это предложение. Тогда Лоуренс схватил его за руку и потащил за собой. Остальные курды, бросившись выручать своего товарища, стали кидать в Лоуренса камни и выхватили ножи. Создавалось угрожающее положение, и по настоянию Юнга Лоуренс освободил своего пленника. Однако, не желая остаться побежденным, Лоуренс отправился на ближайший полицейский пост и, когда увидел, что полицейский инспектор проявляет признаки типичной турецкой инертности, заставил его принять соответствующие меры, пригрозив, что иначе он будет снят с должности, так же, как его предшественник.
Случай, характеризующий Лоуренса, произошел с германскими инженерами, которые работали в то время над постройкой моста через Евфрат для прокладки знаменитой Багдадской железной дороги. Когда Лоуренс был в Ливане, немцы попытались использовать некоторые холмы, имевшие археологическое значение, для постройки на них своей железнодорожной насыпи. После бесплодного протеста надсмотрщик-араб, поставив у холмов конного часового с винтовкой, стал угрожать расстрелом каждому, кто приблизится. Тем временем Лоуренс, который был извещен об этом, протелеграфировал в Константинополь и, захватив с собой ответственных турецких чиновников, появился вместе с ними на постройке к неудовольствию немцев, которым вследствие этого пришлось отказаться от своих планов.
Несколько позднее немецкий инженер из-за какого-то пустяка побил одного из личных слуг англичан. Лоуренс отправился к немцам в лагерь и потребовал, чтобы оскорбивший принес публичное извинение перед потерпевшим. Главный инженер, оказавшийся угрюмым и изрядно выпившим человеком, в ответ на это заявил, что, по его мнению, порка является единственным способом обращения с туземцем, и предложил прекратить разговор на эту тему. Однако это не удовлетворило Лоуренса, который зловеще спокойным голосом заметил, что в таком случае он вынужден будет забрать инженера силой и заставить его извиниться. Немец оказался вынужденным уступить.
В дальнейшем немцам пришлось быть благодарными Лоуренсу за его силу. Дело в том, что недовольство рабочих условиями работы вызвало беспорядки в лагере немцев. Лоуренс и его товарищ по работе Вуллей бросились к лагерю и увидели несколько сот разъяренных курдов, осаждавших горсточку немцев. Только благодаря усилиям и хладнокровию англичан, рисковавших получить пули от людей, которых они пытались спасти, убийство удалось предотвратить. Но даже и после этого соседние курды задерживали продвижение работы. Для того, чтобы решить их спор, были приглашены англичане, которые убедили курдов принять вознаграждение за убитого во время перестрелки человека. В благодарность за прекращение беспорядков турецкие власти хотели представить англичан к награде, но это предложение было отклонено.
Однако некоторыми немцами это чувство благодарности не разделялось. В глубине души они считали, что источником неприятностей, которые они испытали со своими туземными рабочими, был Лоуренс. Подобное мнение являлось естественным для тех, кто видел довольство, существовавшее в другом лагере, но не был в состоянии установить его причины. Кроме того, хорошо зная мотивы, вызвавшие постройку Багдадской железной дороги, немцы чрезвычайно скоро стали подозревать Лоуренса в подготовке саботажа или во всяком случае в шпионаже. Юнг рассказывает: узнав о подозрениях немцев, Лоуренс весело заявил, что он вовсе и не собирается менять метод действий для устранения этого впечатления. Наоборот, он испытывал особое наслаждение, усиливая подозрение немцев и не обращая на них никакого внимания. Он даже зашел настолько далеко, что в один прекрасный день перетащил на верх холма несколько больших труб. В связи с этим немцы послали «дикую» телеграмму домой, которая каким-то образом попала к нему в руки. В телеграмме говорилось, что «сумасшедший англичанин устанавливает орудия, чтобы занять командные высоты над железнодорожным мостом через Евфрат».
По возвращении в Сирию на долю Лоуренса выпала более серьезная миссия. Во время отдыха Лоуренс и Вуллей вдруг получили телеграмму из Лондона с приглашением принять участие в экспедиции в Синай. Выехав в связи с этим на юг, они были встречены в Беэр-Шева саперным офицером капитаном Ньюкомбом, который должен был их сопровождать. К своему удивлению, они узнали от него, что их участие в экспедиции должно послужить маскировкой для производства Ньюкомбом и его помощниками военной разведки в Синае, у границы Египта, под видом археологических раскопок. Для Ньюкомба, предполагавшего, что археологи будут так же почтенны, как и их предмет, явилось полной неожиданностью увидеть двух юнцов, из которых одному по виду нельзя было дать и восемнадцати лет.
Оказалось, что Ньюкомб, который уже производил разведку пограничной зоны, сообщил военному министерству о желательности расширения района разведки. Военное министерство дало согласие, тем более что это совпадало с желанием археологов заполнить некоторые пробелы научных знаний, но признало необходимым, чтобы в целях маскировки экспедиция проводилась под покровительством палестинского исследовательского фонда. На проведение этой экспедиции от турок было получено необходимое разрешение.
Экспедиционная партия направилась зигзагообразным путем через пустыни в Аин-Кадэис, который оказался просто небольшим источником, расположенным в каменистой и бесплодной долине. Экспедиция эта имела не только агентурное значение. Спустя несколько лет Лоуренс прошел этим путем к Хиджазской железной дороге, соединявшей Медину с Дамаском и имевшей большое стратегическое значение. Таким образом, сам того не подозревая, Лоуренс произвел предварительную разведку района своих будущих операций во второй половине 1917 г. Интерес «к истории» заставил его использовать часть своих путешествий для изучения подходов к Сирии со стороны пустыни.
Подобное изучение в дальнейшем помогло разработке его собственной стратегии.
Во время этой же синайской съемки Лоуренс исследовал местность для своей первой крупной военной разведки в Акаба. Рассказывали, что, когда турки отказали исследовательской партии в разрешении посетить этот небольшой порт в восточной части Красного моря, Лоуренс вызвался отправиться туда на собственный риск и обследовать те направления, которые нужны были Ньюкомбу. В действительности дело обстояло не так. У турок разрешения не спрашивали. Чтобы произвести съемку этого чрезвычайно важного стратегического пункта, Ньюкомб отправился в Акаба один, в то время как Вуллей и Лоуренс продолжали свои исследования в северном направлении. Прибыв туда, несмотря на резкие возражения властей, настойчивый Ньюкомб добился успеха и был, наконец, оставлен в покое. Однако еще до того, как он приступил к работе, Лоуренс приехал к нему в лагерь, находившийся примерно в трех километрах от Акаба.
Невдалеке отсюда на небольшом островке в пятистах метрах от берега стоял полуразрушенный замок, который сыграл свою роль в истории крестовых походов, переходя попеременно от мусульман к христианам. Лоуренс очень хотел осмотреть эти сооружения. Интерес к отдаленным военным укреплениям вызвал у турок подозрения, и они установили охрану лодки, которой Лоуренс хотел воспользоваться. Тогда Лоуренс достал баки для воды, употреблявшиеся при переходах на верблюдах, связал их вместе в виде плота и с одним из своих спутников переправился на остров. Они достигли цели незамеченными и нашли замок интересным, но совершенно разрушенным. Обратное путешествие оказалось более трудным, так как ветер был встречный, а плот являлся довольно ненадежной защитой от акул. Добравшись, наконец, до берега, они облегченно вздохнули. Во время своего пребывания в Акаба Лоуренс совершил экскурсию в глубь страны. Он прошел несколько миль вверх к ущелью Вади-Итм, через которое пролегал прямой путь к весьма важной станции Маан-Хиджазской железной дороги. Виденного им было достаточно для того, чтобы убедиться, что для наступления со стороны побережья она была неприступна — обстоятельство, которое три года спустя сыграло весьма важную роль.
Для турок Лоуренс был, конечно, весьма опасным посетителем, хотя они и не могли предвидеть последствий его любознательности. Однако его склонность к странствованию вызвала подозрения турок. После того, как он покинул лагерь Ньюкомба, чтобы вернуться на север, турки прикомандировали к нему для сопровождения полицейского офицера. Не терпя контроля своей любознательности, Лоуренс дал полицейскому взятку и отправился один.
Эта экспедиция с ее замаскированной военной целью укрепила мысли, которые уже шевелились в голове Лоуренса. Его главная цель при исследовании Сирии заключалась в том, чтобы написать труд по стратегическому изучению крестовых походов, однако попутно он увидел и много других интересных вещей. Он сам наблюдал за строительством Багдадской железной дороги и таким образом остро почувствовал ее потенциальную угрозу передовым постам Британии. Оппозиционная партия курдов-реакционеров, выступавшая против младотурок, подтолкнула его к организации интриг против Турции и Германии. От арабов, среди которых он вращался, Лоуренс слышал об их мечтаниях освободиться от турецкого ига. Лоуренс даже сблизился с отделами тайного общества, которые внутри турецкой армии активно работали для достижения этой цели.
Приобретенные им знания придали новое значение его прежним мечтам и сделали их более реальными. Экспедиция в Синай была, как он это сам чувствовал, определенным шагом к их осуществлению. Фактически название известной книги о шпионской работе на германском побережье «Загадка песков» подошло бы скорее к характеристике именно этого этапа деятельности Лоуренса, так как он уже давно представлял собой для турок «новую загадку песков» пустыни, разгадать которую им так и не удалось.
Глава II. Восстание арабов. Июнь 1916 г.
Когда в августе 1914 г. началась война, Лоуренс находился в Оксфорде, работая над частью материалов, собранных им во время экспедиции в Синай. Не будучи потревожен общим расстройством жизни в Англии, вызванным войной, Лоуренс продолжал заниматься, как и большинство молодых людей, выжидая, когда им представится случай принять участие в войне. Однако он вынужден был вскоре прекратить работу над своей книгой. Турция весьма болезненно относилась к разведке в Синае, которая, как она чувствовала, производилась в военных целях. Китчинер (единственный инициатор ее осуществления) настаивал, чтобы палестинский исследовательский фонд опубликовал данные наших археологических изысканий «белыми, как снег», и Лоуренс получил инструкции сделать это немедленно.
Выполнение этой задачи не заняло много времени, после чего Лоуренс принялся за подыскание себе такого места на военной службе, где его специальные знания могли бы найти широкое применение. Говорят, что он пытался поступить добровольцем в армию, но его ходатайство было отклонено из-за несоответствия физических данных: дело в том, что вследствие наплыва добровольцев норма роста была увеличена и превышала рост Лоуренса. В августе 1914 г. Наполеон, вероятно, также был бы забракован британской армией. То, что произошло в дальнейшем, лучше всего видно из слов самого Лоуренса: «Когда книга была окончена, я написал письмо Ньюкомбу, в котором просил его совета в отношении получения работы на военной службе. Получить ее было трудно. Ньюкомб сказал об этом разведывательному управлению, и я был включен в списки кандидатов. Я обратился к Хоггарту, имевшему большой вес в королевском географическом обществе, с просьбой посодействовать мне». Хоггарт подтвердил, что географический отдел Генерального штаба был самым подходящим местом, и, по-видимому, переговорил о Лоуренсе окольным путем. Как бы то ни было, но Лоуренс получил от Хоггарта предложение зайти в военное министерство к полковнику Хэдлей.
Кут Хэдлей уверял впоследствии, что он не помнит, чтобы кто-либо говорил с ним предварительно о Лоуренсе, и был очень удивлен, когда в один прекрасный день в сентябре курьер военного министерства ввел к нему в кабинет молодого человека, которому на вид было около 18 лет, без шляпы, в сером спортивном костюме. Однако фамилия его рассеяла всякие сомнения, так как Хэдлей хорошо знал о его работе в Синае и слышал о нем интересные подробности от Ньюкомба. Хэдлей охотно принял Лоуренса к себе на работу. Появился Лоуренс в удачный момент, когда офицеры географического отдела с наступлением военных действий были отправлены на фронт. Единственный оставшийся капитан Наджэнт в течение недели должен был выехать во Францию. «Наджэнт поспешно проинструктировал меня о моих обязанностях, и вскоре Хэдлей и я остались в отделе одни». Среди других важных работ, оставшихся незаконченными, были карты Синайского полуострова, которые нужно было присоединить к картам Палестины, проверенным и опубликованным палестинским исследовательским фондом вместе с картами Синайского полуострова, подготовленными географическим отделом.
Лоуренс начал работу, будучи штатским, и переход к ношению военной формы был ускорен тем впечатлением, которое его внешний вид произвел на Генри Роулинсона, только что назначенного командующим новыми экспедиционными силами, намеченными для отправки в помощь бельгийской армии. Лоуренс пришел показать Роулинсону вновь отпечатанные карты Бельгии. «Увидев меня, — рассказывает Лоуренс, — он чуть не упал в обморок и воскликнул:
«Я хочу разговаривать с офицером!» Тогда Хэдлей сказал Лоуренсу: «Нам придется зачислить вас в кадры». И это было сделано без формальности медицинского осмотра, что, конечно, являлось излишним после тех практических испытаний на выносливость, которые Лоуренс с таким успехом прошел в Сирии и Синае. Лоуренс отправился в военный магазин и приобрел себе форму младшего лейтенанта, не ожидая проведения своего назначения приказом.
Хэдлей вскоре убедился, что его новый помощник являлся более квалифицированным работником, чем он ожидал. Рассказывают, что когда несколько недель спустя Хэдлея спросили, как обстоит дело с его новым работником, тот не без юмора ответил: «Теперь он руководит вместо меня всем моим отделом». С пониманием общественного дела, которое не часто встречается в ведомственном аппарате, Хэдлей заявил начальнику оперативно-разведывательного управления, что у него в отделе имеется «идеальный офицер» для разведывательной работы в Египте. Зная, что он вскоре лишится помощи Лоуренса, Хэдлей добивался скорейшего окончания карт Синая. Однако Лоуренс не нуждался в том, чтобы его подгоняли. Если бы его не удерживали, он работал бы всю ночь, так как почти не считался со временем.
После того, как Турция вступила в войну, было решено усилить разведывательную службу в Каире. Ньюкомб был отозван из Франции и направлен в Египет в качестве помощника Клейтону. Среди офицеров, которые должны были отправиться вместе с ним, были Ллойд-Джордж, Обри Хэрберт, Леонард Вулли и Лоуренс, вместе с Ньюкомбом ставшие известными в Египте под названием «пяти мушкетеров». Ньюкомб и Лоуренс выехали из Лондона ранее других, 9 декабря, и поехали по железной дороге до Марселя, где сели на французский пароход, посмеиваясь над остальными, которым пришлось ехать без всяких удобств на военном транспорте.
В Каире главным источником информации о турецкой армии был другой штатский, также пока не зачисленный на военную службу, — Грэйвс, работавший перед войной в Константинополе в качестве корреспондента газеты «Таймс». Предвидя неизбежность конфликта, он сделался военным экспертом, наблюдая за реорганизацией турецкой армии, начавшейся после балканской войны, и изучая методы и людей с такой тщательностью, с какой официальному представителю английской армии это, конечно, не представилось бы возможным.
Отправившись после вступления Турции в войну в Каир, Грэйвс встретил в Клейтоне человека, который был готов воспользоваться его исключительным знанием армии противника. Последнее было тем более ценным, что оно заключалось в знании не только личного состава, но и характера неприятельских командиров, их достоинств и недостатков. Благодаря этому Клейтон оказался в состоянии получать весьма полезные характеристики командного состава турецкой армии, которые иногда представлялись в следующем виде: «Довольно молодой льстивый турок… совершенно ненадежный и неразборчивый в средствах. Говорят, нажил себе состояние на содержателях публичных домов, хотя его друзья и утверждают, что он делал это в целях увеличения денежных средств партии. Посещал дипломатические круги, в особенности французские. Имеет репутацию человека, ведущего широкий образ жизни».
Знание низших слоев Турции, которым обладал Лоуренс, а также тайных обществ арабов делало его весьма подходящим дополнением к Грэйвсу. Поэтому способности Лоуренса были использованы не только для подготовки карт, но и для помощи Грэйвсу в составлении неприятельского «боевого расположения» — документа о расположении турецких дивизий и различных частей, выявлявшемся из донесений агентов разведки и опроса пленных. В этой работе Лоуренсу помогли прошлый опыт, приобретенный в силу привычки собирать необычайные сведения, и его исключительная способность выяснять и устанавливать то значение деталей, которое другие обычно упускали. Если бы Конан-Дойль родился на одно поколение позже, он нашел бы в Лоуренсе готовый тип для своего Шерлока Холмса.
Это чутье Лоуренса привело к дальнейшему расширению круга его обязанностей, а именно — к опросу пленных. Он часто поражал их и ошарашивал своими умозаключениями, выводимыми на основании одежды, поведения и разговора. Друзьям успех Лоуренса в получении от пленных нужных показаний казался чем-то таинственным. Он сам объяснял это так: «Я всегда знал их районы и расспрашивал о проживавших там моих приятелях. После этого они мне говорили все». Поглядев на пленного и услышав первые произнесенные им несколько слов, Лоуренс мог определить местность, откуда он происходит, с точностью до тридцати километров, а затем восклицал: «А, так ты из Алеппо! Как поживает..?»
В Египте разносторонность Лоуренса делала его человеком на все руки. Совместно с Грэйвсом он выпустил ряд новых изданий «Справочника турецкой армии», сам наблюдая за их печатанием. Ему поручали собирание сведений о повстанческом движении в Египте, причем готовность заговорщиков предавать друг друга сообщала нередко некоторый юмор этому мрачному занятию. Его направляли с заданиями в Западную пустыню. Посылали в Грецию для установления контакта с находившимися там секретными агентами. Эта поездка имела в его глазах тем большую ценность, что позволяла ему усладить свой взор очертаниями и красками холмов Греции, подлинного произведения искусства. Для него это было чем-то вроде очистительного ливня между одной помойной ямой и другой.
Весной 1916 года ему пришлось совершить длительное путешествие по более важному делу — «взятию» Эрзерума русской Кавказской армией после исключительно вялой защиты его турками.
Немедленный эффект успеха на Кавказе привел к тому, что заставил британское военное министерство попытаться повторить его в иных условиях. Лоуренс был отправлен с секретным заданием в Месопотамию. Официально он поехал туда от разведывательного отдела в Каире с целью улучшения подготовки к печати карт для экспедиционного корпуса в Месопотамии и, в частности, для консультирования изготовления карт воздушной съемки — новой области знания, в которой он сделался экспертом в то время, когда для командования в Индии воздушная съемка была еще загадкой. Хотя большая часть его друзей и считала, с что ему поручено только это задание, в действительности Лоуренс получил непосредственно от военного министерства секретное предписание сопровождать члена парламента капитана Обри Хэрберта в его миссии к Халил-паше, командовавшему турецкой армией, осаждавшей в то время отряд Тауншенда в Куте.
Цель посылки миссии заключалась в том, чтобы начать переговоры с Халил-пашой в надежде, что он может согласиться отпустить гарнизон взамен щедрого выкупа. Лоуренс имел в виду также и третью цель, а именно — установить возможность поднять восстание среди арабских племен вдоль турецкой линии железнодорожного сообщения, чтобы осаждающие Кут оказались отрезанными от подвоза продовольствия и подкреплений.
Однако по прибытии в Басру он нашел обстановку неблагоприятной как для выполнения официального задания, так и для достижения своей частной цели. Идея подкупа турок была в последнюю минуту предложена Тауншендом и принята главнокомандующим английскими силами в Месопотамии Лэйком. Однако посылка этой миссии была не по нутру многим английским генералам. Хотя они и потерпели неудачу в своих усилиях выручить страдавший от голода отряд Тауншенда, все же поражения в открытом бою не могли заставить их пойти на то, что казалось им достижением цели обманным путем. Вследствие этого они весьма неблагожелательно смотрели на миссию, которая оскорбляла их понятие о воинской чести. Исходя из практических соображений, а именно из того, что подобная попытка более пагубным образом отразится на их престиже, чем военное поражение, главный руководитель политического отдела Перси Кокс отказался связать себя в какой бы то ни было степени с этими переговорами. Следует добавить, что и сам Лоуренс был их противником, считая что Халил-паша был слишком уверен в получении денег от Турции, а также и в определенном военном успехе, чтобы согласиться пойти на подкуп.
Результат оправдал эти ожидания. Гарнизон Кута находился при последнем издыхании, когда была произведена попытка вступить в переговоры, к тому же турки «заломили» миллион фунтов стерлингов, чтобы отпустить гарнизон на честное слово. Напрасно кабинет в Англии удвоил назначенную им первоначальную цену выкупа и тем самым дал повод всему внешнему миру еще раз назвать англичан «нацией лавочников». Цензура помогла скрыть это от нашего собственного народа, но турки позаботились о том, чтобы передать об этом по радио другим странам. Сами переговоры являлись унизительным делом для посланных. Под белым флагом Хэрберт в сопровождении полковника Бич и Лоуренса перешел нейтральную полосу. Прежде чем доставить их в штаб-квартиру Халила, им завязали глаза. Все, чего им удалось от него добиться, — это освобождения небольшого числа больных и раненых в обмен на здоровых пленных турок.
Халил не хотел принимать пленных арабов, заявив, что большинство из них не лучше, чем дезертиры; если бы они вернулись к нему, то он предал бы их военному суду и расстрелял бы. Когда английские офицеры попросили его не наказывать проживавших в Куте арабов, которым невольно пришлось принять участие в военных действиях, Халилу показалось забавным, что они заботятся о такой «падали», однако он заверил их, что не собирается быть мстительным. Для начала он повесил только девять арабов, что, учитывая его прошлые подвиги, пожалуй, следовало рассматривать как доказательство «милосердия».
План самого Лоуренса также оказался непригодным. Время для спасения Кута проходило, а большинство английских офицеров слишком презрительно относилось к месопотамским арабам, чтобы видеть в них возможных союзников, а тем более ценой поощрения их претензий. При посадке в Басре для обратного путешествия в Египет Лоуренс узнал, что его единственным спутником, является генерал Уэбб-Гилльман, командированный военным министерством с заданием произвести обследование. Вначале Уэбб-Гилльман держался очень замкнуто, однако после того, как Лоуренс предложил генералу соответственно разделить верхнюю палубу для прогулок, чувство юмора у генерала одержало верх над его сдержанностью, и они подружились. Услышав, что Лоуренс составил доклад о положении дел в английских воинских частях в Месопотамии, он потребовал предъявить его ему и, прежде чем начать писать свои выводы, полностью обсудил совместно с Лоуренсом каждую страницу доклада.
В докладе Лоуренс изложил все свои наблюдения, которые, как он полагал, представляли интерес для штаба командования. Он выполнил свое задание с прямотой, вызвавшей резкое негодование своего начальства. Полковник Стэрлинг говорил, что Лоуренс критиковал качество типографского шрифта, способы приставания барж к стенке, непригодность кранов, стоявших у складов, недостатки системы маневрирования вагонов и посадки воинских частей для отправки по железной дороге, отсутствие соответствующих складов медикаментов, слепоту санитарного управления, отсутствие у последнего представления о действительных нуждах и, о ужас… критиковал высшее командование и ведение им военных операций вообще…
Муррей, который знал о поездке Лоуренса в Месопотамию, потребовал показать ему написанный доклад. «В тот вечер в Генеральном штабе царило смятение, — рассказывает один из офицеров, — так как мы были убеждены, что если Муррей прочтет доклад, то его постигнет удар и мы лишимся нашего командующего. Поэтому в срочном порядке мы засели за переделку доклада, выкидывая из него самые рискованные места, и работали до тех пор, пока не привели его в такой вид, в каком он мог быть представлен начальству». Однако следует признаться, что в большей части своей критики Лоуренс был абсолютно прав, особенно в отношении вопросов санитарной службы, что было подтверждено в дальнейшем той безобразной путаницей, которая получилась, как только стали прибывать первые партии раненых.
Всесокрушающая критика Лоуренса встретила суровый отпор. Самый факт существования младшего лейтенанта военного времени, занимавшегося критикой действий начальства и осуждавшего генералов, был возмутителен. Преподносившаяся им пилюля не была подслащена хотя бы поверхностным налетом корректности. Лоуренс часто обрезал старших и открыто поправлял их промахи. Он оскорблял их даже своим внешним видом, цветом своего воротничка, своим галстуком и своей привычкой ходить без ремня.
Для тех, кто был воспитан в условиях военной среды и считал, что непогрешимость является привилегией начальства, самоуверенность, с которой Лоуренс обычно высказывал свои суждения по любому знакомому ему вопросу, являлась постоянным источником возмущения. Поскольку же круг знакомых ему вопросов был исключительно широк, он еще более увеличивал пропасть между им самим и его официальными начальниками.
В конце 1915 г. Ньюкомб уехал обратно во Францию, и Лоуренс попал в разбухший штат Муррея, где его начальником оказался Хольдич — человек, который терпеть не мог «наглости» Лоуренса и превосходства его знаний. Когда они вместе служили в штабе Максвэлла, они были в хороших отношениях, но, как это слишком часто бывает в жизни, Хольдич с переменой начальства переменился и сам, уловив, по-видимому, дух своего нового начальства. Но причины его расхождения с Лоуренсом и другими своими подчиненными были не только причинами личного порядка.
Оценка Лоуренсом неприятельских сил была сделана с точностью до одной сотни; Хольдич забраковал ее и дал свою собственную, которая, по мнению штаба, давала приближение порядка десяти тысяч. Сам Лоуренс заметил, что Хольдич прекрасно разбирался в оперативных вопросах, по ничего не смыслил в разведке. История военных действий в Палестине с 1915 по 1917 г. полна подтверждений второй части этой оценки.
Чрезмерный энтузиазм Лоуренса по отношению к восстанию арабов являлся еще одним оскорблением в глазах некоторых представителей Генерального штаба, чье принципиальное предубеждение против восстания усиливалось их личной неприязнью к Мак-Магону и Клейтону. Лоуренс казался им чем-то вроде предателя Генерального штаба. В свою очередь и Лоуренс начал отплачивать им за их нерасположение к нему усилением своей критики. Он перешел из штаба в «Арабское бюро», где для него нашелся уголок, благодаря Клейтону. К тому же восстание арабов должно было открыть перед Лоуренсом лучшие возможности. В октябре, пока его перевод оформлялся частным порядком через Лондон, он взял десятидневный отпуск и использовал его для своей первой поездки в Хиджаз.
Наилучшей иллюстрацией исторических курьезов могут послужить дипломатические отношения, существовавшие между Англией и Турцией на протяжении всего XIX столетия. Англия, заинтересованная в неприкосновенности Турции, в особенности от посягательств на нее со стороны России, помогала ей оружием. По временам же Турция поносилась и наказывалась за свои промахи морального порядка. Однако в начале XX столетия эти отеческие взаимоотношения были нарушены вторжением нового «поклонника», который предложил Турции опереться о его сильную руку, обещая избавить ее от христианских нравоучений. Турция поддалась на эти обещания. Когда же новый друг (Германия) в начале мировой войны — в августе 1914 г. — вступил в драку со старым опекуном, боязнь России и вера в могущество Германии заставили Турцию в конце октября выступить с оружием в руках против Англии. За этим важным успехом вскоре последовали другие, придавшие курьезный оттенок германскому радиокоммюнике от 27 июня, гласившему, что «мы можем категорически опровергнуть какие бы то ни было слухи о восстании в Хиджазе». Рабуг, находившийся на расстоянии 175 км к северу от Джидды, держался слабо и легко был захвачен. 27 июля сдался Янбу. Из портов, расположенных на побережье Хиджаза, в руках турок оставался только Ваджх, находившийся на самом севере. Внутри Хиджаза все еще оставалась незахваченной расположенная на холме станция Тайф. Она была окружена отрядом примерно в 5000 арабов под предводительством Абдуллы, но последний избегал таких безрассудных поступков, как взятие приступом. Имея хорошо укрывшийся гарнизон в 3000 турок с десятью полевыми орудиями Круппа, Тайф был крепким орехом, и Абдулла терпеливо ожидал прибытия помощи. Подкрепление состояло из четырех пушек египетской горной батареи и захваченной у турок гаубицы. Начав обстрел 16 июля, эта артиллерия, постепенно продвинувшись к Тайфу, быстро подавила огонь полевых орудий турок. С торжеством наблюдая за происходившим, арабы больше восхищались гулом орудий, чем попаданием снарядов, и предпочитали оставаться в роли зрителей, чем подвергать себя риску перехода в наступление. Их вождь Абдулла, излишне полный для своих 35 лет, был слишком хитер, чтобы пойти на дерзкое предприятие, в особенности учитывая, что на его стороне — только время, а все остальное — против него. Его осторожность была оправдана, когда, наконец, 22 сентября, после того, как губернатор Тайфа был напуган попаданием нескольких снарядов в его дом, гарнизон безоговорочно сдался. Благодаря этому поражению число пленных турок шерифа превысило 5000 человек. Многие из находившихся среди них арабов и сирийцев добровольно согласились поступить на военную службу к арабам и позднее образовали ядро регулярных частей.
Для Германии и Австрии это оказалось большим плюсом. Черное море, через которое Россия могла снабжаться боевыми припасами, оказалось запертым. Это же обстоятельство позволило им прикрыть выход на Балканах и обещало отвлечение части английских и русских сил. С другой стороны, сама Турция была чрезвычайно уязвима, так как, образно выражаясь, ее голова и шея, расположенные на краю Европы, находились в опасности быть отрезанными, а ее распростертое в Азии тело было предрасположено к параличу.
Дарданеллы охраняли подступы к Константинополю, но их укрепления были устарелыми и недостаточными, в то время как два единственных военных завода Турции находились на берегу моря и легко могли быть уничтожены противником. Что касается самой Турецкой империи, то ее слабость заключалась, во-первых, в растянутой и легко подверженной захвату сети железнодорожных сообщений, во-вторых, в мятежном настроении входивших в ее состав национальностей, и в особенности арабов. Железнодорожная сеть Турции образовывала громадную букву «Т», горизонтальная черта которой, простиравшаяся от Константинополя через Алеппо к Багдаду, была еще далеко не доведена до конца, вертикальная же линия, протяжением около 1750 км, тянулась вниз через Сирию к расположенному на восточном берегу Красного моря Хиджазу, имея своим конечным пунктом Медину.
Ход борьбы в значительной степени зависел от того, насколько противникам Турции удастся воспользоваться свойственной последней слабостью для уменьшения тех тяжелых последствий, которые были вызваны ее вступлением в войну против них. Результат же в свою очередь в значительной степени определялся влиянием на союзников германской теории прошлого века, известной под названием «доктрины Клаузевица», о том, что все усилия и все силы должны быть по возможности сконцентрированы на главном театре войны против главного врага. Благодаря рабской приверженности этой доктрине, которая с течением времени превратилась в догму, стратеги союзников упустили возможность, предоставлявшуюся им слабостью Турции, дав ей время на преодоление этой слабости и на развитие ее собственных активных действий. Решение избегать отвлечения сил на второстепенные задачи с фатальной иронией привело союзников к более расточительному расходованию сил на третьестепенные задачи оберегания самих себя, в особенностей в Египте, против опасности со стороны турок. В первый год войны англичане неоднократно пытались прорваться через Дарданеллы силами, которые всегда запаздывали и к тому же были слишком недостаточны. Когда же в 1915 г. было решено начать отступление, англичане задумали альтернативный план перехвата железнодорожной сети, имевшей вид буквы «Т», возле ее соединения. Однако едва этот проект зародился, как со стороны английского Генерального штаба возникли возражения, подкрепленные в дальнейшем наложением Францией политического «вето» на вторжение англичан в Сирию.
В самом начале 1916 г., после эвакуации Галлиполи, английские силы в Египте возросли до численности, превышавшей 250 000 человек, большая часть которых была оставлена в Египте из страха за безопасность Суэцкого канала — артерии Британской империи в Индию. Они удерживались там бесцельно вследствие нежелания английского Генерального штаба производить новые перемещения. Подобная пассивность способствовала проявлению активности со стороны турок как на восточном, так и на западном фронтах встревоженного Египта.
Необходимость предпринять какие-либо меры для отвлечения турок была учтена верховным комиссаром Египта Мак-Магоном. Длившиеся в течение нескольких месяцев переговоры с шерифом Мекки Хуссейном закончились соглашением, которым предусматривалось, что в подходящий момент арабы Хиджаза выступят против турок, Англия же обещала гарантировать, правда, с некоторыми оговорками, независимость земель арабов, являвшихся в то время частью Турецкой империи.
Тем временем, однако, другой представитель министерства иностранных дел, Марк Сайке, независимо от этого совместно с французами намечал раздел Турции, исходя из другого плана. Это соглашение, известное под названием договора Сайке—Пико, содержало в себе зародыш будущих неприятностей с арабами.
Турки же тем временем сами ухудшали свое положение отправкой военных сил на юг. Сообщение об этом ускорило восстание арабов, которое и началось в июне 1916 г.
Восстание было организовало самим шерифом Хуссейном. Однако результаты этого восстания были менее заметны, чем наличие дезорганизации. Замечание Уингейта об отрядах шерифа было вполне правильной оценкой: «Его армия фактически является просто сбродом, напоминающим толпу дервишей». Всего имелось около 50 000 арабов, вооруженных менее чем 10 000 винтовок, из которых только часть была современного образца. Не было ни орудий, ни пулеметов. Хуже того, Хуссейном не было проведено никакой подготовки для того, чтобы содержать свои воинские части сытыми и в боеспособном состоянии. Сыну Хуссейна Фейсалу удалось ускользнуть из Дамаска как раз перед восстанием, но во всяком случае ни ему, ни его братьям, по-видимому, не пришлось посоветоваться с отцом относительно деталей плана восстания. Они попросту получили приказание начать восстание. Будучи осмотрительным и хитрым, шериф наряду с этим был тщеславным и своенравным «самодержцем обеденного стола», ревниво относившимся к своим прерогативам.
Но турки обещали дать, по-видимому, сильный отпор. Турецкий гарнизон Хиджаза в основном состоял из одной дивизии, три полка которой были расположены в Мекке, Джидде и Медине. Кроме того, батальоны 21-й дивизии занимали Лит и Конфуда, расположенные на побережье к югу от Джидды. Общая численность сил, находившихся в Хиджазе, по-видимому, превышала 15 000 человек. На стороне турок было не только преимущество укрепленных позиций, но и традиционная их способность к обороне. Старшие сыновья шерифа Али и Фейсал 5 июня, повинуясь приказаниям, подняли в окрестностях Медины знамя восстания. На их призыв откликнулось около 30 000 человек. На следующий день Али двинулся к северу через горы, для того чтобы перерезать железнодорожный путь около пункта Медайн-Салих, находившегося на расстоянии 225 км от Медины, в то время как Фейсал попытался взять город штурмом. Те из арабов, которым удалось проникнуть в город, вскоре были отогнаны, так как они не смогли справиться в рукопашном бою с турками. На более же далеком расстоянии арабы попали под огонь турецкой артиллерии. Фейсал, который знал относительную безвредность подобного артиллерийского огня, тщетно ездил по равнине, пытаясь успокоить своих соплеменников. Племена аджейл и атейба сошли с коней на землю и лежали без движения, арабы же племени бени-али вовсе опрокинули расчеты, обратившись в бегство. В течение следующего месяца Фейсалу пришлось довольствоваться установлением довольно-таки слабой блокады, но даже и она в дальнейшем была прорвана. По-видимому, было не совсем удачно начинать восстание в том месте, куда Мухаммед первоначально пришел в качестве беглеца и где в конце концов упокоился в гробнице.
В других местах восстание сопровождалось рядом блестящих успехов. Из Мекки основная часть гарнизона была выведена в летние лагери в Тайф, находившийся на расстоянии 120 км к юго-востоку. Оставшийся отряд насчитывал лишь 1000 человек, часть которых была расквартирована в казармах, в пределах города, а другая занимала форты на прилежащих высотах.
Кроме того, командир турецкого отряда был захвачен врасплох. Начавшаяся 9 июня атака постепенно развивалась, а турецкий командующий вместо решительных действий только позвонил по телефону шерифу: «Бедуины восстали против правительства, найдите выход». Оценив весь юмор положения, шериф Хуссейн ответил со скрытой иронией: «Конечно, найду», — и тотчас же отдал приказ об общем наступлении. В течение трех дней турки оказывали упорное сопротивление, но 12 июня арабам удалось поджечь казармы и «выкурить» их обитателей. За этим последовали дальнейшие успехи, и к следующему вечеру все оборонительные линии, за исключением двух небольших фортов, находящихся за пределами города, были захвачены, а охранявшие их воинские части взяты в плен. Оставшиеся форты отражали все атаки, и прошел месяц, прежде чем они сдались. Однако своим сопротивлением они лишь способствовали успеху шерифа, так как допустили большую глупость, произведя артиллерийский обстрел мечети. Их снаряды пролетели на расстоянии лишь нескольких футов от величайшей святыни мусульман — Каабы — и подожгли Киова. Убийство нескольких фанатиков было дешевой ценой за тот лозунг, который Хуссейн смог теперь объявить, а именно — об освобождении мусульманского мира; этот лозунг был подхвачен Лоуренсом и использован в английских интересах.
Тем временем в полном неведении о происходивших драматических событиях работники «Арабского бюро» перебрались через Красное море для встречи с представителем шерифа. Предполагая обсудить план будущего восстания, они застали его в разгаре. 6 июня при высадке на побережье около Джидды они, к великому удивлению, были встречены не Абдуллой, а младшим сыном шерифа Зеидом, который объяснил им, что его старшие братья заняты более важными делами. Поскольку английские офицеры могли оценить положение, у них создалось впечатление, что шериф будет в состоянии выдержать продолжительную борьбу. Хоггарт, возглавлявший эту делегацию, вернулся обратно в Египет с настоятельной просьбой шерифа прислать, по крайней мере, еще 10 000 винтовок, а сверх того некоторое количество горных орудий с мусульманской прислугой. Последнее было вызвано постоянным протестом со стороны арабов против приближения «неверных» к священным городам, хотя бы и для защиты; одно время это значительно затрудняло оказание активной помощи арабам.
Генерал-губернатор Судана Уингейт учел обстановку и сразу же принял решение. Он понял, что при использовании египетских войск для помощи арабам имеется известный риск, но он был человеком, который умел смотреть вперед и принимать решение, а объединение арабов уже давно было его заветным желанием. Он видел, что политико-стратегические последствия перевешивали политико-тактический риск. В результате в Порт-Саиде на три парохода были погружены под командой египетского офицера две горные батареи с офицерами-мусульманами и одна рота с четырьмя пулеметами, затем 3000 винтовок и большой запас продовольствия и боевых припасов. Отряд вышел из Порт-Саида 27 июня, и на следующий день прибыл в Джидду.
Этот порт был только что захвачен англичанами. Первоначально он был атакован шейхом племени харб в тот самый день, когда Хуссейн напал на Мекку. Однако здесь, так же, как и в Медине, арабы не смогли выдержать артиллерийского и пулеметного огня. Тем не менее, отрезав город от воды, они сделали положение гарнизона безвыходным. Два дня спустя крейсеры «Фокс» и «Хардиндж» (последний входил в состав английских морских сил Индии) обстреляли турецкие позиции, находившиеся к северу от города. Так же, как и в Галлиполи, морская артиллерия ничего не смогла сделать с окопавшимися турками; точно установить местонахождение их было невозможно. Вечером 15 июня на подмогу пришел английский авианосец, и три его гидросамолета произвели воздушную бомбардировку порта. Взвился белый флаг, и гарнизон численностью в 1400 штыков сдался арабам,
Хотя в Тайфе и был успех, но в северном районе положение еще больше ухудшилось. Железнодорожное движение из Дамаска было быстро восстановлено, и поезда ходили в Медину два раза в неделю, совершая проезд в два дня. Командование в Медине перешло теперь к Фахри-паше, который приобрел себе известность как организатор резни в Адене еще в 1909 г. Обладая большим опытом в подобных методах подавления и устрашения, он и в эту войну остался верен себе. 27 июня Фахри произвел внезапную вылазку, заставившую Фейсала отступить, и окружил предместье, которое последний занимал. После успешного штурма его люди разорили и сожгли предместье, перерезав за малым исключением почти всех жителей — мужчин, женщин и детей.
Примененные турками методы ведения войны произвели тем большее впечатление, что они нарушили кодекс, которого придерживались арабы, считавшие, что нужно щадить не только женщин и детей, но и материальное имущество, если оно не может быть захвачено с собой как добыча. Этот относительный иммунитет от той жажды крови, которая имеется у большинства живущих здесь рас, является свидетельством здравого смысла арабов, но в то же время он не указывает на арабов как на «хороший материал» для крестового похода, который требует фанатического энтузиазма.
Это обстоятельство помогает понять те трудности, которые пришлось встретить людям, лелеявшим мечту вдохновить арабов на высшее и бескорыстное усилие для достижения свободы и власти.
Сражения иногда выигрывались обманом, а войны — чаще маневренностью, чем медленными операциями. Но все же с военной точки зрения даже арабы представляют ценность для тех, кто знает, как их использовать. Требовался лишь военный гений, который смог бы понять значение слабости и обратить ограниченные способности арабов в их пользу. По странному стечению обстоятельств этот динамический реализм должен был проявиться у человека, для которого арабы были романтическим идеалом.
В середине лета 1916 г. положение было еще весьма тяжелым. Арабы могли бы отомстить за убийство своих соплеменников, но здравый смысл удержал их от того, чтобы броситься под пулеметный огонь. Они отступили. Али также отступил от железной дороги и соединился с Фейсалом. Теперь силы арабов довольствовались охраной проходов, которые вели через холмы к Мекке.
Но даже и здесь арабы недолго оставались в покое. 3 августа турки вновь перешли в наступление и отогнали Али на 35 км к югу от Медины. Скалистые холмы, столь выгодные для снайперов, явились главной преградой наступлению. В этот момент прибытие новой подвижной колонны, несомненно, позволило бы туркам отогнать арабов до самой Мекки. Вместо этого турецкий командующий предпочел подождать, пока свежие подкрепления не придут в Медину и не позволят ему начать полное покорение Хиджаза. Шла подготовка к отправке восьми батальонов, а новый шериф готовился к триумфальному въезду в Мекку с турецким священным ковром. Удовлетворение подобной мести казалось слишком обеспеченным, чтобы стоило его отравлять торопливостью. Таким образом турки упустили величайшую возможность подавления восстания в самом зародыше.
Время дало возможность арабам распространить весть о восстании по пескам пустыни. Оно позволило арабам также устранить допущенные ими недочеты в подготовке восстания и укрепить дисциплину. Но все же они плохо использовали передышку. Организованность не является чем-то естественным для араба, а тем более для бедуина; она также не соответствует их семейному укладу. Если арабы и объединялись, то сила, являвшаяся результатом этого объединения, оказывалась столь же изменчивой, как пески. Зачастую случалось, что член семьи поочередно служил несколько дней на фронте, пользуясь семейным ружьем, а затем заменялся братом. Женатые уходили с фронта, чтобы навестить своих жен. Иногда весь клан целиком уходил домой. Подобные дезорганизующие действия усиливались неустойчивостью арабов и враждой между племенами. Связанность наличием общего врага зачастую была недостаточна, чтобы преодолеть взаимное нерасположение. Линии разделения были бесчисленны.
Главное достоинство арабов с военной точки зрения заключалось в стратегической подвижности — в их способности передвигаться на большие расстояния без долгих приготовлений и без той поклажи, которая обычно обременяет воинские части. Но эта способность все же имела больше ограничений, чем это кажется обычно. Едва лишь одна десятая первоначальных сил Фейсала была всадниками на верблюдах. То обстоятельство, что большая часть арабов передвигалась пешком, затрудняло снабжение продовольствием в случае их удаления на большое расстояние от поселений. Таким образом, вопрос о пище являлся вторым после семьи вопросом, привязывавшим арабов к району своего племени. Это означало, что если военные действия переносились на новую территорию, то стратегия в значительной степени зависела от успеха вербовки новых сил из местных племен.
Когда ослаб первоначальный энтузиазм, поддержание восстания арабов зависело от возможности шерифа снабжать своих сторонников продовольствием, а также вознаграждать их за ту добычу, которую им не удалось получить от турок. В этом отношении помощь Англии явилась решающим фактором, так как транспорты с продовольствием, прибывшие в Джидду и Рабуг, оказались для восстания базой. Благодаря им — и только им одним — шериф был в состоянии прокормить как своих воинов, так и их семьи. Получая деньги от англичан, он мог платить по 2 фунта стерлингов за человека в месяц и по 4 фунта за верблюда. Как правильно заметил Лоуренс, «ничто другое не смогло бы удержать на фронте в течение пяти месяцев армию, составленную из разноплеменных арабов».
К сожалению, те, кто находился ближе всего к транспортам, а следовательно, дальше всего от фронта, сумели добиться для себя наилучших условий. Таким образом и здесь, но еще в более разительной форме, проявилась знакомая тенденция современных армий. Поскольку к тому же эти туземные армии не имели дисциплины, которая могла бы их сдерживать, постольку в результате получился прилив к базе и ослабление боевых частей.
Али и Фейсал вскоре обнаружили, что припасы доходят к ним лишь по капле, а деньги не доходят вовсе. Чтобы поддержать воинственный дух своих людей, Фейсал пустился на хитрость. Он наполнил сундук звонкими камешками, запер его на замок и тщательно перевязал. Во время каждого дневного перехода он приказывал его тщательно охранять.
Однако этих уловок не могло хватить надолго. Тогда Али, пользуясь правом старшего брата, отправился в Рабуг для того, чтобы установить причину невыполнения англичанами своих обещаний. Там он узнал, что местный вождь предпочел воспользоваться возможностью быстрой прибыли в ожидании того, что турки начисто разделаются с шерифом, а деньги останутся у него.
Послав за Зеидом, который привел из Джидды подкрепление, Али начал проявлять свои силы. Устыдившийся вождь ушел в горы, Али же взял власть в Рабуге в свои руки и обнаружил большое количество английских припасов. Тогда братья решили провести в Рабуге длительный отдых.
Таким образом Фейсал остался один в холмах у Медины, стараясь удержать свои войска, которые «таяли» и прибегали ко всяческим уловкам, чтобы уйти. Шейхи говорили ему: «Ты обещал нам оружие и продовольствие, но ни то, ни другое не прибыло». Устав ждать, они уходили. А в это время турки не только накапливали силы у Медины, укрепляя свое господство над железной дорогой в северном направлении, но и собирали транспорт и припасы от своего союзника в пустыне — эмира Хайла. Восстание арабов могло бы вскоре совсем сойти на нет, если бы его не поддержали англичане.
Таков был взгляд всех, кто близко соприкасался с этим вопросом, за исключением одного человека.
Внешний контроль за делами арабов был запутанным делом еще до того, как вмешались французы. Политической стороной руководил верховный комиссар Египта Генри Мак-Магон, который оценил значение движения арабов и смело покровительствовал ему. Его правой рукой был Рональд Сторрс — человек чрезвычайно разносторонних способностей. С 1909 г. Сторрс был секретарем по делам Востока в английском агентстве в Каире, где он помогал своему начальнику знанием людей по ту сторону Красного моря, а также умением улаживать затруднения с Англией. Однако сфера влияния верховного комиссара была ограничена, потому что правительство Индии все еще несло ответственность за дела в Аравии к югу от Хиджаза. Была ограничена и его возможность предпринимать те или иные действия, поскольку он зависел от главнокомандующего военными силами в Египте Муррея, который был не только пропитан условностями доктрины о сосредоточении сил, но и обладал болезненной чувствительностью военного человека ко всяким проявлениям политического вмешательства. Муррей был подчинен Генеральному штабу в Лондоне, в то время как Мак-Магон — министерству иностранных дел.
Далее фактическое руководство всеми военными передвижениями через Красное море было возложено на третье лицо — генерал-губернатора Судана Реджинальда Уингейта. Он был назначен командующим операциями в Хиджазе, а это означало, что он нес ответственность за советы шерифу в отношении военных действий арабов и за использование любых могущих быть присланными английских военных сил. Его сочувствие восстанию арабов соответствовало его страстному желанию воспользоваться создавшейся обстановкой, но он был генералом без армии, так как находившиеся под его командованием воинские части в Судане были незначительны и заняты усмирением восстания в Дарфуре. Осуществлять функции советника шерифа, находясь в Судане, было не менее трудно, чем добиться проведения этих советов в жизнь.
Для облегчения этого Уингейт послал подполковника Вильсона, губернатора Судана, в Джидду в качестве своего представителя. Взяв на себя большую ответственность, он сделал удачный выбор. Некоторое время Вильсону пришлось работать без всякой помощи. Он утешал, советовал и уговаривал различных вождей арабов, и в конце концов добился большого влияния на них, а также заслужил полное доверие относившегося ко всему с подозрением шерифа. Это можно было приписать не столько дипломатической хитрости, сколько тому факту, что он обходился с арабами честно и открыто. Они не доверяли ему так, как не доверяли бы и другому более хитрому советнику. В дальнейшем к своему собственному ущербу арабы все же не учли, что он был просто работником, выполнявшим определенное задание, а не лицом, стоявшим во главе.
Другая удача заключалась в том, что морское командование находилось в руках человека, всегда шедшего навстречу совместным действиям, каким был вице-адмирал Росслин Вэмисс, командующий морскими силами в Ост-Индии. В военном отношении он по сути дела оказался чем-то вроде крестного отца восстания, когда последнее находилось в «младенческом возрасте», и оказывал ему всяческую помощь, пока оно не окрепло.
Между этими различными начальниками имелось связующее звено в лице бригадного генерала Гильберта Клейтона, олицетворявшего в себе тройное представительство: агента в Судане, главы военной разведки в Египте и начальника политической разведки. Он имел также связь со штабом командующего морскими силами и наблюдал за деятельностью «Арабского бюро». Казавшийся сонным и даже ленивым, он обладал удивительной способностью быть в курсе всех нужных дел. Умение оставаться в хорошем расположении духа в случае неприятностей часто помогало ему их устранять. Его чувство юмора играло не последнюю роль в обхождении с разнообразными подчиненными, а также и в улаживании конфликтов.
Глава III. Разногласия. Сентябрь — декабрь 1916 г.
Доходившие через Красное море сведения о неудачах восстания арабов были весьма неприятны для английских представителей в Египте и Судане. Что касается правительства Индии, то оно относилось к восстанию с явным неодобрением, и угроза его неудачи воспринималась легко. Хотя общественное мнение Англии в то время лишь смутно сознавало все значение восстания, эхо его в правящих кругах отдавалось громко и вызывало противоречивые взгляды, создавшие незаметному порту Рабуг громкую славу, пока в конце года она не была заглушена шумом падения кабинета Асквита.
Проблема оказания практической поддержки восстанию встала перед военной комиссией кабинета.
Был сделан ряд предложений, главнейшим из которых было — продвинуть английские войска в Египет, а также занять Акаба с целью создать угрозу турецким сообщениям с Хиджазом. Однако продвижение вглубь потребовало бы много времени, а наряду с этим шериф высказывал неудовольствие в отношении проекта высадки английских войск в Акаба. В результате английское верховное командование, не желавшее посылать войска, было весьма довольно возможностью воспользоваться этим предлогом и избежать необходимости их отправки.
Все же создавшееся осенью опасное положение потребовало немедленной отправки помощи. Возможность турецкого наступления из Медины на Мекку становилась угрожающе близкой. Было более всего вероятно, что турки начнут свое продвижение через Рабуг, что являлось наименее трудным, и этот путь был многоводен. Кроме того, он изобиловал припасами, заготовленными англичанами для шерифа, и, таким образом, представлял собой солидную приманку.
Перед лицом надвигавшейся опасности Мак-Магон настаивал на отправке в Рабуг английской бригады. Муррей упорно этому противился. Возможно, что он мало перил в успех восстания или же недооценивал его значение. Жонглировать аргументами было легко: появление английских войск в такой близости к святым городам грозило вызвать антагонизм мусульманского мира, и даже арабы могли быть призваны на помощь; при этом учитывались больше прошлые колебания шерифа, чем его теперешнее желание получить помощь. Говорили, что даже в том случае, если бы войска были посланы, это могло оказаться напрасным, так как турки смогли бы направиться другим, внутренним путем.
Пытаясь преодолеть все эти возражения, 13 сентября Мак-Магон совещался с Мурреем. Не достигнув согласованного решения, они передали дело на усмотрение военного министерства. Полился поток телеграмм между верховным комиссаром, министерством иностранных дел, главнокомандующим в Египте и начальником Генерального штаба в Лондоне. Министерство иностранных дел передало вопрос на рассмотрение военной комиссии, которая в свою очередь запросила мнение Генерального штаба.
Муррей нашел сильную поддержку своим возражениям от своего преемника в центре. Вильям Робертсон принял дела с твердым намерением урезать всяческое отвлечение войск на дальние фронты, для того чтобы сконцентрировать все возможные силы на Западном фронте. Разделавшись, к своему великому удовольствию, с Галлиполи, но запутавшись в Салониках, он не имел ни малейшего намерения быть втянутым в новое дело.
Робертсон изложил свои взгляды в докладе от 20 сентября 1916 г., в котором определенно высказался против отправки войск, считая, что непосредственная помощь должна быть ограничена только поддержкой со стороны флота.
Несколько министров, и в частности лорд Керзон и Остин Чемберлен, не согласились со взглядом Робертсона, исходя из тех соображений, что командование на месте, по всей вероятности, знает больше о том, что требуется и каковы настроения арабов, чем Генеральный штаб в Лондоне. В конце концов было решено запросить мнение вице-короля Индии и главнокомандующего английскими войсками в Египте и Месопотамии.
В ответе вице-короля выразилось довольно милостивое отношение чиновников Индии к восстанию арабов, которое было для них неприятным сюрпризом, но выдвигались различные возражения против отправки войск в Рабуг. В конце заявлялось, что неудача восстания в Индии, а также в Афганистане будет для Англии менее предосудительной, чем военная интервенция в целях поддержки восстания. Ответ генерала Мод из Месопотамии отражал примерно тот же взгляд. Он сообщил, что племена, находящиеся в сфере его влияния, не настолько заинтересованы в восстании, чтобы вообще их трогал его исход. Муррей же высказал оптимистический взгляд, указав, что, по его мнению, в настоящее время войск вообще не требуется.
Эти ответы не удовлетворили министров, которые требовали проведения быстрых мероприятий. Однако Робертсон заявил, что он ничего не имеет добавить к своему первоначальному докладу, и перед лицом его непреклонного упорства министры сдались. Но удовлетворение Робертсона было весьма кратковременным, так как вскоре его упорство снова было испытано ходом событий, которые не только привели к возобновлению нажима со стороны министерства иностранных дел, но и к новому давлению со стороны Франции.
Восстание арабов против оттоманского владычества явилось событием, в известной степени благоприятным для французских интересов. Значение его с политической точки зрения заключалось в том, что оно могло распространиться среди народов, населяющих Палестину, Сирию и Малую Армению, освободить эти области от турецкого ига и явиться поводом для французской интервенции. С военной же точки зрения восстание арабов могло приковать к себе турецкие силы в соответствии с его масштабом, с точки же зрения ислама оно должно было заставить большинство французских подданных мусульман рассматривать турок как оскорбителей святых мест и вследствие этого усилить в них чувство лояльности по отношению к Франции, которая сражалась против союзников Оттоманской империи.
Французский премьер-министр подчеркнул значение возобновления паломничества и отправки «нескольких религиозных знатных лиц, заведомо лояльных, которые смогли бы доставить эмиру Мекки подарки и денежную помощь с поздравлениями от наших подданных мусульман». Эту политическую депутацию должна была дополнить французская военная миссия, составленная исключительно из мусульман, но во главе с французским офицером.
Эти мероприятия были тотчас же проведены в жизнь. Во главе миссии был поставлен подполковник Бремон, ученый, знаток по вопросам Аравии, прослуживший ряд лет в Северной Африке. Ему было поручено организовать штаб-квартиру в Египте, в то время как арабская часть миссии, во главе с артиллерийским офицером, отправилась в Хиджаз.
Миссия прибыла в Александрию, и через две недели отправилась в Хиджаз вместе с политический делегацией. По высадке в Джидде состоялась торжественная встреча, которая была отмечена арабами пышными речами, а французами — передачей им подарков на сумму 1 250 000 золотых франков. Несколько дней спустя начался приезд паломников из французской Африки. Продвижение кавалькады к Мекке сопровождалось излияниями религиозного восторга, смешанными с радостью при получении денег. По возвращении из Мекки глава делегации сообщил, что шериф не проявил особой радости в принятии французской военной помощи, считая, что это может лишь повредить делу.
Наряду с этим шериф предупредил французское министерство иностранных дел, что в случае отсутствия под рукой в момент возникновения серьезных опасностей военной помощи со стороны французов весьма возможно, что арабы договорятся с турками. При этом он намекнул, что «наше водворение в Сирии может вызвать ряд затруднений со стороны шерифа Мекки, если мы не воспользуемся его теперешней слабостью, для того чтобы заключить с ним соглашение; оно положит предел его честолюбивым замыслам, признав те из его желаний, которые соответствуют нашим интересам».
Эти затруднения и возможности не ускользнули от внимания английского министерства иностранных дел. Поскольку избежать вмешательства французской миссии было невозможно, оставалось лишь поставить вопрос о том, чтобы за ней последовала посылка войск, имевшая более практическое значение. Поэтому на следующий же день после прибытия миссии в Александрию английское правительство обратилось с просьбой к Франции о присылке воинских частей. Военное министерство высказывалось за желательность присылки полевой батареи и возможно большего числа специалистов-мусульман. К сожалению, последнее не могло быть выполнено немедленно, так как у французов вовсе не было туземцев-артиллеристов. В ноябре отряд, включавший пулеметчиков, инженеров и 2 батареи общей численностью в 1000 человек, собрался в Суэце для завершения своей подготовки. Таким образом отряд мог пригодиться лишь в дальнейшем, а на создавшуюся в то время критическую обстановку никакого влияния не оказывал.
Чтобы компенсировать собственную неподготовленность, французы присоединились к хору голосов, настаивавших на необходимости отправки бригады в Рабуг.
Фахри еще не двинулся на Мекку, но было ясно, что с каждой неделей опасность его выступления становилась все более и более неизбежной. Хотя никто из английских офицеров и не мог предсказать, сколько еще времени продлится инертность турок, но они все же чувствовали, что ей наступит предел.
Несмотря на первоначальные потери, силы турок в Хиджазе были столь же велики, как и вначале. Они состояли примерно из 10 000 человек, базировавшихся на Медине, 2500 человек, расположенных к северу вдоль железной дороги, и 1200 человек, охранявших Ваджх.
Силы арабов к тому времени были разделены на 3 отряда: один, насчитывавший около 5000 человек под командованием Али, опирался на Рабуг, другой — примерно в 4000 человек во главе с Абдуллой — находился близ Мекки и третий — примерно в 7000 человек под командованием Фейсала — был расположен у Янбу с целью проведения военных операций на железной дороге. Но они все же находились на порядочном расстоянии от Медины. Кроме того, Али и Абдулла, по-видимому, переложили большую часть нажима со стороны турок на Фейсала, люди которого уже едва держались.
19 октября наступление турок, произведенное, как это удалось установить в дальнейшем, разведывательным отрядом в 80 человек на верблюдах, заставило Фейсала отступить от Бир-Аббаса к Хамра.
За три дня перед этим Сторрс и Лоуренс высадились в Джидде, где их встретил Абдулла. Лоуренс, который стремился найти вдохновенного пророка-вождя, нового Мухаммеда, вскоре убедился, что Абдулла для этой роли не пригоден. Его характер отражался в его наружности. Это был толстый человек, невысокого роста, с круглым гладким лицом, толстыми губами и моргающими глазками. Арабы считали его хитрым политиком и прозорливым государственным человеком. По мнению Лоуренса, он был скорее первым, чем последним. И хотя Абдулла говорил, что для них остался лишь один выход, а именно — погибнуть в бою перед святым городом, чувствовалось, что для этой героической цели он предназначал своего отца. Шериф при переговорах с Лоуренсом по телефону из Мекки подтвердил это решение, после чего Абдулла, слегка улыбаясь, попросил о том, чтобы бригада английских войск, по возможности из мусульман, стояла наготове в Суэце для предотвращения несчастья в том случае, если бы турки повели наступление из Медины.
В ответ Лоуренс заявил, что он желал бы посетить Фейсала и лично выяснить обстановку. С трудом удалось убедить по телефону шерифа дать на это свое согласие. Телефон неожиданно оказался новой игрушкой для шерифа, интерес к которой еще не исчез, так как в тот же вечер англичане были вызваны к телефону, чтобы послушать духовой оркестр шерифа, недавно захваченный у турок и игравший в Мекке. Когда же Лоуренс выразил свое восхищение игрой оркестра, шериф заявил, что на следующий день он отправит оркестр форсированным маршем к нему в Джидду, чтобы самому послушать оркестр по телефону из Джидды.
На следующее утро после того, как это удовольствие было испытано, Лоуренс уехал в Рабуг, где встретился с Али. Последний также мог быть исключен из опроса: изношенный и утомленный от жизни в 37 лет, с усталым ртом и нежными руками, он обладал хрупким здоровьем и неуравновешенным характером. Для дальнейшего путешествия Али предоставил Лоуренсу верблюдов и двух проводников. Чтобы скрыть тот факт, что неверный едет в глубь священной провинции, Али отложил отъезд Лоуренса до темноты, предложив ему вдобавок сменить свою одежду на одеяние араба. Когда они ехали ночью, Лоуренс думал о том, что это был тот путь паломников, по которому несметное число лет тому назад народы севера шли, чтобы побывать в святом городе, принося с собой дары своей веры святыне. Ему казалось, что восстание арабов может оказаться в известной степени возвратом паломничества, возможностью принести обратно на север, в Сирию, идеал за идеал, веру в свободу за их прошлую веру в откровение. Это вскрывает романтический дух человека, который собирался вдохновить людей на крестовый поход в обратном направлении…
После перехода в 80 км с остановкой в деревушке для приема пищи и нескольких часов отдыха Лоуренс поздно вечером на второй день добрался до Хамра и застал Фейсала ожидавшим его.
Он напомнил Лоуренсу памятник Ричарду Львиное Сердце в Фонтевро. В действительности внутреннее сходство было еще более глубоким, чем наружное.
После обмена приветствиями Фейсал вежливо спросил своего гостя:
— Нравится ли вам здесь, в Вади-Сафра?
— Да, — ответил Лоуренс, — но далеко от Дамаска.
Это был удар, который заставил вскипеть кровь Фейсала, но вместе с тем скрепил союз между ними, как в те времена, когда двое людей по древнему обычаю вскрывали себе вены и смешивали свою кровь.
Но даже у Фейсала настроение было подавленное. Оно несколько приподнялось, когда он узнал о предстоящем прибытии египетской батареи, но затем вновь упало при известии о том, что турецкая артиллерия превосходила присылаемые ему устарелые пушки. Это лишало арабов надежды на то, что они смогут принудить турок к сдаче Медины. Фейсал откровенно заявил, что он отступил, чтобы дать отдых своим войскам, и настойчиво требовал артиллерии, и притом самой современной.
Такой же, но еще более настойчивый запрос Лоуренс услышал от Молада, действительно боевого солдата, первого солдата регулярной армии, присоединившегося к Фейсалу. Будучи турецким офицером, Молад оказался таким поджигателем арабского национализма, что был дважды снижен в должности и провел два года в ссылке. Затем, командуя полком турецкой кавалерии в Месопотамии, он был взят в плен англичанами. Как только он услышал про восстание арабов, тут же вызвался пойти добровольцем в армию Фейсала. Мучимый сознанием бессилия этой армии, он с яростью настаивал перед Лоуренсом: «Не пишите нашу историю. Самое нужное сейчас — это драться, драться и бить их. Дайте мне батарею шнейдеровских горных орудий и пулеметы, и я покончу с ними. Мы говорим и говорим, но ничего не делаем».
Разговор после ужина дал возможность Лоуренсу выявить существенный момент точки зрения арабов. Выразив свое соболезнование вождям арабов, пострадавшим в Сирии, Лоуренс, к своему удивлению, услышал ответ, что они хотя и косвенно, но все же заслужили справедливое наказание за свою готовность признать над собой в качестве цены за оказанную поддержку власти французов или англичан. Правда, Фейсал не присоединился к всеобщему обвинению, но все же он позаботился о том, чтобы Лоуренс обратил на это внимание. Он отметил, что установившаяся за Англией репутация страны, захватывающей те территории, которые она защищает, может вызвать тревогу среди ее молодых союзников.
На следующий день Лоуренс воспользовался возможностью изучить силы арабов вблизи. Обычно они принимали его за турка и не скупились на различного рода предположения относительно того, как с ним разделаться. Он отметил себе, что «арабы являются крепким народом, все очень темные от загара, некоторые даже похожи на негров, сухие до последней крайности, носят лишь тонкую рубашку, короткие трусы и головную повязку, которая служит им для всевозможных целей». Лоуренс предоставляет воображению каждого состояние волос под повязкой, но арабская поговорка гласит, что непокрытая голова является признаком неблагородного ума. Новая армия Фейсала была расточительна по крайней мере в одном отношении: ее солдаты ходят повсюду обвешанные патронными лентами и стреляют из ружей при первой возможности. Они изучают пристрелку на практике. Что касается их физического состояния, то я сомневаюсь, чтобы имелись более выносливые люди, чем арабы.
Лоуренсу казалось, что их единство все еще было обременительным союзом и могло быть слишком легко нарушено каким-либо несчастьем, потрясение же от одного поражения в бою с тяжелыми потерями сломило бы их волю к продолжению войны. Наряду с этим он обнаружил новое утешение в ознакомлении с неровной и покрытой скалистыми утесами местностью. Единственные пригодные дороги проходили через долины, которые правильнее следовало бы называть ущельями. И он чувствовал, что даже эти беспорядочные части арабов будут в состоянии удержать любое турецкое наступление, если их снабдить легкими пулеметами, чтобы обстреливать дефиле. «Среднее возможное расстояние определяется в 200–300 ярдов, — отметил он в своем докладе, — а при стрельбе в упор арабы стреляют вполне хорошо. Холмистый пояс — прямо рай для снайперов, а одна или две сотни решительных людей (особенно с легкими пулеметами, легко переносимыми в гору на руках) были бы в состоянии удержать любую дорогу».
Выяснив обстановку, Лоуренс получил конвой до Янбу, где он ожидал прибытия английского военного корабля, который доставил его в Джидду. Здесь он застал адмирала Вэмисса, с которым совершил переезд через Красное море в порт Судан. Прежде чем отправиться вниз по Нилу в Каир, Лоуренс в Хартуме изложил свои впечатления Уингейту.
Сам Лоуренс оценивал создавшееся положение как многообещающее, пока у арабов в качестве военных советников находится несколько сведущих английских офицеров. Против посылки английских частей в Хиджаз он возражал, считая, что подобное мероприятие заставит выступить против шерифа ряд племен. Однако в данный момент его взгляды по обоим вопросам являлись взглядами меньшинства.
Это было вполне естественно, так как пессимизм всегда проявлялся больше в тылу, чем на фронте, а из европейских офицеров только один Лоуренс побывал на фронте. Остальные неизбежно поддавались тому настроению уныния, которое преобладало в Рабуге, и склонялись к мнению, что высадка английских частей является единственным верным выходом для предотвращения захвата Мекки турками. Естественная тенденция оценивать военную обстановку обычным стандартом приводила их к выводу, что арабская армия не была в состоянии оказать какое-либо серьезное сопротивление туркам. Последнее было, конечно, справедливым заключением, пока арабы пытались пользоваться обычными методами регулярной войны.
В результате совещания с Вэмиссом Уингейт отправил в Лондон телеграмму, в которой указал, что для удержания за собой Рабуга с помощью морских сил требуется еще по крайней мере одна бригада регулярных войск с артиллерией. Если же в этом будет отказано, то в качестве альтернативы он просил о присылке хорошо подготовленного отряда арабов численностью 5000 человек, также с артиллерией. Учитывая возможность дальнейших препятствий и затяжек со стороны военного министерства, он добавил, что собирается отправить в Рабуг орудия, пулеметы и звено из четырех самолетов, на что разрешение уже имелось, а также начать организацию сил арабов.
Телеграмма Уингейта была встречена Генеральным штабом в Лондоне как доказательство правильности той точки зрения, что всякая интервенция повлечет за собой неограниченную ответственность. Робертсон ухватился за телеграмму и, в частности, за выражение «требуется по крайней мере». 2 ноября он выдержал еще один бой в военной комиссии.
На заседании 2 ноября военная комиссия склонилась перед непреклонным упорством Робертсона, но не разделила его легкомысленного взгляда на то, что возможность захвата турками Рабуга никогда не имела большого значения. Адмиралу Вэмиссу были посланы директивы оказать Рабугу всяческую поддержку морскими силами вплоть до высадки, если это потребуется, десанта моряков. Сирдару было предложено отправить все военные части, которые он смог бы выделить из Судана. Французскому правительству была послана просьба отправить любые находящиеся поблизости военные силы. Телеграмма Уингейта была новым импульсом к проведению в жизнь этих неясных указаний — импульсом, который приобрел дополнительную силу благодаря новому шагу со стороны французов. Бремон прибавил свой голос к требованию посылки бригады, но наряду с этим высказал свое нежелание разрешить своим артиллерийским и пулеметным частям отправиться из Суэца, не будучи уверенными в получении ими в Рабуге соответствующего подкрепления пехотными частями. Его поддержало французское правительство, указавшее английскому министерству иностранных дел на возможность переброски одной бригады с синайского фронта ввиду наличия там сравнительно слабых сил турок. Оно также предложило послать во временное распоряжение Муррея два сенегальских батальона, чтобы облегчить отозвание одной из его английских бригад.
Это французское вмешательство было тем более чувствительно для Робертсона, что оно отражалось на его стратегическом плане.
Когда министры ему заявили, что, исходя из того, что происходило с Румынией и год тому назад произошло с Сербией, они пришли к заключению, что Англия будет представлять собою печальное зрелище в глазах всего мира, если позволит погибнуть от отсутствия помощи еще одному союзнику.
В дальнейшем Робертсон не без обиды в голосе жаловался на то, что подобные доводы, вызываемые моментом, было нелегко парировать. Он чувствовал, что из-за отсутствия доказательств справедливости обратного единственное, что оставалось делать, это строго придерживаться ранее сделанных выводов.
Год спустя дорогой ценой для Англии и ценой собственного поражения он занял точно такую же позицию в отношении наступления у Пашендэйля, когда настаивал на отказе в посылке помощи Хэйгу, несмотря на свои собственные сомнения, и написал ужасное признание: «Я признаюсь, что упорствовал… скорее потому, что меня заставлял упорствовать мой инстинкт, а не какой-либо стоящий аргумент, которым я мог бы оправдать свое упорство». Стратегия, побуждаемая не разумным расчетом, а животным инстинктом, которая к тому же не может быть оправдана доводами аргумента, выносит сама себе обвинительный приговор даже до того, как этот приговор подтвердится горьким опытом. В своем отношении к арабской кампании он избег подобного же обвинительного приговора истории потому, что из среды военных не по профессии появился стратег, который был в состоянии на основании здравого смысла развернуть стратегию, соответствовавшую реальной обстановке.
Поскольку его положение еще было прочным, военная комиссия попыталась выйти из затруднения советом передать решение в подкомиссию, состоявшую из Эдварда Грэя, лорда Керзона и Остина Чемберлена. В подкомиссии Грэй обычно придерживался той точки зрения, что отклонять официальное мнение военного ведомства является нежелательным. Но сознание опасности положения в Аравии и возможных последствий пересилило сомнения двух других министров. После продолжительного обсуждения вопроса, которое Робертсон нашел «весьма неприятным», ему было предложено доложить, какие силы потребуются для того, чтобы удержать Рабуг от возможного наступления турок. Он нехотя согласился это сделать, хотя и добавил в виде предостережения, что «я никогда не смогу заставить себя подписать приказ об использовании английских войск для задуманных целей». Это являлось нескрываемой угрозой выйти в отставку, если только его стратегические замыслы будут принесены в угоду политическим соображениям, — угрозой, которая имела большой эффект в тот период войны, когда государственные деятели всех стран вследствие боязни крикливых протестов попадали в подчинение генералам.
Робертсон представил доклад, в котором он подчеркнул, что «мы должны быть настолько сильны, чтобы противостоять не минимальному, а максимальному количеству сил, могущих быть брошенными неприятелем». Исходя из этого, он определил потребное количество войск в две пехотные бригады, две артиллерийские бригады и два кавалерийских корпуса на верблюдах со вспомогательными частями — всего около 16 000 человек. Поскольку даже по расчетам Робертсона в Хиджазе имелось не более 15 000 турок, это, несомненно, являлось «щедрой» оценкой, особенно если учесть, что задача отряда заключалась в обороне при поддержке орудии военных кораблей. Очевидно, что чем больше была цифра, означавшая количество необходимых для отправки войск, тем меньше было вероятия, что войска эти будут отправлены.
В своем докладе Робертсон указывал, что войска не могут быть сняты ни с какого другого театра войны и что, если их брать с синайского фронта от Муррея, то ему придется прервать то наступление на Эль-Ариш, которое было начато по приказанию военной комиссии (в связи с этим заявлением интересно отметить, что на Синае турки имели лишь две слабые дивизии общей численностью около 13 000 штыков против английских сил, превосходивших их более чем в три раза). С другой стороны, если бы это наступление было осуществлено, оно спасло бы Мекку от гораздо большей опасности, чем любая высадка в Рабуг «в целях угрозы неприятельским путям сообщения с Хиджазом». «Кроме того, было невероятным, чтобы производилась попытка наступления на Рабуг и Мекку со стороны Медины. Трудности, которые при этом пришлось бы преодолеть, были бы громадны даже для турок, которые привыкли к военным действиям в условиях пустыни». Исходя из всех этих соображений, он «почтительно указал в заключении», что экспедицию посылать не следует.
Доклад, несомненно, являлся доказательством того, что оценка Генерального штаба была более похожа на обращение защитника к судье в пользу своего клиента, чем на беспристрастный вывод. В особенности забавен довод, что окончательное наступление на Эль-Ариш, расположенный на берегу Средиземного моря, 6 недель спустя сможет оказать немедленный эффект на положение у Мекки и создать действительную угрозу Хиджазской железной дороге, находящейся на расстоянии 190 км через Мертвое море и пустыню. Это, конечно, превосходит все те любительские расчеты Ллойд-Джорджа, над которыми так любил издеваться Робертсон. Весь юмор этого самоуверенного заявления почувствуется еще сильнее, если вспомнить, что английское наступление было приостановлено в нескольких милях от Эль-Ариша и войска оставались там до следующей осени.
Представленный доклад с предшествовавшей ему угрозой оказались достаточными, чтобы удовлетворить премьер-министра. Что же касается остальных министров, то их внимание было отвлечено политическими событиями, предшествовавшими падению правительства Асквита. Когда, под руководством Ллойд-Джорджа, сформировался новый военный кабинет, члены его, конечно, не имели никакого желания тотчас же вступать в конфликт со своим главным советником по военным делам из-за столь незначительного вопроса. К тому же и последние затруднения для Робертсона были устранены решением, которое было предложено со стороны арабов. Недаром Робертсон в последующие годы отдавал должное «вдохновению полковника Лоуренса» в осуществлении создавшейся в то время перемены в обстановке.
К тому моменту, когда Робертсон приготовил свой доклад, Муррей сконцентрировал в Суэце две бригады, которые были готовы к отправке в Рабуг по получении приказа из Англии. Эти силы оставались там до тех пор, пока в конце января Муррей не получил приказания отправить обратно во Францию целую дивизию.
На побережье Красного моря положение продолжало оставаться тревожным. В Медине турки печатали в большом количестве листовки о том, что вновь назначенный ими шерифом Али-Хайдар известил о своем намерении «вернуть арабов на истинный путь», а также о предстоящем прибытии из Европы турецких дивизий. Эти листовки, получившие широкое распространение, произвели громадный эффект. 1 декабря Фейсал сообщил в Джидду, что Фахри-паша вышел из Медины. Фейсал требовал подкреплений, но возникшие между братьями натянутые отношения и невнимание Али и Абдуллы к активным действиям делали его перспективу безнадежной.
Английские корабли доставили из Индии в Рабуг около 4000 пленных арабов, но лишь ничтожная часть их согласилась присоединиться к войскам шерифа, причем все они хотели быть офицерами. Что касается небольшого числа египетских войск, которые были посланы в качестве охраны самолетов, то они прежде всего были заняты охраной самих себя, так как в течение нескольких дней была опасность, что на них могут напасть арабы — не столько из вражды, сколько вследствие жажды добычи. Хорошо еще, что для удержания египтян нашелся такой человек, как Джойс с его характером.
Три турецких батальона с 600 всадников на верблюдах и тремя орудиями атаковали отряд Фейсала и отогнали его к Янбу. Его части обращались в бегство при малейшей потере. Случаи дезертирства участились. В результате туркам удалось овладеть дорогой между Янбу и Рабугом и отрезать Фейсала от Али с суши. Во время этого кризиса Лоуренс высадился в Янбу.
10 декабря в Джидду из Мекки прибыл шериф, чтобы встретиться с Вильсоном. Он вручил Вильсону письмо с просьбой об отправке в Рабуг шести батальонов и добавил, что хотя он предпочел бы мусульман, но, учитывая создавшуюся обстановку, согласен принять и христиан. В результате Вильсон послал соответствующую телеграмму. Однако на следующее утро шериф переменил свое решение и взял свою просьбу обратно. Таким образом, разговоры шли без конца. Некоторые из вождей арабов настаивали на присылке войск, другие намекали на желательность заключения мира с турками. Ввозившиеся в страну в огромном количестве винтовки исчезали; многие из них продавались — и даже туркам. Имелись подозрения, что то же самое происходило и с продовольствием. Накануне рождества Вильсон провел совещание с несколькими офицерами для рассмотрения вопроса об эвакуации Рабуга. Сообщали, что приближавшиеся турецкие части насчитывали около 5000 человек.
29 декабря Уингейт занял пост верховного комиссара Египта, с которого Мак-Магон был снят под давлением враждебных ему сил. Для выяснения желательности присылки войск Уингейт отправил через полковника Пирсона телеграмму, которая в действительности была ультиматумом шерифу и требовала от него решительного ответа. Шериф прислал ответ, который, несмотря на его неясность, смог быть истолкован как согласие принять помощь со стороны английских войск. В связи с этим Пирсон протелеграфировал в Каир просьбу Муррею произвести отправку бригады, которая находилась наготове.
Отправка была намечена на 9 января. Казалось, что долгожданное мероприятие, наконец, будет проведено в жизнь, но в действительности оно так и не было реализовано: все приказания были отменены, причем на этот раз окончательно.
6 января Вильсон после кратковременного пребывания в Египте вернулся в Джидду. По дороге он остановился в Янбу, где виделся не только с Фейсалом, но и с Лоуренсом. Хотя Вильсон до тех пор и был убежденным сторонником отправки английских войск в Рабуг, вернувшись, он стал смотреть на положение более оптимистически и был лишь озабочен реакцией, которая могла явиться следствием высадки английских войск.
По прибытии в Джидду Вильсон увидел последнюю телеграмму шерифа и признал ее неудовлетворительной. Он написал Уингейту о том, что отправка войск не должна производиться до тех пор, пока шериф не потребует в письменном виде присылки войск с принятием на себя ответственности за последствия их появления в Хиджазе.
9 января Уингейт отправил об этом телеграмму шерифу. Хотя многие из окружавших шерифа и высказывались за принятие помощи, шериф не решался взять на себя ответственность. Он оставался в нерешительности два дня, а затем ответил, что в данный момент в помощи английских войск он не нуждается, но хотел бы оставить за собой право их вызова в случае перемены обстановки.
Фейсал — с Лоуренсом в качестве советника — уже выступил из Янбу для флангового марша по берегу Красного моря на расстоянии 350 км к Ваджху. 23 января последний был занят передовой колонной арабов, высадившихся с кораблей. Два дня спустя английская бригада, находившаяся в ожидании в Суэце, была отправлена обратно.
На войне, сказал Наполеон, приходится рассчитывать не только на людей, но и на отдельного человека. Это еще более верно при участии в войне иррегулярных войск. В январе 1796 г. молодой 26-летний человек сумел убедить Директорию пойти на смелый шаг, который точно так же начался с флангового марша вдоль побережья Ривьеры. Лоуренс перед началом его первой арабской кампании был ровно на 2 года старше, чем был Наполеон Бонапарт во время его первой итальянской кампании. Любители исторических совпадений могут обнаружить исключительную цепь событий. 16 октября — в тот день, когда Лоуренс высадился в Аравии, — Наполеон был произведен в генералы за услуги, оказанные им во время восстания в вандемьере. 27 марта Наполеон принял командование над Итальянской армией, а Лоуренс произвел свой первый самостоятельный набег на Хиджазскую железную дорогу. 10 мая, в годовщину «моста Лоди» — даты, с которой Наполеон начал считать свое предвидение «сверхчеловеческих достижений», — Лоуренс был окончательно лишен возможности соединиться с английской миссией и остался один с арабами в экспедиции, которая подняла арабскую кампанию на новую высоту, а его самого вознесла до кульминационной точки подъема. Однако аналогия не должна заходить слишком далеко.
Глава IV. Клин. Декабрь 1916 г. — январь 1917 г.
Возвращаясь в Каир после своего первого посещения Фейсала, Лоуренс представил Клейтону еще более убедительный доклад, чем взгляды, высказанные им в Хартуме. Это был краткий и резкий документ, в котором он весьма основательно возражал против присылки бригады. Лоуренс считал, что арабы были в состоянии сами удержаться на холмах, пересекавших дороги в Мекку, при условии хорошего снабжения их легкими пулеметами, соответствующей артиллерией и технической помощью. Благодаря собственному опыту он определенно высказывался против присылки английских войск, считая, что их появление вызовет среди арабов столько подозрений и предубеждений, что уничтожит то единство, которое сейчас имеется. Кроме того, он считал английскую пехоту слишком тяжеловесной для военных действий в такой пустынной и суровой стране и предполагал, что турки вследствие этого будут в состоянии избегнуть встречи с английскими войсками в Рабуге.
Лоуренс выдвигал свои доводы особенно настойчиво, так как узнал, что приготовления к посылке отряда шли полным ходом. Вскоре после этого он имел основание еще более усилить свои возражения, так как обнаружил, что Бремон, настаивая на отправке отряда, руководствовался политическими мотивами. Подозрения Лоуренса были вызваны разговором, в котором Бремон намекнул, что, поскольку арабы противятся высадке союзных войск, их неудовольствие будет направлено против шерифа, который вследствие этого окажется еще в большей зависимости от поддержки союзников.
Можно также подозревать, что возражения Лоуренса против отправки военной экспедиции были вызваны не только военными соображениями. Бремон позднее указывал, что возражения Лоуренса были вызваны его личным честолюбием, так как «прибытие английского генерала с бригадой поставило бы его в подчиненное положение». Однако это заявление не вяжется с тем фактом, что Лоуренс первый высказался против предложения о посылке войск еще тогда, когда никому в голову не приходила мысль отправить его в Хиджаз и когда он не высказывал ни малейшего желания туда ехать.
Более естественная причина заключалась в давнишнем желании Лоуренса видеть арабов борющимися за свое освобождение, и притом без покровительства иностранцев. Если он не хотел их видеть «охраняемыми» англичанами, то еще менее хотел их видеть превращаемыми в добрых французских граждан. Улучшение их гражданских добродетелей не возместило бы, по его мнению, потери того, что он рассматривал как необходимый дух свободолюбия. Французы же являлись не только более серьезной угрозой для его планов, но и более реальной угрозой вообще. И в конце концов арабы оказались бы в роли кукушки в своем гнезде.
Доклад Лоуренса создал ему новый авторитет в тех кругах, где до этого его считали непочтительным и эксцентричным молодым штатским гражданином в военной форме. В глазах Генерального штаба он внезапно превратился из любителя в эксперта-специалиста. Такова, однако, обычная судьба человека, когда его критика случайно угодит профессионалам. Наблюдения, сделанные Лоуренсом, и его доводы против посылки бригады в Рабуг были встречены наилучшим образом всеми теми, кто высказывался против ее отправки. «Муррей и его штаб повернулись ко мне лицом и сказали, что я самый лучший мальчик; они протелеграфировали полностью мою докладную записку Робертсону, который прислал мне благодарственную телеграмму».
Такого превосходного эксперта следовало использовать в дальнейшем и отправить туда, где он мог бы придерживаться столь правильных взглядов. Поскольку это вновь создавшееся в высоких кругах мнение совпадало с мнением человека, который лучше всех знал свою работу, Клейтон приказал Лоуренсу возвратиться в Янбу, для того, чтобы действовать в качестве офицера для связи и советника Фейсала. Отношение Лоуренса к этому новому поручению, которое имело столь громадные последствия в дальнейшем, может быть лучше всего передано его собственными словами: «Поскольку оно меня совершенно не устраивало, я доказывал свою полнейшую непригодность для этого дела, заявив, что я ненавижу ответственность и что на протяжении всей моей жизни неодушевленные вещи были для меня более приятны, чем люди, а идеи — чем одушевленные вещи. Таким образом обязанность, требовавшая иметь дело с людьми и использовать их для каких бы то ни было целей, была для меня вдвойне нежелательна. Я не был похож на военного человека и ненавидел военное дело, между тем как Сирдар запросил Лондон о присылке кадровых офицеров, достаточно компетентных для руководства войной в Аравии.
Клейтон ответил, что могут пройти месяцы, прежде чем они прибудут. Фейсал же должен быть связан с нами и теперь… Поэтому я обязан был ехать. Оставив на попечение других созданный мною «Арабский бюллетень», карты, которые я хотел составить, и перечень изменений, происшедших в турецкой армии, — все интересные работы, успешному выполнению которых помогала моя подготовка, я был вынужден взяться за то дело, к которому не имел ни малейшего призвания. Поскольку наше восстание преуспевало, заинтересованные в нем лица хвалили его руководство, однако за кулисами восстания имелись все недостатки, свойственные любительскому руководству, экспериментам и капризам».
Если в этих последних словах и звучит оттенок иронии, то в них во всяком случае нет той фальшивой скромности, которую иностранцы называют английским лицемерием и которой англичанин пытается скрыть от себя самого свои мысли, преуспевая в этом тем больше, чем меньше в нем развито чувство юмора.
В начале декабря Лоуренс снова высадился в Янбу, где к этому времени англичане организовали базу для Фейсала. В Янбу имелось также ядро регулярных войск арабов, находившихся в процессе формирования, и английский инструктор из египетской армии — капитан Гарланд, специалист по части порывания динамитом. Лоуренс вскоре сделался одним из его самых способных учеников. К югу от Рабуга имелось еще несколько английских офицеров, которые прибыли с тремястами солдат египетской армии и авиационным отрядом. Эти офицеры также помогали подготовке нескольких сотен специально отобранных арабов, являвшихся еще одним пополнением для новой регулярной армии шерифа. Сколько их было, никто точно не знал.
Лоуренс отправился в глубь страны. В пути перед ним неожиданно открылись сотни лагерных огней. Он услышал «рев тысяч встревоженных верблюдов» и увидел другие признаки смятения и тревоги. Оказалось, что это был только что прибывший сюда отряд Фейсала. Последний сам объяснил случившееся: отряд турок проскользнул через заставы арабов и отрезал их. Затем турки спустились к Бир-Саиду, где внезапным набегом привели в беспорядочное бегство главные силы Зеида. Сам Фейсал, оставивший Зеида в охранении, пытался призвать к оружию еще одно племя, но, услышав о несчастии, бросился со своими 5000 арабов обратно, чтобы преградить дорогу на Янбу.
Ночью в лагере царило паническое настроение. Но, к счастью для восставших, турки не попытались использовать свой успех и не продолжали наступления. Фейсал решил до рассвета отойти на другую позицию, отчасти для того, чтобы создать перелом в настроении своих войск, отчасти же по тактическим соображениям. Последующие два дня Лоуренс провел с Фейсалом и ознакомился с методами его командования, которые еще более усилили в нем восхищение вождем, умевшим сдерживать столь изменчивые и вместе с тем беспомощные силы.
Когда Лоуренс увидел, что прибыли шейхи племен, беззаботность которых была главной причиной отступления, он боялся «сцены» и вспомнил о значении имени Фейсала — «сверкающий меч при ударе». Фейсал же ободрил их, «слегка побранив то за одно, то за другое». «Я никогда не видел, чтобы араб ушел от него неудовлетворенным или обиженным, что доказывало его такт и память, так как он, по-видимому, никогда не забывал какого-либо факта и не ошибался в родстве».
Лоуренс так рисует картину лагерной жизни арабов. Перед рассветом мулла отряда пронзительным голосом призывал правоверных на молитву. Как только он заканчивал свой призыв, из шатра Фейсала — обычной палатки в виде колокола, с походной кроватью, ковром и старым белуджистанским молитвенным ковриком — начинал свой мягкий мелодичный призыв мулла Фейсала. Примерно через час отдергивалась занавеска шатра Фейсала, что означало, что в шатер открыт доступ. После сообщения утренних новостей подавался завтрак. Он состоял из фиников, иногда с несколькими лепешками или хлебцами. Затем Фейсал диктовал своим двум секретарям; работа заканчивалась питьем попеременно горького кофе и сладкого чая. Около 8 часов Фейсал пристегивал свой парадный кинжал и шел в приемный шатер, где садился на землю против входа. Его свита располагалась за ним полукругом. Просители ожидали своей очереди у шатра.
Аудиенция обычно заканчивалась в полдень; тогда родные и приглашенные собирались в шатре в ожидании уставленного многими блюдами подноса с завтраком.
Однако сам Фейсал не любил много есть, но зато беспрестанно курил и нередко слишком рано для любителей хорошо покушать подавал знак рукой, чтобы убрали поднос. После второго завтрака начинался разговор за кофе и сладким, как сироп, зеленым чаем, а затем, после часового отдыха в своем шатре, Фейсал возобновлял прием. Если позволяло время, он совершал прогулку. В начале седьмого часа появлялся поднос с ужином. За ним возобновлялся разговор, читались арабские стихи, а иногда игралась партия а шахматы, во время которой подавался чай, пока, наконец, очень поздно Фейсал не ложился спать.
Фейсал предложил Лоуренсу во время пребывания в лагере носить одежду арабов, так как у последних форма цвета хаки была связана с представлением о турецких офицерах. В одеянии же араба Лоуренс не только обращал бы на себя меньше внимания, но и соплеменники Фейсала начали бы принимать его за одного из своих вождей. Получив согласие Лоуренса, Фейсал подарил ему великолепную одежду из белого шелка с золотыми украшениями, присланную ему недавно из Мекки.
Именно после этого посещения Фейсала Лоуренс и представил свой доклад о силах арабов, предвещавший его будущую стратегию. «В массе они не страшны, поскольку общественный дух, дисциплина и взаимное доверие у них отсутствуют. Взятые же в отдельности, они хороши; я сказал бы, что чем меньше часть, тем лучше оказываются результаты. Толпа в тысячу арабов не будет в состоянии что-либо сделать с вчетверо меньшим числом регулярных войск, но три-четыре араба в их долинах или холмах сумеют справиться с дюжиной турецких солдат. Когда арабы сидят без дела, они начинают нервничать и думать о том, как бы вернуться домой. Но когда у них есть дело и они разъезжают небольшими отрядами, нападая на турок, то в одном, то в другом месте, всегда отступая при их приближении, тогда они действительно достигают своей максимальной боеспособности, вызывают в рядах противника не только беспокойство, но и замешательство».
Пребывание Лоуренса в лагере Фейсала было непродолжительным, так как требовалось посмотреть, как продвигались работы по укреплению Янбу. Фейсал следовал за ним по пятам. Однако вскоре после отъезда Лоуренса турки снова произвели нападение причем воины племени джухэйна, находившиеся на левом фланге армии Фейсала, неожиданно ускакали с поля сражения. Впоследствии они оправдывались тем, что, устав и страдая от жажды, они бросились обратно в лагерь, чтобы приготовить себе чашку кофе… Таким образом несомненно, что у арабов война носила несколько опереточный характер. Неожиданное исчезновение джухэйна заставило Фейсала поспешно отступить к Янбу. Лоуренс телеграфировал о присылке морских сил, но возникал вопрос, сумеет ли помощь подоспеть вовремя. «По-видимому, наша война вступила в последнюю фазу», — записал у себя Лоуренс, тем не менее он не упустил случая сделать с парапета ворот Медины «прекрасный снимок» бегущей армии Фейсала.
При наличии соответствующего вооружения Янбу можно было бы прекрасно защищать. Будучи построен на коралловом рифе, возвышавшемся футов на двадцать над уровнем воды, этот маленький городок был наполовину окружен морем. Подходы к нему с суши проходили по ровному песчаному пространству, по которому можно было открыть убийственный пулеметный огонь с городских стен и орудийный огонь с кораблей. Последние своим быстрым приходом внесли известное успокоение. Кэптен Бойль сосредоточил пять кораблей в течение суток, причем один из них, мелко сидящий монитор «М-31», он направил в конец юго-восточной бухты, где последний и встал поперек предполагаемого пути приближения турок, господствуя над ним своими шестидюймовыми орудиями. С наступлением темноты лучи его прожектора затопили светом все подступы к городу.
К вечеру создалась напряженная атмосфера. Часов около одиннадцати, когда турецкая разведка натолкнулась на передовое охранение, была поднята тревога. «Лучи прожекторов всех кораблей были направлены на равнину. Однако больше ничего не произошло… Впоследствии мы узнали, что мужество покинуло турок при царившей тишине и при виде ярко освещенных кораблей с фантастическими лучами их прожекторов, обнаружившими голый скат, который предстояло туркам перейти. Они не выдержали и повернули обратно… Я считаю, что в эту ночь они проиграли войну».
Так, конечно, могло казаться только людям, находившимся в этот критический момент в Янбу. Фейсал еще в октябре предлагал начать наступление вдоль побережья для захвата Ваджах, находившегося на расстоянии 315 км к северу от Янбу. Он предполагал создать там новую базу, опираясь на которую, можно было бы приступить к операциям против Хиджазской железной дороги и угрожать жизненной артерии гарнизона Медины. Проект был отложен, а перспектива осуществления его в дальнейшем была подорвана отступлениями арабов в декабре. Силы, находившиеся в распоряжении шерифа, были отведены назад для обороны и с трудом держались у Янбу и Рабуга. Только личное влияние Фейсала над племенами объединяло их. Если бы Фейсал уехал, то это обстоятельство могло бы легко привести к падению обоих городов, так как ни Али, ни Зеид не имели такого личного авторитета, каким пользовался он.
Вильсон по пути в Египет прибыл в Янбу и настаивал перед Фейсалом на необходимости наступления на Ваджх. Он обещал, что флот поддержит это наступление, а наряду с этим будет оборонять Рабуг до момента захвата арабами Ваджаха. Фейсал все же колебался, боясь риска. Выходом из положения оказалось новое предложение, обещавшее отвлечь внимание турок от южного побережья на время продвижения Фейсала к северу. Предложение исходило от Лоуренса и было дополнено Фейсалом при выборе наилучшего пути.
Согласно этому предложению, Абдулла, продвинувшийся в декабре с отрядом в 4–5 тыс. иррегулярных войск от Мекки к Медине, должен был достигнуть расположенной примерно в 80 км к северу от Медины хорошо орошаемой долины Вади-Аис. Отсюда он мог не только создать непосредственную угрозу самой железной дороге, но и перехватывать караваны, доставлявшие припасы из Центральной Аравии в Медину. К тому же турки, продвигавшиеся к Рабугу, шли очень медленно ввиду нападений на их тыл арабов; поэтому было мало вероятным, что они не будут реагировать на эту более серьезную угрозу их жизненно необходимой линии сообщения.
План был принят и проведен в жизнь с исключительной быстротой. 2 января Лоуренс для приобретения опыта в выполнении набегов и маскировки выхода из Янбу произвел предварительную операцию. С отрядом из 35 арабов на верблюдах он отправился в юго-западном направлении к долине, расположенной близ турецких линий сообщения, взобрался на обрывистый горный хребет и открыл огонь по палаткам турецкого поста. Вызвав своим неожиданным нападением полнейшую панику, отряд вернулся в Янбу, привезя с собой двух встретившихся им по дороге турок.
Утром 3 января арабская армия произвела другую предварительную операцию, направившись к группе колодцев, находившихся в 25 км от Янбу. Здесь они могли прикрывать Янбу, несколько приблизившись к Ваджху, и ожидать ответа Абдуллы. Для простоты организации Фейсал отобрал для экспедиции главным образом арабов племени джухэйна, на территории которых он в данное время действовал, но добавил к ним арабов племени харб, атэйба и билли, на чьей земле был расположен Ваджх, чтобы придать всей операции «характер движения многих племен». Он захватил с собой также свою личную охрану, состоявшую из 120 прекрасных всадников на верблюдах, которые первоначально были отобраны из[79] крестьян оазисов Центральной Аравии для службы в турецкой армии, но когда началось восстание, целиком перешли на сторону Фейсала.
Лоуренс сопровождал Фейсала. Когда был дан сигнал к выступлению, Фейсал и его телохранители сели на верблюдов, в то время как остальные участники похода стояли с обеих сторон дороги у лежавших на земле верблюдов, ожидая его проезда. По мере того, как Фейсал продвигался мимо каждого из них, они молчаливо его приветствовали, на что он отвечал «мир вам». Как только вся колонна построилась и тронулась, загремели барабаны, и все запели песню в честь Фейсала и его семьи. Слева от него ехал Лоуренс, справа — шериф, а непосредственно за ними — три знаменосца с темно-красными знаменами из выцветшего шелка на позолоченных пиках. Казалось, что двигается река верблюдов, так как они заполняли вади до самых гор, растянувшись по долине на полкилометра.
Однако вскоре Лоуренс возвратился в Янбу, чтобы согласовать подробности наступления на Ваджх с морским командованием. На случай внезапного набега турок он перебросил накопленные припасы на «Хардиндж». На этот корабль были погружены тысячи винтовок, боеприпасы, продовольствие и прочие запасы.
Тем временем Али под давлением Вильсона и шерифа продвинулся на 60 км от Рабуга, а английские самолеты производили бомбардировку расположения турецких войск. Это привлекло к себе большое внимание Фахри и тем позволило Али производить набеги почти до Медины. Последний до того осмелел, что протелеграфировал о своем намерении «занять позиции для осады Медины». Он действительно приблизился еще на несколько километров, но налет турецкой авиации на его собственный лагерь вызвал новое отступление. Однако к этому времени Фейсал уже занял Ваджх.
Абдулла со своей стороны, как и было намечено, продолжал продвигаться к северу. Это привело к тому, что бедуины снова вступили в борьбу, захватили врасплох и уничтожили батальон турок, расположенный к югу от Медины. 13 января сам Абдулла атаковал и захватил в плен турецкий транспорт с золотом, причем почти половина бедуинов скрылась со своей добычей. 19 января Абдулла благополучно обосновался в Вади-Аис.
Лишь только Фейсал узнал, что Абдулла начал наступление, он стал постепенно пробираться за прибрежными холмами и оказался почти на полдороге до Ваджха. Лоуренс с Бойлем отправился туда морем. Через день после их прибытия к ним присоединился майор английской артиллерии Виккери, который оказался предшественником вновь сформированной под начальством Ньюкомба английской военной миссии.
Виккери, благодаря его многолетней службе в Судане, превосходно знал арабский язык и был знатоком своего дела. От других кадровых офицеров он отличался тем, что был свободен от условностей как в отношении своего внешнего вида, так и в отношении своих взглядов. Однако он, так же, как и другие представители этого типа, был склонен помнить о своей кастовой принадлежности и перед лицом не кадровых офицеров надевал на себя маску условности. Его личные взгляды встретили отпор со стороны Лоуренса и в особенности разговор о том, что «арабская армия через год будет стучаться в ворота Дамаска». Торжествующий вид Лоуренса раздражал Виккери. С другой стороны, Лоуренс был оскорблен нелепостью ношения Виккери головного убора арабов поверх английского шлема. Однажды старый арабский гид увидел ехавшего перед ним Виккери и, будучи поражен размерами его головного убора, внезапно воскликнул: «Машалла — бычья голова…» Это страшно рассмешило Лоуренса. Таким образом, между двумя этими людьми, каждый из которых был в своем роде исключительным, возникли ненужные трения.
Начались приготовления армии Фейсала к наступлению на Ваджх. Численность отряда превышала 10000 человек, из которых 5100 были на верблюдах, а 5300 пешими. 50 арабов, которых с гордостью называли кавалерией, были верхом на мулах, оказавшихся настолько полезными, что Лоуренс протелеграфировал в Египет о доставке еще пятидесяти. Для огневой поддержки отряд получил 10 пулеметов и батарею из четырех крупповских горных орудий, на этот раз уже с артиллеристами-арабами, так как было установлено, что если они обслуживались египтянами, арабы оставляли орудия и уходили. Другая выгода передачи артиллерии арабам заключалась в том, что вместо 360 верблюдов, требовавшихся египтянам для перевозки боеприпасов, арабам для того же количества требовалось лишь восемьдесят.
Хотя осуществить столь большое снижение перевозочных средств оказалось возможным лишь благодаря помощи флота как плавучей базы, все же факт относительной независимости арабских отрядов от транспорта по сравнению с любой частью регулярных войск являлся весьма приятным. Возможность передвижения налегке была теперь залогом успеха, так как часть страны, которую предстояло пройти, была бесплодна и безводна, а Фейсал брал с собой большое число пеших воинов для создания впечатления о силе шерифа и единении арабов. Последняя вода перед Ваджхом находилась на расстоянии 90 км от их цели. Было решено, что армия разделится на отряды, которые будут самостоятельно продвигаться к Абу-Зарейбат, где имелась вода. Само наступление на Ваджх намечалось поддержать огнем судовой артиллерии, корректируемым с самолетов. Отряд в 500 арабов 23 января на рассвете должен был высадиться вместе с моряками на неохраняемом правом фланге Ваджха. Предполагалось, что к этому времени всадники на верблюдах сумеют запереть все проходы для неприятеля в глубь страны. Командование десантным отрядом взял на себя Виккери.
В полдень 18-го все приготовления были закончены, и армия Фейсала готовилась начать переход по неизвестной бесплодной пустыне, откуда она надеялась выбраться, только соединившись с флотом у отдаленной цели. Радио принесло им известия с театра военных действий, который они покидали, что Янбу и Рабуг в безопасности.
Согласно приказу, арабы племени аджейн заняли места на обоих флангах. Раздалась дробь барабанов, и певец-поэт, находившийся на правом фланге, запел песню о Фейсале и о тех удовольствиях, которые он доставит им в Ваджхе. Правый фланг подхватил припев. Немного спустя певец с левого фланга ответил подобной же песней экспромтом, после чего весь отряд телохранителей затянул свою походную песню.
Не успела песня замолкнуть, как появились два одиноких всадника, это были эмир Джухэйна и Ньюкомб. Услышав о выступлении, они пустились галопом догонять отряд. Ньюкомб был вне себя от радости, что успел прибыть вовремя, и привез с собой установку, полностью совпадавшую со взглядами Фейсала и Лоуренса.
Его прибытие, которое так легко могло оказаться причиной раздора, поскольку он был старшим в чине, в действительности лишь способствовало согласию, а наряду с этим усилению активности. Ньюкомб был одним из тех редких людей, которые, возвышаясь над массой, без колебания признают превосходство другого и остаются свободными от зависти, испытываемой в подобных случаях другими. Продолжительное пребывание в пустыне помогло Ньюкомбу установить правильный взгляд на создавшееся положение. Он судил о людях не по их чину, а по тому, что они собой представляли на деле.
Поскольку Ньюкомб убедился в способностях Лоуренса, его единственным стремлением было дать полную возможность им проявиться. Когда он присоединился к экспедиции, то спросил Лоуренса: «Чем я могу быть полезен?» — добавив при этом, что «старшинство в чине не играет никакой роли».
Одним из первых советов, которые он получил от Лоуренса, был совет о том, как носить одежду арабов. Лоуренс заметил, что «если бы несколько «таких арабов» отправилось в арабском одеянии, то мальчишки, вероятно, забросали бы их камнями». Ньюкомб понял, в чем дело, и с тех пор до конца своего пребывания в армии Фейсала одевался, как араб.
На второй день из-за сильного дождя поход задержался до полудня, но к вечеру, когда отряд достиг египетской дороги паломников — широкого, хорошо протоптанного пути, проходившего у берега, — он пошел быстрее. Много задержек происходило из-за нехватки воды в дороге и отсутствия у арабов правильного учета времени. Например, у первобытного племени джухэйна не существовало единицы времени меньше дня или расстояния длиннее перегона или меньше шага — величин, самих по себе изменявшихся в зависимости от настроения всадника и состояния его верблюда; они не могли представить себе чисел больше десятка. Подобные условия, несомненно, весьма осложняли штабную работу.
В результате, когда достигли, наконец, ложбины шириной около 26 км, которая была руслом высохшей реки, отряд запаздывал на два дня против намеченного срока. По пути следования к отряду присоединился молодой и отважный шериф Назир из Медины, сдерживавший несколько недель назад своим отрядом вылазку турок из Ваджха. Много арабов пришло также из племени билли, чтобы присоединиться к наступавшей армии. Ньюкомб решил поехать вперед на быстром верблюде, чтобы подготовить вторичную отправку за водой и по возможности добиться отсрочки атаки Ваджха с моря.
Лоуренс, приближаясь на следующий день с армией, услышал отдаленную стрельбу, заставившую его предполагать, что флот устал ожидать прибытия арабов и начал действовать самостоятельно. Когда, наконец, в полдень 24-го достигли Хаббана, то оказалось, что «Хардиндж» вернулся и его шлюпки были заняты перевозкой баков с водой. Стало известно также, что Ваджх уже был атакован, хотя «Хардиндж» отошел еще до конца боя. Губернатор Ваджха произнес перед гарнизоном зажигательную речь о необходимости защищаться до последнего солдата, но, услышав, что Фейсал достиг Абу-Зарейбата, бежал ночью с несколькими всадниками на верблюдах по направлению к Хиджазской железной дороге. Остались сражаться лишь 200 человек турецкой пехоты, но с ними быстро расправились пулеметным огнем с кораблей, и таким образом высадившийся десант захватил город без особых трудностей. Спастись бегством успела лишь треть гарнизона.
Известие об этом и перспектива добычи настолько возбудили арабов, что они начали продвигаться в северном направлении даже по ночам. В Хаббане лишь незначительная часть людей смогла утолить жажду из баков, доставленных «Хардинджем», так как в первую очередь требовалось напоить животных. Фактически последний переход около 80 км люди сделали без пищи и имея лишь полгаллона[80] воды. Но теперь уже никакие физические страдания не могли остановить их стремления двигаться вперед. С рассветом Фейсал и его помощники собрали свои части для окончательного наступления и атаки, так как имелись предположения, что гарнизон еще держится. Отдельные его части, пытавшиеся спастись бегством, вскоре были встречены и сдались, лишь один отряд пытался оказать сопротивление. Арабы достигли последнего рубежа без единого выстрела. Городок уже находился во власти десантного отряда арабов, потерявшего во время боя около 20 человек убитыми. С точки зрения европейцев можно было считать, что победа досталась дешево, но Лоуренса это известие весьма огорчило. Для того, чтобы у арабов не остывало желание продолжать войну, нужны были бескровные победы.
Тем не менее взятие Ваджха оказалось поворотом к лучшему, так как с этого момента отпала опасность угрозы Мекке и, наоборот, появилась новая опасность для турок в Медине. Правда, она была еще довольно отдаленной, так как Ваджх отстоял от железной дороги на расстояние около 250 км, но победа все же имела и практическое значение. Теперь инициатива определенно перешла к арабам. Английская авиация и шпионы-арабы доносили об общем отливе турецких войск по направлению к Медине. Зеид нашел в себе смелость продвигаться вперед и нашел дефиле покинутыми. Большая часть турецких сил, находившихся а Хиджазе, понемногу стягивалась к линии железной дороги для ее охраны. В Тебуке, железнодорожной станции, имевшей большое значение и находившейся в 525 км к северу от Медины, был сформирован отряд численностью около 5000 человек, получивший название 2-го смешанного отряда. Другой отряд, названный 1-м смешанным отрядом, был сформирован в Маане из батальонов 7-й турецкой дивизии, переброшенной туда из Сирии. Этот отряд, первоначально состоявший из 3000 человек, в дальнейшем возрос до 7000 человек. Каждая оттянутая к северу часть усиливала преимущество арабов, увеличивая число сторонников шерифа, в то время как возможности турок ответить ударом на удар все уменьшались. Кроме того, турецкие части уже не могли быть в дальнейшем сосредоточены, так как их пришлось раздробить по целому ряду железнодорожных станций, расположив в окруженных колючей проволокой блокгаузах.
Таковы были результаты действия клина, врезавшегося на фланге чрезвычайно важной для турок железнодорожной зоны. Арабы стали теперь действовать по уязвимой части железнодорожной магистрали. Почти бескровное наступление на Ваджх имело то громадное значение, что поставило находившихся в Медине турок в положение осажденного гарнизона.
Взаимоотношения между арабами и английской военной миссией продолжали оставаться весьма неопределенными; одно время все дело «висело на волоске». Добиться улучшения и расширения перспектив удалось лишь благодаря удивительному такту Фейсала, умению обращаться с арабами, проявленному несколькими английскими офицерами, а также постепенно возраставшему влиянию Лоуренса.
После захвата Ваджха возник целый ряд неприятных инцидентов, в связи с чем создалась зловещая атмосфера. Вожди арабов быстро заподозрили чужое вмешательство, и все время чувствовали присутствие неверных. Многие из вождей вели себя таким образом, как если бы английские офицеры были их слугами. Когда об этом был заявлен протест Назиру, он ответил: «Не забывайте, что еще месяц назад в этой стране не бывало ни одного европейца; если бы он нам встретился, мы застрелили бы его. Вы должны нам дать время привыкнуть к этому». В другой раз, когда Ньюкомб стал задавать вопросы посланцу из Джурфа, араб презрительно ответил, что он приехал сюда повидать Фейсала, а не кого-либо другого.
Когда подобные случаи презрительного отношения стали известны Фейсалу, он собрал своих вождей и заявил им прямо, что английские офицеры заслуживают уважения и должны рассматриваться как свои. В результате обращение с английскими офицерами улучшилось — их стали терпеть и даже в некоторых случаях ценить.
В то время Лоуренс держался в тени как на происходивших в палатке совещаниях, так и вообще. Хотя он уже и пользовался доверием Фейсала, но настолько хорошо это скрывал, что многие из приходивших в палатку Фейсала арабов или вовсе не замечали его присутствия, или не обращали на него внимания. Для некоторых из его соотечественников, воспитанных на традициях превосходства англичан и чувства собственного достоинства, безразличие Лоуренса к оскорбительному пренебрежению, от которого у них закипало негодование, было источником недоумения. Пораженные полнейшим спокойствием Лоуренса в те моменты, когда рабы подметали или плевались в его присутствии[81] они были склонны приписать эту способность смирения его воспитанию и прошлым скитаниям среди арабов.
В памяти одного из наиболее проницательных людей запечатлелось представление о Лоуренсе как о человеке, сидящем безмолвно, не отдающем никаких распоряжений, но пользующемся своим влиянием, наблюдающем за всем происходящим и обдумывающем свои планы».
Когда операции передвинулись на север, метод Лоуренса изменился. Он стал больше выделяться, — не только потому, что его собственный престиж возрос, но и потому, что никто из шерифов не приобрел того авторитета, какой приобрели он и Фейсал в Хиджазе.
Использовав свой первоначальный опыт, Лоуренс разработал теорию искусства обращения с арабами, которую он изложил в письменной форме в «Двадцати семи статьях» в качестве не подлежащего оглашению руководства для вновь прибывающих офицеров британской армии, которые пожелали бы воспользоваться этим опытом.
Это руководство заслуживает того, чтобы быть приведенным вкратце.
«Двадцать семь статей»
Умение обходиться с хиджазскими арабами представляет собой искусство, а не науку; оно имеет исключения, но не имеет каких-либо определенных правил…
1. Загладить плохое начало трудно, а между тем арабы составляют мнение по наружному виду, на который мы не обращаем внимания. Когда вы достигли внутреннего круга племени, вы можете делать с собой и с ними все, что угодно.
2. Узнавайте все, что только можете, о ваших шерифах. Старайтесь узнать их семьи, кланы и племена, друзей и врагов, колодцы, холмы и дороги. Достигайте всего этого слушанием и косвенным наведением справок. Не задавайте вопросов. Заставляйте говорить на арабском языке их, а не себя. Пока вы не сможете понимать их намеков, избегайте пускаться в продолжительные разговоры, так как иначе это может кончиться плохо…
3. В деловых вопросах ведите переговоры только с командующим армией или той частью, в которой вы служите. Никогда никому не отдавайте приказаний; сохраняйте вашу прямоту и советы для командующего офицера, как бы ни был велик соблазн (хотя бы и для пользы дела) связаться непосредственно с его подчиненными.
4. Добейтесь доверия вашего вождя и удерживайте это доверие. Укрепляйте, если можете, престиж вождя перед другими за свой счет. Никогда не отказывайтесь и не разбивайте тех планов, которые он может предложить; старайтесь достигнуть того, чтобы он ставил вас в известность о них частным порядком и в первую очередь. Всегда одобряйте их, а похвалив, изменяйте их мало-помалу, заставляя самого вождя вносить предложения до тех пор, пока они не будут совпадать с вашим собственным мнением. Когда вам удастся этого достигнуть, заставьте его держаться этого взгляда, овладейте полностью его мыслями и толкайте его вперед как можно сильнее, но скрытно, так, чтобы никто, кроме него самого (и то лишь очень смутно), не чувствовал вашего воздействия.
5. Постоянно поддерживайте близость с вашим вождем, стараясь в то же время не быть навязчивым. Живите с ним, чтобы во время еды и приемов вы, естественно, могли быть возле него в его палатке. Формальные визиты, для того, чтобы дать совет, не столь хороши, как непрерывное внушение тех или иных идей при случайном разговоре. Когда впервые в палатку приходят незнакомые шейхи, чтобы поклясться в своей верности и предложить свои услуги, покиньте палатку. Если у них создастся первое впечатление, что иностранцы пользуются доверием шерифа, это сильно повредит делу арабов.
6. Избегайте слишком близких отношений с подчиненными. Постоянные разговоры с ними сделают невозможным для вас скрыть тот факт, что офицер-араб, давший те или иные инструкции, сделал это по вашему совету; выдав тем самым слабость его положения, вы совсем испортите себе все дело.
7. Держите себя с помощниками вождя вашего отряда естественно и непринужденно. Этим вы поставите себя над ними. Оказывайте их вождю, если он шериф, уважение. Он будет возвращать его вам, и таким образом он и вы окажетесь равными и будете возвышаться над остальными. Арабы очень считаются с превосходством, и вы должны его достигнуть.
8. Для вас будет наиболее выгодным то положение, когда вы, присутствуя, остаетесь незамеченным. Не будьте слишком искренни и слишком настойчивы; старайтесь не бросаться в глаза. Желательно, чтобы вас не встречали очень часто с каким-либо одним шейхом. Для того, чтобы иметь возможность выполнять свою работу, вы должны быть выше всяких подозрений, так как вы потеряете свой престиж, если будут думать, что у вас имеется какая-то связь с племенем или кланом и его неизбежными врагами…
9. Восхваляйте и всячески поддерживайте создавшееся среди арабов представление о том, что шерифы являются природной аристократией. Существующая между племенами зависть делает невозможным для любого шейха достичь господствующего положения, а потому единственная надежда на образование союза в Аравии состоит в том, чтобы шерифы были повсеместно признаны в качестве правящего класса. Уважение арабов к родословной и их благоговение перед пророком позволяют надеяться на конечный успех шерифов.
10. Называйте вашего шерифа «сиди» при всех и наедине. Называйте других их обычными именами без титула.
11. Иностранец и христианин не пользуются популярностью в Аравии… Действуйте повсюду именем шерифа, всячески скрывая свое собственное участие. Если вы добьетесь успеха, вы получите власть над территорией в несколько сот километров с тысячами людей, а ради этого стоит поступиться самолюбием.
12. Никогда не теряйте чувства юмора: оно может пригодиться вам ежедневно. Больше всего подойдет непосредственная ирония, умение же дать остроумный ответ без излишней веселости удвоит ваше влияние среди вождей… Не допускайте шутки над шерифом, если остальные присутствующие не являются шерифами.
13. Никогда не бейте араба: этим вы унизите себя. Вы можете подумать, что явившееся результатом этого явное усиление внешнего проявления к вам признаков уважения улучшит ваше положение, на самом деле вы лишь воздвигнете стену между вами и их внутренними кругами. Конечно, трудно оставаться спокойным, когда все делается не так, как следует, но чем больше вы сохраните хладнокровия, тем больше вы выиграете, а кроме того, сбережете себя от возможности сойти с ума.
14. Хотя бедуина трудно заставить что-либо делать, ими легко руководить, если только у вас хватит терпения. Чем будет менее заметно ваше вмешательство, тем больше будет ваше влияние. Бедуины с охотой будут следовать вашему совету… но они не предполагают, что вы или кто-либо другой об этом знает. Лишь после того, как окончатся все неприятности, вы откроете в них наличие доброй воли.
15. Не пытайтесь делать слишком много лично. Пусть лучше арабы сделают что-либо сносно, но зато сами. Это их война, и вы должны им лишь помогать; а не выигрывать для них войну. Кроме того, в действительности, принимая во внимание совершенно особые условия Аравии, ваша практическая работа не будет столь хороша, как вы пожалуй, воображаете.
16. Если можете, то, не впадая в расточительность, делайте подарки. Хорошо сделанный подарок весьма часто является наиболее верным средством для того, чтобы привлечь на свою сторону самого подозрительного шейха. Никогда не принимайте подарка без того, чтобы щедро не вознаградить за это… не допускайте, чтобы они стали у вас выпрашивать, так как иначе их жадность заставит их смотреть на вас только как на дойную корову.
17. Если вы находитесь вместе с племенем, носите головное покрывало. Бедуины относятся с предубеждением к фуражке и считают, что наша настойчивость в ношении ее вызывается… каким-то безнравственным и противорелигиозным принципом. Если вы будете носить фуражку, ваши новые друзья-арабы будут стыдиться вас при других.
18. Маскировка не рекомендуется… В то же время, если вы, находясь среди племен, сумеете носить арабское одеяние, вы приобретете у них такое доверие и дружбу, какие в военной форме вам никогда не удастся приобрести. Однако это и трудно, и опасно. Поскольку вы одеваетесь, как они, арабы не будут делать для вас никаких исключений. Вы будете себя чувствовать, как актер в чужом театре, играя свою роль днем и ночью в течение ряда месяцев, не зная отдыха и с большим риском. Полный успех, которого можно достигнуть лишь тогда, когда арабы забудут, что вы иностранец, и будут в вашем присутствии говорить откровенно, считая вас за одного из своих, может быть достигнут лишь особенной личностью. Частичного же успеха (того, к которому большинство из нас стремится, так как полный успех достается слишком дорогой ценой) добиться легче и в английской форме. К тому же, поскольку вы не лишаетесь связанного с ней комфорта, вас хватит на более долгое время. Далее, если вы будете пойманы, то турки вас не повесят.
19. Если вы будете носить арабское одеяние, носите его получше. Одежда имеет большое значение у племен; вы должны носить соответствующее одеяние и чувствовать себя в нем совершенно свободно. Если они не возражают, одевайтесь, как шериф.
20. Если вы решитесь на маскировку, то вы должны выполнять ее полностью. Забудьте ваших английских друзей и английские обычаи и усвойте целиком все привычки арабов. Не исключено, что европеец, начав игру, сможет ее выиграть, так как мы имеем более сильные побуждения для наших действий и более отдаемся им, чем арабы. Если вы превзойдете их, это значит, что вам удалось сделать большой шаг на пути к полному успеху. Однако напряженная жизнь в чужой среде и необходимость думать на чужом, наполовину понятном языке, дикая пища, странные одеяния, при полной потере частной жизни и покоя, наряду с невозможностью ослабления внимания к окружающим, требуют такого добавочного напряжения в дополнение к обычным трудностям — обхождению с бедуинами, климату и туркам, что решение выбрать этот путь может быть сделано лишь после серьезного обсуждения.
21. Нередко вам придется участвовать в дискуссиях по вопросам религии. Говорите о ваших убеждениях что угодно, но избегайте критиковать их взгляды, пока вы не убедитесь, что вопрос касается обрядности. Среди бедуинов ислам является настолько распространенным учением, что у них религиозности так же мало, как мало религиозного пыла, и нет никакого уважения к обрядам. Однако основываясь на их поведении, не думайте, что они небрежно относятся к религии. Убеждение в праведности веры и ее роль в каждом их действии и поступках повседневной жизни настолько сокровенны и глубоки, что являются почти бессознательными, обнаруживая себя в случаях несогласия. Для них религия так же естественна, как сон или пища.
22. Не пытайтесь снискать себе уважение своими знаниями военного дела. Хиджаз спутал все понятия об обычной тактике. Постарайтесь изучить принципы ведения войны бедуинами как можно лучше и как можно скорее: пока вы с ними не ознакомитесь, ваши советы шерифу не принесут никакой пользы. Бесчисленное множество набегов племен научили их тому, что в некоторых вопросах тактики они знают больше нас. В знакомых для них условиях бедуины сражаются хорошо, но незнакомые явления могут вызвать панику. Сохраняйте ваш отряд небольшим… Чем менее обычны ваши действия, тем больше вероятия, что они поразят турок, так как инициатива у них отсутствует и они считают, что и у вас ее нет. Не основывайте ваших действий только на обеспечении безопасности.
23. Те явные причины, которые бедуины приведут в оправдание своего действия или, наоборот, бездействия, возможно и окажутся соответствующими истине, но для вас всегда останутся другие, тайные причины для разгадки; поэтому, прежде чем принять то или иное решение, вам придется вскрыть эти внутренние мотивы. Намек производит больший эффект, чем логическое разъяснение. Арабам не нравится краткое изложение мысли. Их ум работает так же, как и у нас, но с другими предпосылками. У арабов нет ничего безрассудного, непонятного, таинственного. Опыт, приобретенный пребыванием среди них, и знание их предрассудков позволят вам почти в каждом случае угадать их отношение и возможный метод действия.
24. Не смешивайте бедуинов с сирийцами или обученных людей с представителями племени… Арабы города и арабы пустыни смотрят одни на других, как на бедных родственников, а последние еще более нежелательны, чем бедные иностранцы.
25. Не следуйте примеру арабов и избегайте слишком свободных разговоров о женщинах. Это столь же трудный вопрос, как и религия. В этом отношении взгляды арабов настолько не похожи на наши, что безобидное с английской точки зрения замечание может показаться для них несдержанным, так же, как и некоторые из их заявлений, переведенные буквально, смогут показаться несдержанными для нас.
26. Будьте так же внимательны к вашим слугам, как и к самим себе.
27. Весь секрет обхождения с арабами заключается в непрерывном их изучении. Будьте всегда настороже; никогда не говорите ненужных вещей, следите все время за собой и за вашими товарищами. Слушайте то, что происходит, доискивайтесь действительных причин. Изучайте характеры арабов, их вкусы и слабости, и держите все, что вы обнаружите, при себе… Ваш успех будет пропорционален количеству затраченной вами на это умственной энергии.
Глава V. Восстание разрастается
Взятие Ваджха открыло новые горизонты как в политическом, так и военном отношениях. Политические возможности достигнутого успеха обратили на себя внимание прежде всего благодаря мудрому совету Лоуренса. Он настойчиво подчеркивал, что, прежде чем начать дальнейшие военные действия, необходимо расширить политическую основу, которая позволит проведение дальнейших операций не только в более широком масштабе, но и с большей гарантией успеха. Политические последствия клина проявились почти немедленно и продолжали усиливаться. Во время наступления, предпринятого из Янбу, один старый вождь заметил: «На Ваджх движется не армия, а весь мир».
Большая часть племени билли не замедлила предложить свои услуги человеку, который с таким успехом утвердился на их территории. Это прибавление новых сил, хотя и недостаточно надежных, позволило Фейсалу отправить племя джухэйна в помощь Абдулле.
К северу от земель, принадлежавших племени билли, находилось племя бени-атайе, которое точно так же обещало верность и предоставило свободу продвижения по своей территории. Недалеко от них находились племена той огромной области, которой правил Нури Шаалан, эмир Руаля и глава великой конфедерации. Его благожелательный нейтралитет являлся существенным моментом для дальнейшего расширения операций, так как Нури Шаалану принадлежал контроль над Вади-Сирхан — цепью водоемов протяжением около 350 км. А поскольку Фейсал рассчитывал встретить активную поддержку со стороны Ауда — воинственного вождя Восточного Ховэйтата, — для него было весьма важно получить возможность свободного продвижения этим направлением. От помощи же Ауда зависел успех дальнейшего распространения восстания на Акаба и Маан.
После захвата Ваджха все эти намерения вскоре обещали сбыться. Началось с того, что от Руаля прибыл весьма желанный подарок грузовых верблюдов, затем появились посланцы из Восточного Ховэйтата. Все возрастало число шейхов и добровольцев от других, менее значительных племен, прибывавших, чтобы засвидетельствовать свою верность. От них Фейсал потребовал клятвы Кораном, что они будут «ждать, пока он ожидает; идти когда он идет; никогда не повиноваться туркам; хорошо обходиться со всеми, кто говорит на арабском языке, и считать независимость превыше жизни, семьи или материальных выгод». Однако, несмотря на эти клятвы, смягчить наследственные распри и поддержать среди племен мир удалось главным образом благодаря влиянию самого Фейсала, его такту, терпению и беспристрастию. Английское золото, черпавшееся пригоршнями, также оказывало свое действие.
Другим важным успехом явилось присоединение Джафар-паши, который в последний раз сражался в Египте против англичан. Будучи захваченным в плен, он пытался совершить побег из крепости в Каире, но канат, который он сделал из одеяла, не выдержал тяжести его тела. Искалеченный падением, Джафар был снова схвачен и оштрафован на сумму, составляющую стоимость одеяла. Когда он услышал о расправе, которую учинил Джемаль-паша над его друзьями-арабами в Сирии, он добровольно вызвался пойти на помощь к шерифу и получил командование новыми регулярными частями арабов, находившимися в процессе формирования.
Наконец, спустя несколько недель появился и сам Ауда — величественный, сухой, с наружностью подлинного воина.
Говорят, что за 30 лет непрестанных войн он умертвил собственной рукой 75 человек помимо турок, которых он не потрудился посчитать. Он был 13 раз ранен и 28 раз женат. Он производил впечатление дремлющего вулкана и был прекрасным компаньоном, пока не переставал улыбаться или не начинал рассказывать поразительные истории о частной жизни каждого, включая самого себя. День его прибытия останется в памяти, так как для восстания арабов этот факт имел большое значение. Однако Ауда нарушил торжественность момента следующим забавным поступком: внезапно выбежав из палатки, он разломал на куски свои вставные зубы и вскричал: «Я совсем забыл. Ведь мне дал их Джемаль-паша. Я ел хлеб моего Господа турецкими зубами».
К тому времени, когда Ауда присоединился к арабам, все больше стало возрастать военное значение взятия Ваджха, которое проявилось в ряде согласованных набегов на Хиджазскую железную дорогу с целью воспрепятствовать доставке припасов и тем самым ослабить турок в Медине. Теперь, при наличии английских офицеров со смелой инициативой и знанием дела, имевших в своем распоряжении обильные запасы взрывчатых веществ, эти набеги приводили к гораздо более серьезным разрушениям железнодорожного полотна, чем это было в прошлом, когда арабы просто разбирали рельсы, которые через несколько часов вновь укладывались турками. Теперь поезда в Медину уже не могли ходить регулярно через день.
Вся железнодорожная линия между Мааном и Мединой общим протяжением около 850 км была разделена на три почти равных участка. К востоку от Медайн-Салих проходил караванный путь в Центральную Аравию. К югу от последнего находился Эль-Ала, откуда шел другой караванный путь к побережью Красного моря у Ваджха, на расстоянии 220 км. Но так как оба эти весьма важных пункта были хорошо укреплены, первоначальные набеги совершались в промежутках между ними.
Первый тяжелый удар был нанесен Гарландом. Выступив из Ваджха 12 февраля с отрядом бедуинов в 50 человек и двигаясь к юго-востоку, он после восьмидневного перехода на верблюдах достиг железнодорожной линии у Гувейра. Полагаясь на полученные от арабов сведения о том, что поезда ходили теперь только днем, он решил, что у него имеется достаточно времени для того, чтобы под покровом ночи, не торопясь, произвести разрушение железнодорожного полотна. Поэтому одну часть своего отряда он направил на закладку подрывных шашек под мостом, находившимся к югу от станции, а сам подготовил к подрыву участок несколько далее, по линии. Вдруг он услышал приближение поезда, шедшего с севера. Ненадолго остановившись на станции, поезд отправился дальше. Имея в своем распоряжении лишь несколько минут, Гарланд все же успел заложить немного шашек уменьшенного заряда и убежать от полотна, когда поезд находился от него всего лишь в двух-трех сотнях метров. Произошел взрыв, паровоз сошел с рельсов и упал с насыпи. Взрыв произвел переполох на станции, и турецкий гарнизон бросился на помощь. Отряд спасся лишь благодаря арабу, которому был поручен другой подрыв, — он нашел в себе достаточно хладнокровия не поджигать запала и не взрывать моста, прежде чем Гарланд и его люди не перешли через него.
Набеги участились и становились все более и более дерзкими, дав возможность проявить свой талант и Ньюкомбу. В ночь на 3 марта он с отрядом арабов напал на Дар-Эль-Хамра. Разрушив станцию и участок железнодорожного пути, он возвратился обратно, захватив в плен 15 турок.
Прославился своими набегами также Хорнби. Он и Ньюкомб полностью отдались игре превращения в арабов и стали носить арабские одеяния. В дальнейшем после своего прибытия из Рабуга к ним присоединились Джойс и Дэвенпорт. Уингейт, так же, как и английские офицеры, на месте быстро оценил преимущество операций против слабо укрепленного, растянутого фланга вместо операций против короткого, защищенного холмами фронта у Медины. Это привело к постепенному сосредоточению войск в северном направлении. 8 марта Уингейт отдал приказ Вильсону об эвакуации Рабуга и переброске египетских и арабских регулярных частей к Ваджху. Там уже имелся отряд самолетов под командой майора Росса, причем египетская часть продолжала нести главным образом охрану посадочной площадки. Французский отряд был продвинут лишь до Янбу, где он организовал новую базу и продолжал помогать частям Али и Абдуллы. Благодаря настойчивым просьбам Бремона, отряд, наконец, усилили горной батареей.
Разделение операций французских и английских войск способствовало уменьшению возможности трений между ними, которые, несмотря на хорошие взаимоотношения личного состава, легко могли появиться вследствие различия политических интересов, а еще более из-за подозрений к мотивам, которыми руководствовалась каждая страна.
Расхождения подчеркивались прежде всего тенденцией Хуссейна и Абдуллы натравить одних союзников на других для того, чтобы удерживать обоих от вмешательства, а во-вторых, страхом каждого союзника возбудить подозрения арабов слишком большой согласованностью своих действии. Абдулла же в особенности был готов посеять семена раздора. В октябре, настаивая на присылке войск для спасения Рабуга, он жаловался французам, что «англичане боятся не столько мнения мусульман, сколько того, что за ними придете вы». Взятие Багдада англичанами в марте вызвало новый прилив недоверия, и Абдулла обвинял англичан в нарушении обещаний, данных шерифу. Однако с еще большим подозрением относились арабы к стараниям французов усилить свое политическое и финансовое влияние в Хиджазе, проявляя удивительные способности противодействовать их планам.
В конце октября 1916 г. Хуссейн объявил себя «королем арабской нации», чем создал еще один источник беспокойства для французов и англичан, для которых это явилось полнейшей неожиданностью и, конечно, пришлось не по вкусу. Для французов это было явной угрозой их намерениям в Сирии. Для англичан же это оказалось неприятным не только с точки зрения их конечной политики, но также и потому, что наносило обиду другим великим арабским вождям, в особенности Ибн-Сауду, и могло заставить их выступить как против Хуссейна, так и против англичан. Верховный комиссар Египта тотчас же отправил Хуссейну телеграмму с выражением своего неодобрения. Вслед за ним согласованно сделали представления в подобном же роде французское и английское правительства, высказав готовность признать его лишь королем Хиджаза и «вождем восстания арабов против турок».
Противоречия имелись также и в области военной. Бремон, побуждаемый захватом Ваджха и стремившийся использовать имеющиеся в его распоряжении крупные военные силы, все еще находившиеся в ожидании в Суэце, старался найти в Каире и на арабском побережье поддержку своему проекту взятия Акаба. Что касается самой идеи проекта, то она получила всеобщее признание, но претворение ее в жизнь вызвало целый ряд расхождений. Генеральный штаб в Египте так же противился отправке сил в Акаба, как ранее в Рабуг. Фейсал, у которого Бремон был 31 января, не желал видеть англо-французских войск в Акаба. Когда Бремон упомянул, что Акаба защищена слабо, Фейсал ловко обратил этот довод против него самого, заявив, что он в таком случае сможет предпринять захват Акабы сам, без помощи европейцев.
В Каире Бремон виделся также с Лоуренсом и пробовал добиться его поддержки. Вместо этого он лишь усилил подозрения Лоуренса в отношении своих истинных целей. По мнению Лоуренса, присутствие англо-французских войск в Акаба могло бы оказаться серьезным препятствием его стремлению распространить восстание арабов на Сирию. Скрыв свое основное возражение, он сказал Бремону, что Акаба должен быть захвачен с тыла, так как в противном случае расположенная за ним цепь гор сделает невозможным какое бы то ни было продвижение вперед. Чувствуя, что ему не удалось убедить француза отказаться от его плана, Лоуренс поспешил обратно в Ваджх, чтобы предостеречь Фейсала. Позже он получил большое удовольствие, слушая ответы Фейсала Бремону, усилив неприязнь последнего раздражающей улыбкой.
Встретив со всех сторон препятствия своему проекту, Бремон ограничился подготовкой операций против Медины. Однако во Франции, по-видимому, возникли сомнения в его усердии в этом направлении, так как главнокомандующий французской армией Жоффр вскоре отправил ему телеграмму, в которой говорилось следующее: «Из ваших телеграмм усматривается, что вы, по-видимому, опасаетесь взятия Медины арабами, так как это поощрит их стремления в Сирии. Подобная точка зрения, уже известная англичанам и шерифу, может создать впечатление, что мы, якобы, пытаемся уклониться от заключенных нами соглашений, и может привести к серьезным последствиям для наших действий в Леванте. Поэтому необходимо, чтобы позиция, занимаемая вами в этом вопросе, не допускала возникновения подобного толкования».
По странной иронии это нежелание взять Медину разделялось теперь также и наибольшим противником Бремона, но по другим соображениям. Новый взгляд Лоуренса был отчасти вызван его опасением, что турки, будучи отброшены от Медины, усилят свою власть в Сирии и благодаря этому сумеют задержать там распространение восстания. Подобный взгляд был вызван также зародившейся у него новой теорией ведения войны, которая опрокидывала господствовавшие до того времени официальные теории французской и английской школ.
Зарождение теории Лоуренса совпало с изменением военной обстановки.
Под влиянием нового премьер-министра Англия, наконец, снова взяла в свои руки инициативу в борьбе против Турции. В начале декабря, как только Ллойд-Джордж вступил в должность, он начал настаивать на развитии наступательных действий на Востоке, рассчитывая, что какой-либо заметный успех на этом фронте ободрит союзников, изнуренных бойней на Сомме. Робертсон сделал все возможное, чтобы воспротивиться этому требованию, которое он рассматривал как нарушение своего священного принципа «сосредоточения сил на решительном участке». Его сопротивление усилилось еще более, когда Муррей на запрос о количестве войск, требовавшихся ему для развития наступления, сообщил, что ему желательна дополнительная присылка, хотя бы на время, еще двух дивизий.
12 декабря Робертсон ответил Муррею: «Премьер-министр хочет, чтобы вами в течение зимы были проявлены максимальные усилия», — добавив, однако от себя, что до окончания зимы присылка подкреплений не сможет быть осуществлена. Телеграмма, полученная от Муррея на следующий же день, указывала, что он рассчитывал использовать три дивизии только для пассивной защиты своих линий сообщений. В ответ на это Робертсон дал ему директиву: «Вашей основной задачей по защите Египта должно быть максимальное развитие наступательных операций войсками, имеющимися в вашем распоряжении», — и добавил, что он не совсем понимает, почему Муррею нужно держать большие силы на линиях сообщений, раз он взял Эль-Ариш и очистил Синай от неприятеля. Вопрос казался вполне уместным, если сравнить количество английских войск со значительно меньшим количеством войск, выделенных турками для охраны своих гораздо большего протяжения линий сообщения от существовавшей повсюду угрозы.
Когда эти указания были получены Мурреем, его приготовления к занятию Эль-Ариша были почти закончены, но проводились медленно. В своей превосходной истории палестинской кампании генерал Уэйвелль, выдающийся военный специалист, говорит: «Постройка линий сообщения для продвижения через Синай была типичным примером английской постройки: она велась медленно, обошлась очень дорого и делалась чрезвычайно прочно».
Когда все было готово, неприятель отступил. Утром 21 декабря был занят пустой город. Гарнизон этого турецкого аванпоста численностью в 1600 человек отошел.
Не в пример прежнему темпу работ, железнодорожная линия к Эль-Аришу протяжением около 35 км была закончена постройкой к 4 января. Вечером 8-го Чэтвуд с частями Шовеля и еще одной бригадой вступил в Рафа. К утру он окружал город, и здесь, как это ни странно, повторились события, предшествовавшие взятию Махзаба. В полдень был отдан приказ об отступлении, однако новозеландская кавалерийская бригада, прежде чем приказ успел до нее дойти, успела захватить командные высоты.
Успех англичан был обязан безрассудству турок, из ложной гордости пытавшихся удержаться на египетской территории. Напрасно Крессенштейн настаивал на отводе частей, защищавших эти два выступавших вперед пункта, к главной линии обороны. В результате потеря свыше 3000 человек серьезно уменьшила и без того слабый гарнизон этой позиции.
Против трех английских пехотных и двух кавалерийских дивизий турки могли противопоставить лишь одну слабую дивизию и остатки другой. Положение их ухудшалось еще беспрерывным дезертирством арабов, являвшимся косвенным последствием восстания в Хиджазе. В феврале туркам благодаря почти трехмесячному затишью, наступившему после продвижения англичан на Рафа, удалось подвести еще третью — тоже слабую — дивизию. Но даже и при этом они имели всего лишь 13 000 солдат (сабель и штыков), расположенных в различных пунктах, против 40 000 англичан.
Таким образом налицо была перспектива столь желательного для английского правительства «большого успеха». Однако являлось весьма важным, чтобы туркам не удалось получить больших подкреплений. Для удержания в повиновении неспокойных арабов в Сирии у турок имелись также три слабые дивизии, из которых могло быть взято не более одной.
В начале марта радиостанцией в Каире была перехвачена телеграмма от Джемаль-паши, часть которой удалось разобрать и установить, что, по-видимому, передавался приказ об оставлении Медины и отходе всех турецких частей к северу, вдоль линии железной дороги. По смыслу приказа можно было предположить, что турки двинутся в походном порядке, имея штаб и войсковой обоз в сопровождавшем их поезде.
Явная опасность английским планам в Палестине заставила отравить из Каира настоятельный призыв к Фейсалу о взятии, если возможно, Медины или же перехвате турецкого гарнизона во время его отступления вдоль железнодорожной линии. В Ваджх был командирован нарочный для уведомления английской миссии о содержании перехваченной телеграммы и требовании принять срочные меры. Поскольку Ньюкомб в это время оказался в очередном набеге на железнодорожную линию, ответственность за принятие срочных мер взял на себя Лоуренс. Фейсал со своей стороны поспешил приблизить передовые отряды к четырем турецким базам близ железной дороги, участив против них набеги. Чтобы исполнить желание Генерального штаба, Лоуренс решил сам отправиться в Вади-Аис уговорить Абдуллу напасть на Медину. В момент получения телеграммы от Клейтона Лоуренс был болен дизентерией, но превозмог, свою слабость и с небольшой охраной из арабов различных племен отправился в дальний переход на верблюдах. Однако он едва мог сидеть и дважды впадал в обморочное состояние. Его все время преследовала мысль о том, что в дороге он может совершенно «сдать», не выполнив своей миссии, притом на первой же остановке вечером среди сопровождавших его арабов возникла ссора, и один из них — мавр — убил араба другого племени. Приговором своеобразного военно-полевого суда над убийцей дело почти удалось уладить, однако его соплеменники, не удовлетворенные вынесенным решением, стали требовать применения закона пустыни — «кровь за кровь». Напрасно Лоуренс пытался их отговорить. Наконец, видя, что, если он будет упорствовать, они так или иначе отомстят и тем вызовут новые распри, Лоуренс застрелил убийцу собственноручно.
Сам не зная как, Лоуренс сумел перебороть свою слабость. 13 марта он добрался до лагеря Абдуллы. Передав приказ, он упал в обморок и проболел 10 дней. Будучи еще слишком слабым, чтобы встать на ноги, он имел для раздумья больше времени, чем когда бы то ни было с тех пор, как началось восстание. Но теперь он имел опыт, над которым следовало подумать. Затем Лоуренс перешел к анализу фактических условий той кампании, участником которой он являлся.
Глава VI. Воинственные размышления. Март 1917 г.
Теория Лоуренса явилась результатом его размышлений, когда он лежал прикованным к постели в лагере Абдуллы. Мысли его унеслись к тем книгам по военному делу, которые он читал еще в Оксфорде. Для человека, главный интерес которого сводился к изучению архитектуры и глиняной посуды, это был курс значительно больший, чем тот, который проходил почти любой кадровый офицер, в особенности в Англии. Когда Лоуренсу было еще 15–16 лет, он начал с того, что называется «обычной литературой школьников». Наряду с этим Лоуренс прочитал много технических трактатов по вопросам постройки замков и ведения осад. Несколько позднее он перешел к Клаузевицу и его школе, к Кемереру, Мольтке, Гольцу и некоторым из французских военных писателей, появившихся после 1870 г. Их произведения, в том числе и Клаузевица, показались ему «очень односторонними». Будучи неудовлетворенным ими, он добрался до Наполеона. Попутно он проглядел Жомини и Виллизена, причем у последнего он натолкнулся на определение стратегии, как «изучение сообщений», которое произвело на него сильное впечатление. Затем, когда он прочитал французские труды по итальянской кампании Наполеона, его заинтересовали некоторые мысли в переписке Наполеона.
Это возбудило в Лоуренсе желание ознакомиться с теми учебниками, по которым Наполеон изучал военное искусство. Таким образом он подошел к Гиберу и, сделав еще один шаг назад, к Бурсе и Морицу Саксонскому.
Эти писатели понравились Лоуренсу потому, что у них он нашел «более широкие принципы». Особенно сильное впечатление произвел на него Мориц Саксонский. В дальнейшем, после того, как Лоуренс сам участвовал в войне и приобрел практический опыт, он считал Морица Саксонского «величайшим мастером военного дела»; вначале и он чувствовал, что «интеллектуально Клаузевиц настолько превосходил их всех, что он стал верить ему вопреки своему желанию».
Помимо этого интеллектуального интереса к теории войны Лоуренс изучил ряд мест сражений, главным образом в целях восстановления их на картах.
Однако эти исследования не предпринимались Лоуренсом с какой-либо сознательной целью подготовки себя для командования в будущем. Так же было и с чтением. «У меня был интерес только к чистой теории; я повсюду искал метафизическую сторону вопроса, философию войны, о которой я много думал в течение ряда лет». Теперь же по непредвиденным обстоятельствам он был втянут в войну и нашел себя «к счастью, стоящим во главе кампании в такой степени, в какой ему это было желательно».
Вынужденное бездействие оказалось для Лоуренса чем-то вроде спасательного круга. Хотя после своей первой поездки в октябре он изложил в докладе обоснованную оценку положения, представлявшую собой образцовое решение непосредственно стоявшей проблемы, у него не было возможности как следует обдумать пути дальнейших действий или же разработать теорию, исходя из которой он мог бы выбирать те или иные решения.
Мысленно он проследил ход военных действий в Хиджазе, начиная с того момента, когда, казалось, Рабуг находился в неминуемой опасности. Военные специалисты рассматривали Рабуг как «ключ к Мекке» и настаивали на необходимости его удерживать. Далее, ни французы, ни англичане не придавали бедуинам никакого значения с точки зрения защиты ими этого города или какой-либо другой определенной позиции. Их взгляд был полностью оправдан ходом событий.
Лично же Лоуренс доносил, что «арабские племена при условии вооружения их легкими пулеметами и посылки к ним кадровых офицеров в качестве советников смогут удерживать турок, пока формируются арабские регулярные части». Как это ни казалось странным, но исход операций подтвердил правильность также и его взгляда. Хотя арабы при встрече с неприятелем всюду отступали, Рабуг все еще был цел.
Правда, это могло быть и просто счастливой случайностью, такой же, как и то, что турки сильно поколебали уверенность Лоуренса, прорвавшись через цепь холмов, которую он считал непроходимой. Все же высшая фаза наступления турок прошла. Правда, оно, несомненно, могло бы возобновиться и докатилось бы до Рабуга, если бы Фейсал не двинулся неожиданно на Ваджх и не создал угрозы турецким сообщениям, что заставило турок беспорядочно отступить. Казалось, что эта неудачная попытка достигнуть Рабуга в начале их наступления могла быть в значительной степени объяснена тем огромным переходом, который им пришлось совершить, так как Рабуг отстоял от Медины на расстоянии 250 км. Во всяком случае, пока арабы имеют за собой пространство для отступления, их задерживающая сила может быть равной способности обороны, и они могут использовать преимущества неограниченного пространства. Последние преимущества оказались возможными у кочующих народов, что являлось еще одним доводом за перенесение операций к северу. Достоинства иррегулярных войск заключаются в глубине проникновения, а не в силе.
Однако просто задержать неприятеля и предотвратить возможность его победы являлось недостаточным.
Такова была причина, которая заставила Лоуренса пройти весь путь от Ваджха, чтобы убедить Абдуллу попытаться уничтожить гарнизон Медины. Но как это сделать? Под влиянием настойчивого призыва из Каира он выехал из Ваджха для выполнения возложенного на него поручения без того, чтобы остановиться хоть на минуту и продумать все вытекавшие из доставлявшегося им сообщения последствия. Теперь же в своей палатке, поскольку лихорадка ослабевала, он мог обдумать стоявшую перед ним проблему на досуге.
Лоуренс стремился согласовать свои теоретические знания, приобретенные путем чтения военных книг, с теми практическими военными действиями, которые в то время происходили.
«Однако, — говорил он, — книги охарактеризовывали мне цель войны как «уничтожение организованных сил неприятеля единственным способом — боем». Другими словами, победа могла быть приобретена только ценою крови.
Для нас все это было непригодно, так как организованных сил у арабов не было, а следовательно, у турецкого Фоша не оказалось бы цели войны. Далее, арабы не переносили убитых и раненых, а поэтому арабский Клаузевиц не смог бы приобрести себе победу. Очевидно, эти мудрые люди изъяснялись метафорически, так как мы, несомненно, выиграли нашу войну, и когда я о ней думал, мне казалось, что мы выиграли войну в Хиджазе, так как мы уже оккупировали 99 % Хиджаза».
Таким образом, хотя Фош и последователи школы его военной мысли XIX столетия и утверждали, что «абсолютная война» является якобы единственным типом войны, Лоуренс начал осознавать, что данная война была лишь разновидностью «абсолютной войны». Он смог увидеть также и другие войны, которые были перечислены Клаузевицем, а именно: войны из-за династических побуждений, войны за изгнание одной партии другой, коммерческие войны из-за рынков и пр.
Проанализировав работы всех общепризнанных учителей XIX столетия, формулировавших документы, которые теперь армии пытались провести в жизнь с довольно плачевным результатом, мысли Лоуренса вернулись к тем учителям XVIII столетия, чьи «более смелые принципы» уже давно произвели на него впечатление. Он заново оценил Морица Саксонского и те «Размышления», которые Карлейль, поклонник Фридриха, презрительно охарактеризовал как «странную смесь военных мыслей, продиктованных, как мне кажется, под влиянием опиума». Если Лоуренс и был когда-то склонен согласиться с подобным приговором, то теперь он не имел к этому никакого желания. Теперь на основании своего собственного опыта Лоуренс знал, что Мориц Саксонский был не мечтателем, а реалистом в полном смысле этого слова.
Он был согласен со словами Морица Саксонского: «Я не сторонник того, чтобы давать сражение, особенно в начале войны. Я даже убежден, что способный генерал может вести войну всю свою жизнь без того, чтобы быть вынужденным дать сражение». Фош высмеял Морица Саксонского за эти слова, сопоставив их со словами Наполеона, сказанными им в 1806 г.: «Ничего я так не желаю, как большого сражения». Комментируя эти два изречения, Фош презрительно добавил: «Один хочет всю жизнь избегать сражения, другой же добивается его при первой же возможности».
Лоуренс, освободившийся от влияния Клаузевица, благодаря своему ознакомлению с действительностью теперь мог оценить практическую точку зрения Морица Саксонского. Он понял, что Мориц Саксонский имел в виду конечную цель войны, для которой сражение является только средством.
У Морица Саксонского имелось замечание, что «проведение подготовки к неправильному размещению своих частей имеет гораздо большее значение, чем обычно принято думать, при том условии, конечно, что это размещение делается преднамеренно и осуществляется таким образом, что может быть в кратчайший срок превращено в правильное. Ничто так не обескураживает противника, рассчитывающего на победу, как военная хитрость подобного рода…» Казалось, что это замечание имело в виду специально операции в Хиджазе. До тех пор, пока арабы оставались сосредоточенными против турок, перевес был на стороне последних, но лишь только арабы стали рассредоточиваться, дело приняло другой оборот. Чем больше их части отделялись одна от другой, тем опаснее становилось положение турок.
Под этим новым углом зрения Лоуренс взялся за изучение своей будущей проблемы.
«Моя обязанность заключалась в осуществлении командования. Я попытался вскрыть значение этого слова и проанализировать его как с точки зрения стратегии — цели войны, так и с точки зрения тактики. В каждой из них я нашел те же элементы: один — алгебраический, другой — биологический и третий — психологический.
В применении к арабам алгебраический фактор играл роль прежде всего в отношении той территории, которую мы хотели завоевать. Я начал на досуге подсчитывать, сколько это составит квадратных километров… и размышлять, каким образом турки смогут защищать такое пространство… Если бы мы были армией, наступающей с развернутыми знаменами, то, несомненно, им пришлось бы построить линии окопов…
Затем я прикинул, сколько потребуется туркам постов, чтобы сдержать наше наступление вглубь, учитывая возможность возникновения восстания в каждой из не занятых еще турками областей на этом громадном пространстве в сотни тысяч квадратных километров. Я знал турецкую армию вдоль и поперек; даже с учетом усиления ее боеспособности новой артиллерией, авиацией и бронепоездами становилось ясным, что ей потребуется создать укрепленный пост на каждые 6 кв. км, в котором должно находиться не менее 20 солдат. Другими словами, для того, чтобы противостоять объединенной ненависти всех местных арабских племен, туркам потребуется 600 000 человек, они же имели в своем распоряжении всего лишь 100 000 солдат. Казалось таким образом, что перевес в этом отношении был на нашей стороне; климат же, железные дороги, пустыни и техническое вооружение также могли быть использованы в наших интересах, если бы только мы сумели как следует использовать наши сырые материалы. Турки поверили бы, что восстание является «абсолютным», как война, и стали бы с ним бороться по аналогии с «абсолютной» войной. Аналогия, конечно, выдумка: вести войну с восстанием столь же хлопотливо и утомительно, как есть суп ножом.
Вторым фактором был фактор биологический — фактор критического момента, фактор жизни и смерти, или, правильней, фактор износа. Военные философы превратили этот фактор в искусство, а один из его вопросов — «кровопускание» — подняли до уровня принципа. При всевозможных оценках его основой являлся изменчивый фактор — человек.
Однако мне казалось, что ограничивать искусство только человеческими факторами значило бы суживать стоявшую передо мной проблему. Оно должно было быть применено не только к организмам, но и к материалам. Турецкая армия отличалась тем, что в ней не хватало военных материалов и они были дороги, людей же было больше. Следовательно, нашей целью являлось не уничтожение турецкой армии, а уничтожение ее недостаточной материальной части. Гибель моста или железной дороги, пулемета или орудия для нас была выгоднее, чем смерть турок. Арабская армия должна была беречь и людей и материалы, — людей потому, что они, будучи иррегулярными воинами, были не единицами, а индивидуумами, а потеря индивидуума подобна камню, брошенному в воду: он может сделать лишь на короткое время отверстие, но от него расходятся, постепенно замирая, круги. Мы не могли позволить себе иметь большие потери. Расправляться с материалом было легче. Наша совершенно очевидная обязанность заключалась в том, чтобы добиться превосходства в какой-либо одной области, скажем, в пироксилине или пулеметах или в чем-либо ином, что может оказать наиболее решающий эффект, — добиться превосходства в оборудовании в одном преобладающем моменте или в каком-нибудь отношении.
Большинство войн требует контакта с противником. Наша война должна быть войной отделения от противника: нам придется сдерживать его молчаливой угрозой громадной неизвестной пустыни, не обнаруживая себя до момента атаки. Последняя должна быть атакой лишь по названию, направленной не против людей, а против материальной части противника, — атакой, устремленной против его слабого места. В отношении железнодорожной линии это обычно будет пустынный участок пути. Это было бы тактическим успехом. Подобный метод мы смогли бы взять за правило. Это вполне соответствовало нашему стремлению — никогда не представлять собою цель для неприятельского солдата. На нашем фронте имелось много турок, которые за всю войну не имели случая в нас выстрелить, и все же, за исключением редких стечений обстоятельств, мы никогда не оборонялись. Объяснялось это превосходно налаженной разведкой. Мы всегда могли рассчитывать на проведение наших операций наверняка. В этом отношении главной действующей силой являлась голова полководца, и его знание неприятеля должно было быть безошибочным. Для того, чтобы хорошо наладить разведку, нам пришлось проявить усилий больше, чем какому бы то ни было штабу, который я знал.
Третьим фактором, который необходимо было учитывать, является фактор психологический — та наука, в отношении которой наше представление следует признать совершенно недостаточным. Часть этой науки касается толпы — поднятия настроения до того момента, когда оно становится пригодным для использования в целях определенного действия, приспособления различных мнений для определенной цели. Другая часть касается отдельных личностей, и тогда она превращается в редко встречающееся искусство обхождения с людьми. Она рассматривает возможность подъема настроения наших людей, их многосложность и изменчивость и возможность культивирования в них того, что способствует выполнению намерения. Мы должны подготовить сознание людей к условиям боя так же тщательно и точно, как другие офицеры подготавливали их физическую сторону, и не только сознание наших людей, но и сознание противника, поскольку это окажется возможным, а также сознание народа, поддерживающего нас за линией фронта, и неприятельской стороны, ожидающей приговора, и нейтральных государств, следящих за нашими действиями.
Вышеприведенные рассуждения привели меня к заключению, что взятие приступом Медины или же быстрое принуждение ее к сдаче голодом не соответствовали нашей стратегии. Мы хотели, чтобы противник оставался в Медине или в любом другом столь же безвредном месте — и чем в большем количестве, тем лучше. Вопрос обеспечения продовольствием окончательно прикрепил бы противника к железным дорогам. Присутствие же противника на Хиджазской и Трансиорданской железных дорогах, а также на железных дорогах Палестины, Дамаска и Алеппо в продолжение войны можно было только приветствовать. Если бы он проявил стремление эвакуироваться в малом районе, где его численность могла бы оказаться преобладающей, тогда нам пришлось бы попытаться восстановить доверие противника уменьшением наших набегов против него. Наш идеал заключался в том, чтобы железные дороги работали с максимальными потерями и неприятностями для противника.
Арабская война была географической войной, а турецкая армия для нас — случайным объектом, а не целью. Наша цель состояла в том, чтобы нажимать на самое слабое звено турецкой армии. Мы должны возложить на турок возможно более длительную пассивную оборону, максимально растянув наш собственный фронт. Тактически нам было необходимо создать в высшей степени подвижную, высоко оснащенную армию наименьших размеров, и последовательно использовать эту армию в определенных пунктах турецкой линии обороны. Это должно было заставить турок выделить на занимаемые ими посты дополнительное количество бойцов сверх экономического минимума в 20 человек. Мощь нашей ударной части должна расцениваться не только ее численностью. Соотношение между численностью и районом определялось характером войны, и благодаря тому, что наша подвижность в пять раз превышала турецкую, мы могли добиться равенства с ними при соотношении 1/5. Наша победа заключалась в занятии нами стольких-то километров территории.
У нас не было ничего материального, что мы могли бы потерять, а следовательно, нам нечего было защищать и не во что стрелять. Драгоценным элементом наших сил были иррегулярные части бедуинов, а не регулярные части, чья роль заключалась бы только в занятии тех мест, к которым иррегулярные части уже обеспечили доступ. Нашими главными выигрышными картами были скорость и время, а не сила, и это давало нам скорее стратегический, чем тактический, перевес. Успеху нашей стратегии больше способствовала досягаемость, чем сила».
Выше словами самого Лоуренса мы изложили новую теорию иррегулярной войны в том виде, как она оформилась в его сознании. Именно в свете этого изложения мы и должны истолковывать инициативу Лоуренса, которая была им проявлена в последовавших затем событиях.
Глава VII. Распространение «заразы». Апрель — июнь 1917 г.
Как только Лоуренс достаточно оправился от болезни он начал обсуждать с Абдуллой план дальнейших действий. Вместо того, чтобы предложить арабам произвести нападение на гарнизон Медины, он посоветовал произвести ряд набегов на железную дорогу, обещая показать сам, как это нужно сделать. В данном случае он имел в виду осуществить такую операцию, которая, «причинив противнику беспокойство, не вызвала бы у него опасения за полное разрушение железной дороги». Однако он понял, что нет необходимости убеждать Абдуллу не предпринимать более серьезных действий.
Теория Абдуллы относительно ведения войны, по-видимому, сводилась к тому, что язык является более могущественным, чем меч. Хотя он и обнаруживал живость мысли, которая должна была радовать Лоуренса, но она никогда не претворялась в какое-либо положительное действие. Абдулла, несомненно, был полон планов. 20 марта в разговоре с Лоуренсом и капитаном из французской Африки Рахо он говорил о желательности наступления на Йемен в целях освобождения его от турецкого ига. Однако чувствовалось, что это было лишь одной из обычных для Абдуллы уловок с целью скрыть свое истинное намерение — спокойно сидеть в бездействии. Все же и он проявил определенную решимость, отвергнув французские требования о бомбардировке Медины. Он заявил, что принудит ее к сдаче голодом. С новой точки зрения Лоуренса, увертки Абдуллы были весьма успокаивающими, а кроме того, практическим подтверждением того, что новая теория вполне совпадала с реальностью.
Однако среди помощников Абдуллы имелся более энергичный воин, шериф Шакир — «подлинный кентавр на коне», который, несмотря на свое огромное богатство, любил простоту кочевой жизни. Шакира не пришлось долго уговаривать, чтобы произвести набег на железную дорогу. Хотя Лоуренс еще не был вполне здоров, тем не менее, 26 марта он отправился с небольшим отрядом на поиски подходящего объекта для нападения и остановил свой выбор на небольшой железнодорожной станции, на которой находилось около 400 турок. Однако когда прибыл Шакир, он привел с собой всего лишь 300 человек, которых было слишком мало для нападения на станцию. Тогда Лоуренс решил отвлечь внимание гарнизона орудийным обстрелом станции, самому же тем временем подорвать с юга и с севера железнодорожное полотно и таким образом поймать остановившийся там поезд в ловушку. Это давало возможность Лоуренсу заложить свою первую мину. Затем он вернулся обратно к своему отряду, чтобы дождаться утра. Бой начался обстрелом станции. Один из снарядов, попавший в поезд, заставил паровоз отцепиться и направиться прямо на мину Лоуренса. Однако последняя взорвалась слишком поздно, и паровозной бригаде удалось исправить нанесенные взрывом незначительные повреждения, так как выставленная для обстрела паровоза пулеметная команда неожиданно отошла. Тем временем люди Шакира, под прикрытием дыма горевших товарных вагонов, захватили в плен два прилегавших к станции поста противника. Пойти на захват станции они не решились, а забрав с собой 30 пленных и разрушив станцию, отступили, довольные достигнутым результатом.
Два дня спустя Лоуренс с отрядом арабов снова выступил из лагеря Абдуллы и заложил мину близ станции Мадакридж с целью захватить поезд, следовавший из Медины. На этот раз поезд прошел над миной, вовсе не вызвав взрыва, по-видимому, вследствие незначительного оседания земли, вызванного сильной бурей и предотвратившего контакт между рельсом и спусковым механизмом.
Лоуренс постарался использовать также и эту неудачу. Когда стемнело, он отправился перезаложить мину. Розыски в насыпи провода к спусковому приспособлению были делом рискованным, и он боялся, как бы вместо поезда не взлетел на воздух его собственный отряд. Наконец, после продолжавшихся в течение часа поисков, он нашел спусковое приспособление и установил его заново. Покончив с этим, Лоуренс взорвал небольшой мост и разобрал в ряде мест рельсы для приманки турецкого ремонтного поезда. Его расчеты полностью оправдались, так как последний вышел из Хедие и был взорван миной.
Достигнув некоторых результатов в своей стратегии «булавочных уколов», Лоуренс, которому надоели постоянные уловки Абдуллы, в начале апреля вернулся в лагерь Фейсала, чтобы начать проповедовать там свои новые идеи. С момента своего продвижения к передовым базам английские офицеры совместно с крупными силами арабов все усиливали свои набеги на железную дорогу. Их операции становились слишком серьезными, чтобы они пришлись по вкусу Лоуренсу, и имели перспективу сделаться более серьезными, поскольку было получено еще несколько пулеметов и даже бронемашины. Ньюкомб предполагал расположить все силы Фейсала таким образом, чтобы окончательно отрезать Медину. Лоуренс же, наоборот, считал в данное время более целесообразным ослабить операции против турок, чтобы «удерживать их в теперешнем глупом положении: везде фланги и никакого фронта».
Для проведения в жизнь своей теории Лоуренс стремился развить восстание на возможно большем пространстве, что означало его распространение к северу, а для этого требовалось создание дополнительной базы. Таким образом его цель совпадала с давно задуманным планом взятия Акабы, но с той существенной разницей, что вариант, предложенный Лоуренсом, предусматривал его взятие арабами с суши, а не англо-французскими силами с моря.
Для осуществления задуманной операции Лоуренс нашел в лице Ауда не только союзника, но и брата по крови, своего рода барона из эпохи крестовых походов. Вместе с Аудом он наметил план. В сопровождении шерифа Назира, заместителя Фейсала, они отправились на поиски племен Восточного Ховэйтата, чтобы сформировать из них отряды на верблюдах и повести их к югу для внезапного захвата Акабы с востока — ударом с тыла. Лоуренс был убежден, что самый длинный круговой путь окажется наиболее коротким, чтобы туда добраться. Мысленно он все время представлял себе стену гор, возвышавшихся за Акабой, которая так легко могла быть использована турками для предотвращения любого наступления с суши. Но он смотрел и дальше, так как поклялся сражаться за независимость арабов, а не за приобретение новых владений для Британской империи.
Выступивший в полдень 9 мая отряд под предводительством Назира включал в себя, кроме Лоуренса и Ауда, еще сирийского офицера и охрану, состоявшую из небольшой группы всадников на верблюдах. Каждый человек вез 45 фунтов муки в качестве пайка на шесть недель; шесть верблюдов были нагружены взрывчатыми веществами для подрывной работы по пути и золотом в сумме 25 000 фунтов стерлингов для поощрения вербовки людей.
Первый переход — до небольшого форта Себэйл на старой дороге паломников из Египта — был коротким. С наступлением темноты они выступили снова и легко прошли за ночь при относительной прохладе больше, чем в течение следующего дня после двухчасового отдыха до рассвета. Это было началом испытаний, ожидавших их в дальнейшем. Белый песок пустыни ослепительнейшим блеском отражал летние солнечные лучи, а расположенные по обеим сторонам пути голые скалы распространяли такой зной, что вызывали головную боль и головокружение. Отряд смог бы пройти эту выжженную солнцем зону быстрее, если бы не грузовые верблюды, которые целый день по дороге щипали траву. Ауда, беспокоившийся об их плохом состоянии, не позволял подгонять их. Часы тянулись бесконечно, но, наконец, наступило облегчение, когда к вечеру отряд достиг оазиса, где встретил Молада и других. Здесь они узнали, что Шарраф, которого они рассчитывали встретить на следующем привале, находился в набеге.
Известие об этом позволило людям отдохнуть несколько дней под тенью пальмовых деревьев. «Для жителей городов, — говорит Лоуренс, — этот сад навеял воспоминания о том времени, когда мир еще не был охвачен безумием войны, заставившей нас оказаться в пустыне; для Ауды же богатая растительность не представляла никакой привлекательности, и ему хотелось видеть более бесплодную местность. Поэтому мы сократили вторую ночь пребывания в раю и в 2 часа утра отправились вверх по долине». Суживавшаяся долина постепенно превратилась в обрывистую скалистую местность, на которую пришлось взбираться по тропе, протоптанной дикими козами, такой крутой и предательской, что верблюдов приходилось загонять наверх лишь с большим трудом, причем двух все же потеряли. У Лоуренса снова начался приступ лихорадки; поэтому он вздохнул с облегчением, когда, достигнув защищенного от солнца узкого прохода, увидели, наконец, лагерь Шаррафа.
За это время Лоуренс совершенно случайно приобрел двух преданных слуг. Лежа в полузабытьи, он вдруг был разбужен молодым арабом племени аджейн, по имени Дод, подошедшим к нему переговорить насчет своего лучшего друга, у которого произошла неприятность с одним из начальников Шаррафа, за что его друг был приговорен к телесному наказанию. Лоуренс сделал все возможное, чтобы помочь, но оказалось, что начальник, о котором говорил молодой араб, был человеком твердой воли и согласился лишь на то, чтобы позволить Доду разделить участь своего друга. Дод охотно пошел на это. На следующий день перед Лоуренсом появились две согнувшиеся от боли фигуры юношей, которые объявили себя в знак признательности его слугами. По совету Назира, Лоуренс взял их к себе.
Наконец, прибыл Шарраф с известием о своем новом удачном подрыве железной дороги и о наличии вблизи нее водохранилищ дождевой воды, что было очень важно, так как сокращало безводный переход на 90 км. На следующий день они покинули стоянку и, пройдя очень незначительное расстояние, неожиданно увидели на горизонте пять-шесть всадников на верблюдах, двигавшихся в направлении от железной дороги. Являлись ли всадники своими? Направившись вперед, Ауда и Лоуренс продвигались таким образом, чтобы быть в состоянии открыть огонь. К счастью, сомнения их вскоре рассеялись, так как во главе приближавшегося отряда Лоуренс увидел «белокурого англичанина, обросшего бородой, в оборванном форменном обмундировании». Это был Хорнби, возвращавшийся из одного из тех набегов, славу которых он делил с Ньюкомбом. После взаимных приветствий и краткого обмена новостями отряд Лоуренса продолжал свой путь. Километр за километром им пришлось идти но равнине, покрытой лавой, что было очень тяжело для верблюдов, имеющих, как известно, мягкие копыта. Еле продвигаясь под лучами палящего солнца, отряд все же боялся двигаться быстрее из опасения вызвать хромоту у верблюдов. Беспокойство усиливалось еще тем, что все верблюды были больны чесоткой, подхваченной ими на зараженной земле Ваджха. Если бы животные пали от усталости при дальнейшем переходе, отряд оказался бы обреченным в пустыне.
Наконец, на одиннадцатый день после выхода из Ваджха они добрались до железной дороги, проходившей примерно в 90 км к югу от Тебука. Несколько человек из отряда взобрались на песчаный холм, чтобы незаметно произвести разведку. К их облегчению, дорога выглядела спокойной и пустынной: не было никаких признаков турецких патрулей, о которых их предупреждали. Под руководством Лоуренса аджейны подложили под рельсы динамит, пироксилиновые шашки, и затем подожгли фитили. В заключение они перерезали три телеграфных провода, прикрепили их концы к полудюжине верблюдов и погнали их вперед. Верблюды поволокли за собой все возраставшую массу проволоки и сломанных столбов, пока, наконец, увеличившаяся тяжесть не заставила их становиться. Они освободили верблюдов и в сумерках поехали вдогонку за караваном.
Теперь отряд достиг обширной пустынной равнины, имевшей склон к востоку, которая была настолько лишена каких бы то ни было признаков жизни, что называлась по-арабски «необитаемая». На двенадцатый день задул такой горячий ветер, что кожа на лицах людей полопалась. Несмотря на все страдания, отряд неуклонно продвигался вперед, подгоняемый желанием добраться до воды и мыслью о той участи, которая его постигнет, если он не достигнет своей цели. К заходу солнца они добрались до «источника своего желания». Из опасения нападений со стороны противника отряд вынужден был отойти в укрытое место, находившееся на расстоянии километра от источника, выставив впереди себя охранение.
Четырнадцатидневный переход по бесконечной равнине привел отряд к следующему колодцу; на пятнадцатый день они увидели угол знаменитого пояса песчаных дюн, за которым начиналась Сирийская пустыня.
И они продолжали свой путь по однообразной песчаной равнине, залитой солнцем, или же по еще более трудным для перехода проталинам высохшей грязи, едва перенося мучительную боль в глазах и затылке.
Вечером Ауда проявил признаки беспокойства, опасаясь, как бы другой горячий противный ветер не задержал их в пустыне на третий день, а у отряда уже не оставалось воды. Поэтому они снова выступили в путь еще ранее обычного, а когда наступило утро, слезли с седел и вели своих верблюдов в поводу, чтобы хоть как-нибудь поддержать силы животных. Совершенно неожиданно Лоуренс заметил, что один из его людей, Газим, пропал. Навьюченного верблюда без всадника вел один из арабов Ауды. Однако, по-видимому, никто не беспокоился о том, что случилось с угрюмым арабом Газимом. Его спутником в дороге был сирийский крестьянин, который ничего не знал о пустыне и к тому же имел верблюда с разбитыми ногами.
Лоуренс почувствовал, что если он хочет, чтобы за ним установилась репутация вождя арабов, а не только примкнувшего иностранца, он должен взяться за дело спасения Газима сам. Он повернул верблюда и один поехал обратно в пустыню. Лоуренсу пришлось проехать назад около полутора часов, пока, наконец, через движущийся мираж он не увидел какой-то предмет, который мог оказаться либо человеком, либо кустарником. Свернув с дороги и подъехав ближе, он увидел, что это был Газим, представлявший собой жалкую, едва передвигавшуюся фигуру, Лоуренс пристроил его на верблюде, расшевелил последнего и повернул обратно.
Стоны Газима пугали верблюда и заставляли его идти быстрее, что вызвало опасения Лоуренса за участь верблюда; но поскольку Газим продолжал стонать, Лоуренс свирепо пригрозил его выкинуть; угроза подействовала.
После того, как они прошли несколько километров, темное пятно миража перед ними вдруг разделилось на три части и превратилось в Ауда и его двух спутников. «Я поднял их на смех и стал издеваться за то, что они оставили друга в пустыне. Ауда, пощипывая свою бороду, сердито заявил, что если бы он в это время был подле меня, он никогда не позволил бы мне поехать обратно в пустыню». Когда они присоединились к каравану и спутники их стали выказывать досаду относительно поступка Лоуренса, рисковавшего своей жизнью и жизнью Ауды «из-за капризов», то Ауда быстро ответил, что «он был очень рад показать городскому жителю разницу в отношении между племенем и городскими жителями, когда совместная ответственность и братство пустыни противопоставляются изолированной жизни и соперничеству, существующим в городах».
Оживленный обмен мнений, который последовал за этим инцидентом, несколько отвлек мысли от трудностей перехода. Через несколько часов они увидели песчаные холмы, изредка окаймленные тамариском. Это была их обетованная земля — Сирхан, где отряд мог почувствовать себя в сравнительной безопасности.
Тем не менее и эту ночь пришлось проспать без воды, так как отряд достиг колодцев Арфажа лишь к 8 часам утра. Здесь люди провели день отдыха в относительно хороших условиях, но все же им пришлось еще раз убедиться, что пустыня была не единственной опасностью и не единственной преградой на пути к осуществлению объединения арабов. Когда они сидели вокруг костра и попивали кофе, то неожиданно были осыпаны градом пуль. Один араб оказался смертельно раненым, и если бы не двоюродный брат Ауды, который моментально засыпал костер песком, последствия оказались бы серьезными. Под прикрытием темноты им удалось найти свои винтовки и отбить нападение.
Опыт, приобретенный этим длительным переходом по пустыне, заставил Лоуренса усвоить еще одну привычку арабов, а именно — пить до отказа, когда это было возможно, и довольствоваться лишь несколькими глотками воды на протяжении ряда дней во время перехода между колодцами. Ему удалось также ближе ознакомиться с образом мыслей сирийских арабов. Продвигаясь от одного оазиса к другому, Нэзиб и Зэки рисовали картины того, как они засадят растениями и возродят эту страну, когда установят власть арабов. «Подобное пылкое воображение являлось типичным у сирийцев, которые легко убеждали себя в возможностях достижения чего-либо, а наряду с этим быстро перекладывали лежавшую в данное время на них ответственность на других». Последнее замечание Лоуренса основывалось на том, что когда он указал одному из сирийцев, что его верблюд весь покрылся чесоткой, тот пустился фантазировать о «государственном ветеринарном управлении», организованном по последнему слову науки, которое будет открыто, когда Сирия будет освобождена.
На девятнадцатый день своего путешествия отряд наконец добрался до одного из лагерей Ховэйтата. Отпраздновав вечером свое прибытие, они на следующее утро собрали торжественный совет, чтобы наметить план дальнейших действий. В первую очередь было решено отправить эмиру Шаалану подарок из шести мешков золота по 1000 фунтов в каждом. Этим имелось в виду, с одной стороны, заставить его смотреть сквозь пальцы на набор войск, а с другой, — обязать помогать семьям и стадам ушедших воевать арабов. Вести переговоры поручили Ауде. Оставшиеся, включая Лоуренса, были объявлены гостями Ховэйтата, причем их угощали по два раза в день. Каждое утро торжественной процессией, сидя верхом на лошадях, которых вели под уздцы, гости подъезжали то к одной, то к другой палатке. Каждый раз подавалась неизменная пирамида баранины, окруженная стеной риса, в одном и том же огромном почетном баке. Посредине находились вареные бараньи головы, «уложенные таким образом, что уши, коричневые, как старые листья, висели над рисом». Затем вся пирамида поливалась кипящим салом из котлов, и гостей приглашали к еде. Сделав сначала вид, что не слышали приглашения, гости после повторных просьб начинали уговаривать друг друга пройти вперед и в конце концов, встав на колени вокруг бака, засучивали рукава и одновременно погружали руки в горячую массу. Побуждаемые просьбами стоявшего у бака хозяина, гости уничтожали баранину с быстротой, возраставшей по мере наступившего молчания, что являлось условным признаком одобрения угощения. Когда наедался досыта самый прожорливый из гостей, Назир, бывший главным гостем, подавал знак встать.
Несмотря на всю свою сдержанность, Лоуренс сплошь да рядом не мог удержаться от желания нарушить торжественность подобных минут, передавая «отвратительного вида куски внутренностей» вместо отборных кусков баранины, которые, как требовал обычай, гости изредка передавали друг другу. Сам он приноровился к этому каждодневному угощению лучше даже, чем сирийцы, которые от подобного гостеприимства получили расстройство желудка.
30 мая пребывание отряда в этом лагере благополучно закончилось, так как все племя в сопровождении своих гостей двинулось на новые пастбища. Представившийся случай принять участие в этом переселении бедуинов был очень интересен, и весь переход прошел бы вполне спокойно, если бы не змеи, наводнившие в то лето Сирхан.
Несколько дней спустя отряд встретил Ауду, возвращавшегося с охраной всадников Руаля, что являлось очевидным признаком успеха его миссии. Последние принесли присягу верности Назиру как представителю Фейсала.
Экспедиция постепенно продвигалась в северо-западном направлении от Сирхан. Достигнув Нэбка, решили начать свои приготовления к неожиданному нападению на Акаба, который находился в юго-западном направлении на расстоянии около 350 км.
Пока Назир и Ауда обсуждали план нападения на Акаба, Нэзиб придумал совершенно другой план — триумфального марша на Дамаск. По-видимому, только один Лоуренс осознавал всю опасность этого преждевременного шага, воображаемого покорения Сирии, которое в действительности окончилось бы тем, что они попали бы в лапы турок, так как отряд оказался бы отрезанным от Фейсала и от британских сил.
По мнению Лоуренса, Акаба был необходим для того, чтобы держать «дверь в Сирию открытой». Если бы они попытались пойти прямо к Дамаску, дверь закрылась бы за ними и открыть ее вновь было бы трудно. Но это было еще не все. До тех пор, пока Акаба находился в руках турок, последние могли всегда воспользоваться им для создания угрозы тылу британского наступления в Палестине. Лоуренс ни на минуту не забывал о необходимости оказать помощь британской армии, а также не упускал из виду и того факта, что если арабам удастся занять Акаба, то будут все основания рассчитывать на получение еще большей материальной поддержки от англичан. Ценность арабов как маневренного отряда правого фланга сил Муррея, несомненно, больше, чем отряда, выполняющего задачу простого отвлечения противника. В то же время арабы осуществили бы и тактический принцип Лоуренса — расширения вглубь.
Чтобы предупредить возможность принятия плана Нэзиба, Лоуренс, хорошо зная существующую среди арабских вождей подозрительность, прибег к хитрости, заявив Ауде, что Нэзиб хочет с помощью своего плана присвоить себе роль вождя, а Назиру, что человек с такой родословной, как он, не должен позволять над собой властвовать Нэзибу.
Тот факт, что Лоуренс — этот пророк объединения арабов — применял на практике изречение древних римлян «разделяй и властвуй», несомненно, звучит иронией.
Казалось, что теперь — сознательно или бессознательно — перед ним открылась возможность подобной гегемонии личности, и, пожалуй, этим можно объяснить тот удивительный эпизод, который за этим последовал, а именно — его поездку протяжением в 700 км по Сирии.
Поскольку легкомысленный план немедленного наступления на Дамаск вместо конкретного плана взятия Акаба был расстроен, Нэзиб принялся за выполнение более легкой задачи — подготовки почвы для будущего восстания в Сирии. Для развертывания пропагандистской кампании он направился в северном направлении.
Лоуренс также решил направиться на север, чтобы выяснить стратегические возможности тех мероприятий, которые он намеревался провести после взятия Акаба, а также ознакомиться с настроениями сирийских племен. Он был уверен, что ему удастся установить степень их преданности лучше, чем Нэзибу. Более того, появление среди них Нэзиба будет рассматриваться ими как признак последующего вмешательства Британии. Личное же вмешательство Лоуренса помогло бы успокоить их недоверие по отношению к конечным намерениям Англии, которые не особенно его радовали.
Свое путешествие по Сирии Лоуренс предпринял в состоянии безразличия, стараясь в опасностях забыть о том, как он клятвой подтверждал арабам добрые намерения Англии. Отвращение к двойственной игре своих соотечественников усиливалось раздражением, которое вызывало в нем слушание изо дня в день бесконечных рассуждений о планах Нэзиба. «Ну их всех к черту, — думал он, — они собираются заварить здоровую кашу, но я из нее вылезу и покажу им».
3 июня Лоуренс уехал из Нэбка и возвратился лишь 16-го. Даже в своих «Семи столпах мудрости» он ничего не говорит о том, что он в то время делал. Легенда сплела фантастический узор об этих днях отсутствия Лоуренса, и это, по-видимому, его забавляло. Причина заключалась, видимо, в том, что во время своей поездки он не вел никаких записей. Объяснялось это, во-первых, тем, что путешествие было далеким и совершалось быстро, а во-вторых, риском захвата документов турками. Однако по возвращении в Египет после взятия Акабы Лоуренс все же представил Клейтону доклад о своей поездке. Когда несколько недель спустя один из друзей Лоуренса попросил его показать этот доклад, он получил следующий ответ: «Я передал его Клейтону, у которого, когда он начал его читать, высоко поднялись брови (одна часть доклада носила юмористический характер, другая — непристойный, а в некоторых местах раскрывались ужасные секреты), и он впился в доклад. Я не думаю, чтобы кто-либо в «Савойе» читал когда-либо его весь. Это был документ, состоявший из трех страниц, в котором в сжатом виде был изложен отчет о двухмесячном переходе, довольно скучный для тех, кто не был знаком с политическими делами Сирии… Теперь это уже старая история».
Таковы несколько штрихов этой изумительной поездки. Никто из людей отряда с Лоуренсом не ездил; вместо них его последовательно сопровождали местные проводники и среди них один старый шейх, которого Лоуренс знал еще до войны. Он проехал Бурга, который находится в пустыне, и постепенно сворачивал на северо-запад. По пути он достиг железной дороги Алеппо — Дамаск. Здесь он взорвал небольшой мост, как об этом было сообщено в телеграмме противника, вовремя перехваченной Лоуренсом. Затем он свернул к югу, где ехал, воспользовавшись помощью, оказанной ему сирийскими революционерами. Лоуренс посетил многих из их вождей и обсудил с ними планы организации в нужный момент восстания, приняв, однако, все меры к тому, чтобы удержать их от преждевременного выступления.
В Дамаск Лоуренс не входил и не видел тех объявлений с его портретом, которые, как утверждали, были расклеены по городу с указанием цены за голову Лоуренса. На обратном пути он все же остановился в Зиза, чтобы повидать шейха. Когда Лоуренс спал, один из родственников шейха прокрался к нему в палатку и прошептал: «Они послали известить турок о том, что вы здесь». Лоуренс, конечно, не стал колебаться, выполз с задней стороны палатки, вскочил на лошадь и ускакал.
Наиболее же важным эпизодом всего путешествия была встреча с Шааланом, которого Лоуренс видел, возвращаясь в Нэбк. В то время Лоуренс не желал от Шаалана ничего большего, как благожелательного нейтралитета. Однако Шаалан находился в весьма нервозном состоянии, боясь, что присутствие Назира, собирающего себе в Сирхане войска, может скомпрометировать отношения его, Шаалана, с турками. К его великому удивлению, Лоуренс предложил ему «сообщить туркам, что они здесь»! Шаалан, конечно, не мог догадаться, что за этой неожиданной для него искренностью скрывалась стратегическая хитрость, рассчитанная на достижение двоякой цели: Лоуренс знал, что, облегчая создавшееся для Шаалана положение, он поможет арабам в достижении их цели; поставив же турок в известность о том, что экспедиция готова выступить, он заставлял их думать, что она представляет неминуемую угрозу для Дамаска, в то время как в действительности силы будут продвигаться к югу для захвата Акаба.
Глава VIII. Осуществленная стратегия. Июнь — июль 1917 г.
Когда Лоуренс вернулся обратно, он застал Ауду и Назира в ссоре. Однако ему удалось легко их помирить, и утром 19 июля экспедиция выступила в поход на Акаба, которому было суждено сделаться вторым переломным моментом в войне арабов. Численность экспедиционного отряда составляла всего лишь 500 человек. Первый переход надлежало сделать в западном направлении к Баиру — группе колодцев и развалин, имевших исторический интерес и находившихся на расстоянии примерно 70 км по прямой от Хиджазской железной дороги.
На второй день, когда приблизились к Баиру, Ауда попросил Лоуренса поехать с нам вперед. Оказалось, что в Баире был похоронен сын Ауды, и тот хотел побывать на его могиле. Пригласив с собой Лоуренса, он тем самым оказал ему уважение, как другу, с которым он собирался разделить свое горе. Первое, что они увидели, подъехав к Баиру, — это поднимавшийся из колодцев дым. Оказалось, что три колодца были разрушены динамитом. На их счастье самый небольшой колодец остался в целости, а исправив еще один, они предотвратили опасность остаться без воды. Однако это неожиданное открытие вызвало у них беспокойство, так как позволяло предполагать, что турки могли разрушить колодцы также и к востоку от Маана, куда они собирались сделать следующий переход. Это заставило их остановиться в Баире на неделю, произвести разведку в Эль-Джефире, а наряду с этим выяснить настроение местных племен, па поддержку которых они рассчитывали.
План, который они наметили, предусматривал внезапный переход железнодорожной линии к югу от Маана и захват Абу-Эль Лиссала — большого родника в верхней части прохода. Таким образом, взятие родника являлось как бы ключом к воротам, так как оно позволило бы им отрезать от Маана турецкие посты, расположенные по дороге к Акаба, которые вследствие голода были бы вынуждены сдаться.
Для выполнения задуманного удара требовалось прежде всего успокоить подозрения турок. Сделать это казалось весьма трудным не только потому, что пустыня была местом, где слухи распространялись очень быстро и где каждый враждебно настроенный араб являлся прекрасным осведомителем турок, но также и потому, что Акаба являлся слишком очевидным объектом для нападения. Лоуренс положился в данном случае на неоднократно оправдавшую себя недальновидность турок и решил сыграть на их бестолковой подозрительности путем искусственного отвлечения их внимания. Нужно сознаться, что проделал он это весьма ловко.
Еще до начала экспедиции Лоуренс неоднократно намекал о намечавшемся наступлении на Дамаск. Шаалан помог ему, сообщив об этом туркам, которых он хотел предостеречь. В достижения своей цели Лоуренс рассчитывал также на неосторожную и бессознательную помощь со стороны Нэзиба. Кроме того, случайно в руки турок попали секретные документы Ньюкомба, содержавшие схему намечавшегося наступления через Тадмор на Алеппо.
Чтобы заставить турок еще больше поверить в возможность наступления на Дамаск, Лоуренс с сотней арабов предпринял набег с северного направления на железнодорожную линию. Для того, чтобы вовремя вернуться обратно, требовалось совершить длительный и тяжелый переход, так как выбранное ими место находилось на расстоянии более 175 км от Баира. На второй день вечером они приблизились к мосту, но совершению неожиданно для себя нашли его хорошо охранявшимся. Тогда решили продвинуться еще севернее, надеясь найти другое, более подходящее место для укладки мины. Поскольку Лоуренс хотел создать у турок впечатление, что главные силы арабов находятся поблизости, он решил, что захватить поезд будет еще более эффективным, чем подорвать мост. Удалось найти многообещавший участок и занять выжидательную позицию на скалистом амфитеатре с противоположной стороны близлежащего холма,
Утром поднялась тревога, так как неожиданно появился отряд турок на мулах. Однако удалось, не обратив на себя внимания противника, выбраться из позиции, которая могла оказаться ловушкой, и перебраться на другой холм. Отсюда с наступлением темноты Лоуренс спустился к железнодорожной насыпи и заложил в дренажный сток под полотном большую автоматическую мину. Следующее утро было проведено в томительном ожидании поезда, которое днем было прервано появлением турецкого отряда. Хотя противник и был вдвое сильнее, все же арабы хотели его атаковать, рассчитывая на внезапность нападения и на большой собственный вес верблюдов по сравнению с мулами, как на дополнительное преимущество. Арабы заявляли, что в конном бою они всегда смогут одержать верх над турками, и считали, что их потери будут не больше пяти-шести человек. Однако Лоуренс отказался дать свое согласие на нападение, считая это слишком дорогой ценой за успех, который для их набега, преследовавшего лишь отвлечение внимания противника, по сути дела являлся излишним.
Но у Лоуренса имелись еще и другие мотивы: он не желал обременять себя пленными, а наряду с этим опасался, что добыча в виде 200 мулов могла оказаться настолько «жирным блюдом», что у арабов пропал бы аппетит к Акаба.
Но поезд так и не появился. Из-за отсутствия воды отряд больше ждать не мог. Тогда с наступлением темноты они спустились к железнодорожной линии, подорвали путь на поворотах, с целью затруднить его исправление в дальнейшем, и заложили мину, чтобы взорвать ремонтный поезд. После этого направились к югу, пересекая хорду Амманского поворота железной дороги, пока не приблизились к маленькой станции. Здесь вид турецкого солдата, гнавшего стадо овец, оказался для голодных арабов слишком большим соблазном, чтобы они могли устоять. Небольшой отряд подкрался к группе турецких офицеров и служащих, сидевших за кофе у станционной кассы. Выстрел, которым был убит наповал самый толстый из них, послужил сигналом для нападения и грабежа станции. Воспользовавшись паникой, арабы угнали овец в горы. Турки успешно защищались на одной половине станции, но арабы подожгли другую, разобрали рельсы, оборвали провода на большом протяжении линии и ушли, не потеряв ни одного человека. Затем, отойдя на несколько километров, они расположились на отдых, зарезали и зажарили овец, а утолив свой голод, ночью отправились в Баир.
Здесь их ожидали приятные вести. Назир получил запас муки на неделю, обеспечивавший им свободу маневрирования, и добился обещания поддержки со стороны кланов. Кроме того, прибыл посланный от Шаалана с известием о том, что в поиски за ними турки выслали кавалерийский отряд численностью в 400 человек, который проводники водили самыми длинными дорогами.
Было весьма важно воспользоваться создавшейся благоприятной обстановкой, а потому 28 июня экспедиционный отряд выступил. Прибыв в Эль-Джефир, обнаружили, что все колодцы были разрушены. Все же посчастливилось, исправив один из них, достать воды, а заодно насладиться сознанием, что удалось обмануть турок, которые, разрушив колодцы, чувствовали себя в безопасности. Было решено произвести нападение за два дня до выхода из Маана турецкого каравана с припасами, который каждую неделю доставлял продовольствие постам, расположенным на дороге в Акаба. Тем временем, как было договорено ранее, блокгауз, прикрывавший подход к Абу-Эль-Лиссал, был захвачен местными арабами.
1 июля, в тот момент, когда об этом было получено известие, экспедиция направилась к железной дороге. Достигнув последней, она взорвала на большом протяжении мосты, чтобы заставить гарнизон Маана направиться к югу, а не к юго-западу, в Абу-Эль-Лиссал. Однако их надеждам не суждено было сбыться, так как пришло неприятное сообщение о том, что появилась турецкая колонна, оттеснившая арабов от блокгауза.
В действительности появление турок у блокгауза оказалось чисто случайным. Только что прибывший в Маан для смены батальон турок уже выстраивался во дворе станции, чтобы направиться в казармы, как вдруг пришло известие о нападения на блокгауз. Захватив с собой горное орудие, батальон тотчас же выступил на помощь, еще до того, как могло поступить сообщение о разрушении железной дороги. Найдя блокгауз превращенным в развалины, командир батальона расположился лагерем.
Подобная неудача послужила для Лоуренса хорошим уроком, доказав, что на войне случайности могут разрушить самый лучший план, если только он не имеет вариантов. Найти же вариант в создавшейся обстановке было трудно. В тот самый момент, когда было получено указанное ранее неприятное известие, люди Назира взвалили свой багаж на верблюдов и моментально выступили. Проехав всю ночь, они к рассвету достигли холмов близ Абу-Эль-Лиссал. Становилось ясно, что теперь уже не могла помочь никакая стратегия выжидания, в связи с чем был быстро разработан план боя.
Продвигаясь вдоль лежавших полукругом холмов, арабы растягивались до тех пор, пока не окружили еще спавший лагерь, перерезали телеграфные и телефонные провода на Маан. Затем снайперским огнем они стали подбивать турок, рассчитывая заставить их пойти в атаку на холмы. Поскольку арабы все время находились в движении, появляясь и исчезая то в одном, то в другом месте, турки фактически не имели цели для огня, и их горная пушка лишь зря расстреливала снаряды. Зной был настолько силен, что бой, требуя в подобных условиях огромного напряжения сил, в конце концов сделался пыткой.
Решительные действия были предприняты под влиянием оскорбления. Лоуренс, истомленный зноем, не видя перед собой выхода из создавшейся обстановки, подполз к яме, где находилось немного воды, чтобы хоть смочить себе губы. К нему присоединился Назир, а немного спустя появился Ауда. Презрительно улыбаясь при виде их слабости и напомнив Лоуренсу о тех критических замечаниях, которые тот раньше делал, Ауда спросил, какого он теперь мнения об арабах племени ховэйтат. Однако вместо похвал Лоуренс презрительно ответил: «Стреляют они действительно много, но попадают мало».
Ауда сорвал с себя головное покрывало, бросил его на землю и стремительно побежал вверх по холму, как одержимый, созывая своих людей, которые сначала собрались вокруг него, а затем бросились вниз врассыпную. Лоуренс, встревоженный последствиями своего замечания, поспешил за Аудой, которого он нашел одного на вершине холма. Единственное, что Ауда сумел сказать, было: «Берите вашего верблюда, если хотите увидеть, как я могу сражаться».
К тому моменту, когда Назир и Лоуренс достигли нижнего яруса, где находились верблюды, Ауда с пятьюдесятью всадниками уже исчез. Лоуренс поехал вперед к краю и увидел арабов несущимися по склону горы в долину полным галопом и обстреливающими на ходу турецкую пехоту, которая только что построилась, чтобы отправиться обратно в Маан. Кавалерия врезалась в тыл; при виде ее турки заколебались, а затем внезапно разбежались.
Назир прокричал Лоуренсу: «Вперед!» Четыре сотни всадников на верблюдах понеслись со склона горы. Поскольку все внимание турок было сосредоточено на Ауда, новая атака на них также оказалась полнейшей неожиданностью. Лоуренс с Назиром врезались во фланг, и эта атака верховых верблюдов, несшихся с большой скоростью, была неотразима.
Поскольку сам Лоуренс ехал на скаковом верблюде, он обогнал всех и был один, когда врезался в ряды турок. Верблюд внезапно упал, и он вылетел из седла, как ракета, причем пролетел довольно большое расстояние, прежде чем упал на землю. К счастью, однако, тело верблюда послужило ему прикрытием, разделяя массу нападающих на два потока, так как в противном случае атаковавшие пронеслись бы по нему и затоптали его ногами животных.
Когда Лоуренс пришел в себя, бой прекратился. Он продолжался всего лишь несколько минут и, как большинство успешных кавалерийских атак, в действительности оказался резней, удавшейся благодаря внезапности и быстроте. Было убито 300 турок, прежде чем арабы удовлетворили свое чувство мести, а сверх того 160 человек, большей частью раненых, были захвачены в плен. У арабов было только двое убитых. Ауда был опьянен успехом: он доказал Лоуренсу, чего могло добиться его племя ховэйтат. Его одежды и кобура его револьвера, ножны и полевой бинокль были пронизаны пулями, но сам Ауда даже не был поцарапан — чудо, которое он приписывал восьмипенсовой репродукции Корана, изданной в Глазго, за которую несколько лет перед тем он по глупости заплатил 120 фунтов стерлингов.
Из показаний пленных удалось узнать, что в данное время в Маане имеется только две роты. Поэтому было весьма соблазнительно повернуть в сторону и сразу же захватить Маан, так как подобный случай опять не повторится, поскольку турки, вероятно, вскоре пришлют подкрепления. Арабы племени ховэйтат настаивали на необходимости воспользоваться этой возможностью; к этой идее склонялся и сам Ауда.
Лоуренс не хотел отвлекаться о сторону от своей стратегической цели, соблазняясь тактическим успехом. Ему было совершенно ясно, что для успешного продолжения его стратегического плана была необходима база, и он мог получить ее, лишь захватив Акаба. Если бы арабы теперь отправились в Маан, они вскоре оказались бы выброшенными оттуда, а затем отрезанными от припасов или поддержки.
В то время, как стратегические размышления Лоуренса удержали арабов от поворота обратно к Маану, тактический инстинкт Ауды, связанный с его суеверным страхом пребывания среди мертвецов, явился причиной того, что арабы вновь выступили в поход в ту же ночь. В то время, когда отряд находился в ложбине, были продиктованы письма к шейхам прибрежных племен, извещавшие о победе и предлагавшие им вступить в бой с турецкими гарнизонами, пока не подойдет отряд. В следующей серии писем, предназначавшихся командирам трех турецких постов, лежавших на дороге к Акаба, говорилось следующее: «Если у нас кровь не будет разгорячена, мы будем брать пленных; в случае немедленной сдачи мы гарантируем им хорошее обращение и безопасную доставку в Египет». Таким образом Лоуренс подготавливал неприятелю возможность сдачи.
Сразу же по пятам за посланцами шла армия. Она была похожа на турецкую армию, так как арабы, следуя обычаю первобытных победителей, надевали обмундирование, снятое ими со своих мертвых врагов. Пройдя 8 км через плато, увидели расстилавшуюся внизу перед ними равнину Гунейра. По мере того, как колонна спускалась вниз по спиральному спуску, стала понятна вся безнадежность любого наступления с моря даже в том случае, если бы каким-либо чудом дорога от Акаба к Гувейра была открыта.
Усталость и наличие пленных затрудняли переход. Когда сделали привал на ночь недалеко от Гувейра, то оказалось, что прошли только около 225 км. Здесь отряд был встречен местным шейхом, который сообщил, что гарнизон Гувейра численностью в 120 человек сдался. Это устранило одно из наиболее серьезных препятствий на пути.
На следующий день, 4 июля, они приблизились к Кесира. Здесь, к своему великому разочарованию, они узнали, что начальник этого поста, расположенного на вершине командовавшего долиной утеса, решил оказать сопротивление. Они предложили своему новому союзнику шейху доказать свою преданность и с наступлением темноты атаковать пост. Поскольку эта перспектива не улыбалась шейху, он заявил, что полнолуние испортит все дело. Лоуренс, у которого в дневнике было отмечено, что в этот день должно быть затмение, не принял его объяснения, пообещав, что сегодня вечером некоторое время луны не будет. Затмение наступило, и в то время, как суеверные турецкие солдаты стреляли из ружей и били в медные горшки, «чтобы спасти находившуюся в опасности луну», арабы взобрались по скале и внезапной атакой захватили пост, причем взяли в плен 70 человек пехоты и 50 кавалеристов.
На следующий день арабские части спустились в ущелье, настолько узкое, что в некоторых местах ширина его достигала нескольких ярдов. Имелось много мест, где «одна рота с двумя или тремя пулеметами могла бы задержать целый армейский корпус». Чтобы предотвратить приближавшуюся угрозу, гарнизон Акаба численностью в 300 человек поспешно отошел в глубь страны с целью укрепить оборону. Однако все окопы были обращены фронтом к морю и, таким образом, совершенно не защищены от неожиданного наступления с тыла. Местные же племена, жаждавшие своей доли грабежа, уже восстали и окружали турок.
Туркам дважды посылалось предложение о сдаче, но ответом являлся лишь град пуль. Многие бедуины настаивали на том, чтобы пойти на приступ. Расчеты Лоуренса принудить турок к сдаче города были в значительной степени поколеблены недостатком продовольствия у своей собственной армии. Однако третья попытка была также сделана с помощью морального воздействия. На этот раз гарнизон обещал сдаться через два дня, если не подоспеет помощь из Маана. Турецкому офицеру на это было указано, что арабы не могут выжидать так долго и что затяжка приведет к резне. Турки уступили, обещая сдаться к рассвету.
Ночью в большом количестве появились новые племена, собравшиеся, как мухи на мед, и, не зная о существовавшей договоренности, 6-го с рассветом открыли по туркам огонь. Тогда вмешался Назир, появление которого заставило обе стороны приостановить военные действия. Как только стрельба прекратилась, турки сразу сдались.
Прошло два месяца с того момента, как экспедиция покинула берег моря у Ваджха. С тех пор она прошла по огромной кривой через пустыни Аравии, причем самый длинный круговой путь оказался самым легким.
Взятие Акаба было похоже на внезапный прорыв туч, нависших над египетским фронтом весной и летом 1917 г. С точки зрения морального эффекта оно являлось единственным реальным достижением, которое можно было противопоставить двойной неудаче британских сил у Газы. Со стратегической точки зрения этот успех устранял какую бы то ни было опасность турецкого наступления через Синай против Суэцкого канала или против сообщений британской армии в Палестине. Он открывал также новый фронт военных действий, на котором арабы могли оказывать существенную поддержку возобновившемуся наступлению англичан.
Тактически падение Акаба означало для противника потерю свыше 1200 человек пленными и убитыми, арабы же потеряли убитыми только двух человек. С точки зрения экономии сил операция, проведенная у Акаба, была замечательной: все было достигнуто использованием менее чем 50 человек из арабских сил в Хиджазе. Как практическая экономия британских сил она была еще более удивительной, так как была выполнена путем откомандирования всего лишь одного нежелательного офицера из английских частей в Египте.
Еще большим был конечный эффект взятия Акаба, так как это событие обеспечивало дальнейшее распространение на турецких флангах «арабской язвы», подтачивавшей силы турок и игравшей на их нервах.
За девять дней до взятия Акаба, 27 июня, в Египет прибыл новый командующий, сэр Эдмунд Алленби.
Глава IX. Новые перспективы. Июль 1917 г.
Лоуренс не видел Акаба более трех лет. Теперь он прибыл туда при совершенно иных обстоятельствах, которые придавали знакомым ему местам особый интерес. Залив Акаба может быть изображен в виде опрокинутой буквы «П». В правом углу имелся небольшой городок, превращенный неоднократной бомбардировкой с моря в жалкие развалины. В левом углу находилась группа красных скал, обращавших на себя внимание с моря. Несколько вниз по левому краю был расположен маленький островок, в давние времена охранявшийся крестоносцами. Сам залив был удлинен узкой полосой земли, проходившей между высокими скалами по направлению к Мертвому морю. Дальше от нее на правой стороне, в нескольких километрах за Акаба, расходилось ущелье Итм, которое вело к Маану.
После первого прилива ликования перед Лоуренсом вырисовалась необходимость решить продовольственную проблему. Предстояло накормить 500 человек его отряда, 700 пленных и несколько тысяч новых союзников, а между тем не имелось никаких припасов, за исключением зеленых фиников, которые могли дать пальмы, и мяса, которое можно было получить от верблюдов. Доказав свои таланты полководца, Лоуренс должен был теперь проявить таланты начальника снабжения. Случилось это потому, что благодаря своему неожиданному отъезду он не произвел той предварительной тщательной подготовки к совместным действиям с морскими силами, как при наступлении на Ваджх. Правда, Бойль обещал ему, что корабль будет заходить в залив Акаба возможно чаще, однако проблема была осложнена неопределенностью времени, а также турецкими минами, поставленными у морских подходов к Акаба. В результате, когда Лоуренс достиг Акаба, он узнал, что примерно за час до его приезда показалось британское судно, которое затем ушло. Это, конечно, означало, что он вряд ли может надеяться на ближайший заход корабля ранее чем через неделю.
Таким образом, перед ним возникли две проблемы или, вернее, две стороны одной проблемы: как закрепить за собой захваченный город и как его удержать с пустым желудком.
Решение первой задачи соответствовало новой теории Лоуренса о ведении войны. Защита всех возможных подступов к Акаба была обеспечена не рядом зависимых друг от друга постов, а четырьмя независимыми постами, расположенными в пунктах, по характеру местности неприступных. При этом посты эти были расположены с таким расчетом, чтобы каждый из них угрожал неприятельскому тылу, если бы противник попытался воспользоваться другими подступами. Таким образом, ни один пост не мог быть взят легко и ни один пост не мог быть оставлен противником без внимания. Это казалось хорошим методом для того, чтобы парализовать инициативу наступающего.
При разрешении второй и более неотложной части проблемы Лоуренс решил отправиться через пустыню Синай в Суэц и добиться присылки оттуда судна с продовольствием. Предприятие это было весьма рискованным. Требовалось проехать около 240 км по пустыне, а между тем по дороге имелся всего лишь один колодец. Если бы «сдал» хоть один из спутников, то он был бы обречен на гибель. Верблюды же и люди в момент выезда были очень усталыми. Сам Лоуренс за прошлый месяц делал в среднем по 90 км в день.
Выбрав восемь лучших наездников и верблюдов, Лоуренс вечером в день прибытия в Акаба отправился с ними в путь. Продвигаясь вдоль побережья бухты, они обсуждали, как ехать: медленно ли, рискуя свалиться от голода, или же быстро, рискуя «сдать» от истощения. В конце концов решили ехать шагом, но ехать почти непрерывно. По сути дела это означало перенесение всей тяжести путешествия с верблюда на всадника.
Вскоре наступило первое испытание, так как пришлось совершить крутой подъем на Синайскую возвышенность. Когда достигли вершины, люди и верблюды дрожали от усталости, а один верблюд, оказавшийся совершенно непригодным, был отправлен обратно, пока еще не было поздно.
Примерно в полночь достигли колодца. Дальше до самого Суэца воды в пути не было. В полдень уже ехали среди песчаных дюн, а в 3 часа усталые, но удовлетворенные въезжали в Шатт — пост, расположенный на канале против Суэца.
Пост оказался покинутым. Не было никого, кто мог бы сказать, что войска вследствие разразившейся эпидемии чумы перешли в лагерь, расположенный в пустыне. Найдя телефон в пустых комнатах поста, Лоуренс позвонил в Суэц. Оттуда сообщили, что ему следует обратиться в отдел водного транспорта за получением пропуска на переезд через канал. Позвонив туда, он получил ответ, что сейчас нет свободной шлюпки, но таковая будет прислана утром и доставит его в карантинный пункт. После этого в отделе водного транспорта повесили трубку.
«Я решил, что не проведу больше ни одной лишней ночи со вшами. Я хотел принять ванну и жаждал выпить чего-нибудь со льдом, переменить одежду, которая прилипала к моим грязным ранам, натертым седлом, поесть чего-нибудь более удобоваримого, нежели незрелые финики и верблюжьи жилы. Я снова соединился с отделом водного транспорта и пустил в ход все свое красноречие. Поскольку это не произвело никакого эффекта, мой разговор сделался более оживленным. Тогда еще раз повесили трубку. Я уже стал выходить из себя, как вдруг услышал с центральной станции чей-то голос с хорошо знакомым мне северным акцентом: «Сэр, говорить с этими… бесцельно».
В результате, по инициативе дежурного телефониста Лоуренс был соединен с майором Литтльтоном из управления перевозок. Последний тотчас же пообещал прислать за ним свой катер, попросив, однако, Лоуренса не рассказывать о том, что он нарушил существующие правила. Через полчаса пришел катер и доставил Лоуренса на другую сторону Суэцкого канала, где, преодолев проявлявшуюся к нему подозрительность обслуживающего персонала в отеле «Синай», он выпил шесть бокалов прохладительных напитков, принял горячую ванну, хорошо пообедал и лег спать.
На следующий день с билетом и пропуском в кармане он сел в поезд, отправлявшийся в Каир. По пути ему снова пришлось встретиться с казенным отношением, но на сей раз он достаточно отдохнул, чтобы позволить себе поиздеваться. Военный контроль в дороге с большой подозрительностью поглядывал на этого англичанина в белых шелковых одеяниях с голыми ногами. Вместо того, чтобы показать свой пропуск, он кратко заявил: «Я шериф Мекки — из штаба». — «Какой армии, сэр?» — «Мекка». — «Никогда не слышал о ней и не знаю ее формы». Тогда Лоуренс добавил: «Разве вы не узнаете черногорского драгуна?»
Поскольку войскам союзников было разрешено ездить по железной дороге без пропусков, военному контролю пришлось послать телеграмму по линии с вызовом специального человека из контрразведки. Когда тот, обливаясь потом, явился в поезд, Лоуренс предъявил ему свой пропуск. Конечно, неудачный поимщик шпиона так и не оценил всей шутки.
Как раз в это время поезд подходил к Исмаилии. Здесь на платформе Лоуренс увидел адмирала Вэмисса, разговаривавшего с каким-то неизвестным генералом. Лоуренс воспользовался этим. чтобы переговорить с начальником штаба Вэмисса — капитаном Барместером. В первое мгновенье Барместер не узнал Лоуренса — настолько тот загорел и настолько длительное утомление изменило его наружность, но как только он понял, что перед ним стоит Лоуренс, всевозможные формальные преграды, на которые тот натыкался в Суэце, тотчас же исчезли. Обрадованный неожиданным для него известием о взятии Акаба, Барместер немедленно приказал приступить к погрузке продовольствия, какое только можно было достать в Суэце, и направить его в Акаба.
От Барместера Лоуренс узнал, что неизвестный генерал, беседовавший на платформе с Вэмиссом, и есть Алленби, присланный для замены Муррея после вторичной неудачи британских войск, что для Лоуренса также оказалось новостью. Он подумал: «Неужели и этот полный, багровый человек окажется таким же, как и все генералы, и опять придется затратить не меньше полгода на его обучение?»
Лоуренсу не пришлось долго ждать случая ознакомиться со взглядами Алленби. По прибытии в Каир он сделал доклад Клейтону и договорился с ним о том, что в самое же ближайшее время в Акаба будет послано 16 000 фунтов золотом для выкупа Назиром тех «векселей», которые выпустил Лоуренс. Это были долговые расписки, написанные карандашом на военных телеграфных бланках, в которых давалось обязательство уплатить в Акаба предъявителю сего «столько-то». Это была замечательная система, однако поскольку до этого никто не осмеливался выпускать векселя в Аравии и для того, чтобы в дальнейшем преодолеть имевшиеся у арабов в этом отношении предубеждения, являлось весьма важным произвести выкуп их как можно скорее. Прежде чем Лоуренс получил заказанное им новое обмундирование, он был вызван к Алленби.
«В своем докладе Алленби я подчеркнул стратегическое значение восточных племен Сирии и необходимость их соответствующего использования как угрозы сообщению Иерусалима с другими пунктами. Это вполне совпадало с его честолюбивыми намерениями, и он захотел определить мою ценность».
В течение почти трех лет пребывания во Франции Алленби был объектом суровой критики. Его всем известное прозвище «бык» хорошо подходило и к действиям Алленби против неприятеля, и его отношению к подчиненным. Как кавалериста до мозга костей, позиционная война удручала его до последней степени и заставляла несколько раз предпринимать атаки, которые не оправдывались ни обстановкой, ни знанием действительного положения вещей. В других случаях, когда он проявлял намерения воспользоваться возможностями внезапного нападения на противника, артиллеристы расстраивали его планы, показывая необходимость проведения предварительной артиллерийской подготовки, и он, не будучи в состоянии противопоставить что-либо их техническим доводам, сдавался. Его утомляла также подчиненность Хэнгу, человеку такой же решимости, как и он сам, но с более ортодоксальным методом мышления, которого Алленби превзошел как начальник колонны в Южной Африке, но который опередил его в продвижении по службе. Существовавшие между ними натянутые отношения основывались не только на различии в характерах. Алленби по своей натуре был человеком, который мог с большим успехом проводить в жизнь свои собственные планы, чем планы кого-либо другого. В этом отношении у него было большое сходство с Лоуренсом. Во всем остальном они были совершенно различны.
Назначение Алленби в Египет было поворотным моментом в его карьере, как это оказалось поворотным моментом и для Лоуренса.
Но даже и при этом Лоуренс предполагал, что «едва ли Алленби с трудом выносил тяжесть войны на Западном фронте; на этом же новом театре военных действий, более открытом и менее оснащенном техникой, он нашел поле для применения своих способностей. Его не нужно было долго убеждать в необходимости немедленных действий.
«Алленби был подготовлен встретить в моем лице маленького босоногого человека, закутанного в шелковое одеяние и предлагающего затруднить движение противника своими теориями, если ему будут даны продовольствие, оружие и деньги в сумме 200 000 фунтов. Чувствовалось, что Алленби никак не мог понять, сколько во мне было действительно надежного человека и сколько шарлатана. Я так и оставил его решать эту загадку без всякой помощи».
В беседе с Алленби Лоуренс проявил все свое красноречие, изложив ему свои мысли о Восточной Сирии, населявших ее народностях и о той политике, которой следует придерживаться. Под конец Алленби кратко заявил: «Хорошо, я сделаю для вас все, что могу». В дальнейшем Лоуренс постепенно убедился в том, «что генерал Алленби может сделать для своего самого алчного помощника». 200 000 фунтов стерлингов в дальнейшем были увеличены до 500 000 фунтов стерлингов.
Обещание Алленби оказывать поддержку вдохновило Лоуренса разработать новый план и представить его Клейтону.
Беседа с Алленби показывает ту перемену, которая произошла в Лоуренсе за семимесячный период перехода, проделанного им между Янбу и Акаба. Перед тем, как отправиться в Янбу, он, будучи назначен к арабам в качестве советника, пытался избежать ответственности. Теперь он сам искал ее, и притом в гораздо большей степени, так как являлся руководителем. Теперь ему было не все равно, в чьих руках будут находиться бразды правления.
Желанием Лоуренса было — стать «некоронованным королем». Он не добивался права командовать, а хотел лишь того, чтобы на арабском театре войны были приняты его политика и стратегия, чтобы его новый «северный» план был официально принят.
Лоуренс обладал удивительной способностью схватывать детали; в этом отношении его доклады по линии разведки представляют собою редкое сочетание широкого взгляда и мельчайших подробностей. Я поражался также его сверхметодической организацией какого-либо пустякового дела. Наконец, проявить в решающий момент необходимую изобретательность мог только он один. Он сам говорил: «Если бы мне пришлось встретиться с пятьюдесятью задержками, я смог бы найти пятьдесят первый выход из положения для достижения поставленной мною цели. Но для того, чтобы быть главою всего, я должен был избавить себя от заботы о грузах риса или муки, доставляемых транспортами».
Что касается самой программы действий, то теперь вместо освобождения Хиджаза, фактически уже осуществленного, предусматривалось освобождение Сирии. Главное различие между этими странами заключалось в том, что первая была почти пустыней, а вторая — страной, в основной своей части обрабатываемой. Новая проблема требовала нового подхода. Лоуренс понимал, что арабские племена на севере можно было освободить только с помощью британской армии, наступление которой в северном направлении являлось совершенно необходимым для того, чтобы опрокинуть турецкое государство, которое арабы могли подорвать. Помощь британской армии была необходима арабам так же, как помощь арабов была необходима англичанам. Однако связь между ними не должна была быть слишком близкой; наоборот, если англичане и арабы станут действовать не совместно, а как бы порознь друг от друга, это будет лучше как из стратегических, так и политических соображений. Такова была идея Лоуренса, и со стороны Алленби она встретила полную поддержку. «Мы договорились, что нас будут разделять Мертвое море и Иордан до того момента, пока он не даст мне знать, что направляется в Амман, а я не уведомлю его, что произвожу набор арабов в Синае». С точки зрения стратегии это означало приспособление не к кочевым, а к постоянным условиям существования. Теоретически казалось более легким возбудить стремление к единству у того народа, который привязан к своим полям. Практически же это единство могло распасться на части вследствие деления народа на племена, кланы и т. д.
Сирия представляла собой как бы разноцветное одеяло, сшитое из различных кусков оттоманским правительством одной ниткой, являвшейся общим языком — арабским.
Мальчишеская мечта Лоуренса о единой Аравии разлетелась в прах при соприкосновении с арабской действительностью, в особенности с сирийцами. Однако в мечтах он видел возможность вдохновить их на восстание против турок. Объединение было бы временным, но оно оказалось бы достаточным, чтобы расшатать устои Турецкой империи и обеспечить победу. Для того, чтобы вызвать взрыв, Лоуренс должен был зажечь их воображение. Объединение должно было захватить своей новизной. Но чтобы у арабов не возникало никаких подозрений, это объединение не должно было быть осуществлено европейцами, так как в противном случае оно тревожило бы воображение объединяемых. Объединение должен был провести Фейсал, являвшийся олицетворением прежней славы династии.
В стратегическом отношении новая кампания должна была иметь целью Хаурам. Чтобы добраться до него, потребовалось бы мобилизовать новый ряд племен, подобно тому, как это делалось на переходе из Ваджха в Акаба. Пришлось бы опять идти обходными путями по пустыне, и нужно было достигнуть отстоявшего на 325 км оазиса, который, представлял собой выдвинутую вперед базу для операций против Хаурама.
С точки зрения стратегии, проведение новой кампании явилось бы повторением старого, но, благодаря уже приобретенному опыту, было бы более совершенным. Лоуренс вспомнил изречение: «Тот, кому принадлежит господство на море, пользуется большой свободой и может по своему усмотрению принимать в войне большее или меньшее участие». Война, которую вел Лоуренс, была скорее войной елизаветинских времен, чем современной войной Фоша, и господство над пустыней принадлежало арабам. Не без основания верблюд был назван «кораблем пустыни». Операции в пустыне должны быть похожи на морские войны своей подвижностью, повсеместностью, независимостью от баз и коммуникаций, отсутствием особенностей сухопутных войн — стратегических районов, определенных направлений, определенных пунктов.
Группы всадников на верблюдах, имеющих при себе, как и корабли, все необходимое, могут безопасно крейсировать вдоль любой части сухопутного фронта противника. Находясь вне видимости его постов, они могут совершать набеги на линии противника в тех местах, где это оказывается легче всего осуществимым и наиболее выгодным, всегда имея за собой возможность отступить туда, куда турки войти не могут. Свобода передвижения арабов была подкреплена исключительным знанием пустыни Сирии. Перед войной Лоуренс сам прошел большую часть ее пешком.
Тактика, которую Лоуренс собирался применить, всегда должна была соответствовать правилу «опрокинуть и бежать», «наносить не толчки, а удары». Арабы никогда не должны удерживать или развивать превосходство. «Они должны отступать и вновь наносить удар где-нибудь в другом месте».
Необходимые для этой «дальней войны» быстрота и радиус действия достигались выносливостью арабов и их умением управлять этим «сложным животным» — верблюдом, который, так же, как танк, показывает в умелых руках удивительные результаты, в неумелых же легко «сдает». Арабы были свободны от затруднений, связанных с тщательно разработанной системой снабжения, которая так же сковывала стратегическую способность передвижения современных армий, как пулемет сковал их тактическую подвижность. Каждый человек снабжал себя сам, имея в седле запас продовольствия на шесть недель — полмешка муки весом в 45 фунтов, из которой он сам выпекал себе лепёшки. «Это определяло нашу возможность совершать большие переходы, давало нам жилье и… было больше того, что нам когда-либо требовалось даже в такой огромной стране, как Аравия». Да и сами верблюды на худой конец могли оказаться пайком, правда, настолько жестким, что справедливо назывались «железным пайком». Сами же верблюды жили тем кормом, который им встречался по дороге. В результате, после шести недель езды они становились тощими и нуждались в отправке их на продолжительный срок на пастбище, что фактически означало необходимость замены верблюдов или одного племени арабов другим.
Новая стратегия была хорошо приноровлена к условиям жизни племен. «Соединять или смешивать одни племена с другими было невозможно, так как они либо не нравились, либо не доверяли друг другу. Точно так же мы не могли воспользоваться людьми одного племени на территории другого». Для сосредоточения сил это обстоятельство являлось бы серьезнейшим препятствием, но оно вполне соответствовало принципу широчайшего рассредоточения сил, позволяя арабскому командованию осуществлять в одно и то же время наибольшее число набегов. «Используя в понедельник один район, во вторник — другой, а в среду — третий, мы достигали гибкости и маневренности».
Глава Х. Борьба за базу. Август — сентябрь 1917 г.
Первое определенное предложение Лоуренса в отношении новой кампании заключалось в том, чтобы оставить Ваджх и перевести все силы Фейсала в Акаба. Когда военное руководство в Каире стало проявлять колебание в отношении принятия этого смелого предложения, Лоуренс усилил свою настойчивость, требуя удаления с территории Янбу — Медины всех складов и денежных средств, которые использовались для поддержки операций Али и Абдуллы. Когда Фейсал был далеко на фланге Хиджазской железной дороги, а войска Алленби находились перед Газой, угрожая вступлением в Палестину, турки, по-видимому, не усиливали своего гарнизона в Медине. Важно было предотвратить возможность ослабления ими гарнизона, а также попытки оттянуть свои силы к северу. Ослабление нажима на юге могло бы помочь в этом отношении, не вызывая серьезной опасности для арабов в Хиджазе.
Акаба находился на расстоянии всего лишь 225 км от позиции британских войск, в то время как от Мекки отстоял на расстоянии 1225 км. Поэтому Лоуренс предложил, чтобы отряд Фейсала был переведен из сферы руководства Хуссейна и превратился бы в автономную армию под начальством Фейсала, подчиненную верховному командованию Алленби. Оправдывалось это также и тем, что их будущие линии военных действий шли в одном направлении.
Прежде чем это предложение могло быть принято, пришлось преодолеть три весьма серьезных препятствия: в лице Фейсала, Уингейта и Хуссейна. Лоуренс был в состоянии дать заверение, что Фейсал согласится с намеченным предложением, поскольку он разговаривал с ним по этому вопросу в Ваджхе несколько месяцев тому назад. Согласится ли Уингейт передать другому попечение о своем, в настоящее время выросшем младенце, поскольку им было затрачено столько усилий, чтобы его вскормить? Клейтон поддерживал его; Лоуренс установил, что последний склонен принять участие в более обширной операции и передать армию Фейсала в распоряжение Алленби. Таким образом, из возможных препятствий оставался только Хуссейн. Лоуренс предложил отправиться к нему и уговорить его.
Британский корабль «Дафферин» только что вернулся из Акаба, и ему было приказано доставить Лоуренса в Джидду. По дороге «Дафферин» зашел в Ваджх; здесь Лоуренс сошел с корабля и вылетел на самолете в Джидду, совершив перелет в несколько сот километров на передовую базу, к которой передвинулась армия Фейсала в начале июля с целью предпринять более эффективные действия против железной дороги. Перелет по воздуху являлся весьма приятным контрастом по сравнению с последним путешествием Лоуренса в этом районе. В Джидде его ожидала радость встречи со своими старыми товарищами, которые теперь сами достигли успехов в проведении набегов на железную дорогу. Они услышали от Лоуренса об отдельных эпизодах его приключений на севере, а он от них узнал о том, что произошло за истекшие три месяца,
Неприятным моментом оказалась измена племени билли делу шерифа. В начале мая их шейх присоединился к туркам с 400 арабами. Правда, шейх племени билли отказался от приглашения турок атаковать Фейсала, но он все же заставил своего брата покинуть армию Фейсала, приведя с собой своих людей и захватив оружие, которым они были снабжены. Другим успехом противника был переход к туркам эмира Хайла. В апреле, конвоируя большой транспорт припасов для турок в Медине, он попал в ловушку и был обойден Зеидом. Зеид захватил в плен 3000 сильно нагруженных верблюдов, такое же число овец, 4 горных орудия и 250 пленных, главным образом турок. Это было одним из самых важных событий войны в Хиджазе, и успех значительно перевешивал тот факт, что сам эмир примерно с тысячью своих сторонников присоединился затем к туркам.
В налетах на железную дорогу, которые затрудняли ее нормальное функционирование, горсточка английских офицеров продолжала играть выдающуюся роль. Арабы фактически рассматривали их как неистощимых союзников и жаловались, что «Ньюкомб — как огонь: он сжигает и друга и недруга». Лоуренс, который по стратегическим соображениям желал, чтобы Ньюкомб не уделял слишком большого внимания набегам на железную дорогу, заметил, что он сделал в четыре раза больше того, что сделал бы любой другой англичанин, и в десять раз больше того, что считалось необходимым арабами! Их пассивное сопротивление сыграло свою роль для предотвращения первоначального намерения англичан совершенно разрушить железную дорогу. Со своей стороны, и турки предприняли остроумное мероприятие для того, чтобы противодействовать усилившимся набегам со стороны англичан, а именно — начали заполнять и разрушать колодцы, находившиеся близ главных станций. В середине мая Ньюкомб произвел несколько разрушений железной дороги и ускользнул до того, как турецкие отряды, высланные со станций, могли с ним сблизиться. В своих донесениях он сообщал, что для исправлений поврежденных путей применяются старые рельсы. Это определенно указывало на то, что турки получили удар по их слабому месту — материальной стороне. В июле Ньюкомб произвел чрезвычайно успешно большой набег на участок, находившийся в 245 км к северу от Медины, в то время как арабы захватили соседнюю станцию. Джойс выполнил ряд набегов далее к югу около Товейра со смешанными частями египетских, французских, алжирских и арабских войск, разрушив много рельсов и несколько крупных дренажных труб.
Под давлением Вильсона и Абдуллы Фейсал передвинулся без особого энтузиазма. Его мысли все время были прикованы к Акаба и Сирии. Поэтому он с большим удовольствием приветствовал те распоряжения, которые привез Лоуренс. Он сразу же принял новый план, приказал своим всадникам на верблюдах выступить к Акаба и провел ряд приготовлений для того, чтобы арабские регулярные части, численность которых доходила теперь до 1800 человек, были как можно быстрее отправлены туда со всеми складами из Ваджха. Он также дал Лоуренсу письмо для Хуссейна.
На рассвете Лоуренс вылетел обратно в Ваджх и пересел на «Дафферин», чтобы отправиться в Джидду, где получил обещание Вильсона оказывать ему всяческую моральную и материальную поддержку. Вскоре прибыл из Мекки Хуссейн и под влиянием Вильсона согласился на перевод частей Фейсала.
Однако сам Лоуренс был встревожен, когда прибывшая из Каира телеграмма сообщила, что арабы племени ховэйтат находились в переписке с турками у Маана. За ней последовала вторая телеграмма, в которой высказывалось предположение о том, что Ауда участвовал в заговоре. Поскольку последний фактически держал ключи к Акаба, угроза была очевидной. Лоуренс сел на «Хардиндж» и тотчас же отправился в Акаба, куда и прибыл в полдень 5 августа.
Высадившись, Лоуренс не сказал Назиру о полученном им сообщении, а лишь попросил быстрого верблюда и проводника. Он сказал Назиру, что Хуссейн предоставил ему месячный отпуск для посещения Мекки. Давнишним желанием Назира было хоть на время избавиться от Лоуренса, поэтому это сообщение настолько его обрадовало, что он продал Лоуренсу лучшего из своих верблюдов. Отправившись ночью в поход, Лоуренс к утру достиг Гувейра и застал Ауду в палатке, беседовавшим с другими вождями. Увидев его, они проявили некоторые признаки смущения. Однако он весело их приветствовал и болтал о пустяках, пока не представился случай поговорить с Ауда и его двоюродным братом наедине.
Когда он коснулся вопроса об их переписке с турками, они рассказали ему придуманную историю о той хитрости, с помощью которой они якобы решили провести турок. История была слишком надуманной, чтобы быть убедительной. Лоуренс сделал вид, что он хочет принять участие в этой шутке, но дал почувствовать, что за ней крылось нечто более серьезное. Ауда и его брат со своей стороны высказали неудовольствие, что еще не прибыли ни пушки, ни войска для их поддержки и что им не было дано никакого вознаграждения за взятие Акаба. «Им очень хотелось узнать, каким образом мне стало известно об их тайных делах, и много ли я еще знаю. Игра была на скользком пути». Но на этом же пути был и Лоуренс. Он играл на их опасениях, беззаботно цитируя слова из телеграммы, как будто это были его собственные слова, и приводя фактические фразы из тех писем, которыми они обменялись с турками. Затем он как бы невзначай упомянул о том, что прибывает вся армия Фейсала и что Алленби высылает боевые запасы и деньги. В заключение он спросил, не желает ли Ауда получить какой-либо аванс от Фейсала. Ауда чувствовал, что подобный момент упускать нельзя; он понимал, что прибытие Фейсала для него окажется весьма выгодным и что турки всегда пойдут ему навстречу, если другие ресурсы окажутся ненадежными. Придя в очень хорошее настроение, он согласился взять от Лоуренса аванс, для того чтобы содержать арабов племени ховэйтат хорошо накормленными и поддерживать в них бодрое настроение духа.
Лоуренсу стало легче, и с наступлением темноты он отправился обратно в Акаба. Проехав всю ночь, он по прибытии в Акаба снова повидался с Назиром, а на рассвете сел в оставленную кем-то на берегу лодку и добрался к «Хардинджу». Поскольку он выехал из Акаба всего лишь 36 часов назад, его возвращения ожидали не раньше, чем через неделю. Когда он сошел вниз в каюту, чтоб уснуть, судно снялось с якоря и полным ходом направилось в Суэц. Оттуда Лоуренс сообщил по телефону в Каир утешительную весть о том, что предположения об измене Ауда не подтвердились.
«В действительности, это, конечно, не вполне соответствовало истине, но, поскольку Египет поддерживал нас, урезая себя, мы должны были преуменьшить правду».
Арабы, несомненно, стали смотреть на британскую казну как на неиссякаемый золотой душ, действовавший от нажатия рукоятки, и чем сильнее они нажимали, тем больше текло золото. Подобное представление распространилось среди всех арабов, начиная с высших слоев и кончая низшими, благодаря чему они не только ожидали получения денежных подарков, но даже не собирались платить и за товары, которые покупались на деньги. Они постоянно выпрашивали у английских офицеров подарки, не смущаясь ничем. Однажды, например, услышав, что один из старших офицеров миссии должен был поехать в Египет, Назир попросил его привезти ему пару сапог, дав ему совершенно ясно понять, что он ожидает их получить без всякой оплаты. Офицер, весьма удивленный, ответил ему, что «среди людей нашего положения это так не делается», добавив, что он, конечно, привезет сапоги, если Назир за них ему уплатит. На это последний, не скрывая своей досады с огорчением заметил: «Лоуренс привозит мне все, что я его прошу». Вполне естественно, что случаи, подобные этому, дали повод некоторым предполагать, что подобное задабривание арабов и являлось причиной авторитета Лоуренса. Несомненно, что Лоуренс, который совершенно не берег своих собственных денег, в интересах ускорения дела был расточителен и с казенными средствами, так как для военных целей эта расточительность заключала в себе гораздо большую мудрость, чем любая попытка придерживаться финансовых положений или английских условностей. Кроме того, с военной точки зрения подобная расточительность имела гораздо большую ценность, чем ее вес в золоте. И все же лично Лоуренс потратил до конца войны менее 500 000 фунтов, тогда как общая сумма расходов Англии на поддержку восстания арабов достигала 4 000 000 фунтов стерлингов в золоте.
Тактично сделанный Ауде «денежный подарок» в размере 1000 фунтов стерлингов помог удержать передовые укрепления Акаба во время наступления турок в те критические недели, когда происходила переброска сил Фейсала к Акаба. 7 августа Джойс погрузил на корабль в Ваджх 400 человек из регулярных частей арабов и пулеметное отделение французов; 1000 человек отправились 10 дней спустя, и наконец, 23-го прибыл сам Фейсал и с ним еще 400 арабов и отряд египтян. Были посланы также бронечасти. Обеспечить наличие самолетов в то время не представилось возможности, так как их пришлось вернуть обратно в Египет из-за жары, вызвавшей не только чрезмерное изнурение людей, но и износ машин. В то время, как прибывали эти силы, «Эурайлас» — флагманское судно Вэмисса — отечески охраняло Акаба, причем моральный эффект его четырех труб распространялся в глубь страны на значительно большее расстояние, чем то, на которое могли стрелять его пушки. Кроме того, команда «Эурайласа» построила пристань, весьма пригодившуюся в дальнейшем, когда прибыл заведующий снабжением офицер, который в свое время привел в порядок Ваджх.
Эти мероприятия по обеспечению безопасности являлись очень своевременными, так как турки на этот раз действовали с нежелательной поспешностью. К началу сентября они перебросили к Маану 6000 человек и 16 орудий — все с севера. В течение месяца эти силы еще более возросли, так как с палестинского фронта был переброшен один кавалерийский полк и там осталось всего лишь два полка. Отряд в 2000 человек был переброшен для укрепления Абу-Эль-Лиссала.
«Мало что удалось бы сделать, чтобы остановить противника, если бы он предпринял решительное наступление; однако он был настолько изнурен, что ни разу не смог произвести в этом отношении какую-либо попытку». Таков приговор официальной английской истории палестинской кампании. В этом параличе, вызванном постоянными уколами, тактическая теория Лоуренса получила новое подтверждение. Использовались три средства: отвлечение с фланга, нападение с воздуха и разрушение железнодорожной линии. Поскольку турки, очевидно, намеревались повести непосредственное наступление на Акаба, Лоуренс задумал осуществить косвенную угрозу их западному флангу с целью отвлечь их внимание и провоцировал атаку на Вади-Муса, что в 100 км к северу от Акаба.
Для приманки противника арабы начали беспокоить турок, которые были вынуждены произвести контрудар, но отступили, оставив добычу в руках арабов. Лоуренс не пренебрег этим случаем, чтобы подействовать на крестьян Вади-Муса. Для оказания им моральной поддержки к ним был послан Молад со своими всадниками на мулах. Его появление развязало наклонности местных племен к угону животных и к грабежу оружия у турок.
В отношении помощи авиации имелась договоренность с командующим воздушными силами на Центральном Востоке. По его распоряжению вылетел отряд самолетов капитана Стэйнта. В Восточном Синае, в 70 км к северо-западу от Акаба, была выбрана посадочная площадка. На подготовку ее и доставку необходимых для полетов припасов Лоуренс затратил два дня. 28 августа отряд, низко летя, появился над Мааном и сбросил 32 бомбы. Было замечено восемь попаданий в гараж и два в казармы, вызвавшие большие потери в личном составе. Остатки дня отряд был занят исправлением машин, пострадавших от разрывов турецкой шрапнели. На следующий день рано утром три самолета вылетели по направлению к Абу-Эль-Лиссал, где произвели бомбардировку лагеря, рассеяв турок и их лошадей. Самолеты летели так низко, что оказались простреленными пулями, однако ни один из них не был сбит. На «прощание» Стэйнт и его летчики в полуденную жару, когда турки были погружены в спячку, сбросили ряд бомб на обычно обстреливавшую их батарею. После этого сам Лоуренс взялся за руководство операциями против железной дороги. Он решил произвести опыт непосредственного подрыва мины с помощью электричества в тот момент, когда паровоз поезда будет проходить под определенным местом. Он имел в виду также захватить остановившийся поезд. Для этого, в дополнение к арабам племен ховэйтат, он получил двух сержантов-инструкторов из армейской школы, один из которых, англичанин, обучил взвод арабов обращению с мортирами Стокса, а другой, австралиец, обучил другой взвод арабов обращению с пулеметом Льюиса. Впоследствии один взвод стал называться взводом Стокса, а другой — Льюиса. Хотя в обязанности инструкторов и не входило участвовать в набегах, тем не менее оба они добровольно участвовали в операции. Лоуренс был в восторге от этой помощи.
В качестве своего первого объекта Лоуренс выбрал станцию Мудаввара. Он считал, что если ему удастся разрушить ее колодец — единственный источник воды в этом секторе, — то движение поездов на участке будет экономически невыгодным. 9 сентября отряд достиг Гувейра, где ему пришлось встретиться с двумя неприятностями: во-первых, вылетавший каждое утро из Маана турецкий самолет регулярно сбрасывал на них бомбы, а во-вторых, и это было более серьезным, между Аудой и другими кланами племени ховэйтат происходили непрекращавшиеся ссоры из-за денег, достигшие теперь угрожающих размеров. Некоторые из кланов собирались уйти совсем, и это могло сорвать задуманную Лоуренсом операцию. Ауда упорствовал и не уступал даже под влиянием красноречия Лоуренса.
В ожидании событий Лоуренс выступил со своим отрядом в долину Рамм — переход, который навсегда остался у него в памяти. Долина превратилась в проспект шириной в 3 км, находившийся между огромными стенами скал, придававших этой дороге сходство с собором в византийском стиле, без купола. По прибытии к источникам Лоуренс был встречен вождями недовольных кланов. Оказавшись не в состоянии уладить их распри и достать необходимых грузовых верблюдов, он уехал с одним сопровождающим обратно в Акаба, пробравшись через горы по не известному ему до той поры кратчайшему пути, т. е. по третьей стороне треугольника. В Акаба он объяснил создавшееся положение Фейсалу и получил в качестве посредника для переговоров шерифа Абдуллу-Эль-Фэир и 20 грузовых верблюдов для перевозки запаса взрывчатых веществ. По возвращении к источникам шерифу удалось достигнуть некоторого успеха в переговорах и завербовать для Лоуренса 100 человек из племени ховэйтат, но это число составляло лишь треть требуемого.
Отряд выступил в дальнейший путь 16 сентября, причем различные части его гневно поглядывали друг на друга. Никто из них, за исключением людей самого Заала, не хотел ему повиноваться, так как они считали его прислужником Ауды, и, таким образом, Лоуренсу пришлось взять на себя непосредственное руководство людьми, казавшимися ему зловещей и весьма ненадежной бандой. На следующий день они достигли колодца, находившегося в долине в нескольких километрах от станции Мудаввара, и нашли воду испорченной, так как в ней находились разложившиеся трупы верблюдов.
Когда стемнело, Лоуренс и Заал с сержантами отправились к станции на разведку. Последняя выглядела настолько прочно выложенной из камня, что, казалось, снаряды мортиры Стокса не смогут ее разрушить; численность же гарнизона оказалась увеличенной почти вдвое. Поэтому Лоуренс решил оставить свой проект взятия станции штурмом и направить все усилия на подрыв поезда. На следующее утро отряд перешел в другое место, где железнодорожный путь делал поворот, а вершины холмов могли быть использованы для засады, обеспечивая хорошую площадь обстрела.
Вскоре Лоуренс нашел подходящий дренажный сток, разрушение которого наверняка заставило бы поезд сойти с рельсов даже в том случае, если бы паровоз не удалось взорвать. Здесь между концами двух стальных поперечин он выкопал яму, в которую заложил 50 фунтов динамита, установил запалы и уничтожил следы своей работы. На это потребовалось около двух часов. Затем он раскатал провода, идущие к детонатору, закапывая их в песке по мере продвижения к отстоявшему примерно в двухстах ярдах холму, откуда он намеревался взорвать мину. Прошло еще часа три, прежде чем все было окончательно готово. Тем временем на высоком выступе горы, над железнодорожной линией, было выбрано подходящее место для установки мортир Стокса и пулеметов, гарантировавших безопасность отступления. Оставив одного человека в дозоре, они удалились в скрытый ими в прилегающей долине лагерь.
Теперь задача сводилась к тому, чтобы удержать бедуинов до появления поезда в укрытии. Но бедуинам надоело сидеть в напряженном выжидании, и они вопреки всем приказаниям двигались с места на место. На следующий день, часов в девять утра, со стороны находившейся южнее станции Халлат-Аммар появился турецкий патруль численностью около сорока человек. Для предотвращения возникшей угрозы навстречу туркам была послана группа арабов, которой было поручено, симулируя отступление в холмы, заставить патруль отойти в сторону. Маневр удался. Другой тревожный момент был около полудня, когда один из небольших регулярных патрулей совершал обход линии. К великому облегчению Лоуренса, турки прошли под заложенной миной и тем местом, где он укрылся, ничего не заметив. Однако немного позднее он увидел в свой сильный бинокль отряд пеших турок примерно в 100 человек, появившийся со стороны станции и двигавшийся к югу. Поскольку казалось, что единственным выходом из положения является бегство, отряд стал спешно собираться.
В это время часовой неожиданно сообщил, что виден дым. Лоуренс и Заал бросились на холм и увидели приближавшийся поезд. С дикой суматохой арабы заняли свои места, растянувшись вдоль насыпи, чтобы иметь возможность произвести обстрел вагонов с близкого расстояния. По мере приближения поезда, который тащили два паровоза, с него был открыт беспорядочный огонь. Оказалось, что за паровозами шло десять вагонов, переполненных войсковыми частями.
В тот момент, когда второй паровоз проходил над миной, Лоуренс подал сигнал. Мина взорвалась, подбросив столб пыли и дыма, в котором были видны летящие куски железа и даже целое колесо. Затем наступила мертвая тишина. Лоуренс бросился бежать к арабам, в то время как град пуль осыпал поезд, из которого выскакивали оставшиеся в живых турки, искавшие укрытия на противоположной стороне. Однако здесь они попали под огонь мортир, а дальше во время бега их скашивали пулеметы. Арабы бросились грабить разрушенный поезд.
Жажда грабежа заставила отделившийся для отвлечения турок отряд поспешить обратно, забыв свою главную цель. Лоуренс понял, что скоро он может оказаться зажатым между поездом и подходившим с юга новым отрядом турок. Но отвлечь арабов от их добычи, прежде чем они насытятся грабежом, было делом безнадежным. Арабы совершенно обезумели от своей страсти грабежа и, побуждаемые жадностью, дрались друг с другом из-за добычи. Они разбивали вагоны и вытаскивали из них содержимое на насыпь, где в диком беспорядке были разбросаны ковры, одеяла, одежда, часы, продовольственные припасы и оружие. Тем временем группа плачущих женщин бросилась к Лоуренсу, умоляя его защитить их, но они были сейчас же отстранены еще более напуганными мужьями. Лоуренс успокоил их, но когда он отвернулся, произошел спор, во время которого арабы в припадке бешенства большую часть из них убили.
Помимо 70 человек убитых, 90 человек было захвачено в плен. У арабов был убит только один человек, но вскоре они «пропали» все, разбежавшись со своей добычей. Таким образом у разрушенного поезда остались покинутыми три англичанина. К счастью, когда они уже собирались оставить пулеметы, прибыл Заал с одним из арабов; приведя с собой верблюдов, они помогли погрузить на них мортиры и пулеметы. Поскольку боеприпасы пришлось оставить, их сложили в кучу и подожгли, и под прикрытием взрывов, задерживавших приближение турок, ускользнули.
Однако когда они добрались до главных сил, то оказалось, что человек, который взрывал мину, исчез. Лоуренс вызвал добровольцев пойти обратно на его розыски. После минутного размышления согласился Заал и с ним 12 арабов племени новасера. Лоуренс поехал с ними обратно, но обнаружил у разрушенного поезда множество турок, которые, завидев их, начали погоню. Преследование становилось все более и более опасным, как вдруг неожиданно появился инструктор со своим пулеметом, который один вернулся к ним на помощь. Турки были остановлены. Добыча, захваченная с собой, превратила отряд из подвижной военной силы в «останавливающийся нагруженный товарами караван». К тому же, прежде чем достигнуть долины Рамм, им пришлось запастись водой из колодца в неприятной близости к туркам. Все же к долине Рамм им удалось добраться без столкновений.
«Два дня спустя мы оказались в Акаба; покрытые славой, с ценной добычей и хвастаясь тем, что поезда были в нашей власти».
Вскоре Лоуренс отправился в новый набег, взяв с собой на этот раз учеников для подготовки к искусству разрушения, а именно — французского офицера капитана Пизани и 150 арабов. Из предосторожности он выступил с большим караваном фиктивно нагруженных верблюдов. «Для разнообразия» Лоуренс решил произвести операцию на севере около Маана. Найдя подходящее место на железной дороге — насыпь с вделанными в нее мостами, — Лоуренс заложил автоматическую мину нового образца и устроил засаду. Прождал весь день и следующую ночь, а когда, наконец, появился поезд, то он безболезненно прошел над миной, которая не взорвалась.
Тогда Лоуренс спустился к линии и заложил под зарядом лиддита электрический запал. Патрули ходили взад и вперед, не подозревая о присутствии мины. На второе утро вдали показался патруль, а за ним на некотором расстоянии поезд. Лоуренс прикинул, что поезд может прибыть раньше патруля, опередив его на несколько сот метров. Так и оказалось. В тот момент, когда паровоз был над аркой моста, Лоуренс дал сигнал. Опять поднялся к небу столб пыли и дыма, а пулеметы стали осыпать остатки поезда. На буферах одного из товарных вагонов, находившихся в «хвосте» поезда, появился турок, который, отцепив последние четыре вагона из двенадцати, заставил их покатиться по уклону в обратном направлении. Турецкий офицер выстрелил из окна в Лоуренса и слегка задел ему бедро. Тем временем арабы под командой Пизани атаковали остальную часть поезда, в которой они захватили 70 тонн продовольственных грузов. Было убито около 20 турок и еще большее число захвачено в плен.
У нападавших потерь не было, хотя они второй раз чуть не лишились своего вождя, так как, охваченные желанием унести свою добычу, они оставили Лоуренса одного сматывать электрические провода; когда же двое из арабов вернулись, чтобы его разыскать, то с двух сторон приближались партии турок, причем ближайшая из них находилась на расстоянии всего лишь полкилометра. Однако Лоуренсу удалось ускользнуть как раз вовремя.
После того, как отряд благополучно возвратился в Акаба, Лоуренс написал доклад, содержавший следующее интересное донесение: «Особенность племени ховэйтат заключается в том, что каждый четвертый или пятый человек является шейхом. В результате главный шейх вообще не имеет никакого авторитета, и мне, как и в предыдущем набеге, пришлось командовать всей экспедицией. Последнее не должно быть делом иностранцев, поскольку мы не знаем семей арабов настолько близко, чтобы быть в состоянии справедливо поделить между ними общую добычу. Однако в этом набеге бедуины вели себя исключительно хорошо, и все делалось в точности так, как я этого хотел. Но все же в течение одной поездки мне приходилось выносить судебное решение по двенадцати случаям нападений с оружием в руках, четырем делам о кражах верблюдов, одному брачному делу, четырнадцати ссорам, двум последствиям от «дурного глаза» и одному случаю колдовства. Подобные дела отнимали все свободное время».
В течение следующих четырех месяцев было уничтожено 17 паровозов и большое количество товарных вагонов. «Фактически движение было дезорганизовано, так как мы расклеили объявления в Дамаске, предостерегавшие «наших друзей» от поездок по северным дорогам, потому что вскоре собирались перенести свои операции туда. Вследствие этого туркам вскоре придется охранять железнодорожный путь уже до Алеппо». Поскольку подвижной состав для Палестины и Хиджаза приходилось черпать из одного общего источника, успех стратегии «разрушения паровозов» не только лишал турок возможности осуществить эвакуацию Медины, но и сокращал ту жизненную артерию, от которой зависела турецкая армия, и притом в момент, когда ей требовалась максимальная сила для противодействия угрозе со стороны британских войск.
Глава XI. Нажим на Палестину. Октябрь — декабрь 1917 г.
Между турецкими оборонительными линиями, начинавшимися с моря у Газы и тянувшимися на восток, и отдельными укреплениями Беэр-Шева, прикрывавшими фланг главной позиции, имелся промежуток. Британская армия после тяжелого перехода через пустыню Синай дважды безуспешно пыталась форсировать сильно защищенные ворота Газы. Менее укрепленный искусственными сооружениями Беэр-Шева фактически, в силу природных условий, был защищен трудностями переброски войск и доставки воды; в оценке обстановки, сделанной Филиппом Чэтвудом и начальником его штаба еще до прибытия Алленби, указывалось, что атака Газы означает атаку наиболее укреплений позиции противника. Успех мог быть достигнут только артиллерийским огнем и оказался бы только местным успехом, так как турки имели возможность отойти на вторую линию обороны. Эта линия, являвшаяся «нервным центров и осью» и фактически недоступная для штурма, могла быть подвергнута нападению с юго-востока. Для обеспечения развертывания наступающих сил и получения воды было бы необходимо до развития наступления на фланг главной позиции противника захватить Беэр-Шева.
Этот план не был достаточно оценен теми генералами, которые отдавали предпочтение позиционной войне и придерживались той догмы, что победа над противником на его самом сильном участке приводит к поражению всего фронта. Несмотря на то, что подобная попытка дважды оканчивалась неудачей, вера генералов в эту догму осталась непоколебленной, так как они приписывали неудачу скорее плохому руководству, чем неправильному принципу.
Хотя сам Алленби по прибытии в Египет все еще находился под впечатлением массовых методов войны, применявшихся на Западном фронте, все же он, обладая инстинктом кавалериста, был больше расположен к маневренным действиям и без больших колебаний решил принять за основу операции план, схематически набросанный в докладе Чэтвуда.
Для возможности сосредоточить необходимую массу на слабом участке противника необходимо было ввести неприятеля в заблуждение. Для этого первым условием являлась конспирация. Все приготовления велись в секрете, причем основные силы удерживались на фланге у Газы до самой последней минуты. В сокрытии приготовлений главную роль сыграли военно-воздушные силы, только что усиленные и перевооруженные новыми, более быстроходными самолетами. Все же разведке противника удалось получить кое-какие сведения.
Поэтому для введения противника в заблуждение потребовалась активная операция. План подобной операции был разработан британским офицером разведки и представлен на рассмотрение штаба. Этим планом предусматривалась, что главной атаке на Газу должна предшествовать ложная атака на Беэр-Шева. К плану были приложены соответствующие приказы. Чтобы придать намеченной демонстрации большую правдоподобность, разведка сочинила несколько писем, якобы полученных из Англии, а также частное письмо от воображаемого друга из штаба, в котором подвергался сильнейшей критике ложный план наступления и находилось 20 фунтов стерлингов банкнотами. Все это было уложено в вещевой мешок и запачкано свежей кровью. Затем 10 октября один из разведчиков выехал за линию фронта как бы на разведку, открыл огонь по дозору турецких кавалеристов и вынудил его к преследованию. Притворившись раненым, он откинулся с седла и как бы случайно выронил свой вещевой мешок, полевой бинокль и ряд других предметов. Через несколько дней в приказ по корпусу было включено объявление о том, что утеряна записная книжка. В этот приказ было завернуто несколько бутербродов и тоже подброшено за линию фронта. Турецкий унтер-офицер, нашедший сумку, был награжден, а его корпусный командир опубликовал приказ, предостерегавший своих офицеров от ношения документов во время нахождения в разведке. Однако с точки зрения англичан более важным было то, что турки после этого сосредоточили все свои усилия на укреплении позиций у Газы, пренебрегая позициями другого фланга. Кресс-фон-Крессенштейн также держал единственную резервную дивизию позади турецкого фланга у Газы, несмотря на указание своего далеко находившегося начальства — Фалькенгайна — о том, что ее следует расположить у самого Беэр-Шева или позади него. Даже тогда, когда 31 октября в действительности началось наступление на Беэр-Шева, Кресс отказал в присылке подкреплений. Произведенная противником неправильная расстановка сил была обязана главным образом хитрости разведки, но известная доля успеха должна быть приписана также и Муррею, которому последовательными неудачами британских войск у Газы, по-видимому, удалось убедить турок в безграничной глупости англичан.
Необходимость отвлечения противника чувствовалась более, чем когда-либо. С момента прибытия Алленби британская армия была усилена не только новыми войсковыми частями, но и тяжелой артиллерией, что являлось результатом как его собственных требований, так и энергичного нажима Ллойд-Джорджа в Англии. Армия в Палестине была увеличена до 7 пехотных и 3 кавалерийских дивизий и имела общую численность 75 000 штыков и 17 000 сабель. Но силы турок тоже возросли и состояли из 8 слабых дивизий и 2 кавалерийских полков общей численностью в 30 000 штыков и 1400 сабель.
Зловещим облаком на горизонте казалась «ударная» армейская группа, сформированная под руководством Фалькенгайна для создания перевеса на Среднем Востоке. Она состояла из семи турецких дивизий, комплектовавшихся в Алеппо, и «стального ядра» в виде нового германского «азиатского корпуса», сформированного главным образом из артиллерийских, пулеметных и других технических родов войск. Эта группа, первоначально намеченная турками для обратного взятия Багдада, по настоянию Фалькенгайна должна была быть использована для наступления на палестинском фронте. Последнее было едва предупреждено наступлением британских войск.
Рассматривая средства отвлечения противника, Алленби вспомнил о своих союзниках — арабах. Тотчас же была послана телеграмма Лоуренсу, которую последний получил по возвращении из набега в Маан. Самолет доставил его через пустыню в штаб главнокомандующего, где он сделал доклад о существовавшей в районе Маана обстановке и пояснил ценность частичного нажима на артерию Хиджаза вместо полного ее удушения. Это, по его мнению, должно было заставить турок держаться за Медину и одновременно лишить их возможности осуществления какой-либо серьезной операции.
В отношении оказания непосредственной помощи предстоявшему наступлению Алленби Лоуренс колебался в выборе решения.
«Нам следовало быть готовыми к моменту наступления Алленби и в таком месте, где наши силы и тактика ожидались бы меньше всего и оказались бы наиболее разрушительными. На мой взгляд, таким центром притяжения был Деръа, железнодорожный узел линии Иерусалим — Хайфа — Дамаск — Медина, являвшийся средоточием турецких армий в Сирии, общий пункт всех их фронтов и волей случая — районом, в котором находились огромные нетронутые резервы арабов-бойцов, обученных и вооруженных Фейсалом».
Одни лишь арабы благодаря их исключительной подвижности имели все шансы нанести удар по этому солнечному сплетению турецкого организма. Лоуренс обдумывал некоторое время, как призвать к оружию всех своих сторонников и разбить турецкие линии сообщения силой. В штабе Алленби были уверены, что при любом руководстве 112 000 арабов будет достаточно для того, чтобы произвести стремительный натиск на Деръа, разрушить все железнодорожные линии и даже захватить внезапным ударом Дамаск. Любая из этих операций сделала бы положение армии в Беэр-Шева критическим.
Причиной воздержания Лоуренса явилось его сомнение в способностях британской армии и учет последствий возможной неудачи для конечной цели. Хотя арабы в районе Деръа и были достаточно подготовлены к восстанию, но Лоуренс чувствовал, что призывать их к выступлению теперь означало рискнуть наилучшим резервом, который Фейсал берег для последнего момента успеха в расчете, что первая же атака Алленби сметет противника и погода в ноябре будет благоприятствовать быстрому наступлению.
«Я мысленно оценил британские войска и почувствовал, что не могу убедить себя положиться на них. Рядовые солдаты зачастую были прекрасными бойцами, но их генералы столь же часто проявляли свою глупость и проигрывали то, что первым удавалось выиграть на незнании противником обстановки. Алленби еще не имел никакого опыта, а его войска были задержаны на месте и подорваны периодом командования Муррея. Казалось, что может наступить время для другой попытки в следующем году, поэтому для блага арабов я решил не рисковать».
Сомнение, которое удерживало Лоуренса, в данном случае подсказало ему лучшее решение, чем его обоснованные рассуждения. Если чувство долга по отношению к арабам удержало Лоуренса от возможности поставить на карту их будущее, то чувство долга по отношению к Алленби заставило его пойти на риск собой и предпринять удар по сообщениям находящегося перед войсками Алленби противника.
Участком, выбранным Лоуренсом для нанесения противнику удара, была долина реки Ярмук, представлявшая собой узкое и обрывистое ущелье, над которым поднималась вверх железная дорога из Палестины к Деръа. Этот железнодорожный участок образовывал правую половину горизонтальной черты маленькой буквы «т», соединявшейся с большим «Т» в виде «тТ». Линия, шедшая вверх с целым рядом поворотов, несколько раз проходила над горным потоком через многочисленные мосты. Наиболее трудными для исправления были мосты, находившиеся дальше всего на запад и на восток. Разрушить любой из этих мостов означало отрезать турецкую армию в Палестине от ее базы — Дамаска — по крайней мере недели на две и лишить ее при наступлении Алленби возможности отхода. С практической точки зрения достоинство этого плана заключалось в том, что турки, считали мосты находящимися почти в полной безопасности и, поскольку они далеко отстояли от Акаба, охраняли их очень слабо. В отношении же своего возможного эффекта план имел еще и то преимущество, что в случае поражения турецкой армии под двойным натиском с фронта и с тыла набег на Ярмук мог быть превращен в общее восстание арабов, которое понесло бы их волной на Дамаск вместе с наступавшим вслед за ними Алленби.
Алленби согласился с этим предложением и решил попытаться нанести удар 5 ноября или же в один из следующих трех дней. Его наступление на Беэр-Шева было намечено на 31 октября, и он надеялся сопроводить его главным ударом на внутренний фланг турок несколькими днями спустя.
Затем Лоуренс вернулся в Акаба для подготовки экспедиции. Поскольку Назир все еще отсутствовал, он договорился с Фейсалом об использовании для набега Хуссейна — молодого и отважного вождя, который «превзошел самого Ньюкомба» за время набегов на железнодорожную линию и имел необходимый престиж для того, чтобы повлиять на арабские племена. Симпатизирующие восстанию арабы в Дамаске также были предупреждены о необходимости быть готовыми и, в особенности, Ази-Риза-паша — начальник турецкой базы и тайный союзник шерифа. Учитывая трудность подрыва большого стального моста, который являлся объектом задуманного Лоуренсом набега, и возможность сделаться жертвой несчастного случая, он захватил с собой дублера в лице базового инженера из Акаба. Для предотвращения подхода подкреплений противника во время уничтожения им моста Лоуренс решил взять с собой также группу пулеметчиков-индусов, которые уже принимали участие в набегах раньше.
В последний момент к ним присоединился эмир Абд-Эль-Кадер — внук человека, который оказывал сопротивление французским войскам в 1840-х годах. Он был главой алжирских изгнанников, живших на северном берегу Ярмука. Абд-Эль-Кадер возвращался обратно из поездки в Мекку. Предложенная им помощь была желательной, потому что она давала возможность осуществления контроля средней части Ярмука через его людей без риска поднятия восстания во всей местности в целом. Однако, дав согласие на принятие помощи, Лоуренс был встревожен телеграммой, полученной от Бермона и предостерегавшей его о том, что Абд-Эль-Кадер получает деньги от турок. Трудно было сказать, являлось ли это подозрение более обоснованным, чем антифранцузские взгляды Кадера. Лоуренс, читая телеграмму Бермона, решил взять своего нового союзника под сомнение. Фейсал заметил: «Я знаю, что он сумасшедший, но я думаю, что он честен. Берегите свои головы, но используйте его». В результате Лоуренс пошел на риск, оказывая Абд-Эль-Кадеру «полное доверие, исходя из того принципа, что жулик не повредит нашей честности, а честный человек делается жуликом скорее всего благодаря подозрению». Но Абд-Эль-Кадер все же оказался палкой в колесах не столько из-за своего плутовства, сколько из-за своей глупости. Отличительными чертами последней являлись его фанатизм и оскорбленное достоинство. 24 октября экспедиция выехала из Акаба, направившись к лагерю Ауда. До Джефира их сопровождал Ллойд, который с сожалением возвращался в Египет, для того, чтобы оттуда выехать в Европу, так как он получил приказ о переводе его в межсоюзнический штаб в Версале. Лоуренс имел тем больше оснований сожалеть об его отъезде, что между Али и Абд-Эль-Кадером уже начинались трения. Ауда также был еще в ссоре со своими младшими вождями. Заал же, на чью опытность в проведении набегов Лоуренс особенно рассчитывал, не проявил никакого желания принять участие в операции. Пресыщение богатством превратило этого «храброго рыцаря» в мудрого человека: вновь приобретенное им богатство сделало жизнь слишком драгоценной для него.
Сидя ночью вокруг костра, прежде чем отправиться в поход из Джефира, они «слышали где-то далеко гул раскатов, слишком неясных для того, чтобы их можно было хорошо различить, и похожих на отдаленную грозу». Это была бомбардировка укреплений Газы английскими орудиями, подготавливавшими наступление для войск Алленби.
Две дивизии кавалерийского корпуса и четыре пехотные дивизии 20-го корпуса, совершая переходы ночью, уже начали обход в восточном направлении для нанесения противнику решительного удара. Таким образом, близ Беэр-Шева оказались сосредоточенными 60 000 штыков и сабель против менее чем 5000 турок. Пригвожденные к своим позициям атакой британской пехоты 31 октября турки не были в состоянии воспрепятствовать обходу их восточного фланга австралийскими и новозеландскими кавалерийскими частями. Незадолго до наступления сумерек город был взят. В результате левый фланг главной позиции турок оказался обнаженным.
Прежде, чем могла быть начата вторая фаза наступления, необходимо было усилить доставку воды к Беэр-Шева. Масса кавалерийских частей являлась тормозом. К счастью, колодцы были захвачены почти нетронутыми, и Алленби мог рассчитывать на готовность своих войск к атаке на позиции у Шериа 3-го или рано утром 4 ноября. Ей предшествовала атака в ночь на 1 ноября, направленная против участка укреплений Газы.
Однако проблема воды в Беэр-Шева расстроила оптимистические надежды и скомкала все наступление. Отчасти это было вызвано и ошибками руководства. Люди и лошади Алленби, конечно, не имели такой выносливости, как арабы и верблюды. Задул горячий ветер, который, подняв облака пыли, вызвал сильную жажду, расстроившую в отношении расхода воды все расчеты.
К тому же не оправдались и надежды найти достаточное количество воды к северу от Беэр-Шева, чтобы пополнить израсходованные запасы.
По этим причинам пришлось отложить вторую фазу наступления до 5 ноября. Задержка предоставила туркам длительную передышку, во время которой они могли укрепить свой угрожаемый участок, но им не удалось этого сделать вследствие инициативы, проявленной Ньюкомбом.
В июле больной Ньюкомб был отправлен в Египет. Находясь в Каире, он высказал Алленби свое желание отправиться с небольшим отрядом арабов в пустыню, находившуюся к востоку от Беэр-Шева, и поднять восстание бедуинов против турок во время наступления британских войск. После же того, как будет взят Беэр-Шева, Ньюкомб предлагал отрезать дорогу, идущую к северу от Хеброна и Иерусалима. Алленби согласился на это предложение. Ньюкомб подобрал для своего отряда 70 бедуинов на верблюдах и несколько арабов в качестве разведчиков. Для своей численности этот отряд обладал очень сильной огневой мощью, имея, помимо пушек Льюиса и взрывчатых веществ, еще десять пулеметов.
30 октября отряд Ньюкомба вышел из Аслуджа и сделал большой круг в 35 км к северо-востоку от Беэр-Шева. Вечером 31-го отряд спустился к дороге Беэр-Шева — Хеброн и перерезал телеграфные провода, шедшие в Иерусалим. Услышав ночью от дружественно расположенного к ним бедуина о взятии Беэр-Шева, Ньюкомб решил закупорить дорогу на Хеброн с целью перерезать противнику путь отступления в северном направлении. Рискуя таким образом своим маленьким отрядом, Ньюкомб рассчитывал, что к нему на помощь быстро подоспеет британская кавалерия, но надежда эта, к сожалению, не оправдалась. Осуществленное им отвлечение турецких сил открыло проход для британской армии через центр противника и создало в тылу у турок такую тревогу, что вызвало стратегический мираж. В воображении противника рисовалась картина наступления главных сил британских войск по хебронской дороге прямо на Иерусалим. Заблуждение турок было настолько сильным, что они забыли, что британская армия идет на «голодный желудок». Имея с самого начала свои главные силы расположенными слишком близко у Газа, турки теперь ударились в противоположную крайность. Они не только направили на фланг у Хеброна одну дивизию из общего резерва, но и перебросили резервы с сектора Шериа, где удар войск Алленби уже начинал ослабевать. Таким образом, они обрекли на бездействие в течение недели после взятия Шериа почти половину своих сил на холмах Иудеи.
Известная доля достигнутого успеха, несомненно, принадлежит британским кавалерийским патрулям, которые после взятия Беэр-Шева продвинулись вперед на север, но, судя по показаниям немцев и турок, является несомненным, что львиная доля успеха принадлежала Ньюкомбу. Надежды последнего на присоединение к нему арабов с гор не оправдались. В противоположность туркам они предпочитали скорее подождать выяснения действительной обстановки, чем хвататься за обещания. Однако страх перед возможностью восстания арабов в течение некоторого времени производил на турок почти такой же эффект, как и фактическое восстание. 1 ноября отряд Ньюкомба был атакован почти сотней турок; атака была отражена с большими потерями для противника. Затем бой возобновился снова. После того, как 20 человек из его отряда были убиты и большая часть пулеметов вышла из строя, Ньюкомб сдался, так как турки под командой немцев заняли позиции, с которых могли перебить всех оставшихся в живых.
Факт появления отряда Ньюкомба с востока, несомненно, оказал гораздо больше эффекта, чем сами его действия, так как это вызвало у противника впечатление о наличия глубокого обходного движения британских кавалерийских сил в направлении на Иерусалим.
К вечеру того же дня две турецкие дивизии и два кавалерийских полка заняли линию холмов близ хебронской дороги, а третья дивизия спешила к ним на помощь. Поддерживая соприкосновение с выступавшим вперед клином фланга британской армии, турки выдержали ряд стычек, пока 6 ноября Чэтвуд не нанес настоящего удара по укреплениям Шериа, который можно было сравнить с ударом кулака по картонной стене, так как в Шериа для удержания фронта протяжением в 10 км имелось всего лишь два турецких полка.
14 ноября англичанам удалось захватить узловую станцию, обеспечив этим себе контроль над железнодорожной веткой, шедшей на Иерусалим, и вновь принудить турок к отступлению в различных направлениях: одна часть турок откатилась к северу, а другая отошла к востоку для прикрытия Иерусалима. Затем подошла армия Алленби, пробивавшая себе путь на восток, пока, наконец, 9 декабря не был взят Иерусалим.
Захват британскими войсками Иерусалима был тяжелым ударом для турецкого престижа. Однако моральный эффект, произведенный этим на западных союзников, был еще шире и глубже, так как он помог смягчить боль целого ряда неудач и поражений.
Что же делал тем временем Лоуренс? В выполнении возложенных на него поручений он оказался менее счастливым, чем Ньюкомб, но более счастливым в своей попытке избегнуть опасности, которая была бы хуже, чем захват в плен. При отправлении из Джефира Ауда прошептал ему на ухо: «Берегись Абд-Эль-Кадера». На следующий день произошел другой тревожный случай: с нескольких сторон появилась банда, угрожающе стреляя в воздух. Когда враждебные арабы увидели, что отряд Лоуренса хорошо подготовлен к обороне, они изменили свой метод действия, притворились, что по недоразумению произошла ошибка, и заявили, что у них такой обычай — встречать чужеземцев стрельбой в воздух. Внезапно превратившись из добычи в почетных гостей, отряд был встречен группой всадников, которые приветствовали Али криком: «Да подаст бог победу нашему шерифу!» и кричали Лоуренсу: «Привет тебе, предвестник боя!» Абд-Эль-Кадер, считая необходимым обратить на себя внимание, сел на коня и «начал гарцевать поблизости, покрикивая своим хриплым голосом «хоп! хоп!» и беспрестанно стреляя в воздух из револьвера. Его посадка на лошади и стрельба были настолько неудачны, что это сольное выступление прошло почти незамеченным. За пиршеством, которое вскоре последовало, он снова пытался поддержать свое достоинство, встав от еды прежде, чем окончили другие, и ворча, что мясо было жестким.
Подкрепленный вождем Мифлех и шестнадцатью его сторонниками, отряд на следующий день двинулся к северу, подбадриваемый громыханием британских орудий, доносившимся издалека через впадину Мертвого моря. Однако арабы реагировали на это по-разному. Лоуренс слышал, как они говорили: «Они приближаются, англичане наступают, хорошо, если бы пошел дождь». Отвращение, которое испытывали арабы к артиллерийскому огню, порождало в них чувство симпатии к туркам.
На следующий день, 4 ноября, отряд Лоуренса достиг Азрака — волшебного места, населенного тенями поэтов, королей и римских легионеров. Однако склонность предаваться грезам была развеяна известием о том, что Абд-Эль-Кадер исчез в неизвестном направлении. Это означало сужение их цели, а также угрозу предательства. «От наших трех вариантов пришлось отказаться; по необходимости мы попытались разрушить мост у Тель-Эль-Шехаба.
Отсутствие других вариантов означало серьезное усиление шансов у противника на то, чтобы помешать нашей операции, или возможности возникновения какого-либо несчастного случая, могущего встать на выбранном нами единственном пути. Неизбежным объектом нападения являлся теперь ближайший мост, что делало возможным нас обнаружить. Возможно, что Абд-Эль-Кадер уже перешел на сторону противника, и турки, если только они предприняли соответствующие меры предосторожности, поймают нас у моста в ловушку».
Тем не менее, посоветовавшись, решили попытаться сыграть на неспособности турок что-либо быстро предпринять. В ночь на 6-е пересекли Хиджазскую железную у дорогу несколько ниже Деръа в каменистой местности, где их проезд не оставил никаких следов. Турецкая железнодорожная охрана не проявила особой активности, что являлось несколько успокаивающим в отношении действий Абд-Эль-Кадера. Немного времени спустя нашли впадину, где залегли, чтобы укрыться. Она должна была послужить в качестве отправного пункта для осуществления рейда через открытое пространство, который надлежало совершить под покровом темноты.
Достигнуть Тель-Эль-Шехаба, расположенного на палестинской ветке, взорвать мост и вернуться обратно между сумерками и рассветом в безопасное место к востоку от линии Хиджазской железной дороги означало совершить переход в 140 км за 13 часов. Лоуренс с сожалением должен был согласиться с тем, что это превышало возможности большинства солдат-индусов. Поэтому он выбрал из них шесть наилучших с расчетом иметь команду для одного пулемета. Помимо его небольшой личной охраны, отряд состоял из двадцати арабов в качестве ударных частей и сорока арабов, менее надежных как бойцов и потому выделенных для охраны верблюдов и переноски взрывчатых веществ.
Вдалеке на севере, как маяк в море, светились станционные огни Деръа. Отряд начал спускаться вниз и услышал «слабое шуршанье, похожее на отдаленный шум ветра среди деревьев, но непрерывно и медленно усиливавшееся». Они поняли, что приблизились к большому водопаду, находившемуся у самой цели. Это был берег реки Армук. Мост находился справа.
Подрывные средства были бесшумно распределены среди носильщиков. «Немного поодаль, в темноте обрыва, мы увидели нечто черное, а на другом конце — мигающие огоньки». Это были мост и палатка охраны на берегу. Вуд расставил индусов-пулеметчиков, приготовившихся изрешетить палатку пулями, а остальная часть отряда продвинулась к каменному устью моста. К досаде Лоуренса, на противоположном конце стоял часовой.
Вдруг послышался стук упавшей винтовки. Часовой подскочил; его крик заставил выбежать охрану из палатки. Индусы запоздали открыть огонь, и турки успели спрятаться под прикрытие. Арабы-подносчики побросали свою ношу в овраг и бросились бежать из страха погибнуть от попадания пуль в подрывные заряды.
С утратой средств разрушения налет потерял свою цель. Единственно, что оставалось делать, это бежать, пока еще было время. Переполох поднял на ноги все соседние деревни, но после бешеной езды отряд на рассвете добрался до железной дороги. Горечь этой неудачи привела Лоуренса в ярость.
«Мы были дураками, все без исключения, и наш гнев был бесцельным. Ахмет и Авад опять затеяли драку; молодой Мустафа отказался готовить рис; Фараж и Дауд били его до тех пор, пока он не стал кричать. У Али двое из его слуг были избиты, и никто из нас не обращал на это ни малейшего внимания. Мы были удручены неудачей и после 150 км напряженнейшей езды от восхода до захода солнца без остановки и без еды мы чувствовали себя физически разбитыми».
Никто из арабов не собирался возвратиться в Азрак с пустыми руками, и поэтому, когда Али неожиданно предложил взорвать поезд, это было встречено всеобщими криками одобрения. Взгляды всех обратились на Лоуренса как на эксперта. Он не разделял их восторга. «Подрывание поездов было точной наукой, требующей расчета, достаточных сил и соответствующе расставленных пулеметов. Выполняемое как попало, оно становилось опасным». Лоуренс чувствовал, что индусы, бывшие пулеметчиками, уже достаточно настрадались от голода и холода. Его выступление в защиту интересов индусов встретило одобрение арабов, но, поскольку они все же хотели во что бы то ни стало подорвать поезд, Лоуренс уступил их настояниям.
На рассвете Лоуренс с шестьюдесятью арабами вернулся к железной дороге на свой старый участок в Минифир и заложил под исправленный дренажный сток электрическую мину. Однако у него имелось лишь 60 м кабеля, вследствие чего место производства взрыва находилось на опасном расстоянии от линии. Мелкий кустарник высотой не больше фута давал возможность спрятать провода, но не человека. Один поезд прошел прежде, чем все было подготовлено для взрыва, приближение же другого выставленный вперед часовой прозевал из-за мглы и дождя. Казалось, все шло не так, как нужно. Однако плохая погода создавала для Лоуренса и некоторое утешение, позволяя ему предполагать, что вряд ли Алленби успеет закончить свои операции, прежде чем арабы сумеют подготовиться к другой, более удачной попытке оказать ему помощь.
10-го дождь все еще застилал горизонт. Около полудня был дан сигнал о приближении поезда, и Лоуренс поспешил к насыпи, чтобы взорвать мину. Когда поезд, наконец, подошел ближе, тяжело пыхтя на подъеме, Лоуренс увидел, что поезд был переполнен воинскими частями. Менять план было слишком поздно, поэтому, когда паровоз поравнялся с ним, Лоуренс нажал рукоятку взрывателя. Взрыва не произошло. Когда поезд прошел мимо него и был на расстоянии 50 м, он понял, что стоял на виду. «Куст, который, казалось, имел в вышину 1 фут, пригнулся и сделался меньше фигового листка». Единственный шаг на спасение у Лоуренса заключался в том, что турки могли его принять за случайно встретившегося бедуина, в которого не стоило и стрелять. К счастью, грязь и дождь запачкали великолепие его белой, украшенной золотом одежды. Как только поезд прошел, Лоуренс воткнул провода в землю и, как кролик, бросился под прикрытие. Через несколько метров поезд остановился, и, пока он нагонял пары, группа офицеров пошла посмотреть то место, где перед этим находился Лоуренс, но ничего подозрительного не обнаружила.
Прошел другой безрадостный день для голодного и промокшего отряда. На следующее утро, как и предсказывал Али, счастье им улыбнулось. Показался поезд, состоявший из двух паровозов и 12 пассажирских вагонов, и Лоуренс взорвал мину в тот момент, когда над ней проходил первый паровоз. Лоуренс находился так близко от места взрыва, что был отброшен назад. Одежда на нем оказалась порванной, руки поцарапаны и палец на ноге сломан. Наполовину оглушенный взрывом, он, шатаясь, бросился в сторону от разбитого поезда; в это время арабы, находившиеся на склоне, и турки на линии открыли перестрелку, во время которой было ранено семь арабов, бросившихся на выручку Лоуренса. Оказалось, что в поезде ехал новый турецкий командующий, назначенный для руководства обороной Иерусалима, с охраной численностью в несколько сот человек, которая, оправившись от неожиданности, приняла все меры к тому, чтобы воспрепятствовать дальнейшему нападению на поезд. Теперь арабам пришлось пожалеть об отсутствии пулеметов. Они едва сдерживали преследование турок, пока не достигли вершины холма; здесь каждый вскочил на верблюда и помчался в пустыню, где они в дальнейшем вновь собрались вместе. Единственная добыча, которая могла компенсировать их за потерю нескольких человек, состояла примерно из шести десятков винтовок, захваченных при первом налете. «На следующий день мы направились в Азрак, где нам была оказана торжественная встреча и где мы, да простит нам Господь, хвалились, что были победителями».
Зиму отряд решил оставаться в Азраке, используя его как базу пропагандистской деятельности и центр разведки. Этим создавался новый клин, отделяющий Нури Шаалана от турок. Отряд расположился на зимние квартиры в старом форту, который отремонтировали. Для сбора провианта был отправлен караван. К нему устремился из пустыни поток арабов, приходивших обмениваться подарками и слушать рассказы об Акаба, его силах и богатствах. Али, соединявший в себе безрассудную отвагу и величавое обаяние, явился солидным представителем Фейсала. В нем чувствовалось также наличие странной замкнутости, присущей и Лоуренсу.
В обществе Али и в атмосфере Азрака Лоуренс мог быть доволен, предаваясь своим мечтаниям. Лишь сделав над собой усилие, он оторвался от этого занятия для того, чтобы провести разведку находившейся вокруг местности.
Поскольку Деръа являлся будущим объектом действий Лоуренса, он чувствовал себя обязанным осмотреть его своими собственными глазами. Для этого он облачился в рваную одежду араба и отправился в сопровождении старика крестьянина через оборонительную полосу.
Некоторое время никто не обращал на него никакого внимания, но у аэродрома он внезапно был схвачен за руку сержантом, заявившим, что его хочет видеть бей. Протестовать было бесцельно, и Лоуренс был доставлен в канцелярию, где в ответ на ряд вопросов он выдал себя за черкеса, что могло послужить оправданием белизны его кожи. Однако это лишь запутало Лоуренса еще больше. Второй раз в своей жизни он оказался насильно зачисленным в турецкую армию и на этот раз с целью, за которую турецкие офицеры снискали себе дурную славу, имея склонность пользоваться новобранцами. В ту же ночь началось испытание, и, поскольку Лоуренс сопротивлялся, он был передан в руки стражи, для того чтобы она его укротила. После того, как различные неприятные способы насилия не удались, он был избит до потери сознания. Только окровавленный вид избавил его от дальнейших проявлений внимания со стороны турок, и ему удалось бежать из госпиталя, куда его перенесли. Когда Лоуренс, прихрамывая, тащился по дороге, какой-то араб сжалился над ним и, посадив его на верблюда, доставил в Насибия, где он нашел свой отряд. По злой иронии судьбы, именно во время этого бегства ему удалось обнаружить тот скрытый подход к Деръа, на поиски которого он отправился из Азрака.
По возвращении в Азрак у Лоуренса наступила реакция. В результате длительного нервного напряжения и последнего потрясения, место и окружавшие его люди стали для него непереносимыми. Пропаганда ему надоела. «Они все время сознавали, что я чужестранец, и чувствовали всю нелепость положения, когда чужестранец проповедует национальное освобождение. Для меня война представляла также и побочную цель — добиться такого настроения народа, когда он принимает восстание как нечто естественное, на что можно положиться. Мне приходилось убеждать себя в том, что британское правительство действительно сможет выполнить свои обещания». Физическое страдание настолько усилило в нем ясность мышления, что Лоуренс не мог уже пользоваться той разговорной «водицей», которая была необходима для практических целей. Льстивое же подобострастие городских сирийцев раздражало его. Лоуренс решил все бросить и отправиться на юг на поиски встречи с противником.
Поздно вечером 23 ноября Лоуренс покинул Азрак, захватив с собой лишь одного спутника Рахаила. Несмотря на физическую слабость Лоуренса, они ехали быстро. «У меня был сильный приступ лихорадки, который привел меня в бешенство, и я не обращал никакого внимания на просьбы Рахаила об отдыхе. Перед рассветом он рыдал от жалости к самому себе, но тихо, чтобы я не услышал». В полдень они достигли лагеря Ауды, но остановились лишь для того, чтобы обменяться несколькими приветствиями и поесть немного фиников. Рахаил уже не протестовал, а ехал с мрачной решимостью перебороть Лоуренса. «Даже если бы мы начали путешествие в одинаковом состоянии, он, во всяком случае, превосходил меня силой; теперь же я чувствовал себя почти конченным».
Те, кто видел Лоуренса 26-го, когда он, наконец, прибыл в Акаба, говорят, что он был похож на призрак — настолько он был бледен и казался «не от мира сего». Он лишь промолвил несколько слов о постигшей его неудаче с мостом в долине реки Ярмук и удалился к себе в палатку. Через несколько дней Лоуренс получил приказание прибыть в Палестину. Вылетев в Суэц на самолете и прибыв в штаб Алленби, он почувствовал, что все были настолько упоены достигнутой победой, что отголоски его неудачи у Ярмука, распространяться о которой он не имел ни малейшего желания, потонули в общем ликовании. Однако его деятельность не прошла незамеченной. За взятие Акаба он был произведен в чин камора и награжден орденом Бани. Он также был представлен Уингейтом к кресту Виктории, но обстоятельства не соответствовали обычным условиям, требовавшимся для награждения этим орденом. Он больше оценил предоставленную ему возможность присутствовать при официальном вступлении британских войск в Иерусалим. Обмундированный наспех двоими друзьями из штаба, Лоуренс принял участие в церемонии, происходившей у ворот Яффы, «что для меня было одним из величайших моментов удовлетворения за время войны». За завтраком после церемонии он с большим удовольствием услышал упрек Алленби, сделанный М. Пико за его предложение установить в Иерусалиме гражданскую власть. Сразу же после завтрака Лоуренс воспользовался случаем обсудить с Алленби новые проекты военных операций.
План Алленби заключался прежде всего в том, чтобы закрепить достигнутые успехи обеспечением известного простора действий к северу от Иерусалима путем восстановления там железнодорожной линии; затем нажимом справа в восточном направлении отбросить турок от Иерихона и очистить долину Иордана к северу от Мертвого моря. Алленби предложил, чтобы Фейсал продвинулся теперь к северу от Акаба по направлению к Тафила, расположенному близ южной части Мертвого моря. Это позволило бы ему соединиться с британскими войсками на другой стороне и помочь им отрезать турок от хлебного района, находившегося между Мертвым морем и Хиджазской железной дорогой, откуда они получали свое продовольствие. Суда с хлебом, поднимавшиеся к северу по Мертвому морю, являлись серьезной поддержкой силы сопротивления турок. Поэтому уничтожение их являлось весьма важным.
Лоуренс не только согласился с этим планом, но и внес дополнительные предложения, состоявшие в том, чтобы после занятия Иерихона туда была переведена база Фейсала из Акаба и ежедневно доставлялось 50 т продовольствия и боевые припасов.
На это Алленби дал свое согласие, и Лоуренс отправился обратно в Акаба, чтобы постепенно подготовиться к осуществлению намеченного плана.
Одним из его первых мероприятий был подбор охраны для себя лично. Необходимость этого вызывалась тем обстоятельством, что с момента, когда он подорвал поезд, в котором ехал Джемаль-паша, турки значительно повысили вознаграждение за поимку или убийство Лоуренса.
Начало было обещающим. Когда однажды днем Лоуренс сидел в своей палатке и читал, к нему подкрался молодой араб племени аджейн, положил на землю великолепный седельный вьюк и исчез. На следующий день он явился снова и принес «такой же красоты седло для верблюда». На третий день он явился, не принеся ничего, и попросил Лоуренса принять его к себе на службу. Звали его Абдулла «разбойник». Он сослался на рекомендацию старого капитана отряда телохранителей Фейсала и оказался одним из самых опытных. «Поскольку чувствовалось, что он был вполне подходящим, я тотчас же взял его к себе. Он проводил проверку остальных желающих поступить ко мне на службу, и благодаря ему и моему другому помощнику вокруг меня выросла замечательная банда знатоков своего дела. Англичане в Акаба называли их головорезами, но они резали головы только по моему приказанию. Мне нужны были хорошие наездники и люди, не дорожившие своей жизнью, гордые собой и без семейных уз».
Лоуренс платил им по 6 фунтов стерлингов в месяц — нормальное жалованье для араба, который содержал своего верблюда. «Они могли тратить деньги на украшение своих собственных персон и вырядились так, что были похожи на клумбу тюльпанов, так как носили все цвета, кроме белого, который постоянно носил я, и они не считали это возможным для себя».
Охрана служила Лоуренсу не только для защиты от нападения, но и являлась ядром того отряда, из которого он формировал свои маневренные группы. Численность охраны доходила в общем до девяноста человек, однако Лоуренс редко когда брал с собой более тридцати, исходя из соображений подвижности и уменьшения потерь. «За время нахождения у меня на службе около шестидесяти из них умерло». Однако наступательная сила личной охраны Лоуренса была гораздо больше номинальной вследствие хорошего вооружения и морального состояния.
Лоуренс использовал маневренные возможности легких пулеметов в большей степени, чем в любой другой армии. В своей следующей кампании он ввел пробную атаку легкими автоматическими «пальцами» за два месяца до того, как немцы стали пронизывать британский фронт во Франции с помощью подобной же, но менее экономной тактики «просачивания». Своим методом использования пулеметов на верблюдах с командой всего лишь из двух человек (они иногда стреляли даже с седла) он опередил послевоенное развитие механизированного передвижения пулеметов.
Сам Лоуренс возил с собой на верблюде «воздушный Льюис» без радиатора и чехла. Помимо того, что этот пулемет был весьма удобен, он стрелял с таким замечательным рассеиванием, что Лоуренс предпочел его винтовке, которую он раньше носил. Винтовка эта имела свою историю: это была обыкновенная британская укороченная винтовка, захваченная турками у Дарданелл, а затем с соответствующей надписью, выгравированной золотом, была подарена Фейсалу. Лоуренс в свою очередь получил ее от Фейсала. После войны он хотел передать ее по принадлежности в Эссекский полк — ее первоначальному владельцу, но на свое предложение ответа не получил. Вместо этого король Георг взял ее себе, воспользовавшись возможностью пополнить коллекцию оружия в своем частном военном музее в Виндзоре. На винтовке имеется ряд зловещих отметок: их делал Лоуренс каждый раз, как сбивал турка, пока не потерял интереса к ведению подобного учета.
В остальном его личное вооружение состояло из револьвера и кривого кинжала с рукояткой, украшенной золотом и красивой резьбой, какие носили главным образом шерифы. Кинжал этот явился поводом для создания легенды о том, что Лоуренс якобы получил звание шерифа или, что было гораздо красочнее, «принца Мекки». В действительности шериф приобретал свой титул по праву рождения как потомок пророка, так что «почетного шерифа» вообще быть не может. Единственно, чему может быть приписано возникновение этой легенды, — это случаю, когда однажды арабы от безделья стали давать друг другу различные прозвища и титулы. Когда Лоуренса спросили, какой бы титул он себе выбрал, тот ответил: «эмир Динамит». Это так к нему подходило, что на некоторое время титул «эмира Динамита» стал его прозвищем у арабов.
Глава XII. «Регулярная» кампания. Январь — февраль 1918 г.
В кампанию 1918 г. силы арабов под начальством Фейсала имели не только косвенное влияние на положение войск Алленби, но сделались составной частью его армии, действуя совместно с ней. Это, конечно, изменило форму операций арабских частей, придав ей характер более регулярных военных действий. Уже само название «Северной арабской армии» содержало в себе идею кристаллизации ее движений и целей. Последняя имела свои недостатки и в первую половину года привела к разочарованиям. Однако даже в течение этого периода казалось, что в целом силы арабов создали для британских войск больше возможностей, чем последние для арабов. Кроме того, кампания предоставила Лоуренсу случай проявить свои способности в регулярных военных действиях, которые он до некоторой степени презирал.
Параллельно железной дороге, вдоль «хлебного пояса», были расположены небольшие города, далеко отстоявшие один от другого и представлявшие собою те пункты, на которые господствующая сила могла опереться. Самым южным был Шобек, находившийся в 35 км к северо-западу от Маана. Дальше за ним лежал Карак и на самом северном конце Мертвого моря — Мадаба.
В начале октября арабы начали свои набеги, причем захватили на несколько дней Шобек и разрушили железнодорожные ветки, которыми пользовались турки для подвоза дров для Хиджазской железной дороги. В результате создавшаяся угроза заставила турок действовать и вовлекла их в ту ловушку, которую подготовил для них Лоуренс. Турки начали свое контрнаступление 27 октября, в тот самый момент, когда Лоуренс отправлялся в свой набег в долину реки Ярмук. Экспедиционный отряд в составе четырех батальонов пехоты и кавалерийского полка с десятью орудиями выступил из Маана; численность этого отряда едва достигала 350 человек, включая в эту цифру около 200 человек из состава иррегулярных частей бедуинов. После артиллерийского обстрела, продолжавшегося в течение часа, и бомбометания с самолетов турки повели наступление. Плохо подготовленные арабы на верблюдах не выдержали натиска и отошли назад к частям Молада, которые, засев в крутых скалах, задержали наступление турок. Тогда бедуины обошли с обеих сторон фланги турок и начали тревожить их непрерывными набегами. В результате вечером турки отступили с тяжелыми потерями. Таким образом, благодаря природным условиям и умелому применению Моладом принципа Канн, предсказания Лоуренса сбылись.
Продолжение набегов на железнодорожную линию наряду с перехватом караванов с продовольствием заставило турок сначала оттянуть войска от Абу-Эль-Лиссала, а затем и вовсе покинуть его. Турки были принуждены отойти обратно к Маану, причем сужение района действий неизбежно привело с ослаблению их власти над территорией, что позволило арабам проникнуть в «хлебный пояс» с севера.
В то время как Молад, воспользовавшись наступлением сильных холодов, загонял турок обратно в Маан, Лоуренс занялся новыми экспериментами, а именно — развитием механизированных сил. Факт использования им подвижности отрядов на верблюдах до той степени, которая, судя по общепринятым стандартам, была неосуществима, не заслонил от него возможности использования механизации, как это имело место у столь большого числа профессиональных военных, являвшихся поклонниками кавалерии.
После нескольких дней отдыха мысли его снова вернулись к тем прогалинам, покрытым засохшей грязью, которые он видел в сентябре во время своего набега на Мудаввару. Через узкий проход Вади-Итм была проведена дорога, и туда были доставлены бронемашины. Лоуренс и Джойс решили произвести разведку. Машины, идя по полированной грязи, давали скорость свыше 100 км в час, выдерживая без всяких аварий тяжелые переходы между прогалинами.
Опыт оказался настолько многообещающим, что, проехав почти до Мудаввара, они решили попытаться немедленно провести операцию и для этой цели вернулись обратно, чтобы получить необходимые бронемашины, которые они усилили десятифунтовыми горными орудиями. Накануне Нового года они добрались до железной дороги и обнаружили турецкий пост, представлявший собой подходящую для них цель. На следующее утро Джойс руководил атакой, находясь на вершине холма, расположенного близ поста, в то время как Лоуренс испытывал двойное удовольствие присутствовать в качестве наблюдателя за боем, в котором нападающие совершенно не рисковали жизнью, так как турецкий обстрел бронемашин казался ему чем-то вроде стрельбы дробью по носорогу. С другой стороны, машинам недоставало проходимости танков, поэтому они и не смогли выгнать турок из их норы. Когда они вернулись обратно из этой увеселительной прогулки, ее единственным результатом было приобретение Лоуренсом нового опыта. Благодаря бронемашинам не только железная дорога оказалась на расстоянии однодневного перехода, но и представлялось возможным создать угрозу любым передвижениям турок с помощью средства, бороться с которым на открытой местности они не были в состоянии. Таким образом, для того чтобы парализовать противника, англичанам потребовалось лишь развить применение этого нового вида оружия.
К несчастью, Лоуренс не только не мог в силу своего положения получить соответствующее количество нужных ему типов машин, но и добиться принятия своей новой теории стратегии. Британское командование все еще жаждало взятия Медины. Его мысли шли по прямому пути, и оно стремилось совершенно вычеркнуть из баланса турецкие силы в Хиджазе, вместо того чтобы поощрять турок вкладывать в это невыгодное для них предприятие все большие и большие капиталы.
Лоуренс проявлял тонкость понимания обстановки не только в теории. По мере того, как он все больше убеждался в правильности своей теории, он принимал меры к тому, чтобы при всех военных действиях арабов движение по Хиджазской железной дороге никогда не прерывалось, достигая этого своего рода фабианской тактикой. При этом Лоуренс заметил, что проведение такой тактики было менее хлопотливо, чем осуществление «детских» замыслов британского штаба.
Намеченный план захвата Тафила предусматривал наступление с трех сторон: с востока, юга и запада. Первым выступил Назир, направившийся в восточном направлении, имея в виду атаковать Джурф-эд-Дераунш — ближайшую железнодорожную станцию, расположенную в 50 км от Маана. Его силы состояли из отряда регулярных войск арабов численностью в 300 человек под командованием Нури Сайда и одного горного орудия. Наступление Назира было направлено к находившемуся близ станции горному кряжу. Лоуренс со свойственной ему осторожностью отправился туда за несколько дней перед тем с целью выяснить наиболее подходящую позицию для орудия. Кряж заняли под прикрытием темноты, и железнодорожная линия была разрушена по обе стороны от станции. На рассвете открыли огонь из орудия, причем удачными попаданиями были приведены к молчанию находившиеся на нижнем холме турецкие орудия.
Затем арабы верхом на верблюдах произвели обход основания кряжа. Появление их с неожиданного направления создало панику среди турок и быстро принудило последних к сдаче. В результате было захвачено свыше 200 пленных турок, арабы же потеряли всего лишь двух человек. Находившиеся на станции два поезда были совершенно разграблены, но не очень сильно испорчены.
Следующие три дня шел сильный снег с градом, причем холод был настолько велик, что в один день умерло десять арабов. Это обстоятельство, а также желание спрятать свою добычу заставили их отойти обратно к своим палаткам. Известие о взятии Джурфа явилось сигналом для нападения на Шобек горных арабов, живших близ Петри. Холодная погода их не остановила, и турок вновь постигла неудача. Весть о захвате Шобека вдохновила Назира на следующий набег. После быстрого ночного перехода под снегом он добрался до скалы, находившейся у Тафила, и стал призывать жителей и небольшой турецкий гарнизон сдаться, угрожая в противном случае начать бомбардировку города. Угроза эта была чистейшим блефом, так как регулярных частей Нури Сайда с ним не было. Возможно, что его блеф и был бы обнаружен, если бы внезапно к черте города не выехал Ауда и не закричал: «Собаки! Разве вы не знаете Ауды?» Стены Тафила пали от голоса Ауды так же, как некогда пали стены Иерихона от голоса Иисуса Навина. Город сдался задолго до того, как с запада прибыли арабы под начальством Мастура.
Однако захватить город было легче, чем его удержать. Среди кланов имелись старые счеты, и они начали ссориться друг с другом. Ауда, как всегда, был центром бури. Слухи о происходившем ускорили прибытие Зеида, который был поставлен Фейсалом во главе всех операций в районе Мертвого моря. Его сопровождал Лоуренс, а кроме того, за ними с максимальной быстротой, которую позволяли плохие дороги, следовал небольшой отряд численностью около ста человек, составленный из арабов регулярных войск с двумя горными орудиями. Зеид сделал все, что было можно, чтобы уладить распри с помощью золота. С Аудой разделались по принципу уличного певца, которому платят только за то, чтобы он убрался. Но не успели еще достигнуть полного согласия, как турки вновь внесли раздор.
Лоуренс, расценивая Тафила лишь как дальнейший шаг на пути к Мертвому морю, совершенно не предполагал, что турки придадут этому городу такое значение, что даже оттянут к нему часть своих сил, сдерживавших наступление Алленби. Поэтому, когда наскоро собранные в Аммане турецкие части бросились к югу, чтобы вернуть обратно Тафила, для Лоуренса это оказалось совершенно неожиданным. Турецкий отряд состоял из трех слабых батальонов пехоты, ста человек кавалерии, двух горных гаубиц и двадцати семи пулеметов. Выступив 23 января из Карака, отряд на следующий день, в полдень, наткнулся на передовые заставы арабов, охранявших ущелье. Это ущелье представляло собою явно неприступный подход к Тафила, но внезапное появление противника заставило охранение быстро отойти назад задолго до того, как оно могло получить подкрепление.
В предвидении возможности атаки Джафар выбрал оборонительную позицию на высотах над глубоким ущельем Тафила. Лоуренс был не согласен с этим планом и по тактическим, и по политическим соображениям. Отвесные склоны были недоступны для атакующего, но он мог обойти позицию с восточного фланга, будучи совершенно укрытым от огня. С другой стороны, оставление города означало, что население его попадет в руки турок. Однако внезапно создавшаяся критическая обстановка не давала времени для долгих размышлений, и около полуночи Зеид отдал приказ отойти назад на выбранную позицию за городом. Отход, как это и предвидел Лоуренс, вызвал в городе панику.
После того, как последние части покинули город, Лоуренс вместе со своей охраной остался позади. «Сильно подмораживало; кругом был снег и лед; в темных узких улицах города царило невероятное смятение. Я вышел один и стал ходить по улицам, прислушиваясь к тому, что говорили вокруг. Люди были охвачены страхом и сделались почти опасными, но не для меня, так как я был закутан в темный плащ и меня различить было невозможно. В случае какого-либо инцидента возле меня находилась моя охрана. Весьма важно было узнать подлинное настроение населения. Вскоре мы увидели, что жители города испытывают ужас перед турками и готовы сделать все физически выполнимое для того, чтобы поддержать в борьбе против них вождя, способного сопротивляться. Это доставило нам удовлетворение».
Тогда Лоуренс взял инициативу в свои руки и отправил два десятка арабов на помощь тем крестьянам, которые все еще сдерживали наступавших турок, сам же пошел на розыски Зеида, спокойствие которого в момент кризиса казалось хорошим предзнаменованием. Воспользовавшись этим обстоятельством, Лоуренс предложил ему план боя. Последний должен был закончиться победой, которой могло бы гордиться большинство полководцев. Однако сам Лоуренс, по его собственному признанию впоследствии, испытывал бесконечное чувство стыда за свой план боя. Он приписывает это припадку охватившей его ярости. Приводимое им объяснение не только поучительно, но и интересно с точки зрения аргументации.
«По всем правилам здравой военной тактики турки никогда не должны были возвращаться в Тафила вообще. Их возвращение можно было объяснить просто жадностью — политикой «собаки на сене», недостойной серьезного противника, просто безрассудным шагом, на который могли решиться только турки».
Перейдя через овраг Тафила, Лоуренс взобрался на находившееся за оврагом плато, где нашел рубеж: «низкий, узкий вал на остатках византийского фундамента — настоящее место для резервной или для последней линии обороны». Этот низкий рубеж являлся основанием треугольной равнины и имел поперек около 3 км; остальные стороны этого треугольника были ограждены рубежами, покрытыми зеленью. Вершина треугольника была обращена к северо-востоку, и через нее шла дорога из Карака, по которой теперь наступали турки.
Лоуренсу удалось собрать несколько скрывавшихся арабов из личной охраны Зеида и заставить их засесть в «резервном» рубеже. «На расстоянии они выглядели весьма внушительно (их было примерно человек двадцать), как будто отдельные точки значительных сил. К ним должны были присоединиться все вновь прибывшие арабы и в особенности мои негодяи со своим пулеметом.
Судя по скорости продвижения, турок должно было быть немного. Мы имели пушки и легко могли задержать их продвижение. Однако я в своей ярости зашел слишком далеко и решил принять их метод войны, а именно — дать им в карликовом масштабе нашего арабского фронта то регулярное сражение, которого они хотели, и перебить их всех. Я решил собрать все старые прописные истины и правила военных учебников и сделать из этой «битвы» пародию на них. И сила, и преимущество местности были на моей стороне; я мог бы выиграть, просто отказавшись от боя и побив турок маневром, как в двадцати подобных же случаях перед тем и после. Но плохое расположение духа и самоуверенность не позволяли мне довольствоваться только сознанием моей силы, а заставили стремиться открыто показать ее и арабам и противнику».
Зеид осознал недостатки выбранной им позиции и с готовностью принял предложение Лоуренса отправить вперед Абдуллу — начальника личной охраны — с несколькими людьми на мулах и парой легких пулеметов, чтобы «пощупать» силу турок и выяснить расположение их частей. Высланное подкрепление подбодрило арабов и крестьян, которые отогнали передовой отряд турецкой кавалерии обратно к только что выступившим после холодной ночи, проведенной на биваке, главным силам. Лоуренс и Зеид уже слышали отдаленную трескотню пулеметов. В то время как Зеид хотел ждать на месте получения от Абдуллы новых данных о продвижении противника, Лоуренс горел желанием ускорить ход событий и сам отправился вперед. На улицах Тафила он встретил несколько человек из своей охраны, рывшихся среди вещей, разбросанных на мостовой. Он приказал им привести верблюдов и захватить с собой легкий пулемет. Затем он отправился через равнину и встретил Абдуллу, возвращавшегося с известиями для Зеида. Его боеприпасы иссякли; от орудийного огня он потерял пять человек, но все еще горел желанием сражаться и лишь намеревался убедить Зеида придвинуться ближе. Оставив его выполнять задуманное, Лоуренс отправился дальше. На равнине уже рвались снаряды; беспокойство причиняли также стебли полыни, которые обжигали его голые ноги. Когда он достиг вершины треугольника, то нашел там около шестидесяти человек, удерживавших угол западного рубежа, в то время как турки продвигались вдоль восточного рубежа с целью обойти их с фланга. Сначала Лоуренс наткнулся на группу крестьян. Последние сообщили ему, что у них нет боеприпасов и что все кончено. «Я уверил их, что все только начиналось, и указал им на мой многолюдный резервный рубеж». Предложив им перейти туда и собрать боеприпасы, Лоуренс забрался на вал, где все еще держались арабы, и предупредил их, что они не должны прекращать огня с одной позиции, пока не приготовятся начать обстрел с другой.
«Во главе арабов был молодой Метааб, который, для того чтобы легче сражаться, снял с себя все и остался в трусиках».
Лоуренс попросил Метааба продержаться еще минут десять, сам же, не имея лошади, побежал, «не забывая при этом считать свои шаги, чтобы в дальнейшем иметь возможность определить дистанцию обстрела позиции, когда она будет занята турками».
Благополучно достигнув резервного рубежа, Лоуренс нашел на нем уже около восьмидесяти человек, к которым продолжали прибывать новые подкрепления. Накопившиеся двести человек задерживали наступление турок, пока около 3 часов дня не прибыл со своей старой позиции Зеид примерно с пятьюдесятью людьми своей охраны и двумя сотнями крестьян крестьянами. Он захватил с собой также девять пулеметов и несколько легких автоматических ружей, а для усиления огневой защиты — горное орудие.
«Как раз в нужный момент мы вспомнили, что движение есть закон стратегии, и начали продвигаться. Отряд в 80 всадников на лошадях, верблюдах и мулах с пятью легкими автоматическими пулеметами был отправлен в обход восточного рубежа и для охвата левого фланга противника.
Тем временем турки на противоположном рубеже втаскивали, по-видимому, бесконечное количество пулеметов и устанавливали их вдоль рубежа, как в музее. Это была тактика лунатика. Рубеж был гол и не имел прикрытия даже для ящерицы». Благодаря измеренному Лоуренсом шагами расстоянию арабы уже имели прицел установленным на 3100 м и только ожидали момента, чтобы смести турецкий рубеж.
Затем прибыло новое подкрепление в составе примерно 100 человек из соседней деревни. «Их прибытие заставило нас отбросить советы маршала Фоша и произвести атаку сразу, по крайней мере, с трех сторон. Для этого мы отправили группу людей с тремя легкими пулеметами для обхода правого или западного фланга противника. Примитивные люди, которые не знают маршала Фоша, имеют здравый инстинкт для нахождения тыла противника, особенно когда он, как, например, в данном случае, предоставляет скрытый подход».
В то время как четыре пулемета, находившиеся на резервном рубеже, обстреливали позицию турок и отвлекали их внимание, пять легких пулеметов (которые для маскировки обслуживались каждый только двумя человеками) были незаметно продвинуть вперед и внезапным огнем смяли левый фланг турок. Чтобы использовать замешательство противника, сразу же врезалась «кавалерия». Как только был достигнут перевес сил, резерв арабов отправился через центральную равнину с красным знаменем, чтобы закончить победу.
Турки бежали в смятении, оставив на месте боя своего убитого командира, две гаубицы, все свои 27 пулеметов и обоз. Их кавалерия благодаря усталости арабов сумела остановить преследование. Тем не менее при отступления противника бедуинами из Карака было захвачено свыше двухсот пленных и еще больше было убито. Точная цифра потерь не установлена. Лоуренс слышал, что вернулось якобы только 50 беглецов, в то время как турецкий отчет увеличивает эту цифру примерно до четырехсот; немецкий отчет, хотя и не вполне определенный, высказывает предположение, что удалось спастись гораздо меньшему количеству.
Сильный снег и резкий ветер подавили имевшееся у арабов желание добиться дальнейших успехов, и даже Лоуренс был вынужден признать, что продолжение действий потребовало бы у людей слишком сильного напряжения. Полная беспомощность верблюдов в ходьбе по грязи также могла оказаться тактически опасной.
Хотя отряд Лоуренса и был прикован к Тафила, его мысли были направлены к основной цели у Мертвого моря, с тем чтобы там успешно проявить стратегическое влияние. Он вспомнил Абдуллу-Эль-Фэйра, лагерь которого находился в залитой солнцем равнине на южном берегу Мертвого моря. Лоуренс отправился к Абдулле-Эль-Фэйру, рассказал ему об одержанной победе и уговорил его воспользоваться случаем, чтобы произвести набег на небольшой порт близ Мезраа на восточном берегу, откуда хлеб, поступавший из района Карака, отправлялся на судах на север для снабжения турецких армий.
Абдулла-Эль-Фэйр собрал около семи десятков всадников-бедуинов и отправился туда по узкой тропе между холмами и берегом моря. К рассвету 28 января, всего лишь три дня спустя после «битвы» при Тафила, они достигли бухты, где увидели стоявшими на якоре моторный катер и шесть барж. Команды отдыхали на берегу. Абдулла-Эль-Фэйр атаковал их с суши и этим достиг весьма редкого успеха, а именно — захвата флота кавалерией. Было захвачено 10 т зерна и 60 пленных. Затопив баржи и уничтожив постройки, экспедиция вернулась без всяких потерь.
Это достижение стратегической цели — нарушение снабжения турок — обрадовало Лоуренса гораздо больше, чем его тактическая победа. Оно помогло ему забыть о пролитой крови и привело его в хорошее настроение, в котором он написал отчет об операции при Тафила для штаба в Палестине. Составленный им отчет явился еще большей пародией на ортодоксальность, чем сама «битва», поскольку он составил его в обезличенном тоне, применив профессиональный жаргон, который полюбили военные начиная с того момента, когда Цезарь написал свой мастерски придуманный официальный отчет о Галльской войне. Таким образом, по словам Лоуренса, профессиональное начальство могло принять его за исправившегося человека-любителя, скромно следовавшего по стопам авторитетов, вместо клоуна, потешавшегося над процессией военных авторитетов, которая во главе с Фошем в качестве дирижера шла с барабанным боем по старой дороге крови.
Лоуренс получил в награду орден за боевые заслуги. Когда он в следующий раз увидел Алленби, то заявил, что для него, пожалуй, больше подошел бы морской орден. А несколько месяцев спустя, когда Лоуренс находился с экспедицией в пустыне, два британских самолёта, завидев караван верблюдов, устроили за ним охоту. Напрасно Лоуренс заставлял своих людей ездить по кругу — обычный сигнал самолету, который показывал, что войска свои, — самолеты продолжали по ним обстрел, но, к счастью, безрезультатно. В своем донесении об этом случае Лоуренс просил о награждении его летным орденом за боевые заслуги со следующей мотивировкой: «За присутствие духа и воздержание от обстрела двух истребителей типа «Бристоль», которые пытались уничтожить пулеметным огнем с воздуха мой отряд».
В течение ряда недель, последовавших после успеха у Тафила, его юмор был ему весьма нужен. Продолжавшийся период плохой погоды расстроил его дальнейший план захвата всего «хлебного пояса» и установления связи с Алленби у северного побережья Мертвого моря. Племена, находившиеся впереди, обещали свою поддержку, но арабов, которые были с ним, задерживал снег, и чем больше они стояли, тем больше охладевали к его идее проведения активных действий. Необходимость отправить верблюдов на теплые пастбища в долине окончательно обрекла их на неподвижность.
Лоуренс, которому надоело оставаться в непривлекательной и населенной насекомыми квартире Тафила, решил в начале февраля вернуться в свою базу и раздобыть ещё денег для финансирования весенней кампании. Переезд по размякшей почве был очень тяжел; верблюды все время скользили по грязи, холодный ветер пронизывал всадников, но не замораживал дороги. Они проехали пост Молада, где никто их не приветствовал, так как несчастные арабы регулярных частей, снабженные только английским обмундированием летнего образца, потеряли половину своей силы в борьбе с непогодой, которая препятствовала туркам разбить оставшихся. Наконец они достигли Гувейра, где Лоуренс встретил не только Джойса, но и Алана Доунэй, прозванного «ежом», — начальника вновь организованного штаба операций в Хиджазе, сформированного в ноябре в Каире для обеспечения лучшей связи и лучшей организации операций арабов. Лоуренс пробыл там три ночи, а затем, получив 30 000 фунтов, присланных Фейсалом, отправился обратно в Тафила, куда он доехал один после еще более утомительного путешествия. В Тафила он встретил прибывшего с палестинского фронта молодого офицера разведывательной службы, говорившего на арабском языке.
Теперь продвижение вперед было осуществимо, поэтому Лоуренс произвел разведку в направлении к Мертвому морю. Однако когда он по возвращении стал настаивать на этом перед Зеидом, то встретился с затруднениями, вызванными главным образом окружавшими Зеида людьми. Основной причиной отказа от выступления была отговорка, что Зеид израсходовал все деньги, предназначавшиеся на подачки местным племенам, которые никуда не желали двигаться. Убедившись в том, что разговоры ни к чему не приведут, Лоуренс заявил Зеиду, что если деньги не будут возвращены, он от него уедет.
Разочарование, происшедшее после длительного периода напряжения, вызвало у Лоуренса желание бросить все дело. К тому же он чувствовал, что теперь имеет для этого достаточно оснований, так как считал, что расстройство намеченных им военных планов указывало на недостаточность его власти над арабами и сводило к нулю ту цель, для которой Алленби его использовал. В результате Лоуренс отправился на запад к Алленби с намерением вручить ему прошение об отставке.
Проехав почти 120 км, он узнал радостную весть о взятии Иерихона. Тогда он отправился дальше в штаб-квартиру Алленби и случайно встретил человека, который мог его заменить. За моральное разложение Зеида Лоуренс винил самого себя. Он заявил, что чувствует отвращение к ответственности, жаловался, что ему была предоставлена полная свобода действий, и сожалел, что он ею воспользовался. Его личным желанием было вернуться обратно и сделаться колесиком военной машины, имея вокруг себя все удобства. Он пришел к убеждению, что находиться в упряжи повиновения было легче, чем пришпоривать самого себя, являясь начальником.
Подобное настроение Лоуренса частично объяснялось его физическим состоянием: «Я был очень больным человеком, почти дошедшим до точки надлома». Но за этим имелось еще кое-что. Несомненно, что те несколько дней, которые он провел с автобронеотрядом в обычной обстановке британских солдат, показали ему привлекательность этого беззаботного существования в подчинении. Кроме того, для поддержания энергии и боевого духа автомашины, несомненно, являлись лучшим средством передвижения, чем верблюды. Впечатления тех дней, подкрепленные дальнейшим опытом, повлияли на выбор им занятия после войны.
Во время завтрака у Клейтона, последний предъявил новый спрос на услуги Лоуренса, отклонив все его протесты требованием обстановки. Уже в течение нескольких дней до неожиданного прибытия Лоуренса штаб командования безуспешно пытался установить с ним контакт, отправив за ним самолеты.
Этот срочный вызов Лоуренса явился следствием нового призыва к Алленби с запада.
Глава XIII. Кампания становится все более «регулярной». Март — июль 1918 г.
Немедленно после взятия Иерусалима Алленби было обещано прислать подкрепления. В свою очередь его просили сообщить в общих чертах дальнейший план действий. В своем ответе Алленби подчеркнул трудности дождливого сезона, но сообщил, что в этот период он намеревается вести военные действия против Хиджазской железной дороги с целью отрезать 20 000 турок, находившихся к югу от Аммана, затем, слегка продвинув вперед свой левый фланг, приготовиться к новому наступлению в большом масштабе совместно с морскими силами.
Когда Ллойд-Джордж ознакомился с этими планами, они показались ему слишком узкими. Он жаждал вывести Турцию из войны и для этой цели желал бы видеть Алеппо взятым. Это позволило бы отрезать турецкие силы в Месопотамии или в крайнем случае удовольствоваться полной оккупацией Палестины. В связи с этим Алленби был запрошен о том, какие дополнительные силы потребуются ему для осуществления указанных планов.
Алленби ответил, что он надеется осуществить меньшую задачу к середине лета, но для более крупных задач ему потребуется, по крайней мере, 16 пехотных дивизий, т. е. количество, превышавшее более чем вдвое его наличные силы. Но если бы даже Алленби и получил требуемое подкрепление, то все же он не был уверен в возможности обеспечить его снабжение. Алленби объяснил правительству, что предпочел бы продолжать идти уверенно шаг за шагом вперед в соответствии с заранее намеченным планом, чем следовать полетам фантазии Ллойд-Джорджа. Робертсон был одним из главных ораторов, доказывавших «невозможность» осуществления желаний Ллойд-Джорджа. Но его влияние постепенно ослабевало. 21 января представители нового высшего военного совета союзников приняли, под давлением Ллойд-Джорджа, решение оставаться в состоянии обороны во Франции, Италии и на Балканах и «предпринять решительное наступление на Турцию в целях уничтожения турецких армий и сокрушения сопротивления турок».
Для подготовки этого британское правительство отправило генерала Смутса со специальным заданием проинспектировать положение британских сил в Палестине и Месопотамии. После ряда совещаний, Смутс пришел к убеждению, что ему придется претворить а жизнь желания Ллойд-Джорджа; при этом, пожалуй, наибольшие затруднения представляли не конкретные препятствия — турки или топографические условия, а принципы ведения войны.
Окончательный проект предусматривал, что Алленби должен получить подкрепления в виде британской и индусской пехотных дивизий из Месопотамии и индийской кавалерийской дивизии из Франции. Таким образом, в его распоряжении должно было находиться десять пехотных и четыре кавалерийских дивизий. При наличии этих сил Алленби обещал осуществить настолько решительное наступление, насколько это позволил бы успех строительства им железной дороги. План его заключался в том, чтобы начать те мероприятия и те шаги, которые он уже намечал ранее, а затем развить продвижение в северном направлении по побережью, согласуя это наступление с продвижением строительства железной дороги. С помощью арабов и друзов небольшая колонна должна была попытаться продвинуться внутрь страны на Дамаск.
Однако вследствие прорыва на Западном фронте, явившегося результатом германского наступления 21 марта, была осуществлена только первая часть намеченного плана. Кризис, возникший во Франции, привел не только к отмене директив, преподанных Алленби, но и к переброске части его сил на Запад. Туда были переброшены 2 полные дивизии, 9 кавалерийских полков и 23 пехотных батальона, сформированных из оставшихся дивизий. На их место прислали войска из Индии, которые были наскоро ознакомлены с обстановкой, насколько это представлялось возможным.
Переформированные силы составляли, как и прежде, семь пехотных и четыре кавалерийские дивизии вместо трех. В конечном счете уменьшение сил оказалось благоприятным, так как заставило британское командование развивать идею мобильности и освободило его от скопления масс, слишком больших с точки зрения снабжения при передвижениях. В результате эти силы достигли в сентябре быстрого и сокрушительного успеха.
Согласно оценке официальной истории, план весенней кампании Алленби был «правильным, но жестким и делал транспорт основой всего, вместо того чтобы отвести ему вспомогательную роль. Но Алленби настолько реорганизовал транспорт, что добился менее чем в две недели того, на что потребовалось бы несколько месяцев».
Имея в виду, что к сентябрю условия сопротивления противника сильно изменились, небезынтересно взглянуть и «по другую сторону холма».
Лиман фон Сандерс, успешный защитник Галлиполи, принявший в феврале верховное командование над турецкими силами в Палестине, по прибытии к месту нового назначения был информирован, что «британские силы имели настолько значительное превосходство по всей линии фронта, что могли прорвать фронт в любой момент и в любом, выбранном ими, месте». После инспекторской поездки по фронту Лиман фон Сандерс с этим согласился.
Фалькенгаузен был начальником штаба так называемой 7-й армии, находившейся во внутреннем секторе, обращенном к Иерусалиму. По данным Лиман фон Сандерса, там для обороны фронта протяжением в 30 км имелось всего лишь 3900 штыков. 8-я армия удерживала береговой сектор. 4-я армия, находившаяся к востоку от Иордана, включала все войска, охранявшие Хиджазскую железную дорогу вниз до Маана. Десять дивизий 2-й армии, стоявших против британских войск между Иорданом и морем, были доведены в среднем до 1300 штыков, т. е. соотношение сил было примерно в три раза больше в пользу англичан. Фактически турки имели значительно большее число пулеметов, чем англичане, — шестьдесят на дивизию, и в этом заключалась реальная сила их обороны. Средством, которое могло ее преодолеть, была подвижность, но в этом отношении британские войска уже давно поставили себя в невыгодное положение.
Другой серьезный момент заключался в том, что силы турок весной, когда Алленби собирался их атаковать, были слабее, чем осенью, когда он нанес им поражение. В сентябре прибыло восемь свежих турецких батальонов, а наряду с этим 10 000 человек маршевого пополнения для замещения выбывших из строя. Кроме того, к уже имевшимся трем отборным германским батальонам были добавлены еще три. Однако последние, так же, как и четыре турецких батальона, были отправлены в 4-ю армию, т. е. в зону арабов. В результате, когда в сентябре Алленби нанес удар, там имелось столько же турок, оказавшихся в вынужденном бездействии на востоке от Иордана, сколько стояло против британских войск к западу от Иордана.
Приезд Смутса явился причиной вызова Лоуренса. Алленби хотел знать, какую помощь смогли бы оказать арабы в большом плане наступления, который его вынуждали предпринять. Поскольку Алленби собирался продвигаться к северу, арабы были ему нужны для прикрытия восточного фланга. Это означало, что армия Фейсала должна была сосредоточиться в одном месте для нанесения внезапного местного удара.
(Таким образом из лояльности к Алленби Лоуренс был вынужден теперь предложить то, против чего он сам до сих пор возражал, а именно — взятие Маана. При наличии большего количества перевозочных средств он просит 700 вьючных верблюдов, а также больше пушек и пулеметов.)
Для того, чтобы произвести это нападение, армии арабов потребовалось бы обезопасить себя от прихода турок по железной дороге. Алленби ответил, что это будет достигнуто его подготовкой наступления на Амман. Он также отправил в Акаба два каравана верблюдов, которые давали возможность регулярной армии арабов оставаться в 140 км от базы.
28 февраля было решено, что арабская армия сразу же выступит на плато Маана и займет его, а британские войска должны будут перейти через Иордан и разрушить железную дорогу к югу от Аммана. Начальник штаба Алленби хотел, чтобы арабы, находившиеся на севере, также помогли британскому наступлению. Однако Лоуренс не считал подобное близкое сотрудничество практически осуществимым. Он высказывал тот взгляд, что было бы лучше дождаться окончания набега на Амман, так как намеренный отход от железной дороги мог быть истолкован как вынужденное отступление и тем самым вызвал бы реакцию у арабов.
Однако всем этим планам не суждено было сбыться, хотя путь к их осуществлению и был расчищен успехом Лоуренса у Тафила.
Дело в том, что турки, ожесточившись после поражения у Тафила, решили отомстить за него. Для этой цели они отправили основные силы гарнизона Аммана в экспедицию для взятия вновь Тафила как раз в тот момент, когда британские войска готовились к наступлению на Амман. С этого момента все свелось к вопросу времени.
Экспедиция была отправлена по Хиджазской железной дороге. Одна колонна была высажена в 60 км к северо-востоку от Тафила, другая — в 30 км к юго-востоку. Обе колонны сошлись у Тафила, и хотя Зеид оказал упорное сопротивление значительно превосходившим его турецким силам, все же 6 марта он был вынужден эвакуировать город. Турки стали его преследовать и в течение следующего дня снова отогнали по направлению к Шобек. Однако Зеиду удалось избежать каких-либо материальных потерь. После этого бессмысленного парада экспедиция спустя две недели отправилась обратно. Арабы вновь заняли Тафила.
Однако прежде чем главные силы экспедиционного отряда успели вернуться обратно, британские войска в ночь на 21 марта начали переправу через Иордан для набега на Амман. Против 60-й британской дивизии, кавалерийской дивизии Анзак и имперской бригады на верблюдах у турок было всего лишь 1000 штыков.
К несчастью, пошли сильные дожди, и Иордан вышел из берегов. Британские войска в надежде на улучшение погоды отложили свою попытку на два дня. Затем незначительный удар, нанесенный турками на одной из переправ, вызвал длительную задержку, так что переправа закончилась лишь к утру 24-го. В дальнейшем время было также потеряно при переходе через большое плато вследствие плохого состояния дорог. Таким образом Амман, находившийся примерно в 40 км от Иордана, был достигнут лишь утром 27-го.
Эти задержки позволили германскому и турецкому батальонам вернуться на мулах обратно из экспедиции в Тафила и заставили Лиман фон Сандерса поспешить с переброской крупных подкреплений по железной дороге из Дамаска. В течение следующих четырех дней происходили бесплодные атаки укреплений Аммана. В конце концов благодаря хорошо выполненному ночному переходу новозеландцам удалось 30-го утром захватить высоту 3039, являвшуюся командной высотой к югу от города, и получить в свои руки то, что, согласно военным учебникам, очевидно являлось «ключом позиции». Однако турки отказались признать этот факт, и, таким образом, «ключ в замке не поворачивался». С негодованием и, пожалуй, довольно поздно признав силу непреодолимых фактов, британские войска ночью начали свое отступление. К тому же они совершили еще одну ошибку, причинив железной дороге в течение тех четырех дней, во время которых она находилась в их руках, лишь весьма незначительные повреждения, Лоуренс назвал это «непростительной беспечностью». Британские войска были направлены в Амман не для того, чтобы взять эту деревушку, но для того, чтобы разрушить железную дорогу, а в результате они, имея в своих руках несколько десятков километров линии к югу от Аммана, почти не тронули рельсов.
Отступление через покрытое грязью плато среди толп плачущих беженцев было удручающим и весьма утомительным. При создавшейся обстановке первоначальное намерение навсегда захватить Эс-Сальт было, по-видимому, забыто, так как 1 апреля к всеобщему отступлению присоединился и его гарнизон.
С экономической точки зрения «набег» оказался не слишком выгодным, так как захват примерно 1000 пленных только компенсировал британские потери. Морально для англичан эффект был настолько же тяжел, насколько он был подбадривающим для турок.
Лоуренс поехал к северу, будучи готовым воспользоваться занятием Эс-Сальта войсками Алленби. Он выступил 3 апреля с караваном в 2000 вьючных верблюдов, нагруженных боеприпасами и продовольствием. Размер каравана показывает тот масштаб, в котором он приготовился действовать в районе Мадаба: «это были запасы для 10 000 человек иррегулярных войск на целый месяц».
6 апреля, после четырех легких переходов, караван достиг хорошо снабженного водой участка Атара к юго-востоку от Аммана и здесь нашел расположившуюся лагерем часть своих союзников. Планом предусматривалось, что, как только британские войска захватят Эс-Сальт, племена бени-сахр начнут продвигаться в западном направлении через железную дорогу на Темид — главный источник получения воды, а затем под прикрытием кавалерии Алленби расположатся в Мадаба. Однако из-за неудачи британских войск у Аммана всем этим замыслам так и не суждено было сбыться.
В первый раз оказалось, что новости в пустыне распространялись с удивительной медлительностью. Так, по расчету Лоуренса он только примерно через две недели узнал о неудаче, постигшей англичан у Аммана.
Сообщения, что британские силы отступают от Аммана, а затем, что они «бежали» от Эс-Сальта, оказались для арабов чем-то вроде холодного душа. Сам Лоуренс серьезно встревожился противоречивостью слухов и отправил Азуба, на которого можно было положиться, в Сальт с письмом для Чэтвуда, прося его уведомить о подлинной обстановке. Однако эта попытка получить информацию оказалась слишком запоздалой. «Поздней ночью Азуба, добравшись на скаковом коне до долины, узнал, что Джемаль-паша действительно находился в Сальте, празднуя свою победу и вешая тех местных арабов, которые приветствовали приход англичан. Турки все еще гнали войска Алленби по долине Иордана, теша себя надеждой, что им удастся вернуть Иерусалим». Но Лоуренс достаточно хорошо знал своих соотечественников и считал это невозможным. Тем не менее, было ясно, что дела очень плохи. «Потрясенные неожиданной вестью, мы снова ускользнули в Ататир».
Прибытие табора цыган дало другое направление неиссякаемой энергии Лоуренса. Он нанял трех женщин в качестве своих спутников для разведки в районе Аммана, переоделся сам с несколькими арабами в цыганские одежды и побывал в городе. Внешний вид Лоуренса и его спутников был слишком соблазнительным для некоторых турецких солдат. В результате, чтобы избежать нежелательных приставаний, им пришлось пуститься наутек. Это приключение убедило Лоуренса, что в дальнейшем, как это было подтверждено и его посещением Бальбека в июне предыдущего года, будет лучше всего носить английскую форму, так как появление в ней окажется слишком наглым, чтобы вызвать подозрение.
Видя, что перспективы на севере для данного времени были неблагоприятны, Лоуренс решил снова присоединиться к Фейсалу, а также отправить обратно индусов из Азрака, где гарнизон провел очень тяжелую зиму. Одним из тех, кто скончался от холода, был Дод. Его закадычный друг Фарраж не надолго его пережил. Он был тяжело ранен в стычке с турецким железнодорожным патрулем. Когда Лоуренс попытался перетащить его в одеяле, то Фарраж так жалобно стонал от боли, что его снова положили на землю. Чтобы избавить его перед смертью от мучений турок, Лоуренс прикончил Фарража выстрелом в голову.
Когда два дня спустя Лоуренс прибыл в Маан, его ожидали дальнейшее неприятности. На этот раз они были вызваны глупостью арабов, которые в противоположность бедуинам были насквозь пропитаны традициями регулярной войны. Дело в том, что Фейсал принял план Лоуренса о походе к Маану, но это не удовлетворило большинства офицеров новой арабской регулярной армии. Вместо того, чтобы действовать достаточно разумно и выманивать гарнизон на открытое место, расположив арабскую армию с двух сторон железной дороги, они решили произвести фронтальную атаку. Напрасно Джойс пытался удержать их от этого шага. Молад, добившийся штурма, пожаловался Фейсалу, что англичане вмешиваются и стесняют свободу арабов — в данном случае свободу повторять военные глупости Западного фронта. Вскоре Джойс заболел воспалением легких и был отправлен в Египет. К тому времени, когда прибыл Доунэй, чтобы отговорить арабских офицеров от их решения, возможность переговоров уже отпала, поскольку арабы считали себя обязанными оправдать свои хвастливые заявления.
Поэтому Доунэй придумал план, приноровленный к их желаниям. В то время северная «арабская армия» состояла из:
а) арабской регулярной армии под командованием Джафар-паши: пехотной бригады, батальона пехоты на мулах, батальона на верблюдах и примерно восьми орудий;
б) британских частей под командованием подполковника Джойса: Хиджазской автоброневой батареи (три машины «Роллс-Ройс» с пулеметами и две десятифунтовые пушки на грузовиках «Тальбот»), роты египетского корпуса на верблюдах, отряда из четырех самолетов, транспортных частей и рабочих батальонов;
в) французского отряда с таким вооружением: два горных орудия, четыре пулемета и десять автоматических винтовок;
г) бедуинов и иррегулярных частей крестьян-арабов, привлеченных в различном числе к операциям на их собственных территориях, под командованием майора Т. Е. Лоуренса были распределены на три части: центральную колонну арабских регулярных частей под командованием Молада вместе с всадниками Ауды, северную колонну, также составленную из арабских регулярных частей под начальством Джафара, и южную колонну под непосредственным руководством Доунэя, которая состояла из автобронемашин и египетских частей на верблюдах с незначительным числом бедуинов.
Центральная колонна Молада начала наступление ночью 11 апреля нападением на ближайшую станцию к югу от Маана. Затем она двинулась на Маан. В ночь на 12-е северная колонна Джафара захватила станцию Джердун, находившуюся как раз у Маана, причем взяла в плен 200 турок и два пулемета. Разрушив станцию, колонна двинулась днем вниз по железнодорожной линии и сняла 3000 рельсов. Однако слабое место плана заключалось в том, что он предусматривал очень мало времени для того, чтобы турки пошли на приманку, каковой являлось разрушение дороги, прежде чем арабская регулярная армия приступила к штурму Маана. Когда рано утром 13 апреля Лоуренс прибыл к месту сражения, центральная колонна только что захватила небольшой холм, расположенный на юго-запад от Маана, при этом сам Молад был тяжело ранен. Лоуренс поспешил к его носилкам. В ответ на расспросы старый боец пробормотал арабскую версию Нельсона при Трафальгаре: «Да, действительно, Лоуренс-бей, я ранен, но хвала Аллаху это ничего. Мы захватили высоту». К счастью, в дальнейшем он поправился. Однако атака развивалась не совсем успешно.
Успех при Семна ободрил горячие головы, и Фейсал получил петицию, подписанную всеми его офицерами, в которой они «умоляли разрешить сынам арабов самим атаковать турецкие окопы». Фейсал и его британские советники чувствовали, что спорить было бесполезно. Там, где рассудок уже не мог помочь, арабские офицеры могли быть излечены только опытом.
Для руководства операциями Джафар спустился к Маану, и 16-го Зеид под прикрытием артиллерийского огня начал штурм станции. Но в это время артиллерия прекратила огонь. Лоуренс, который следовал за наступающими на «форде», поспешил обратно, чтобы выяснить этот зловещий промах артиллерийской поддержки. Оказалось, что все снаряды израсходованы.
Таким образом арабы, которым удалось захватить 70 пленных, были вынуждены оставить станцию и, как это часто бывает, понесли при отступлении по открытому месту значительно более тяжелые потери, чем при успешном наступлении. Это было тем более неприятно, что являлось первым серьезным испытанием новой армии. Когда Ауда пришел в лагерь Фейсала и сказал; «Привет, Лоуренс!», — Лоуренс ответил: «Привет за вчерашний вечер».
18-го Джафар попытался добиться сдачи Маана. Хотя ответ турок и выявил их склонность принять это предложение, но в турецком ответе была ссылка одновременно на необходимость выполнения приказов высшего начальства — держаться до последнего патрона. Джафар высказал свою готовность облегчить им этот процесс. Но тем временем Джемаль-паша, освободившийся от британского нажима на Амман, сумел отправить подкрепление для возвращения обратно станции Джердун и переправить в Маан через разобранный железнодорожный путь караван с боеприпасами и продовольствием.
В это время южная колонна, состоявшая из британских, египетских и бедуинских частей, разрушала железнодорожный путь к югу от Маана. Доунэй организовал это дело, как выразился Юнг, «по всем правилам военной академии». Лоуренс же сразу после неудачи у Маана поехал к Доунэю, будучи обеспокоен применением в партизанском бою самого сложного орудия — автобронемашины. Он сомневался также в том, что Доунэй, который не говорил по-арабски, учтет взаимную антипатию между бедуинами и египтянами и будет в состоянии устранить возможные трения между ними. Поэтому он решил предложить свои услуги «деликатным образом — в качестве переводчика».
Не страдая излишней гордостью, Доунэй радостно приветствовал Лоуренса, когда тот приехал 18-го к нему в лагерь. Увидя лагерь, Лоуренс пришел в восторг. В одном месте были геометрически правильно расставлены автомашины, в другом — бронемашины, впереди с пулеметами наготове находились часовые и пикеты. Даже арабы были расположены в тактически правильно выбранном месте, за холмом, в качестве поддержки, но их не было видно и слышно. «У меня так и чесался язык от желания сказать, что единственно кого не было, — это противника».
Тонкая ирония Лоуренса была вызвана видом часовых, расхаживавших взад и вперед. Он взял на себя смелость расставить их в укрытии, приказав им только слушать и сидеть спокойно. Комедия «расхаживающих часовых» не раз обходилась дорого во время иррегулярных операций.
Еще большее впечатление производили оперативные приказы. Каждая боевая единица имела установленные обязанности и время, в которое она должна была их выполнять; все было предусмотрено для того, чтобы можно было избежать каких бы то ни было недоразумений и обеспечить каждое передвижение надлежащей огневой поддержкой. Единственным затруднением было то, что шериф не мог согласовать установленные для него обязанности. Первое мероприятие, которое нужно было осуществить, — это занять пост, который Джойс и Лоуренс захватили накануне Нового года; второе — захватить «южный пост»; третье — сблизиться и взять станцию.
На рассвете 19-го бронемашины, которые «захватили» в темноте станцию, «бесшумно» пошли поверх окопов, разбудив спящих турок, которые начали выскакивать из окопов. Затем Хорнби со своими «тальботами», нагруженными взрывчатыми веществами, уничтожил «мост А», взлетевший на воздух с сильным грохотом. Лоуренс был не только потрясен силой взрыва, но и неэкономным использованием пироксилина. Он побежал вперед, чтобы показать Хорнби свой более экономный способ забивания пироксилина в дренажные отверстия, которые он таким образом превращал в зарядные отделения мин. В результате с последующими мостами разделались более дешево, но не менее эффектно.
План атаки на «южный пост» был несколько нарушен «иррегулярным» поведением бедуинов. В то время как египтяне сознательно продвигались вперед в соответствии с обычным методом постепенных перебежек, арабы пошли в атаку на верблюдах прямо через брустверы и окопы. Турки, измученные войной, с облегчением сдались.
Последовал третий и окончательный шаг. Оперативный приказ гласил: «Станция должна быть взята в 11.30». Однако «турки, очевидно, не зная об этом, впопыхах сдались на 10 минут раньше. Это было единственным пятном за весь бескровный день». Египтяне подходили с севера под прикрытием артиллерийского огня, самолеты бросали бомбы, бронированные машины продвигались вперед, когда через дымку показались турки, размахивавшие белым флагом в знак своего желания сдаться немедленно. Последовала гонка к станции. Лоуренс оказался первым и получил станционный колокол, следующему достался компостер, а третий получил железнодорожный штемпель. «Турки смотрели на нас с изумлением». Египтяне и бедуины из-за дележа добычи дошли почти до драки, как вдруг один из верблюдов, неожиданно наступив на турецкую мину и тем самым уничтожив себя, временно отвлек внимание грабителей. Лоуренс сказал, что предвидение подобных трений являлось основной причиной, заставившей его поехать к Доунэю. Антипатии между египтянами и бедуинами были очень сильны, и попытки египтян спасти какую-либо часть добычи от грабежа чуть не вызвали схватку. «Меня позвали в самый последний момент, и я едва успел удержать арабов. В противном случае все регулярные солдаты были бы перебиты». Это объяснение может быть дополнено показаниями других очевидцев, которые говорили, что способ, которым пользовался Лоуренс для водворения спокойствия, был совершенно непонятным — чем-то «вроде гипнотического влияния укротителя львов».
Грабеж был настолько грандиозным, что весь план Доунэя рухнул, так как наутро большинство арабов сбежало. Оставшиеся верными арабы были вознаграждены, когда автобронемашины заняли следующую станцию — Рамла, где совсем не оказалось турок, но было оставлено много вещей. На следующий день бронемашины отправились на разведку к станции Мудаввара.
Оказалось, что станция была слишком сильно укреплена, чтобы можно было совершить на нее нападение. Тем не менее Доунэй настолько энергично следовал своей тактике разрушения железной дороги, в чем ему помогал присланный Фейсалом отряд арабов, что 130 км пути между Мааном и Мудавварой с семью небольшими промежуточными станциями были разрушены полностью. Поскольку у турок иссякли запасы рельсов, Хиджазская линия была разрушена совершенно и Медина отрезана.
Таким образом, Доунэй не только осознал необходимость расчета, но и необходимость проведения своих операций до конца. Оценка, данная ему Лоуренсом, заслуживает того, чтобы быть приведенной: «Доунэй был для нас лучшим подарком Алленби — лучшим даже, чем тысячи вьючных верблюдов. Как кадровый офицер, он являлся представителем своей касты; в нем всегда чувствовался подлинный военный. Он разбирался в вещах, инстинктивно чувствуя особенности восстания; в то же самое время военная подготовка облегчила ему понимание этого вопроса. Он ознакомился и с войной, и с восстанием; поскольку он был моим старым другом еще со времени Янбу, моей мечтой было видеть таким каждого кадрового офицера. Однако подобного успеха за три года достиг только Доунэй».
В то время как Доунэй возвращался обратно в Каир, Лоуренс обсуждал со своим вновь назначенным заместителем, какие дальнейшие операции могут быть осуществлены. Было решено, что, в то время как небольшая часть арабской регулярной армии будет оставлена для сдерживания гарнизона Маана, основные силы под командованием Зеида двинутся на север. Юнг должен был отправиться с Зеидом, войти в контакт с Мизруком и уговорить арабов присоединиться к нападению на Джурф-Эд-Дерауиш. После захвата Джурфа надлежало развертывать дальнейшие операции, для того чтобы добиться к северу от Маана еще одного разрушения железнодорожного пути.
Согласовав план с Фейсалом, Лоуренс отправился в Египет, чтобы выяснить дальнейшие намерения Алленби. Доунэй сопровождал его до штаба. Когда они прибыли туда 2 мая, их ожидали там дальнейшие неприятные новости или, вернее, предчувствие их в ближайшем будущем. Болс с радостью сообщил им: «Ну-с, с Сальтом все обстоит хорошо». Далее он рассказал, что вожди арабов бени-сахр прибыли в Иерихон и предложили поддержку «20 000 арабов из Темида», в связи с чем Болс разработал новый план операций против Амманского плато. Утром 30 апреля британские войска перешли Иордан, и в тот же самый вечер конные арабы Анзак, прорвавшись на север, заняли Эс-Сальт.
Хотя это звучало хорошо, но Лоуренс почувствовал, что в этом «скрывается обман». «Я спросил, кто был вождем арабов бенн-сахр, и Болс ответил: «Фахад». Это становилось все глупее и глупее. Я знал, что Фахад не смог бы набрать и 400 человек, что в данный момент в Темиде не имеется ни одной палатки, так как бени-сахр двинулись на юг, к Юнгу. Мы поспешили в штаб, для того чтобы убедиться в действительном положении вещей, и, к несчастью, узнали, что все было так, как говорил Болс. Британская кавалерия неожиданно пробралась на холмы Моаба, основываясь на каком-то туманном обещании шейхов Зеби — жадных арабов, которые приехали в Иерусалим только для того, чтобы испытать щедрость Алленби, однако там их вскоре раскусили».
В действительности же Болс имел больше оправданий, чем это представлял себе Лоуренс, так как Мизрук, представитель Фейсала на севере, отправил шейхов через Иордан и дал им письмо для Алленби, в котором говорил, что ему нужна лишь небольшая поддержка со стороны британских войск, чтобы покончить с турками в Трансиордании. Его живое воображение, таким образом, разделяло ответственность за доверие, проявленное Болсом, но не извиняло его. Алленби, конечно, был введен в заблуждение своим штабом в отношении этого вторичного наступления на Транс-йорданию. Доунэй покинул его, уехав во Францию, а Бартоломью, который должен был разработать окончательную операцию войны, еще не перевелся из штаба Чэтвуда к Алленби.
Однако Алленби заранее написал Шовелю, которому было поручено произвести новую операцию: «Как только вы захватите фронт Амман — Эс-Сальт, вы должны сразу же подготовиться для дальнейших действий в северном направлении в целях быстрейшего наступления на Деръа». Становится ясным, что эта операция была вдохновлена чрезмерным честолюбием и что она являлась еще одним примером разницы, так хорошо знакомой историку, между намерением командующего и его последующим объяснением для истории.
С момента предыдущего наступления турецкие силы увеличились, причем их главная часть, численностью около 6000 человек, удерживала чрезвычайно сильно укрепленную позицию поперек основной дороги к Амману. Последняя проходила по откосу большого плато, оставленного британскими войсками при предыдущем отступлении и явившегося теперь преградой на их пути. Для того, чтобы преодолеть более сильное сопротивление, британские силы, в основном те же самые, получили в подкрепление австралийскую конную дивизию.
60-я дивизия, частично усиленная кавалерийской дивизией Анзак, была предназначена для фронтальной атаки позиции, в то время как остальные кавалерийские части должны были направиться к северу по долине Иордана, взобраться на откос и захватить Эс-Сальт, который удерживался лишь несколькими ротами турок. Оттуда им надлежало направиться к югу против тыла главной позиции. Представители арабов бени-сахр обещали тем временем перерезать пути к Амману, по которым шло снабжение турок. Таким образом теоретически турки должны были быть полностью отрезаны.
Однако 60-я дивизия вскоре имела случай осознать трудности возложенной на нее задачи. Несмотря на повторные попытки, ее атака задерживалась пулеметным огнем. Тем временем кавалерия прошла километров восемнадцать к северу. Здесь бригада была расположена поперек дороги для прикрытия фланга, но была разгромлена турками. Оставшиеся кавалерийские части пошли на восток двумя путями и взобрались на плато, растянувшись при подъеме. До вечера Эс-Сальт не был занят. 5-я бригада, составленная из английской добровольной кавалерии, которая задержалась еще больше, произвела атаку на следующее утро, но была встречена не турецкими пулями, а добродушными насмешками австралийцев.
60-я дивизия, попытавшаяся в то утро возобновить свои атаки на Шунет-Нимрин, встретила еще более серьезный отпор. Между тем командир 5-й кавалерийской бригады, вместо того чтобы придти на помощь пехоте, предпочитал, чтобы пехота пришла ему на помощь. В конце концов командир бригады поехал к командующему дивизией, который, согласившись с его оценкой крепости турецкой позиции, вместо того чтобы посмотреть ее самому, решил отложить дальнейший бой до следующего дня, когда можно будет использовать другую кавалерийскую бригаду. Решение было роковым, так как время шло и возможности пропадали.
С северо-запада через Иордан по мосту Дамие были доставлены турецкие подкрепления; выдвинувшись клином на восточном берегу, они угрожали линии отступления британских войск. Началась гонка между британской кавалерией, которая наступала на турецкий тыл, и турецкой пехотой, наступавшей на британский тыл. Кавалерия оказалась наименее способной к продвижению и наиболее чувствительной к опасности. Несмотря на категорические приказания, полученные от высшего командования, британские войска на следующий день, 2 мая, мало что сделали. К 3 мая положение кавалерии, у которой не оказалось продовольствия, несомненно было тяжелым. В полдень приехал Алленби, чтобы повидать Шовеля. Ознакомившись с «несколько преувеличенным докладом», он решил избегнуть дальнейших потерь и приказал приостановить операцию. Отход к Иордану был проведен достаточно умело и прошел без серьезного вмешательства со стороны противника.
Очевидная опасность потребовала срочного вызова Лоуренса. Его попросили быть готовым к полету в Эс-Сальт и провести обратно отрезанную кавалерию через Мадаба, Карак, Тафила. Это было вполне возможно, так как имелось много воды и достаточно продовольствия. Турки были бы весьма поражены. Штаб считал, что силы, находившиеся Эс-Сальте, по-видимому, оказались отрезанными от Иордана частями противника, слишком сильными, чтобы сквозь них можно было прорваться.
Арабы, на которых рассчитывал Боле, способствовали неудаче британских войск. За недостатком кавалерии они могли бы сломить турецкое сопротивление, лишив турок снабжения. Официальная история высказывает предположение, что «они, по-видимому, были подкуплены», воспользовавшись двойной выгодой за свое умышленное бездействие, Но действительное объяснение было, по-видимому, дано Юнгом, который говорит, что когда Мизрук получил ответ от штаба командования, который показывал, что последний отклонил его предложение, он был напуган последствиями своего предложения и решил отказаться от попытки двинуть племя бени-сахр в наступление. «Он знал очень хорошо, что бени-сахр без орудий не смогут ничего сделать, а орудия не прибыли». В отношении этого Лоуренс дал следующее объяснение: «Мизрук не имел права перебрасывать их. После того, как они месяц тому назад испытали потрясение, им нужно было бы подвигаться как следует».
Неудача этой второй попытки наступления на Трансиорданию в конечном счете оказалась тем не менее выгодной для англичан, так как она привлекла внимание командования противника к этому району. Алленби не замедлил этим воспользоваться. Репутация упорства британских войск в области стратегии «пытаться и вновь пытаться» заставила поверить, что они могут провести наступление на Трансиорданию и в третий раз.
С точки зрения Лоуренса, неудача имела одно преимущество, заключавшееся в том, что она сделала британский штаб более снисходительным к трудностям, встречавшимся у Фейсала. Неудача укрепила также и положение самого Лоуренса, так как британский штаб увидел, что операции иррегулярных частей являются таким же искусством, как и руководство регулярными войсками. Штаб обещал ставить его в известность в том случае, когда что-либо в этом роде потребуется в дальнейшем. Однако неудача осложнила взаимоотношения Фейсала с племенами, находившимися на севере, которые теперь высказывали меньше желания рисковать своим благополучием, опираясь на такую ненадежную поддержку, как британские войска.
Таково было положение вещей, о котором Лоуренс узнал 5 мая. В это время, согласно первоначально намеченному плану, должно было начаться большое наступление в северном направлении. Лоуренс, конечно, не мог не понимать, что это его касается, потому что ослабление усилий британских войск означало, что армия Фейсала не сможет передвинуться к Иордану. Алленби обещал сделать все возможное, чтобы заставить противника ожидать возобновления наступления на Амман, что также помогло бы скрыть его собственные намерения. Воздушные силы оказывали Фейсалу еще большую помощь, чем прежде, повторными воздушными бомбардировками железной дороги, расстроившими сообщение. По мнению Лоуренса, воздушные силы «теперь были неоценимы».
Лоуренс также получил от Алленби подарок, проявив еще раз свое умение обращать человеческие слабости в свою пользу. За чаем он слышал от Алленби, что большая часть имперской бригады на верблюдах должна быть расформирована, и пошел повидаться с главным квартирмейстером в надежде получить верблюдов для Фейсала. Квартирмейстер проявил свое полнейшее нежелание расстаться с верблюдами, так как они были намечены им для дивизионных транспортов.
«Я вернулся к Алленби и громко заявил перед собравшимися, что имеется 2200 верховых верблюдов и 1300 вьючных. Их всех намечали использовать для транспорта. Представители штаба сделали умное лицо, как будто они действительно сомневались в способности верховых верблюдов перевозить грузы. После длительных уговоров и угроз я все же получил верблюдов. Арабы могли теперь выиграть свою войну, когда и где они этого хотели». Это дало толчок идее о самом смелом ударе, который Лоуренс когда-либо замышлял. Доложив свой план Алленби, он отправился на юг, чтобы начать подготовку.
Когда Лоуренс вернулся обратно в Акаба и сообщил вождям арабов о плане, они в восторге забыли все свое достоинство. В целях дальнейшего увеличения подвижности Лоуренс предложил отказаться от египтян, обслуживавших вьючных верблюдов, и заменить их арабами. Британское командование с такой радостью ухватилось за его предложение, что организация транспорта до прибытия погонщиков-арабов была временно нарушена.
Она была исправлена Юнгом, принявшим на себя должность квартирмейстера, дававшую ему больше возможности для проявления своих организаторских способностей, чем в попытках согласования операций бедуинов.
Едва Юнг уехал, как Назир с египетскими частями на верблюдах и Хорнби в качестве инструктора по подрывному делу двинулись на север, где настолько удачно разрушили железную дорогу на протяжении 26 км, что в течение последовавших критических недель угроза со стороны Аммана была устранена.
Наступление Назира застало турок врасплох. Сначала 23-го он разрушил станцию Хеза и на следующий день — станцию Фарайфра, не потеряв ни одного человека. В промежутках между набегами он отходил в скрытую долину с богатыми пастбищами, где всегда в случае необходимости мог рассчитывать на получение быстрой поддержки от Тафила. Это была та тактика «неуловимого привидения», о которой мечтал Лоуренс.
По возвращении на юг Лоуренс заверил Фейсала, что теперь обеспечена большая передышка до того момента, пока арабы не смогут благодаря прибытию верблюдов возобновить свои наступательные операции с большим радиусом действия и в большем масштабе. Для того, чтобы подготовиться к этим операциям, Лоуренс предложил перебросить все арабские регулярные части, находившиеся в то время в Хиджазе с Али и Абдуллой, к Акаба. Это позволило бы довести регулярные силы Фейсала примерно до 10 000 человек. Лоуренс намечал разделить их на три части. Самая большая, но наименее подвижная должна была продолжать удерживать Маан. Другая, состоявшая примерно из 2000–3000 пехоты, должна была направиться на Амманское плато в качестве ядра для бени-сахр и связаться с Алленби. Третья, чрезвычайно подвижная часть, на верблюдах, численностью около 1000 человек, должна была совершить длительный переход к Дамаску, чтобы разрушить турецкие линии связи и таким образом затруднить сопротивление турок, стоявших против Алленби. Последняя часть являлась главной частью плана, так как в данном случае Лоуренс имел в виду нечто большее, чем набег.
«Мой план удержания Маана и одновременного призыва к восстанию в действительности был направлен к тому, чтобы захватить Дамаск и уничтожить турецкую армию в Палестине между моим молотом и той наковальней, которой являлись войска Алленби».
Фейсал тоже согласился с этим планом и дал Лоуренсу несколько писем для передачи Хуссейну. Зная подозрительность Хуссейна к своему сыну, Лоуренс решил сначала добиться давления на него со стороны британских властей. Для этого он поехал в Каир и изложил свои намерения Доунэю, который полностью их одобрил. Затем 19-го они отправились в штаб Алленби, где их ожидал сюрприз.
Лоуренс почувствовал удивительное изменение атмосферы к лучшему. Реорганизация армии продвинулась настолько далеко, а перспективы ее начальников настолько расширились, что Алленби замышлял не только выполнить отложенное весеннее наступление, но и осуществить его в значительно более широких масштабах, имея конечной целью захват Дамаска и Алеппо. Наступление намечалось начать в сентябре, и арабы, как это было заранее договорено, должны были прикрывать фланг Алленби и отвлечь внимание турок ударом на Деръа.
Эти известия, обещавшие более быстрое развитие операций, уменьшили значение планировавшейся переброски из Хиджаза. Тем не менее Лоуренс считал разумным иметь готовую альтернативу. Получив письмо от Алленби, он отправился в Джидду. Однако Гуссйн, по-видимому, был предупрежден о цели его посещения и нарушил планы Лоуренса, постоянно находясь в Мекке. Разговор по телефону оказался безрезультатным, давая возможность Хуссейну «не слышать» того, чего он не хотел. Поскольку Лоуренс уже не чувствовал той необходимости в осуществлении намеченных им мероприятий, какая была раньше, он повесил трубку и вернулся в Каир, чтобы заняться вопросами подготовки имевшихся сил арабов в соответствии с новым планом Алленби. Этот период его отсутствия был самым длинным за время войны— он отсутствовал до 28 июля.
За время его отсутствия арабы потерпели несколько неудач. Особенно тяжелое поражение они потерпели 21 июля вследствие слишком регулярной дневной атаки на станцию Джердун. Арабы, сосредоточив против турецкого гарнизона до 1000 бедуинов при поддержке артиллерии, пулеметов и авиации, все же вынуждены были отступить, потеряв 80 человек убитыми. Их отступление дало возможность туркам снова подвезти припасы в Джердун и Маан и произвело настолько тяжелое моральное впечатление, что породило страхи в отношении удержания арабами Абу-Эль-Лиссал. Эта потеря боевого духа, так же, как и потеря Тафила в марте, является косвенным доказательством того, насколько приходилось считаться с влиянием Лоуренса; вместе с тем она заставляет предполагать, что необычная тактика и методы иррегулярной войны были наиболее пригодными для осуществления стратегии арабов, что Лоуренс всегда и доказывал.
Глава XIV. Подготовка к конечному удару. Июль — август 1918 г.
11 июля Лоуренс и Доунэй снова были в штабе командования, где их ознакомили с основными моментами плана Алленби. Британское правительство не получило еще никаких сведений о намерениях командующего, — настолько тщательно последний скрывал их до того момента, пока его штаб не проработал расчетов, дававших уверенность в их осуществлении.
Опыт, имевшийся у Лоуренса в отношении расчетов британского штаба, всегда вызывал с его стороны здравую критику; поэтому он принял меры предосторожности и посетил отделы, чтобы самому убедиться в точности методов, которые в данном случае применялись. Его беспокойство несколько уменьшилось, когда он узнал, что начальник штаба, так же, как и начальник отдела снабжения и перевозок, был в отпуску и что в отсутствии последних вопросы материального обеспечения прорабатывали их «правые руки» — Бартоломью и Эванс. Еще важней оказалось то, что они намечали перераспределение транспортов армейских корпусов не по стереотипному образцу, а методом, который соответствовал различной степени подвижности, в зависимости от стоявших перед ними задач. Таким образом темпы наступления могли быть выдержаны и преследование продлено. Далее, вместо того, чтобы быть привязанными к линии снабжения, боевые части армии получали сравнительную свободу передвижения. Имелось также определенное намерение использовать военные пайки только во время переходов, в остальное же время доставать продовольствие у населения.
Оперативный план представлял собой противоположность плану Газа — Беэр-Шева. Вместо создания угрозы наступлением у берега, для прикрытия действительного удара внутри страны намечались всевозможные хитрости, чтобы вызвать в то время как фактически прорыв совершался прибрежным коридором, с одновременным созданием у противника представления о том, что английские войска собираются двинуться через внутреннюю часть страны из долины реки Иордан. Массы пехотных частей намечалось скрытно сосредоточить у Средиземного моря, а за ними, в апельсинных рощах у Яффы — кавалерию. После того, как 21-й корпус совершит прорыв турецкого фронта, через него должен был пройти конный корпус и преследовать противника. Отогнав противника в северном направлении на 25 км, он должен был свернуть на восток в холмы Самарии, чтобы захватить узловой пункт железной дороги у Себастие и перерезать турецкие линии сообщения. Тем временем 20-й корпус Чэтвуда должен был атаковать турецкий фронт на холмах. Это была прекрасно разработанная схема решительного обходного движения, могущая по своей полноте сравниться с Каннами. Спустя несколько недель она была еще более улучшена смелым расширением действий, которыми предусматривалось забросить сеть еще дальше на тыл турок и этим уменьшить их шансы на возможность ускользнуть до того момента, когда сеть будет туго затянута.
Однако совершенство этой схемы являлось одновременно и ее слабым местом, не давая возможности изменений а том случае, если бы первоначально намеченный план не был выполнен. План определялся топографическими условиями, так как только в прибрежном секторе, находившемся у начала железной дороги, могли быть собраны достаточные резервные припасы, а кавалерия могла найти подходящий путь для быстрого продвижения. Бартоломью не напрасно беспокоился в отношении чрезвычайно тонкой границы между полным успехом и полным провалом. Если бы турки только узнали о намеченном плане и оказались достаточно разумными, чтобы вовремя отступить, британская армия, по выражению Лоуренса, оказалась бы «в положении рыбы, выброшенной на берег», с неудачно расположенными железными дорогами, тяжелой артиллерией, боевыми припасами, складами и лагерями.
Были приняты все меры к тому, чтобы турки оставались в состоянии заблуждения и их взоры были прикованы к Иордану. Чтобы достигнуть этой цели, британский штаб придумывал целый ряд правдоподобных отвлекающих операций в большом масштабе. Ложные маневры, которые для обычного генерала были лишь вводными эпизодами перед боем, у Алленби сделались основным моментом его стратегии. Однако для действительного отвлечения внимания противника Алленби приходилось рассчитывать главным образом на отряды арабов, что и заставило его вызвать в Каир Лоуренса и Доунэя и обратиться к ним с просьбой проявить в этом деле всю их изобретательность.
В Каире их ожидало осложнение: поступили сведения о том, что турки замышляют нанести новый удар по Абу-Эль-Лиссал примерно в конце августа. Если бы это действительно произошло, то весьма вероятно, что план наступления на Деръа был бы расстроен. Теперь арабы также нуждались в отвлечении противника, чтобы обеспечить свой собственный план. О средствах для осуществления задуманного позаботился Доунэй, который предложил воспользоваться оставшимся батальоном разгромленной имперской верблюжьей бригады. С помощью Бартоломью им удалось добиться временной переброски на месяц двух рот с условием, что последние будут избегать потерь.
Доунэй и Лоуренс набросали схему, согласно которой отряд Бакстона должен был совершить переход от Суэцкого канала к Акаба и оттуда ночной атакой захватить станцию Мудаввара. Вторым большим переходом, повернув к северу, он должен был дойти до окрестности Аммана, уничтожить там мост и тоннель, а затем вернуться в Палестину.
В Акаба план не вызвал одобрения. Джойс и Юнг, встречая на пути многочисленные трудности, прилагали все усилия к организации транспорта арабской регулярной армии для предстоящего наступления на Деръа. Юнг, в частности, считал, что Лоуренс относился слишком легкомысленно к административным вопросам, и был склонен думать, что арабские регулярные части могут передвигаться так же легко, как и иррегулярные части бедуинов. Сам Юнг с чрезвычайной тщательностью разработал план организации хорошо снабженной базы в Азраке и промежуточных складов боевых припасов в Джефире и Баире.
Сообщение, полученное от Доунэя, являлось весьма неприятным. Джойс опасался реакции, которую могло вызвать вторжение британских сил в зону арабов, и не понимал, почему Лоуренс, всегда противившийся подобному соединению, внезапно изменил свою точку зрения. Возражение Юнга было «чисто арифметическим», так как, в соответствии с новыми инструкциями, он должен был организовать цепь временных складов фуража и продовольствия для похода отряда под руководством Бакстона. «Каждый грузовой верблюд, даваемый Бакстону, являлся грузом, который мы отнимали у нашего собственного летучего отряда, а нам требовалось все, что мы могли получить». Поэтому в своем срочном ответе, без особой охоты соглашаясь на проект захвата Мудаввары, они возражали против второй, более дальней операции. Однако по мнению Лоуренса, она была основной, так как являлась средством для убеждения турок в том, что британские войска намереваются произвести третье наступление на Трансиорданию. Он считал, что благодаря этому можно будет искупить потери первых двух ошибочных попыток, превратив их в звенья одной цепи преднамеренной стратегии. То обстоятельство, что корпус верблюдов уже принимал участие в предыдущих наступлениях, могло лишь помочь введению противника в заблуждение.
Имея перед собой более широкие стратегические проблемы, Лоуренс также критически подошел к оценке присланного в Каир плана Юнга. Зная «грязные, непроходимые дороги» Хаурама зимой, он видел слабость плана в том, что последний предусматривал отправку туда сил в слишком позднее время года. План не был пригоден и для данного частного случая, так как Алленби собирался начать наступление в конце сентября. Наличие любых сил в нужный момент было бы лучше самых совершенных и прекрасно снабженных сил, прибывших слишком поздно.
Поэтому Лоуренс вылетел в Акаба, чтобы ознакомить Джойса и Юнга с новым планом. Хотя его объяснение и было убедительным, оно все же не устранило полностью всех разногласий. Сомнения Джойса рассеялись, когда Лоуренс указал, что отряд Бакстона не войдет в соприкосновение с арабской армией, но в то же время слух о присутствии этого отряда может вызвать у турок преувеличенное представление об его численности и удержать их от вмешательства в действия арабов. Что касается Юнга, то между ними и Лоуренсом произошла интересная стычка. Взяв расписание Юнга, составленное им для набега на Деръа, Лоуренс вычеркнул из него заготовку фуража в районе, лежащем за подвижным складом в Баире, заявив, что в этом году в районе Ахрак — Деръа имеются прекрасные пастбища. Таким образом отпала самая трудная для выполнения статья. Затем он урезал продовольственную норму, заявив, что люди смогут прожить на то, что им удастся раздобыть на месте.
На это Юнг с сарказмом заметил, что десятидневное путешествие обратно превратится в длительный пост. Лоуренс возразил, что он вовсе и не намеревается возвращаться в Акаба. Разговор продолжался в таком духе и дальше, причем Лоуренс парировал «регулярные» возражения Юнга повторением своей «иррегулярной» истины о том, что арабы живут, довольствуясь малым, и одерживают победы над турками благодаря своей неуязвимости.
Если Юнг все еще испытывал досаду, а Джойс — некоторые сомнения, то в желании достичь больше того, что казалось возможным, все колебания были забыты. Уверенность Лоуренса действовала так же, как подкожное впрыскивание: она производила местный укол, но давала всюду проникающий эффект. Как он заметил сам, она вызывалась не столько верой в свои силы сделать «что-либо» отлично, сколько желанием сделать это «что-либо» хотя бы как-нибудь, чем не сделать его совсем.
Осуществить внешние приготовления к наступлению оказалось легче, чем те дипломатические переговоры, которые полностью выпали на долю Лоуренса. Та лестница, с помощью которой силы арабов стремились добраться до Деръа и Дамаска, должна была создаваться из ступенек, являвшихся рядом племен, каждая из которой должна была хорошо входить в свое место, а все в целом прочно держаться. Наиболее важным моментом являлась возможность обеспечения поддержки Нури Шаалана, без которого экспедиция имела мало шансов взбираться по лестнице. Последний для этой цели был приглашен к Фейсалу.
Интересное впечатление о Лоуренсе того времени высказал майор Стэрлинг, сделавшийся в дальнейшем офицером для связи со штабом британских войск. «Прибыв в Абу-Эль-Лиссал, расположенный примерно в 5000 футов над уровнем моря, я нашел Лоуренса, только что возвратившегося из успешного набега на железную дорогу, в его палатке, сидящим на великолепном персидском ковре, добытом из какого-либо турецкого поезда. Он был одет, как обычно, в белоснежные одеяния с золотым кинжалом Мекки за поясом. Снаружи, развалившись на песке, находилось несколько арабов из его охраны, занятых чисткой винтовок. Арабы, напевая про себя, несомненно, наслаждались воспоминаниями о каких-либо особенно интересных подробностях той дьявольской проделки, которую они только что закончили. Они представляли собой чрезвычайно интересную компанию численностью около 100 человек. Большинство из них являлось наемными солдатами. Каждый прославился каким-либо отважным подвигом, а с точки зрения умения ездить верхом и ругаться они были самыми искусными в Аравии. Охрана была весьма необходимой предосторожностью, так как голова Лоуренса была оценена в 20 000 фунтов стерлингов, а арабы являлись вероломным народом, пока они вам не присягнули и пока они не получают от вас денежного вознаграждения. Любой человек из охраны Лоуренса с восторгом отдал бы за него жизнь. Имелась и другая причина, почему были нужны отборные люди. Передвижения Лоуренса были внезапными, а его поездки — продолжительными и тяжелыми, и лишь немногие обыкновенные арабы были в состоянии покрывать такие расстояния. Как это ни удивительно, но англичанин смог побить все рекорды Аравии и по быстроте передвижения, и по выдержке».
Что же позволяло Лоуренсу овладеть и держать в своем подчинении арабов? На этот вопрос ответить трудно. Арабы отличаются своим индивидуализмом и дисциплине не поддаются, но, несмотря на это, любому из нас было достаточно сказать, что Лоуренс хочет, чтобы то или другое было сделано, и это делалось. Каким образом он приобрел себе такую власть над ними? Частично это может быть объяснено тем, что Лоуренс являлся как бы душой освободительного движения арабов. Однако я думаю, что искать ответа мы должны главным образом в таинственной способности Лоуренса воздействовать на чувства любой группы людей, среди которых он находился, в его умении читать их задние мысли и обнаруживать силы, заставлявшие их предпринимать те или иные действия.
Способность эта часто подвергалась испытанию, но, пожалуй, никогда еще столь сильному, как в последнее лето войны, когда Лоуренс обнаружил, что Фейсал, считая британские силы ненадежными, вел переговоры с турками. (Извиняющими обстоятельствами для Фейсала были не только поражения, которые несли англичане, но также и установленный им ранее факт, что сами англичане вели переговоры с турками и притом с той их частью, которая была наиболее враждебна его намерениям. Переговоры между англичанами и турками дошли до ушей Фейсала через неделю после того, как они произошли.) После оставления британскими войсками Эс-Сальта, Джемаль-паша отправил к Фейсалу из Дамаска Мохаммед-Саида. Результатом их переговоров явилось согласие Фейсала покинуть англичан, если турки эвакуируют Амман и передадут провинцию арабам. Однако об этих переговорах не был предварительно поставлен в известность король Хуссейн в Мекке. Когда он услышал о них, он был ошеломлен и отправил гневную телеграмму протеста, в которой заявил, что он никогда не поддержит подобного соглашения и туркам надо ответить, что «между нами лежит только меч». Британские представители в Акаба и Египте тогда об этом, конечно, ничего не знали. Однако несмотря на всю осторожность Фейсала, Лоуренс быстро понял действительное положение вещей.
Способ вмешательства Лоуренса в это дело являлся весьма для него характерным. Осторожно дав понять Фейсалу, что его переговоры с турками ему известны, Лоуренс притворился, что он расценивает их как ловкий дипломатический шаг, предназначенный усыпить бдительность турок, и предложил Фейсалу вести их дальше. Последний последовал его совету, и торговля с турками некоторое время продолжалась, так как Лоуренс правильно учел, что Фейсал, как только его союзникам станет известно о переговорах, будет вынужден превратить свою политику в отвлечение противника.
Другим примером искусства Лоуренса в обращении с арабами являлся его метод руководства их природным инстинктом, чтобы извлечь из него всю выгоду и в то же время предупредить опасное сумасбродство. Целью Лоуренса было нанести удар так, чтобы не получить удара самому, и ударить в то место, где будет больнее. Предоставленные самим себе, арабы, как он однажды сказал мне, «срубили бы все дерево, вместо того чтобы перерубить его корни». Поэтому, стимулируя активность арабов по свойственным им направлениям, он нашел способы избегать малообещающих начинаний. Иногда он достигал этого посещением Фейсала, которому говорил: «Мы не будем платить за подобное представление». В других случаях он расстраивал планы более тонко, вызывая среди вождей, которые собирались принять участие в их осуществлении, временные разногласия.
Выработанные Лоуренсом методы объединения арабов для выполнения определенной цели были тесно связаны с его тщательно продуманными стратегическими методами; сосредоточенность мысли порождала сосредоточение сил если не с внешней стороны, то во всяком случае в действительности.
30 июля Бакстон прибыл в Акаба с двумя эскадронами на верблюдах, численностью в 300 человек, после семидневного перехода из Кабри, находившегося на Суэцком канале. Фейсал частным порядком был уведомлен об их предстоящем прибытии, в связи с чем Лоуренс выехал им навстречу в Акаба. Чтобы уменьшить возможность возникновения трений, Лоуренс, из предосторожности, обратился к присутствовавшим с речью, которую многие запомнили. Стэрлинг приводит полное описание того, что происходило, по рассказу одного из очевидцев.
«После ужина Лоуренс собрал людей вокруг костра и обратился к ним с самой откровенной речью, какую я когда-либо слышал. Он объяснил им общую обстановку и сказал, что он собирается взять их с собой для перехода через такую часть Аравии, где никогда еще не ступала нога белого человека и арабские племена не были настроены слишком благожелательно. Поэтому не приходилось беспокоиться насчет турок, а наоборот, требовалось обратить все внимание на наших союзников-бедуинов: они были недоверчивы и, по всей вероятности, будут думать, что мы пришли забрать их пастбища. Поэтому основное, что требовалось, — это избегать какого бы то ни было повода к трениям. Если кто-либо из англичан окажется обиженным или оскорбленным, он просил их «подставить другую щеку», потому что англичане лучше воспитаны, менее предубеждены, а также потому, что их было так мало. Люди были в восторге и пошли спать, думая, что они попали в величайшую кашу военной истории. И это, пожалуй, соответствовало действительности».
2 августа они выступили. Чтобы избежать затруднений, Лоуренс сам провел их через первый (критический) этап, которым являлась область Ховэйтат. Если бы им встретился кто-либо из представителей неблагожелательно настроенных племен, то присутствие Лоуренса помогло бы успокоить последних и предотвратить передачу какого-либо предостережения туркам. То, что Лоуренс отправился вместе с ними, было весьма удачным, так как, когда отряд добрался к долине Рамма, то оказалось, что арабы племени ховэйтат, имевшие там лагерь, были настроены весьма злобно в отношении английского вторжения. Хотя усилия Лоуренса и шерифа смягчили неприятные взаимоотношения с вождями, все же некоторые представители племени в темноте производили иногда одиночные выстрелы по отряду.
Однако когда наступило утро, для дипломатии оказалось больше шансов на успех, а к полудню Лоуренс чувствовал, что он смело может ехать обратно, в то время как Стэрлинг, приобретший удивительно быстро влияние на арабов, остался вместе с Бакстоном.
Находясь среди массы английских солдат, отличавшихся своей простотой и добродушием, Лоуренс испытывал странное ощущение: это была тоска по родине. Лоуренс почувствовал себя отверженным. Это заставило его еще глубже осознать роль, которую он играл в интересах Англии, используя для этого арабов.
Возвратясь обратно, он узнал, что его ждет самолет, чтобы доставить в Джефир для встречи с тем самым Нури Шааланом, который год назад обвинял Лоуренса, что Англия давала арабам одни обещания, а французам — другие.
Однако беседа с Нури Шааланом и его шейхами оказалась вовсе не такой неприятной, как ожидал Лоуренс. Подавляя в себе по временам угрызения совести, Лоуренс вместе с Фейсалом дипломатично апеллировал к идее арабской национальности, подчеркивая мистическое очарование жертвы за свободу, пока арабы под действием этого двойного красноречия не оказались охваченными порывом к восстанию, а Нури Шаалан со своим племенем не перешел на сторону англичан. Это был один из тех моментов триумфа, которые в дальнейшем, когда Лоуренс вспоминал о них, вызывали в нем мучительные переживания. Из Джефира Лоуренс полетел обратно в Гувейра, а затем поехал в Акаба.
После предварительной разведки на автомобиле, которая убедила Бакстона в том, что все спокойно, рано утром 8 августа отряд тремя колоннами с разных сторон подошел к станции Мудаввара. Этот день оказался «черным днем» для турецкого гарнизона Мудаввары. Идея британского плана заключалась в том, чтобы окольными подступами пробраться между станцией и оборонительными позициями турок, имея в виду атаковать с тыла и станцию, и позиции. До полуночи к исходной точке были проложены белые ленты, но так как никто не знал хорошо местности, ознакомившись с ней только по снимкам с самолета, то вести части к исходной позиции было чрезвычайно трудно. Время шло, и когда подготовка к штурму была, наконец, закончена, уже начинали проявляться слабые проблески утренней зари. Еще одна десятиминутная задержка — и результат мог бы оказаться плачевным. К счастью, бомбометчики уже пробрались вперед и захватили врасплох два редута и станцию. Но северный редут в течение часа оказывал упорное сопротивление, пока не был принужден к сдаче орудиями автобронемашин. Было захвачено в плен 150 турок, потери же англичан составляли 7 убитых и 10 раненых. Разрушив станцию с водокачкой и паровыми насосами, а также колодцы, отряд Бакстона вечером направился обратно.
12 августа их приветствовали Лоуренс и Джойс, которые пошли с ними дальше, преследуя двойную цель — произвести разведку дороги для бронемашин к предстоящему наступлению на Деръа и подготовить путь для Бакстона. Они в сопровождении охранявшей их автобронемашины выехали на автомобиле. Бедуины впервые увидели в этих северных частях пустыни это странное механическое животное, которое, конечно, их чрезвычайно поразило. Однако наряду с этим оно заставило их проявить и более дружеские чувства по сравнению с теми, которые они выказывали безоружным путешественникам. Это первое путешествие «Роллс-Ройсов», освещавших пустынную дорогу снопами света, было в некотором роде триумфальным проездом. Они быстро достигли Азрака и вернулись обратно еще быстрее, по временам несясь со скоростью 70 км в час; уже к вечеру следующего дня они завидели лагерные огни Бакстона,
Здесь их ждала неприятность. Юнг своевременно отправил им продовольствие на две недели, но запасы прибыли только на восемь дней, так как часть погонщиков верблюдов свернула в сторону. Это потребовало изменения плана. «Бакстон облегчил свою колонну, оставив все несущественное, я же отказался от двух машин, воспользовавшись лишь одной, и изменил маршрут».
Пребывание Лоуренса среди британских солдат еще раз вызвало в нем смешанное чувство удовольствия и горечи. Он гордился своими соотечественниками, они были для него дорогими и близкими, и также естественно было их видеть в таком странном окружении. Однако наряду с этим он чувствовал себя чужим. Был день его рождения: ему исполнилось 30 лет, и он решил вспомнить свою жизнь. Четыре года назад, когда он пошел на войну, странный порыв честолюбия заставил его решиться сделаться к 30 годам генералом и получить титул баронета. Теперь, если он останется в живых, это являлось для него достижимым, но эти детские мечты утратили для него интерес. Осталось лишь одно честолюбивое стремление пользоваться уважением людей. Это стремление делало Лоуренса особенно чувствительным к вопросу о правдивости перед самим собой. Он думал о том, как ему доверяли Алленби и арабы и как были готовы умереть за него люди из личной охраны. Он был слишком умен, чтобы рассматривать себя как сверхчеловека. Он понимал стремление обычного человека иметь себе идолов — может быть потому, что не был свободен от этого и сам. Поэтому он был склонен приписать успех своему искусству актера и спрашивал себя: неужели вся слава построена на обмане?
Он был тем более расположен критиковать себя, поскольку обладал инстинктивной стыдливостью. Эта стыдливость зачастую приводила к порицанию скромности, которая в условном смысле заключает в себе слепоту. Чрезмерное осознание им своих мыслей и действий породило в нем исключительную силу самоанализа, сделавшегося у него постоянной привычкой, от которой он освобождался лишь в тех случаях, когда был охвачен неистовым усилием. Отсюда в нем проявилось любопытство к себе, которое являлось главной пружиной большей части его поступков. Пожалуй, Лоуренс вовсе не так уж отличался от других мыслящих людей, как это ему казалось.
Лоуренс сознавал, что наслаждался той славой, которой он достиг, но вследствие своего чрезвычайного чувства отдаленности от других людей он боялся этого наслаждения, становившегося им известным. Это привело его к тому, что он стал отклонять те почести, которых вначале жаждал.
Когда движение возобновилось, он получил мимолетное удовлетворение своего военного инстинкта, заметив умение Бакстона быстро приспособиться к условиям иррегулярной войны. Бакстон разделил свою колонну, являвшуюся негибким соединением, на ряд групп, из которых каждая шла со скоростью, определявшейся условиями местности. Поклажа верблюдов была облегчена и размещена по-новому. Система привалов, определявшаяся временем, была отменена, а сами привалы делались скорее для кормления животных. Все эти перемены весьма радовали знатока иррегулярной войны. «Наш имперский верблюжий корпус сделался быстрым, эластичным, выносливым и бесшумным», хотя уже теперь верблюды Лоуренса, обученные езде по арабскому методу, делали в среднем по 7 км в час и таким образом выгадывали себе дополнительное время для прокорма.
20-го июля группы Бакстона достигли Муаггара, расположенного в 25 км к юго-востоку от Аммана, где они намеревались нанести удар. К несчастью, в то время над колонной пролетел турецкий самолет. Кроме того, от крестьян узнали, что несколько частей турецкой пехоты на мулах было расквартировано в деревнях у моста для охраны сборщиков налогов. Хотя силы эти и не были настолько значительны, чтобы помешать успеху, все же они могли сделать его слишком дорогостоящим. Учитывая приказ избегать потерь, Лоуренс с сожалением решил отказаться от попытки нанесения удара, к большому разочарованию «верблюжьего корпуса». Для того, чтобы добиться максимума возможного, в деревнях стали распространять слухи о том, что этот небольшой отряд является якобы разведывательными частями армии Фейсала, которая в начале следующего месяца должна была захватить штурмом Амман. Это была выдумка, верить которой турки боялись, но возможность подобной операции они себе представляли и удара ее страшились. Они осторожно выслали кавалерию на разведку в Муаггар, где нашли подтверждение диких слухов, распространявшихся крестьянами, так как вершина холма была завалена пустыми банками из-под мясных консервов, а долина была изрезана глубокими следами громадных машин. И сколько следов там было! Это вызвало у турок беспокойство, которое остановило их и заставило быть в нерешительности в течение целой недели. Разрушение же моста дало бы арабам недели две. Играя таким образом на страхе турок за Амман, Лоуренс достиг отвлечения сосредоточения их сил для атаки на силы Джафара у Маана. «Мне хотелось, чтобы Джафар не слишком активно сражался с наступавшим противником, когда мы отводили его конные части по направлению к Деръа».
Однако от этого подготовительного блефа выиграло не только предстоявшее движение арабов; по-видимому, он заставил турецкое командование перебросить вновь прибывшие подкрепления для 4-й армии у Аммана за счет прибрежного сектора, находившегося под угрозой англичан. К вечеру 20-го отряд Бакстона вышел на Азрак. В Азраке Лоуренс «похоронил» пироксилин, приготовленный для использования в предстоящем набеге на Деръа. 26-го вернулись обратно в Баир.
Здесь его ожидала неприятность, хотя он и должен был знать, что она произойдет именно теперь. С почтой была получена официальная газета, издававшаяся в Мекке и содержавшая объявление, в котором указывалось, что только дураки могут приписывать Джафару присвоенное ему англичанами звание главнокомандующего Северной арабской армией, так как у арабов такого звания не существует. По-видимому, объявление было напечатано Хуссейном из зависти, после того, как он услышал о получении Джафаром британского ордена. В результате Джафар отправил Фейсалу свою просьбу об отставке, и его примеру последовали все старшие арабские офицеры. Фейсал и Лоуренс сделали все, что могли, чтобы устранить вызванное чувство обиды, но когда Фейсал отправил своему отцу телеграмму с протестом, то получил язвительный ответ. Тогда Фейсал по телеграфу предложил свою собственную отставку. В ответ на это Хуссейн прислал еще одну телеграмму, назначая Зеида, но последний сразу же отказался от предложенного ему поста. В течение нескольких дней обменивались негодующими телеграммами в обоих направлениях.
Трудно было выбрать более неудачное время для этой неприятности, поскольку она грозила сорвать намечавшуюся операцию, которая была основана на ряде отдельных передвижений арабов и в которой все должно было происходить по расписанию.
Жертвуя меньшим для большего, Лоуренс первым делом отправил курьера к Нури Шаалану с целью предупредить его о том, что ему не следует, как он сообщил, обращаться с речью к племенам.
Затем Лоуренс принялся за упорядочение дел у Абу-Эль-Лиссал. Нури Сайд, сделавшийся в последующие годы премьер-министром Ирака, оказал ему неоценимую помощь и доказал, что его способности политика являлись столь же выдающимися, как и его военные таланты. Такую же помощь оказал и Стэрлинг. Под руководством Нури арабские офицеры в ожидании извинений со стороны Хуссейна согласились отправиться в Азрак. «Если бы эти извинения оказались неудовлетворительными, они могли бы или вернуться, или отказаться от своей клятвы верности». Что касается методов дипломатии лично Лоуренса, то Стэрлинг дает забавные пояснения: «Слышать Лоуренса на одном из совещаний арабов было весьма поучительно. Когда во время дебатов кто-либо из шейхов создавал затруднительное положение, Лоуренс, благодаря своему поразительному знанию прошлой жизни и биографии каждого руководящего араба, вставлял замечание, относившееся к какому-нибудь малоизвестному, но позорному случаю из прошлого этого шейха, и такого замечания обычно бывало достаточно для того, чтобы заставить его замолчать и привести остальных членов совещания в веселое настроение». Так же часто Лоуренс добивался того, что ему было нужно, своевременным указанием на какое-либо достижение. «Я мог не только хвалить, но и приводить в смущение».
Особенно же удивительные способности Лоуренс проявил тогда, когда потребовалось добиться извинения Хуссейна, которое удовлетворило бы самолюбие Фейсала и восстановило бы его положение среди арабских офицеров, — вопрос, которому Лоуренс придавал большое значение не только с военной точки зрения, но и с политической. Атака на Деръа не могла быть осуществлена без Фейсала. Он один мог скрепить успех арабов по взятии ими Дамаска. Но прежде чем Фейсал мог сыграть роль воскресшего пророка, нужно было восстановить его престиж. Алленби и Вильсон помогали словесным нажимом на Хуссейна, однако старик упорствовал. Его телеграммы приходили к Лоуренсу для доставки Фейсалу. Расшифровав телеграммы, Лоуренс, прежде чем доставить их в зашифрованном виде Фейсалу, «искажал нежелательные слова, превращая их цифровые группы в бессмыслицу». Столь простым путем Лоуренс достигал того, что предотвращал излишнее возбуждение у окружавшей Фейсала свиты. Наконец, Хуссейн отправил длинную телеграмму, которая начиналась довольно-таки неубедительными извинениями, но в конце содержала повторные оскорбления. Прежде чем передать депешу Фейсалу, который находился в это время на совещании, Лоуренс выкинул из нее всю вторую часть. Фейсал прочел телеграмму вслух и затем решительно заявил: «Телеграф спас нашу честь». Арабские офицеры стали хором выражать свою радость, чем воспользовался Фейсал, чтобы шепнуть Лоуренсу: «Я имею в виду честь почти всех нас». Лоуренс притворился, что не понимает, в связи с чем Фейсал добавил: «Я предложил совершить этот последний поход под вашим командованием: почему этого недостаточно?» — «Потому что это несовместимо с вашей честью». Фейсал пробормотал: «Вы всегда предпочитаете мою честь своей». Однако кризис был улажен.
Благодаря усилиям, проявленным Лоуренсом, первый караван, состоявший из шестисот вьючных верблюдов, уже 30 августа отправился в свой трехсотмильный переход в Азрак под охраной 30 пулеметчиков и 35 всадников на верблюдах. Ко 2 сентября возбуждение, царившее среди арабских солдат, настолько улеглось, что позволило отправить второй караван из восьмисот верблюдов. Вооруженный отряд состоял из четырехсот пятидесяти арабов регулярных частей на верблюдах с двадцатью пулеметами Гочкиса, двух бронемашин, пяти грузовиков, двух самолетов и французской горной батареи Пизани. 4 сентября на грузовике «Роллс-Ройс» выехал сам Лоуренс, надеясь прибыть вовремя, чтобы снова добиться помощи со стороны местных арабов. Его сопровождали Назир и новый помощник лорд Бинтертон. За ними должны были следовать Фейсал и Джойс.
Таким образом пустыня сделалась военной дорогой, усеянной колоннами войск, двигавшихся в северном направлении и упорно приближавшихся к Азраку, неся с собой угрозу ничего не подозревавшим туркам. Трудности, которые были преодолены, и достигнутая ими цель породили у британских солдат вполне естественное чувство гордости. У Лоуренса же, когда он ехал за передвигавшимися с большим трудом по сравнению с его бедуинами колоннами, переход вызвал смешанные чувства. Подобный комфортабельный метод путешествия казался ему постыдным, хотя Назир, ехавший сзади и давившийся от пыли, не разделял этого взгляда, особенно в тех случаях, когда грузовик, шедший со скоростью свыше 105(?) км в час, ударялся о края засохшей на дороге грязи. Да и сама пустыня казалась чересчур многолюдной, так как по ней двигались бесконечные колонны войск. Некоторым утешением явилось сообщение о том, что, в то время как они двигались на север, турки отправили еще одну экспедицию к югу, в Тафила. Полученная новость свидетельствовала, что стратегически скопление войск не было столь заметно, по крайней мере для турок, как это казалось самому Лоуренсу. «Наши «страшные» разговоры о наступлении через Амман заставили турок почти совсем покинуть Дамаск, а «невинные» — привели их к намерению отразить нашу ложную атаку».
По мнению Лоуренса, Хиджаз был уже перевернутой страницей, сброшенной картой. Его мысли теперь были обращены к Дамаску, в то время как мысли других все еще были прикованы к Мекке и Медине. Его чувство реализма уже давно отбросило идею о том, что бесплодный и изолированный Хиджаз будет в состоянии править или даже разделять будущее плодородных и населенных территорий на севере. Восстание в Хиджазе послужило рычагом для поднятий восстания арабов вообще. Чудом удалось прекратить раздоры и добиться примирения между арабами, по крайней мере на этот месяц. Таким образом от Акаба до Дамаска все шло хорошо. Лоуренс устранил все препятствия и проложил путь. Остальное должно было зависеть от его умения пользоваться обстановкой.
Глава XV. Нанесение конечного удара. Сентябрь 1918 г.
Большое британское наступление должно было начаться 19 сентября. Лоуренс обещал Алленби, что арабы окружат Деръа и перережут железную дорогу, от которой зависели турецкие армии. Поскольку это обещание было дано, Алленби расширил свой план и тем самым уменьшил риск от ударов противника. В силу ряда обстоятельств армия еще стояла неподвижно, но была эластичной в своей потенции. План Лоуренса был более инициативным и более твердым в отношении конечной цели.
Однажды в середине августа, возвратясь из поездки, Алленби неожиданно заявил своему штабу о решении направить кавалерию к прибрежной равнине с целью пересечь Кармель близ Мэгидо, опуститься в равнину Эсдраелон и захватить дорогу и железнодорожные центры у Эль-Афуле и Вейзан. Таким образом кавалерия должна была расположиться с двух сторон линии отступления 7-й и 8-й турецких армий и настолько близко к их тылу, чтобы последние имели очень мало шансов на прорыв. Единственный остававшийся выход был бы чрезвычайно затруднителен, а именно — через Иордан в восточном направлении, в пустынную область, где арабы напали бы на них, как осы.
Деръа являлся еще более важным пунктом, так как там находился центр железнодорожных сообщений всех трех турецких армий и линия отхода 4-й армии. Однако она находилась за пределами действия кавалерийского налета даже в теперешнем растянутом положении. До нее могли добраться только арабы. От них зависело многое, для того чтобы парализовать расположение турецких войск как до начала удара Алленби, так и в период его развития.
Планы Лоуренса заключались в том, чтобы «…произвести ложную атаку на Амман, а в действительности уничтожить железную дорогу у Деръа. Дальше этого мы не шли».
Лоуренс решил, что одним лишь фактом расстановки сил арабов у Азрака прямо против Аммана первая часть плана, а именно ложная атака, осуществлялась. «Нам нужно было послать наших «всадников св. Георга» — золотые соверены — тысячами к бени-сахр, для того чтобы скупить весь ячмень с их гумен, прося их об этом не упоминать, так как он потребуется нам для наших животных и для наших английских союзников недели через две».
Эти краткие сведения не вскрывают всей тонкости мероприятий Лоуренса, предпринятых им для того, чтобы убедить турок, что целью предстоящего наступления является Амман. Он отправил несколько скупщиков в гумна арабов и закупил на наличные деньги все стога кормового ячменя для лошадей, которые бени-сахр только имели; поставленные им условия предусматривали, что арабы будут его сохранять для Лоуренса до тех пор, пока не получат предупреждения, для какого лагеря, находящегося на расстоянии дневного перехода, ячмень должен быть доставлен. Кроме того, он произвел перепись всех могущих быть приобретенными овец и с помощью четырех местных агентов заключил временные контракты на поставку овец, которых надлежало доставить в лагерь. За это Лоуренс заплатил комиссионные, хотя фактически не приобрел ничего.
Далее он посетил район Мадаба незадолго перед наступлением и там отметил две небольшие посадочные площадки для самолетов, нанял арабов сторожить их и оставил дымовые сигналы и посадочные знаки с инструкциями о том, как ими пользоваться. Он также воспользовался преимуществом контакта со штабными офицерами-арабами 4-й армии. «Я предупредил их, что в ближайшее время затевается нанесение удара на Амман с востока и запада, и уговорил их расположить свои войска так, чтобы в нужный день не иметь возможности осуществить ни то, ни другое».
Тот же самый оттенок двойного блефа вдохновил его набросать проект атаки на Мадаба под руководством Хорнби с его арабами. «Я использовал все мое влияние для того, чтобы обеспечить нанесение удара Хорнби, лично прикрепив к нему всех шейхов бени-сахр, и заявил им, что он пойдет с юга, в то время как я отрежу турок с севера и востока. Я также придал ему Зиаба из Тафила — старого болтуна и шейхов Маджалли из Карака, которые имели связь в каждом лагере». Обеспечив гарантией, что их цель отвлечения противника будет выполнена, Лоуренс позаботился о том, чтобы они имели возможность провести ее в жизнь, снабдив их орудиями, деньгами, войсками, снарядами, частью своей личной охраны.
В основе отвлечения лежала цель: ложная атака в случае успеха Лоуренса у Деръа. Тот факт, что турки предугадали это наступление своим новым походом против Тафила, не только показал, что они попались на приманку, но и являлся косвенным свидетельством значения наличия альтернативы. Более того, альтернатива могла быть возобновлена, так как по нанесении удара силами Деръа турецкие силы у Тафила, весьма вероятно, поспешно отойдут на север. В этом случае атака Лоуренса на Хаурам создаст благоприятную возможность для действий Хорнби. Столь хитро задуманный и в то же время гибкий план должен был вызвать чувство одобрения у самого большого знатока военного искусства.
Задача заключалась в том, чтобы перерезать железные дороги в районе Хаурам и держать их в таком состоянии, по крайней мере, в течение недели. Для осуществления этого имелось три способа. Первый — «выступить к северу от Деръа к Дамасской железной дороге, аналогично моему набегу с Таллалом зимой, и перерезать ее, а затем направиться к железной дороге на Ярмук. Второй способ заключался в том, чтобы пойти на юг от Деръа к Ярмуку, как в ноябре 1917 г. с Али Ибн-Эль-Хуссейном. Третий заключался в том, чтобы направиться прямо на город Деръа.
Третий способ мог быть предпринят лишь в том случае, если бы авиация обещала настолько сильную дневную бомбардировку станции Деръа, что эффект ее оказался бы сильнее артиллерийской бомбардировки и позволил бы нам рискнуть пойти на штурм с небольшим количеством людей. Самонд надеялся осуществить это, но все зависело от того, сколько тяжелых машин он смог бы получить и собрать к необходимому времени.
Доунэй с последними сведениями прилетел бы к нам в Азрак 11 сентября. До этого, по нашему мнению, все три способа являлись для нас одинаковыми».
Самолет, которого ожидали из Палестины, в назначенное время 11 сентября опустился в Азраке. Но вместо заболевшего Доунэя прилетел другой штабной офицер, память которого была, по-видимому, настолько ослаблена воздушной болезнью, что вряд ли это могло быть хорошо для начала. Оставив в самолете свои записки, он направился за ними, чтобы принести, и забыл на этот раз упомянуть о намеченном изменении плана Алленби — расширении его обходного движения.
Возможно, что его смущение было усилено тем потрясением, которое он испытал, задав весьма профессиональным тоном вопрос относительно плана обороны передовой базы, С наружно хладнокровным видом, который таил в себе глубину, Лоуренс ответил: «У нас нет никакого плана, турки никогда не придут сюда искать нас». Штабной офицер больше не мешкал. Винтертон заметил, что «он грациозно удалился в свой самолет».
Однако от летчика Лоуренс и Джойс косвенно узнали, что ресурсы Самонда в отношении бомбардировочных самолетов окажутся недостаточными для прикрытия штурма Деръа. Поэтому альтернатива была откинута. Они решили остановиться на движении к северу от Деръа, для того чтобы обеспечить возможность перерезать магистральную линию на Дамаск. На следующий день Пик со своим египетским отрядом и горстью гурков был отправлен на север с целью произвести предварительный прорыв у Аммана.
На рассвете 14-го главные силы численностью около 1200 человек вышли из Азрака и направились к большому колодцу с дождевой водой, находившемуся в 25 км к востоку от железнодорожной линии на Амман. К регулярным силам теперь были добавлены специально отобранные части бедуинов, Ауда с несколькими арабами абу-тауи и шейхами Зебн и Серахии. Нури Шаалан, порвав связи с турками, привел три сотни всадников. Он также предложил помощь 2000 всадников на верблюдах, но его просили держать их в резерве, чтобы не напугать крестьян Хаурама до наступления ответственейшего момента для арабов в будущем. Лоуренс остался позади в Азраке, устраивая дела с Нури и Фейсалом, но на следующее утро он отправился за ними в «Роллс-Ройсе», прозванном «голубым туманом», который был его сверхмобильным главным штабом. Как обычно, Лоуренсу пришлось столкнуться с неприятными новостями. Пик вернулся обратно, не сумев выполнить своего задания. Его отряд наткнулся на большой лагерь местных бедуинов, которые получали от турок денежное вознаграждение за охрану железной дороги. Поскольку он не имел ни силы убеждения Лоуренса, ни мешков с золотом, чтобы заставить бедуинов перейти на свою сторону, он был вынужден вернуться обратно.
Эта новость чрезвычайно подействовала на Лоуренса. Если Деръа должен быть отрезан с севера и с запада, как это было предусмотрено, то для надежности, чтобы обеспечить операцию, он должен быть предварительно отрезан и с юга. Кроме того, он хотел, чтобы в течение ближайших двух дней Амман был центром операций. Однако было слишком поздно для того, чтобы отправить другой отряд из медленно передвигавшихся регулярных частей, так как нужно было спешить, для того чтобы достигнуть цели вовремя. Быстро прикинув все возможности, Лоуренс отправился выполнить эту задачу сам.
Он оказался в Умтайе впереди главных сил и еще до вечера произвел предварительную разведку железной дороги верхом на верблюде, обнаружив не только хорошую дорогу для автомобиля, но и подходящий мост для разрушения. После своего возвращения в лагерь Лоуренс рассказал остальным о своем плане и высказал предположение, что его сольное выступление, по всей вероятности, будет забавным. Как заметил Юнг, «по крайней мере для одного из его слушателей оно вовсе не казалось забавным а казалось совершенно сумасшедшим планом. Однако именно сумасшедшие методы Лоуренса позволили взять Акаба, а на этот раз позволили перерезать железнодорожную линию Деръа — Амман».
На следующий день, в то время как главные силы продолжали продвигаться к северу от Деръа, Лоуренс отправился на запад к железной дороге у Джабира с транспортом, «набитым до отказа пироксилином и детонаторами». Джойс и Винтертон сопровождали его на второй машине, а за ними следовал конвой из двух автобронемашин. Достигнув прикрытия у последнего рубежа перед железной дорогой и захватив с собой 150 фунтов пироксилина, Лоуренс перешел в броневую машину. На машине он отправился к мосту, в то время как другая машина заняла оборонительную позицию. После непродолжительного сопротивления турки сдались, и Лоуренс принялся за работу, а Джойс поспешил к нему с другой машиной и пироксилином.
Это разрушение доставило Лоуренсу громадное удовлетворение искусством, с которым оно производилось. «В дренажных отверстиях — пять сводов; были вставлены шесть небольших зарядов зигзагообразно; взрыв их сильно расшатал арки моста, причем разрушение явилось прекрасным образцом того замечательного типа, который оставил скелет моста фактически нетронутым, но шатающимся. В результате противник, прежде чем попытаться произвести исправление, должен был уничтожить оставшуюся часть моста». Едва они успели закончить разрушение моста, как показался неприятельский патруль.
Подрывная группа отъехала всего лишь несколько десятков метров, как у машины Лоуренса лопнула рессора. Было особенно неприятно то, что первая авария их материальной части за 18 месяцев путешествия по пустыне случилась именно в этот момент. «Роллс-Ройс» в пустыне стоил дороже рубинов, но все же, по-видимому, не оставалось никакого выбора, кроме как терять одну машину или терять все. Однако изобретательность водителя пришла на помощь: вставив в рессоры деревянные клинья и связав их вместе, они сумели скрыться от турок и произвести более надежный ремонт.
На следующее утро, 17-го, они нагнали главные силы как раз в тот момент, когда последние начинали атаку на укрепленную позицию, охранявшую мост у Тэль-Арар. Не обратив на нее внимания, арабы племени руаля бросились к железнодорожному пути, а затем остановились посреди постоянной дороги в позе героев-победителей, пока пули внезапно не начали ложиться вокруг них. Затем одно из орудий Пизани открыло огонь, и под его прикрытием регулярные части арабов быстрым штурмом захватили позицию.
После энергичного подбадривания процесс разрушения железной дороги продолжался, но угрожал быть прерванным появлением восьми турецких самолетов, поспешно высланных из Деръа. Хотя арабы и не были подготовлены к принятию мер защиты от воздушной атаки, их инстинкт подсказал им правильный образ действий. Они рассыпались так быстро, что после часа бомбардировки и стрельбы с воздуха оказалось лишь двое убитых. Затем единственный уцелевший самолет арабской армии — старый В-Е-12, пилотируемый Жанором, появившись в воздухе, отвлек внимание турецких самолетов и пожертвовал собой. Воспользовавшись отвлечением авиации, Нури собрал 350 арабов регулярных частей и отправился с ними к станции Музейриб на Палестинской ветке. За ним последовали крестьяне.
Затем выехал Лоуренс со своей охраной, в то время как Джойс остался в охранении. По дороге Лоуренс был легко ранен в плечо осколком бомбы с самолета. Когда он подъехал к Музейрибу, у него создалось впечатление, что все население бежит, чтобы присоединиться к атаке, а когда гарнизон станции сдался после нескольких выстрелов орудий, крестьяне удовлетворили свою жажду грабежа. Тем временем Лоуренс и Юнг перерезали телеграфные провода, прервав этим главную связь между турецкими армиями и их базой, а затем приступили к подрыву рельсов, разрушению станций и подвижного состава.
Теперь возник вопрос о том, следует ли продолжать движение на запад и пытаться взорвать мост у Тэль-Эль-Шехаб в ущелье Ярмук или нет.
В то время, как они обсуждали этот вопрос, прибыл молодой шейх из соседней деревни и заявил, что армянский офицер, который являлся начальником охраны моста, хочет перейти на их сторону вместе со своими подчиненными. Сам офицер прибыл час спустя и подтвердил свое желание. Он предложил спрятать у себя в доме несколько наиболее сильных людей, с тем чтобы, когда он начнет вызывать каждого из своих подчиненных, они неожиданно глушили их по головам. Для Лоуренса «это звучало каким-то эпизодом из книг с приключениями», и он согласился с восторгом. Юнг реагировал на это иначе и говорил, что «меня шокировало использование мелодрамы для подкрепления военных операций». Однако план был принят, и ему пришлось только согласиться с последующим решением.
По извилистой тропинке отряд спустился к деревне в темноте. Карманы Лоуренса были наполнены детонаторами. Внезапно внизу в овраге они услыхали гул мотора. После долгого ожидания шейх пришел сказать им, что его план сорвался вследствие прибытия поезда с германскими резервами, направлявшимися в Деръа. Нури предложил попытаться произвести штыковую атаку моста, но Лоуренс колебался. «Мне приходилось определять стоимость цели количеством жизней, и я, как всегда, находил эту цену слишком дорогой. Конечно, большинство того, что делается во время войны, обходится слишком дорого, но нам, следуя хорошим примерам, нужно было обходиться без этого. В глубине души я гордился планированием наших кампаний, а потому сказал Нури, что я высказываюсь против. За сегодняшний день мы дважды перерезали железную дорогу между Дамаском и Палестиной, а привод сюда гарнизона Афуле является третьим подарком Алленби. Наш союз был освящен самым блестящим образом».
Нури, после минутного колебания, согласился с моим доводом, и отряд отправился обратно в Музейриб, которого он достиг около 2 часов. Теперь уже Лоуренс начал сожалеть о своей нерешительности, чувствуя опасность для плана Алленби, в случае если неприятельские подкрепления отправятся обратно к месту его отхода через железную дорогу, или если они двинутся на Деръа слишком рано. Для того, чтобы удержать их, он отправил два небольших отряда перерезать линию в пустынных местах с дальней стороны моста. Он также послал телеграмму Джойсу, прося его присоединиться к нему здесь, для того чтобы уравновесить регулярные войска Нури. Лоуренс заявил, что на следующее утро они будут двигаться обратно через южную часть Деръа, тем самым завершая круг. Он предложил, чтобы Джойс вернулся в Умтайе и ожидал их, так как в Умтайе они будут находиться в выгодном положении для создания угрозы линии отступления 4-й турецкой армии, а также возобновления подрывной работы всякий раз, как противник попытается произвести исправления.
На рассвете крестьяне разошлись по своим деревням, а войска арабов стали пробираться к Насибину, причем все силы были настолько рассеяны, что турецкая авиация был совершенно изумлена как их численностью, так и направлениями их движения. Таким образом без всяких происшествий удалось вернуться обратно к линии Деръа — Амман, выдвинув при приближении к ней вперед орудия и пулеметы для обстрела станции Насибин. В то время как гарнизон станции готовился к отражению штурма, на севере был взорван мост, имевший серьезное значение.
Метод этой операции был весьма характерным для Лоуренса, так как не было известно, успела ли охрана моста убежать, чтобы присоединиться к гарнизону станции. Только люди Лоуренса рискнули отправиться вниз к мосту с подрывными средствами, не зная, имеется ли там охрана, но хорошо сознавая, что если хоть одна пуля попадет во взрывчатку, то они будут разорваны на куски. К счастью, оказалось, что мост был покинут. Тем временем отряд проскользнул в пустыню к востоку, установив орудия, для того чтобы сдержать гарнизон станции. Наконец все было готово, и в темноте Лоуренс включил взрыватели, а сам спрыгнул в оставленный неприятелем редут, пока не прошел каменный дождь. Те, кто наблюдал за взрывом издалека, видели зловещую вспышку взрыва и арку моста, которая оказалась начисто срезанной, причем вся масса медленно соскользнула вниз в долину.
«Подготовительная» операция Лоуренса для Алленби была закончена. Перерезав с трех сторон линии сообщения противника в узловом пункте, он создал чрезвычайные затруднения для турецких армий как раз в тот момент, когда Алленби собирался их атаковать. Удар имел эффект в виде временной приостановки притока припасов, а вопрос времени здесь играл главную роль. Кроме того, он имел моральный эффект в том отношении, что заставил Лиман фон Сандерса перебросить часть своих скудных резервов к Деръа. Еще более существенным оказалось то, что он выделил для этого германские войска, которые скрепляли его наскоро околоченные армии. Успех усилий Лоуренса был строго соразмерен; он был слишком мал, чтобы вызвать немедленно отступление Лиман фон Сандерса, и слишком близок к дате атаки Алленби.
Оставалось лишь несколько часов до того момента, когда скрытая масса британской армии должна была двинуться вперед, как гигантский, все разрушающий таран. Она была идеально замаскирована. Столбы пыли, созданные волокушами, которые тянули мулы, днем относились на восток, в то время как колонны войск ночью шли на запад. Батальоны днем шли к долине Иордана, а ночью возвращались, чтобы повторить свой маневр «театральной армии». Кавалерия, периодически сменявшаяся во время летней жары, стояла в долине, в то время как Лоуренс приобретал громадное количество фуража для предстоявшего ей перехода через Иордан. Под прикрытием многократных и разнообразных маскировок Алленби достиг в прибрежном секторе ошеломляющего превосходства. 15 000 парусиновых манекенов заполняли свободные пути прохождения кавалерии внутри страны.
«Когда после жаркого дня темнота скрыла громадные военные силы, сосредоточенные в долине Шарона, у штаба британской армии был лишь один всех волновавший вопрос: «Находится ли там неприятель?» Может быть, он вовремя отошел. Будет ли удар нанесен по слабой защите или же он будет произведен по воздуху и найдет укрепления позади неразрушенными и оказавшимися вне досягаемости орудий?» Беспокойство это исчезло, когда от гула британских орудий за полчаса до начала рассвета взлетели в воздух тысячи турецких сигнальных ракет.
Почему противник остался, чтобы быть истертым в порошок, вместо того чтобы произвести своевременный отход? Мы знаем теперь, что Лиман фон Сандерс предвидел большое наступление и в начале сентября намеревался задержать его отходом на тыловую позицию близ Галилейского озера. «Я отказался от этой идеи оттого, что нам пришлось бы оставить Хиджазскую железную дорогу… а также и потому, что мы уже не смогли бы противодействовать развитию восстания арабов в тылу нашей армии».
Хотя Лиман фон Сандерс и испытывал беспокойство в отношении прибрежного сектора, он еще более боялся последствий атаки к востоку от Иордана, и поэтому даже сообщение о действительном плане, которое было сделано индийским дезертиром 17 сентября, было оставлено им без внимания благодаря наличию более достоверных данных об атаках арабов на жизненно необходимый железнодорожный путь у Деръа. Обманутый миражом Лоуренса, Лиман фон Сандерс рассматривал индийского дезертира как подосланного британской разведкой, а его показания — как дезинформацию для прикрытия действительных намерений Алленби. В результате он подставил свои силы под уничтожающий удар.
В 4 часа утра 19 сентября 385 орудий произвели ураганный обстрел турецких позиций. Вслед за этим бросилась вперед пехота, опрокинув защитников двух линий мелких окопов. Затем войска, отбрасывая турок, ринулись в глубь страны. Остатки 8-й армии бросились через дефиле к Мессудие, в то время как британская авиация сбрасывала на несчастную массу беглецов бомбы и обстреливала их пулеметным огнем.
Тем временем через проделанную брешь прорвалась на 50 км вглубь кавалерия, идя прямо береговым коридором. На следующее утро не только захватили Эль-Афуле, но и временно заняли Назарет, где была расположена штаб-квартира противника, все еще не знавшая о катастрофе, постигшей ее войска, так как агенты перервали телеграфные провода. Сам Лиман фон Сандерс едва избежал плена. К полудню кавалерия была в Бейзане; чтобы достичь его, 4-я кавалерийская дивизия прошла за 34 часа почти 120 км. Таким образом поперек линии отступления турок был опущен барьер.
Одна оставшаяся возможность отхода могла быть в восточном направлении через Иордан, но ее уничтожили воздушные силы. Утром 21 сентября британские самолеты заметили большую колонну, спускавшуюся по крутому ущелью из Наблус к Иордану. Четырехчасовая непрерывная бомбардировка с воздуха и обстрел из пулеметов чередовавшимися соединениями самолетов заставили эту процессию остановиться, превратив ее в застывшую груду орудий и транспорта. С этого момента можно было считать 7-ю и 8-ю турецкие армии несуществующими. То, что последовало за этим, было лишь загоном удиравшего «стада» кавалерией.
Только 4-я армия, которая все еще была наиболее сильной из трех, осталась восточнее Иордана. На линии ее отступления находились разрушенная железная дорога и арабы. Она испытывала быстрое истощение от непрерывных булавочных уколов со стороны арабов.
Когда катастрофа разразилась над другими армиями, 4-я армия все еще имела шансы на то, чтобы спастись бегством. На ее западном фронте, в долине Иордана, находился отряд Чайтора, состоявший из конной дивизии, подкрепленной несколькими батальонами пехоты. Активными демонстрациями отряд Чайтора создал у противника представление о возобновлении британского наступления на запад и тем самым помог замаскировать удар Алленби. Эта угроза также помогла удержать 4-ю армию от отступления, хотя задержка турок была вызвана еще в большей степени той медлительностью, с которой до них доходили новости, и их желанием подождать 2-й корпус, отходивший в данный момент от Маана и постов Хиджазской железной дороги, находившихся к северу от него. В результате 4-я армия до 22-го не начинала своего отступления. 2-й корпус, переход которого затруднялся бедуинами Хорнби, в то время все еще находился на расстоянии многих миль от Аммана, и отряд Чайтора двигался для того, чтобы его перехватить.
Шансы 4-й армии на осуществление ее отступления зависели от того, сумеет ли она разделаться с арабами и достигнуть Дамаска до того момента, как кавалерия Алленби подоспеет к арабам, чтобы помочь им преградить путь. Разрушенная железная дорога, заставившая турок следовать походным порядком, должна была еще более замедлить их отход, но арабам в течение нескольких дней предстояло также оказаться в тяжелом положении в качестве стратегического клина между Деръа и отступающей массой.
Эта проблема являлась заботой Лоуренса в то утро, когда он отрезал железную дорогу и когда войска Алленби начинали свою атаку. «Стратегически мы должны были держаться у Умтайе, которая давала нам возможность господствовать по желанию над тремя железнодорожными линиями у Деръа. Если бы мы удержали ее еще на неделю, мы задушили бы турецкие армии, какую бы незначительную помощь ни оказал нам Алленби. И все же тактически Умтайе была опасной позицией. Более слабый отряд, составленный исключительно из регулярных войск, без завесы партизан, не смог бы ее удержать. И если бы наша беспомощность в отношении авиации оставалась постоянной, мы вскоре были бы принуждены к сдаче».
В этом заключалась уязвимая сторона арабов. Вследствие своей подвижности и текучести они подвергались незначительному риску со стороны сухопутных турецких частей, но против значительно превосходившей их подвижностью авиации защиту могло оказать лишь непосредственное прикрытие. Хотя британские воздушные силы в Палестине значительно превосходили по количеству и качеству турецкие, которые фактически были вытеснены с неба, в арабской зоне воздушного преимущества не было. Имевшиеся в арабской армии два самолета погибли, в то время как у турок на аэродроме в Деръа находилось около девяти самолетов. Если бы силы арабов в основном состояли из автобронемашин, опасность была бы невелика, но при наличии у них громадного количества верблюдов и лошадей они представляли собой заманчивый объект для воздушной атаки. Их местоположение было особенно легко определить, потому что кавалерийские части были связаны своими стратегическими задачами и нуждались в воде. Бомбардировка авиации противника уже начала изматывать нервы иррегулярных частей арабов, и чувствовалось, что если она будет продолжаться и далее, то они могут не выдержать и уйти домой.
Спасение заключалось только в получении самолетов от Алленби. По предварительной договоренности из Палестины в Азрак должен был прилететь самолет для связи.
Тем временем Лоуренс и Жанор произвели набег двумя бронемашинами на турецкую передовую посадочную площадку, на которую, как они видели, опустились три самолета. Заглушив моторы машин, они медленно сползли в долину и добрались до луга, где находились неприятельские самолеты. Открыв глушители и рванувшись вперед, они увидели, что путь их прегражден глубокой канавой с отвесными краями.
Пока они искали возможность перехода, команды самолетов бросились заводить моторы. Два самолета сумели подняться вовремя, но у третьего мотор не завелся, и броневик с другой стороны рва решил его судьбу, выпустив 1500 пуль в фюзеляж. Когда машины возвращались обратно, их преследовали два самолета, сбрасывая бомбы. Одна из бомб вызвала дождь битого камня, куски которого попали в прорезь машины Лоуренса и поранили ему пальцы, в то время как другая сорвала переднюю покрышку и чуть не опрокинула машину.
Тем не менее после нескольких часов сна Лоуренс снова был на ногах, и в ту же ночь с машинами прикрывал новый набег на железнодорожную линию, предпринятый египтянами отряда Пика на пути в Азрак. Лоуренс не любил сидеть без дела и всегда старался убить двух зайцев сразу. Однако в данном случае он помог набегу очень мало, так как сами машины сбились с дороги — возможно от того, что его чувство направления ослабело после пяти ночей без сна. Неудача была возмещена тем, что он случайно встретил турецкий поезд.
По прибытии в Азрак Лоуренс встретил Фейсала и Нури Шаалана и, сообщив им последние новости, воспользовался случаем, чтобы поспать ночь. Когда он проснулся, его ожидали приятные вести. Рано утром из Палестины прибыл долгожданный самолет и привез им первые сведения, удивительные и бодрящие по своей полноте, о победе Алленби над 7-й и 8-й турецкими армиями. Лоуренс немедленно вылетел в Палестину, предупредив перед этим Фейсала, что победу Алленби следует рассматривать как сигнал для давно задержавшегося всеобщего восстания в Сирии. Джойс также решил возвратиться в Абу-Эль-Лиссал, чтобы усилить нажим на турок у Маана.
Глава XVI. Путь к Дамаску
Вылетев всего лишь через час из Азрака, Лоуренс оказался в Палестине, перенесясь из одного мира в другой — из пустыни, где преобладала индивидуальность, к легионам, где царила организация.
Приземлившись, Лоуренс направился прямо в штаб главного командования, где Алленби ознакомил его и общих чертах с намечавшимся им дальнейшим развитием своего плана. Следующим объектом теперь был, наряду с Бейрутом, Дамаск. В то время, как одна пехотная дивизия пробиралась вперед по берегу через Хайфу к Бейруту, кавалерия должна была выступить на Дамаск. Австралийская кавалерийская дивизия при поддержке 5-й кавалерийской дивизии должна была продвигаться на запад от Галилейского озера, а затем повернуть на Дамаск по пути, проходящему через Кунетру. 4-й кавалерийской дивизии из Бейзана надлежало нанести удар к востоку на Деръа, чтобы помочь арабам отрезать путь отступления 4-й турецкой армии, а затем двинуться прямо на север, на Дамаск. Тем временем находящийся южнее отряд Чайтора намечалось направить на Амман, также имея задачей отрезать отступление турок. Алленби просил, чтобы арабы помогли проведению этих операций, взяв на себя в качестве основного объекта 4-ю турецкую армию, и настойчиво предостерегал Лоуренса от попытки нанесения какого-либо самостоятельного удара против Дамаска до прибытия британских войск.
Задача защиты арабов авиации противника была разрешена. Когда Лоуренс объяснил создавшуюся обстановку, Алленби тотчас же позвонил по телефону Сальмонду, который сразу согласился отправить два истребителя. Однако в Умтайе не оказалось горючего. Трудность была преодолена изобретательностью Сальмонда и Бортона, которые разработали план использования нового большого бомбардировщика хэндли-пэйдж в качестве авиатранспорта. Было решено, что летчик Росс Смис, год спустя совершивший первый перелет из Англии в Австралию, будет сопровождать на следующий день истребитель «Бристоль», чтобы убедиться в возможности использовать там посадочную площадку для больших самолетов.
Покончив с делами, Лоуренс воспользовался редким случаем провести день отдыха в сравнительно культурных условиях. С точки зрения путешественника, привыкшего к удобствам, штаб-квартира Алленби была простой и лишенной комфорта, но для Лоуренса прохладное, чисто выбеленное здание, без мух, окруженное деревьями, казалось чем-то вроде рая. Однако он не особенно восторгался этим, так как считал непозволительным с моральной точки зрения наслаждаться белыми скатертями, кофе и денщиками, в то время как люди в Умтайе лежали среди камней наподобие ящериц, питаясь плохо пропеченным хлебом и ожидая воздушной бомбардировки с самолета.
Рано утром 22-го воздушные подкрепления вылетели в Умтайе и обнаружили, что ночью силы арабов отошли на несколько километров назад, чтобы избежать постоянной бомбардировки. Турецкая авиация разыскала этот новый лагерь вскоре после прибытия британских самолетов, и завтрак дважды прерывался внезапным переходом от поглощения сосисок к воздушному бою. Два самолета противника были сбиты и упали на землю, объятые пламенем, после чего Росс Смис с неохотой отправился обратно для доставки хэндли-пэйджа, в то время как Лоуренс полетел в Азрак.
Вместе с ним в зеленом вокс-холле возвратились Фейсал и Нури Шаалан. Там они узнали, что хэндли-пэйдж уже прибыл и разгружал тонну горючего, масло и запасные части, а также продовольствие для британских войск. Юнг, всегда заботившийся о снабжении, уже начал было беспокоиться в отношении проблемы содержания войск, и таким образом эти воздушные поставки имели не только цену новизны, но и оказывали фактическую помощь. Тяжелый бомбардировщик был окружен удивленными арабами, которые благоговейно говорили о машине как об «аэроплане» и называли самолеты-истребители ее жеребятами. Они уже уничтожили неприятельскую воздушную эскадрилью в Деръа, которая с тех пор перестала беспокоить арабов, появление же бомбардировщика хэндли-пэйдж имело большое моральное значение, являясь для арабского населения наглядным подтверждением могущества Англии. Громадная машина доказала также и свое военное превосходство, сбросив два дня спустя большое количество стофунтовых бомб над станцией Мафрак с таким эффектом, что товарные вагоны, стоявшие на запасных путях, горели в течение нескольких часов.
Здесь и в Деръа воздушные налеты довели до паралича железнодорожное движение и породили набеги арабов. 23-го арабы произвели новую вылазку у Джабира и сожгли деревянные леса, с помощью которых турки пытались восстановить мост, разрушенный Лоуренсом. На этот раз сам Лоуренс отдыхал и предоставил другим офицерам воспользоваться вместе с Нури Саидом успехом этого последнего удара.
По мнению Лоуренса, действия против 4-й армии можно было считать законченными. Те остатки воинских частей, которым удалось ускользнуть из рук арабов, доберутся до Деръа как безоружные отставшие толпы.
Факты, не известные ни ему, ни другим, даже тогда оправдывали предположения Лоуренса. 4-я армия уже отступала в северном направлении беспорядочным потоком. До 25-го тыловые части задерживали отряд Чайтора и, жертвуя собою, мешали выполнению возложенной на него задачи, состоявшей в том, чтобы отрезать отступление турок в северном направлении. Последние поезда вышли из Аммана за несколько часов до того, как британские войска заняли город. Однако вскоре поездам пришлось остановиться перед теми разрушениями, которые были сделаны арабами на железной дороге, и турки были вынуждены сойти с поезда. Только первые отправления воинских частей добрались до Дамаска, меняя поезда, основные же силы 4-й армии представляли собой сборище людей, едва волочивших ноги.
Хотя Лоуренс и заблуждался в своем предположении, что только безоружные солдаты достигнут Деръа, но в стратегическом смысле его предсказание в основном оказалось правильным. К тому времени, когда армия достигла Деръа, разложение уже зашло далеко. Любая задержка отступления могла предоставить шанс для этой массы сосредоточиться вокруг нескольких твердых остатков, которые еще сохранились. Предотвратить подобную передышку являлось стратегической целью арабов и самой существенной услугой, которую они могли бы оказать делу Алленби.
24-го британский самолет пролетел над ними, чтобы сообщить им новость о дальнейших успехах в Палестине и предупредить о том, что 4-я армия в своем отступлении направляется на них. В тот же самый день силы арабов отошли обратно к Умтайе, где на следующее утро происходило весьма важное военное совещание. Для выполнения своего нового плана Лоуренс предложил, «чтобы мы завтра на рассвете пошли на север через Тэль-Арар и через железную дорогу в деревню Шейх-Саад». В 17 км к северу от Музейриба на дороге паломников и на фланге Дамасской железной дороги «в хорошо знакомой нам местности, где вода была в изобилии, находились прекрасный наблюдательный пункт и надежная позиция для отхода на запад, на север и даже на юго-запад в том случае, если бы на нас была произведена непосредственная атака. Это отрезало Деръа от Дамаска, а также от Музейриба». Преимущества подобного маневра легко видны, но для того, чтобы застраховать себя от связанного с ним риска, требовалось хорошее понимание обстановки, так как «отход на запад, на север или даже на юго-запад» завлек бы арабов в направлении противника. Этот факт беспокоил некоторых из спутников Лоуренса.
Хотя, в частности, Юнг и высказывал свои опасения, вожди арабов присоединились к точке зрения Лоуренса, и отряд приготовился к выступлению. В предвидении наступления верблюды Нури Шаалана были вызваны из Азрака, что довело общую численность отряда более чем до 3000 человек, причем три четверти этого отряда состояло из иррегулярных частей. К сожалению, самолеты-истребители типа «Бристоль» возвращались в Палестину, а автобронемашины — в свою базу в Азрак. Объяснялось это тем, что «местность вокруг деревни Шейх-Саад была непроходима для бронемашин, у которых к тому же оставалось очень мало горючего. Авиация же захватила наш план операций для доставки его Алленби».
Наступление на север началось в тот же день, но тут же было прервано тревогой. Один из направлявшихся в Палестину самолетов вернулся обратно и сбросил сообщение, в котором говорилось, что приближаются крупные силы кавалерии противника. Это было неприятным известием, особенно теперь, когда арабы были лишены авиации и бронемашин. Лоуренс и Нури Сайд срочно собрались на совещание, чтобы решить, следует им продолжать путь или оставаться. Казалось более разумным отходить. Поэтому они и поспешили отвести регулярные части, иррегулярные же на лошадях были высланы вперед, чтобы задержать приближавшихся турок. Однако турки находились в таком состоянии, что и не собирались производить атаку. Они были обнаружены автобронемашинами, направлявшимися в Азрак, и когда последние открыли огонь, возникла паника, и турки разбежались.
Тем не менее эта остановка не только задержала наступление арабов, но и угрожала ему более серьезным и длительным перерывом с британской стороны, так как вечером Юнг доказывал, что остановка явилась предупреждением против возможности беспрепятственного перехода железнодорожной линии. Кроме того, Юнг продолжал настаивать на том, что арабы уже сделали достаточно и будут оправданы в своем решении отойти на позиции к востоку от железной дороги, где собирались друзы. Здесь они смогут подождать до тех пор, пока британские войска не возьмут Деръа.
Это предложение встретило резкий отпор со стороны Лоуренса. Он возражал, потому что с моральной точки зрения оставить войска Алленби без помощи в последний момент означало жертвовать честью арабов из-за безопасности, а с политической — потому, «что это уничтожало шанс на объединение тех земель, за которые арабы воевали в течение двух лет». Лоуренс никогда не терял из виду обещания, данного им в Каире: «Арабы должны удержать то, что они захватывают». С военной же точки зрения — потому, что это угрожало попортить наилучший шанс для быстрого решения.
В то время, как Лоуренс обосновывал свои планы военными преимуществами, Юнг упорствовал в своих взглядах, подчеркивая ближайший тактический риск продвижения поперек пути турецкой армии, находившейся так близко. Ему мерещилось, что несколько сот человек медленно двигающихся арабских регулярных частей будут раздавлены десятью тысячами турок. Столкнувшись с невозможностью убедить Лоуренса, Юнг встал на ту точку зрения, что он является кадровым военным и в настоящее время старшим. Однако это мало подействовало на Лоуренса. Он не захотел слушать дальнейших доводов Юнга, заявив, что хочет спать, так как ему придется рано вставать, чтобы перейти через железную дорогу, и что он пойдет со своей охраной и иррегулярные частями даже в том случае, если регулярные части не пойдут. Зная отношение к происходящему Нури Саида, Лоуренс был уверен, что регулярные части пойдут. Утром поход продолжался, причем численность сил арабов увеличивалась благодаря все возраставшему наплыву бедуинов и жителей деревень. В полдень перешли через железную дорогу без каких бы то ни было помех со стороны противника, оставляя после себя следы в виде рельсов, подорванных и вырванных с таким проявлением энергии, которое вряд ли было менее эффективным, чем более совершенное, но ограниченное разрушение. После первоначально разрушения сообщение по данной главной магистрали было прервано на девять дней. Линия была исправлена как раз этим утром, для того, чтобы по ней можно было пропустить отдельный воинский поезд, и теперь железнодорожный путь был снова разрушен. Начиная с этого момента, железная дорога всегда оставалась перерезанной, а шесть поездов оказались загнанными в Деръа и впоследствии попали в руки арабов.
Отсутствие сопротивления побудило Лоуренса расширить свой план. Ночью отряд разделился на несколько частей. В то время, как главные силы следовали по дороге без единого выстрела к Шейх-Сааду, Ауда свернул в сторону к станции Газал, где захватил застрявший поезд и 200 пленных. Нури Шаалан спустился к югу по дороге в Деръа и окружил еще 400 турок, которые были расквартированы по различным селениям. Главные силы арабов, энергично подбадриваемые Юнгом, достигли Шейх-Саада на рассвете 27-го; туда же вскоре собрались и другие отряды с захваченной ночью добычей.
С вершины холма в Шейх-Сааде вожди арабов оглядывали местность и горизонт. Повсюду виднелись части войск двигавшиеся к северу; это доказывало, что наступление на Шейх-Саад произвело соответствующий нажим. Турки получив ночью фантастические сведения о численности сил арабов, отдали приказ о немедленной эвакуации Деръа, причем сожгли оставшиеся там шесть самолетов — свою последнюю надежду видеть, где находится противник. Некоторые части были слишком велики или слишком далеко ушли вперед, чтобы их можно было перехватить, но насколько небольших и близко находившихся частей было захвачено. Всего за 24 часа до полудня 27-го было взято в плен 2000 человек; еще большее число было отпущено после того, как у них отобрали животных и снаряжение. Наряду со столь опьяняющими успехами даже для британских офицеров показалось незначительным доставленное самолетом известие о том, что Болгария капитулировала. Другой британский самолет прилетел, чтобы предупредить о том, что две большие неприятельские колонны приближаются с юга: одна численностью в 6000 человек шла из Деръа, а другая в 2000 человек — из Музейриба. Это означало, что в данное время поблизости находились основные массы отступавших турок. Однако все еще не имелось никаких признаков появления британской кавалерии, которая должна была подоспеть на помощь арабам.
4-я кавалерийская дивизия, находившаяся в долине Иордана, до утра 26-го не начинала своего похода в восточном направлении. Головная бригада получила приказ достигнуть Ирбида и, если возможно, войти в соприкосновение с арабами в ту же ночь. Приблизившись к деревне, бригада наткнулась на тыловое охранение противника и после боя была вынуждена задержаться вследствие отсутствия предварительной разведки и чрезмерной самоуверенности. Эта задержка вызвала противоположную реакцию, а именно — излишнюю осторожность, так как на следующий день, 27-го, продвижение бригады было чрезвычайно медленным, а после полудня совершенно прекратилось. Таким образом был упущен случай обхода 4-й турецкой армии, которая вышла из Деръа за день до прибытия бригады.
Неудача подвергла силы арабов кажущейся опасности. Учитывая тот факт, что последние имели всего лишь 600 человек регулярных войск, предостережение, полученное с самолета, о том, что две колонны противника движутся в их направлении, могло сильно подействовать на нервы любого командира. Однако психологический анализ, сделанный Лоуренсом в отношении турок, заставил его пренебречь опасностью создавшейся обстановки, а наряду с этим воспользоваться той возможностью, которую она предоставила.
Бросить свои силы против колонны, двигавшейся к северу от Деръа, при наличии другой колонны поперек его пути было бы безрассудным. Во всяком случае это был слишком жирный кусок, чтобы его можно было проглотить сразу. Одна часть людей была отправлена в помощь местным арабам. Лоуренс сразу же поехал со своей охраной в Тафас, чтобы, если возможно, задержать турок до прибытия на подмогу регулярных частей арабов. Маневр оказался слишком поздним, чтобы спасти Тафас. Приближаясь к деревне, Лоуренс увидел поднимавшийся дым и встретил нескольких обезумевших от горя беженцев, которые рассказали об ужасных деяниях, происшедших час назад, когда турки заняли деревню. Резня была уже закончена, и турецкие колонны выходили из деревни, чтобы продолжать свое движение на север. С целью задержать их до прибытия пехотных частей Нури Саида, охрана Лоуренса открыла огонь. Когда артиллерия подошла и заняла позицию, заставив противника повернуть на восток, Лоуренс в сопровождении Таллала и Ауда проскользнул в деревню за спиной турок. Они наткнулись на трупы мертвых детей и тела женщин, убитых «непристойным образом».
При виде этого зрелища Таллал застонал, медленно натянул свою головную повязку на лицо и затем внезапно поскакал галопом прямо на противника, чтобы быть скошенным пулями. Ауда, взяв на себя руководство боем, атаковывал неприятеля до тех пор, пока не разбил его отряд на три части. Самая малая часть, состоявшая из германских и австрийских пулеметчиков, оказывала упорное сопротивление, другие же две постепенно ослабевали и уничтожались в бою. При мстительном бешенстве арабов приказ Лоуренса не брать пленных был излишним. «В безумии, овладевшем нами в результате ужаса Тафаса, мы убивали и убивали, даже разбивая головы сраженных людей и животных, как если бы их смерть и текшая кровь могли заглушить наши страдания».
Даже после того, как бойня была закончена и арабы вернулись со своей добычей обратно в лагерь, Лоуренс не мог успокоиться, вспоминая своего убитого товарища Таллала. Он потребовал себе верблюда и с одним человеком из своей охраны выехал ночью, чтобы присоединиться к племени руаля, которое задерживало большую колонну противника. Лоуренс обнаружил ее по отдаленному звуку выстрелов и вспышкам орудий. С заходом солнца турки пытались расположиться лагерем, но арабы непрерывно беспокоили их своими набегами, заставляя находиться в движении. В результате турки шли, спотыкаясь, беспорядочными толпами, от которых отставали отдельные солдаты, слишком переутомленные для того, чтобы воспользоваться своим единственным шансом самосохранения.
Как обычно, Лоуренс смотрел вперед. Арабские конные и верблюжьи части могли обойти еле передвигавшиеся пешие колонны противника, когда хотели, положение же в Деръа должно было быть упрочено. Трад отправился вечером в Деръа вместе с арабами Рувалла и сообщил, что местность пуста. Однако еще не исключена была возможность встретить турецкие колонны, а при отсутствии кавалерии Бэрроу арабы, не получив быстро подкреплений, могли попасть под удар.
Поэтому Кхалид, собрав вокруг себя несколько сот своих людей, повернул к югу, в то время как Лоуренс отправился обратно в Шейх-Саад. Здесь он узнал и плохие, и хорошие новости. В лагере уже нависла угроза разногласий, так как успокоить вчерашнюю жажду крови было нелегко. Будучи ею опьянены, арабы вспоминали свои собственные кровные раздоры и счеты между племенами. Внутреннее спокойствие удалось сохранить с большим трудом. К счастью, создавшееся напряженное состояние было разряжено прибытием курьеров от Трада с сообщением, что Деръа взят, причем захвачено 500 пленных. Назир и Нури отправились туда со своими людьми, поехал и Лоуренс, хотя это была четвертая ночь его непрерывных разъездов. «Мой разум не позволял мне чувствовать, насколько усталым было мое тело».
Его нетерпение было настолько велико, что после сопровождения в течение некоторого времени Нури Саида он «дал свободу своему верблюду, который с каждым километром опережал моих спутников все дальше и дальше. Двигаясь с регулярностью поршня в машине, я въехал в Деръа совершенно один на рассвете 28-го». «Это была сумасшедшая поездка, — добавляет Лоуренс, — по стране убийств и ночных ужасов».
Назир находился в доме мэра, проводя подготовку распоряжений для военного губернатора и полиции. Помимо установления охраны над колодцами, навесами для машин и складами, Лоуренс предложил более серьезное мероприятие, так как его желание было видеть арабов уже установившими порядок до того, как англичане узурпируют руководство их обычным «коротким» образом. Он подоспел как раз вовремя, так как головные части англичан под командой Бэрроу приближались к краю холмов, готовясь к штурму. Лоуренс вышел к ним сообщить о том, что Деръа уже находится в руках арабов. «Взятая мною на себя задача была не из легких. Я захватил с собою только одного человека; я побрился, надел чистую одежду и обращался со всеми с шутовским безразличием, причем меня принимали сначала за туземца, затем — за шпиона, пока, наконец, я не нашел Бэрроу».
Лоуренс спокойно заявил, что теперь английские войска являются войсками арабов. «Узнав, что он был предупрежден как в своем намерении расставить часовых, так и захватить железные дороги. Бэрроу сдался, обратившись ко мне с просьбой найти для него фураж и продовольствие. Одной из причин того, что ему было трудно примириться с неожиданным положением, оказалось его отвращение к ужасным зрелищам, которые он молчаливо наблюдал во время ночного грабежа турецких частей города. Но поскольку он сдался, он это сделал торжественно. Так, когда Лоуренс обратил его внимание на шелковое знамя Назира, которое висело снаружи правительственного здания, Бэрроу отдал ему салют таким образом, что привел арабских солдат в трепет».
Для Лоуренса это удовольствие имело солоноватый привкус. Он уже предчувствовал двойное беспокойство впереди как за самих арабов, так и за отношения между ними и их союзниками. Чувство тревоги усилилось еще больше после соприкосновения арабов с обученными войсками. «Сущностью пустыни являлся одиноко двигавшийся человек, «сын дорог», находящийся в стороне от мира, как бы в могиле. Регулярные же войска, похожие на стадо овец, не выглядели заслуживающими привилегии. Мой ум чувствовал в рядовом составе индийских войск что-то слабое и ограниченное, представление о самих себе не вполне благородное — почти намеренное подхалимство вместо резкой крепости бедуинов. Обращение британских офицеров со своими людьми привело в ужас мою личную охрану, которая до этого момента никогда не видела личного неравенства».
Чувство отвращения у Лоуренса увеличилось после того, как он был очевидцем скотской распущенности, до которой доходили строго дисциплинированные войска, когда прорвались наружу их низменные инстинкты. Он не мог не вспомнить также и поведения британских войск в Бадажоз. «Мои товарищи из автобронечастей являлись для меня определенными лицами, вследствие того что их было немного и вследствие нашей долгой совместной работы; кроме того, их однородность в течение этих месяцев… исчезла, и это превратило их в людей с индивидуальными чертами». Прибывавшие же вновь войска были обезличенной массой, огромные количества подчеркивали их стереотипное поведение.
В последующие дни, по мере того как отряды сходились к Дамаску, Лоуренс еще ближе соприкоснулся с этим непривычным для него окружением. «Меня вновь поразило, как военная форма превращает толпу в прочную, безличную и заслуживающую уважения массу, придает ей однородность и натянутость выдающегося человека. Эта ливрея смерти, которая отделяла стеной носящих ее людей от обычной жизни, являлась признаком того, что они продали свои желания и тела государству и нанялись на службу, испытывая унижение, несмотря на то, что начало этой службы было добровольным. Некоторые из них повиновались инстинкту беззаконности, некоторые были голодны, некоторые жаждали призрачной красоты военной жизни, но из всех их только те получали удовлетворение, которые стремились унизить себя, так как для мирного глаза они были ниже человеческого достоинства. Преступники имеют над собой насилие. Рабы при известном желании могут быть свободными. Но солдат, предоставивший в распоряжение своего владельца 24-часовое использование своего тела, также полностью подчиняет ему свой разум и страсти».
Если бы Лоуренс разделял участь солдат в окопах и в ударном батальоне, возможно, что он относился бы к ним иначе, так как при приближении к линии фронта мнение изменялось в пользу индивидуальности, которая во многих случаях становилась даже сильнее под действием этого опыта.
Следует иметь в виду, что Лоуренс испытал только две крайности солдатчины: выгребную яму штаба в Каире и одиночество партизанской войны в пустыне. Затем, учитывая его размышления, необходимо принять во внимание состояние его в тот момент, когда его воля заставляла двигаться непосильно уставшее тело. Лоуренс находился в угнетенном состоянии, так как учитывал те неприятности, которые его ожидали впереди, и остро сознавал ту двойную роль, которую ему приходилось играть, постоянно идя на сделку со своей совестью.
Но если и учесть его настроение, все же имеется глубокая истина в его размышлении о природе армий, которая может послужить уроком даже для тех, кто должен создавать армии. Она помогает найти объяснение, почему наиболее хорошо обученные армии так часто оказывались тупыми мечами и почему солдаты очень часто разлагались в процессе их подготовки. Его размышления, кроме того, помогают объяснить, почему он для своей последующей службы выбрал воздушные силы. «Проблема кадров королевских воздушных сил сводится к тому, чтобы дать механика, обладающего индивидуальной смышленостью».
Утром 29-го Бэрроу направился к северу по дороге паломников, попросив вождей арабов создать прикрытие для его правого фланга. Назир, Нури Шаалан и Ауда с 1200 человек на лошадях и верблюдах уже опередили его, выступив на день раньше, для того чтобы перехватить главную колонну противника. Фактически весь день 29-го они уже находились с ней в соприкосновении, затрудняя ее продвижение.
Сам Лоуренс остался позади, чтобы повидаться с Фейсалом, который в этот день прибыл из Азрака, и убедиться в том, что руководство арабов заняло твердую позицию. Он надеялся проспать ночь, но, поскольку сон не приходил, он разбудил Стэрлинга и перед рассветом отправился в «голубом тумане»[82] в северном направлении к Дамаску, находившемуся в расстоянии 105 км. Выяснив, что продвижение было застопорено колоннами кавалерийского транспорта, они свернули в сторону и к полудню догнали хвост штаба Бэрроу, который сделал привал. Штаб сопровождала личная охрана Лоуренса. Взяв одного из верблюдов, Лоуренс поехал повидаться с Бэрроу и выяснить причину остановки. Бэрроу, который остановился для водопоя лошадей, высказал свое крайнее удивление, когда увидел Лоуренса верхом на верблюде и узнал, что он выехал из Деръа утром того же дня. Когда Бэрроу спросил, где они собираются остановиться на ночь, он получил задорный ответ, который мог сделать только Лоуренс: «В Дамаске».
В полдень Лоуренс проехал мимо британского сторожевого охранения, затем через линию разведчиков и, продвигаясь вперед, оставлял записки в ряде деревень, чтобы там ожидали прибытия кавалерии. Если эта информация и была оценена, то туманный намек был едва ощутим. Однако Лоуренс получил от распространения этой информации удовлетворение и даже удовольствие. «Меня и Стэрлинга раздражала осторожность наступления Бэрроу. Разведчики производили разведку по пустым долинам, отделения взбирались на каждый покинутый холм, линия разведчиков была тщательно выставлена впереди в дружественной стране. Это показывало разницу между нашими определенными движениями и процессами нормальной войны. Это также показывало полнейшее пренебрежение авиацией, так как британские самолеты летали над этим районом весь день».
«Голубой туман» поехал дальше по направлению к Кисве, отстоявшей в 17 км от Дамаска, где Бэрроу должен был соединиться с Шовелем и оставшимися частями конного корпуса. В пути Лоуренс услышал стрельбу справа близ Хиджазской железной дороги. Затем он увидел турецкую колонну численностью около 2000 человек, двигавшуюся бесформенными группами. Вокруг нее, как мухи, носились арабы. Назир, подъехав к Лоуренсу, сказал, что это было все, что оставалось от первоначальных 6000 человек. Разгром этой колонны был целиком результатом действий иррегулярных частей, так как арабские регулярные части, так же, как и британская кавалерия, передвигались слишком медленно для того, чтобы принимать участие в этом деле. Однако теперь для последних представился случай помочь разделаться с остатками.
Попросив Надира преградить дорогу и задержать колонну по возможности хотя бы на час, Лоуренс повернул обратно и поехал за помощью англичан. Проехав 5 км назад, он встретился с передовым охранением. Стэрлинг рассказывает, что командовавший им пожилой полковник «был в высшей степени официален с Лоуренсом и, по-видимому, отказывался понимать, как наш маленький «роллс-ройс» мог проехать безнаказанно несколько километров впереди его кавалерии, которая в то время двигалась к северу с бесконечными и совершенно излишними предосторожностями». Он с неохотой отправил вперед эскадрон, но когда турецкие горные орудия открыли огонь, полковник приказал отступать. Опасаясь за тот риск, которому подвергался Назир, и вне себя от подобной бездеятельности, Лоуренс поспешно поехал обратно, чтобы возобновить свою просьбу к полковнику, но, поскольку не мог на него воздействовать, отправился на поиски командира бригады. Генерал Грегори сразу же выслал вперед конную батарею и кавалерийский полк, в то время как другой полк был направлен в сторону для обхода противника.
Но время было уже потеряно, и когда орудия подошли на дистанцию обстрела, стало уже темно. Тем не менее батарея успела предотвратить турецкую контратаку на Назира, и ее снаряды заставили турок направиться к высотам Джебель-Мания, бросив орудия и транспорт. Там ожидал их в засаде Ауда. Ночью Ауда захватил в плен 600 турок. Остальные турки, воспользовавшись темнотой, спаслись бегством и два дня спустя были окружены австралийцами. Всего арабы захватили 8000 пленных и убили около 5000 человек, кроме того им досталось 150 пулеметов и около 30 орудий. Таким образом окончательный разгром 4-й армии может быть полностью приписан операциям арабов и датирован 30 сентября.
Уже в полдень северо-западный выход из Дамаска был закупорен австралийской конной дивизией, которая хорошо продвинулась по западной дороге и достигла ущелья Барада как раз в тот момент, когда по этому пути отступала часть гарнизона Дамаска. Остановив поток беглецов пулеметным огнем с утесов, австралийцы быстро заставили противника собраться в перепуганную массу, из которой около 4000 человек было взято в плен.
В этот же полдень отряд шерифа в Дамаске захватил власть в свои руки и поднял над городской ратушей арабский флаг еще в тот момент, когда отступавшие турки выходили из города. Турки «проглотили» это оскорбление, даже не пытаясь сорвать флаг.
Сам Али-Риза-паша, так долго совмещавший обязанности турецкого командира и главы арабского комитета, не присутствовал, чтобы приветствовать эту перемену. Он как раз перед этим был направлен руководить последней линией обороны турок — приказание, которое он принял с большой охотой, так как оно ускоряло для него возможность присоединиться к англичанам.
Отъезд Али-Риза-паши из Дамаска, возможно, несколько задержал восстание, однако его естественный преемник Шукри-паша был вынужден к дальнейшим действиям не только гулом британских орудий, но и неожиданной поддержкой алжирских братьев Абд-Эль-Кадером и Мохаммедом-Саидом, которые упорно до последнего часа были против турок. Они усилили свою подмогу Шукри, и Мохаммед-Саид принял на себя руководство комитетом на том основании, что был назначен губернатором отъезжавшим Джемаль-пашой.
Хотя события в Дамаске не были известны остальным вождям арабов, последние все же на рассвете послали в город конные части Рувалла, поддержали их отрядами руаля на верблюдах. Самого Назира Лоуренс разубедил входить, опасаясь несчастной случайности в темноте, а также из тех соображений, что въезд днем произведет большее впечатление.
Наконец, Лоуренс и Стэрлинг к полночи закутались в одеяла и легли на землю около «голубого тумана». Неожиданно оин были разбужены рядом сильных взрывов и увидели краснеющий отблеск на небе над Дамаском. Приподнявшись на локтях, Лоуренс воскликнул: «О Боже! Они подожгли город». Он содрогнулся при мысли, что в момент наступления свободы эта цель их усилий может быть превращена в пепел. Однако Стерлингу он не выдал больше никаких проявлений своего чувства, а просто сказал: «Во всяком случае, я отправил вперед арабов руаля, и мы вскоре будем иметь 4000 человек в самом городе и вокруг него».
К счастью, опасения не оправдались: взрывы происходили со стороны складов боеприпасов, которые германские инженеры уничтожали перед уходом. На рассвете 1 октября Лоуренс поднялся на рубеж, с которого был виден весь город, и увидел его не в развалинах, но сверкающим, «как жемчуг при утреннем солнце». Когда он спустился вниз, по дороге пронесся всадник на коне и прокричал: «Хорошие новости! Дамаск приветствует вас!» Это был курьер от Шукри. Лоуренс сразу же передал эти известия Назиру, чтобы «он мог насладиться почетным входом в качестве награды за его пятьдесят боев».
Тогда Назир и Нури Шаалан въехали в город, а Лоуренс из политических соображений остановил машину у маленького ручья, чтобы помыться и побриться. Его бритье было прервано патрулем бенгальских улан, которые поспешили забрать его в плен.[83] Даже когда Стэрлинг раскрыл свой плащ и показал английскую военную форму, он просто получил толчок копьем за свои старания. Они были освобождены только тогда, когда встретили офицера.
После этого они смогли войти в Дамаск. Народ вначале был поражен этой переменой, а затем стал все больше и больше радоваться.
Странным контрастом являлись массы турецких солдат, наблюдавших за вступлением арабов в город так же апатично, как они ожидали своего плена, — в казармах и госпиталях их было свыше 13 000 человек. «Пеллагра» — болезнь отчаяния — убивала их тысячами.
В городской ратуше Лоуренса ожидала более серьезная задача, так как, проложив себе путь через излишне демонстративную уличную толпу в вестибюль, он нашел Мохаммед-Саида, отстаивавшего свои права быть начальником города. Прежде чем Лоуренс сумел разобраться в его претензиях, внимание его было отвлечено внезапной дикой схваткой между Аудой и султаном Эль-Атраш, вождем друзов. Когда мир был, наконец, водворен и убийство устранено, алжирские вожди вместе с Назиром удалились. Тогда Лоуренс, который уже решил назначить Шукри губернатором, взял его с собой в «голубой туман» для церемониального проезда по городу и для того, чтобы показаться населению. В окрестностях Дамаска они встретили машину Шовеля. «Я описал возбуждение, царившее в городе, и невозможность для нашего нового правительства гарантировать нам административное руководство до следующего дня, когда я буду ожидать его, чтобы обсудить совместные нужды. Тем временем я сделал себя ответственным за поддержание общественного порядка, попросив его только держать своих людей за пределами города, потому что вечером можно будет увидеть такой карнавал, какого в городе не происходило в течение 600 лет, а гостеприимство может разложить дисциплину его частей».
Шовелю, как казалось, не особенно нравилась перспектива откладывания его триумфального въезда, но, не имея на этот счет достаточно точных инструкций, он был вынужден сдаться, так же, как Бэрроу у Деръа, превосходящему авторитету «определенности Лоуренса» — тому спокойному, но не допускавшему возражений самоуверенному виду, который хорошо знали все, с кем ему приходилось иметь дело.
Затем Лоуренс вернулся в ратушу, чтобы уладить вопрос с алжирскими захватчиками власти. Последние еще не вернулись, и когда он послал за ними, то получил краткий ответ, что они спят. Тогда он сказал их родственникам, что пошлет за ними британские войска; «это была только тактика, но не фактическое намерение». Когда человек вернулся обратно с этим извещением, Нури Шаалан спросил его спокойно, действительно ли придут англичане, на что Лоуренс ответил: «Конечно, но беда заключается в том, что впоследствии они смогут не уйти». Нури Шаалан обещал прислать ему на помощь своих арабов племени руаля. Вскоре появились алжирские братья со своими сторонниками, полные угроз, однако когда они почувствовали превосходство вооруженной силы, то выразили готовность выполнить приказание Лоуренса. Лоуренс как заместитель Фейсала объявил их правительство распущенным и назначил военным губернатором Шукри. Мохаммед-Саид, свирепо ругая Лоуренса как христианина и англичанина, пытался апеллировать к Назиру, который чувствовал себя при этом нежелательном политическом осложнении чрезвычайно неудобно. Но Лоуренс оставался непреклонным. Тогда Абд-Эль-Кадер разразился проклятиями, к которым Лоуренс отнесся настолько презрительно, что взбешенный фанатик-мусульманин выхватил свой кинжал. К счастью, Ауда увидел его движение и бросился вперед с такой звериной яростью, что Абд-Эль-Кадер поспешил отступить. Он и Мохаммед увидели теперь бесплодность дальнейших протестов и удалились. «Меня уговаривали их задержать и расстрелять, но я не мог проявить своей боязни их злобы или подать арабам пример предупредительного убийства как части политики». Счастлив тот государственный человек, который достаточно понимает историю, чтобы с ним согласиться.
Как только братья удалились, Лоуренс использовал собрание для обсуждения вопросов политики.
По его настоянию и указанию были созданы основы правительственного аппарата. Прежде всего встал вопрос об организации полиции. Были назначены офицеры, распределены районы и определены временные условия службы. Австралийский отряд, которому сдались турецкие войска, находившиеся в казармах, выставил охранение к нескольким общественным зданиям и таким образом помог поддержать порядок в городе до прибытия арабских регулярных частей. Если последние вследствие их относительной медлительности и играли весьма незначительную роль в разгроме 4-й армии, то для политического укрепления позиции они были неоценимы.
Было налажено денежное обращение путем выпуска бумажных денег и установлены новые цены. Другая проблема заключалась в том, чтобы найти фураж для конного корпуса. В этом отношении Лоуренс проявил особую настойчивость из боязни, что в противном случае Шовель может захватить и фураж, и правительство.
На следующий день большая часть намеченных мероприятий была проведена в жизнь, и достигнутые успехи оказались особенно заметны для того, кто видел тогда город в первый раз.
Перед рассветом 2-го произошла суматоха. Лоуренс был разбужен и узнал, что Абд-Эль-Кадер пытается произвести переворот при поддержке своих алжирских сторонников и части друзов, которые были раздражены отказом Лоуренса вознаградить их за запоздалую помощь и которые надеялись таким путем добиться компенсации за утраченную ими возможность грабежа.
Лоуренс и вожди арабов дождались рассвета, разумно предпочитая не лишаться преимуществ лучшего вооружения в свалках на темных улицах. При первом проблеске рассвета Нури Сайд двинул вооруженные отряды в верхние предместья города и удачными действиями оттеснил повстанцев к центру. Регулярные части арабов обстреливали прибрежные площади заградительным пулеметным огнем. Заговорщики прекратили сопротивление и стали спасаться бегством по боковым аллеям. Затем Мохаммед-Саид был арестован и посажен в тюрьму; его брату удалось бежать.
Хотя спорадические грабежи и продолжались, революционная попытка была подавлена без помощи войск Шовеля. Укрепление нового режима было облегчено возвращением Али-Риза, который принял от Шукри бразды правления.
После того, как закончилось это восстание, Лоуренс снова мог вернуться к делу организации общественной жизни. В полдень он отправился в турецкие казармы, где увидел две роты австралийцев, охранявших покойницкую. Войдя в нее, Лоуренс нашел помещение заваленным разлагающимися трупами и в нем же больных дизентерией, умиравших в своих собственных нечистотах. Приняв энергичные меры при наличии той слабой помощи, которую мог получить, он навел некоторый порядок и приказал похоронить мертвых.
Когда на следующий день он вернулся, помещение было в таком антисанитарном состоянии, что армейский доктор, который, очевидно, принял Лоуренса за прислуживающего араба, с негодованием обрушился на него за то, что он довел помещение до столь явного нарушения правил гуманности. Лоуренс, чувствуя в этом обвинении мрачный юмор, не мог удержаться от сдержанного смеха; это привело к тому, что врач ударил его по лицу. Лоуренс принял это оскорбление без всякого протеста, чувствуя себя настолько запачканным в целой цепи событий, что еще одно пятно не делало разницы, но скорее имело символическое значение.
Каковы бы ни были те недочеты, которые в дальнейшем могли появиться в новом наспех созданном арабском государстве, они являлись скорее следствием природы материалов, чем следствием самого строительства. Последнее должно было быть выполнено быстро, и в этой быстроте заключается удивительная особенность Лоуренса. Другие диктаторы и созидатели государств имели основание, на котором они могли строить, и время, для того чтобы исправлять свои ошибки; у него же было 24 часа.
И все же 3 октября, когда в Дамаск прибыл Алленби, Лоуренс был в состоянии, по словам Стэрлинга, «передать ему город в относительном порядке, почти совершенно очищенным от следов войны, с правительственным аппаратом, функционировавшим легко и быстро». Алленби уведомил Фейсала, который вступил в город на час позже, что он готов признать арабскую администрацию на территории противника к востоку от Иордана и Маана до Дамаска включительно.
Когда Фейсал уехал, Лоуренс обратился к Алленби со своей личной просьбой — первой и последней: он просил разрешения передать свои обязанности кому-либо другому.
Алленби возражал, желая, чтобы он отправился в Алеппо, но в конце концов красноречие Лоуренса победило. На следующий день Лоуренс выехал в Каир.
Дамаск оставался для него как память.
В то время как Лоуренс ехал на юг, военные действия развертывались у Алеппо. 25 октября 5-я кавалерийская дивизия достигла предместий в тот момент, когда силы арабов под командованием Назира и Нури Саида наступали на правом фланге. Совместная атака была назначена на следующий день. Однако ночью арабы ворвались в город, и турки его покинули. 29-го арабы новым скачком захватили станцию Муслимия — железнодорожный узел Багдадской и Сирийской железных дорог. Жизненно необходимая магистраль была разрушена, и турецкая армия в Месопотамии оказалась изолированной.
Два дня спустя Турция вышла из войны. Прошло еще 11 дней, и наконец 11 ноября капитулировала сама Германия. В тот же самый день Лоуренс прибыл обратно в Англию после четырехлетнего отсутствия.
В решающие недели подготовки удара Алленби и в период его нанесения почти половина турецких сил, находившихся к югу от Дамаска, была отвлечена арабскими частями; противник был пригвожден на востоке от Иордана хорошо задуманными ложными атаками и «булавочными уколами», парализовавшими нервную систему армии. Эти турецкие силы состояли из 2-го и 8-го армейских корпусов, а также гарнизонов вдоль Хиджазской железной дороги, между Мааном и Амманом. Общая численность их доходила до 2000 сабель и 12 000 штыков, число же состоявших на довольствии было в три раза больше, т. е. около 40 000 — 45 000 из общего числа в 100 000, находившихся к югу от Дамаска.
Наиболее характерным было то, что при сравнительно незначительной поддержке со стороны отряда Чайтора эти массы турок были парализованы отрядом арабов, численность которого не достигала 3000 человек и в котором ядро боевых сил едва насчитывало 600 человек.
Это привело к тому, что Алленби был в состоянии сосредоточить 3 армейских корпуса общей численностью в 12 000 сабель и 57 000 штыков против другой половины турецких сил, а в секторе, выбранном для решительного удара, выставить 40 000 штыков и сабель против 8000 или, другими словами, иметь соотношение более чем 5:1.
Во всей истории борьбы трудно было бы найти столь поразительный случай экономии сил для отвлечения противника. Как ни был мал тот отряд, который проявил столь огромную способность отвлечения, фактически лишь часть его была оттянута от главных британских сил: даже включая гуркхов и египтян, в нем едва насчитывалась сотня людей.[84] Если бы они были оставлены с армией в Палестине, эта горсть людей оказалась бы просто каплей в море. Будучи отправлена в пустыню, она создала смерч, который отвлек на себя примерно половину турецкой армии — фактически более чем половину, если мы посчитаем 12 000 турок, отрезанных в Хиджазе. Но даже и при этом подсчете не учитываются турецкие войска в Южной Аравии.
Что означало отсутствие этих сил для успеха удара Алленби, понять не трудно. В конечном счете арабы почти одни нанесли смертельный удар 4-й армии.
Однако помимо арифметического фактора, согласно оригинальной классификации Лоуренса, имелся еще биологический фактор. Тактика изнурения противника, потребовавшая со стороны турецких войск физического и морального напряжения, которые довели их до точки надрыва, была использована вездесущими арабами, всегда избегавшими встречи с противником.
Глава XVII. Конец войны
Война была выиграна. Турецкая империя опрокинута, создано арабское государство. Возникала возможность создания арабской конфедерации и даже новой империи. Все это было достигнуто мечом или, вернее, дальнобойной пулей и подрывными средствами. Военная задача Лоуренса была выполнена. Оставалась политическая задача, хотя он со своей стороны не имел ни малейшего желания принимать участие в ее разрешении. Он хотел лишь добиться предоставления арабам возможности делать то, что они пожелают.
Достижению его цели угрожал договор Сайке — Пико, а также скрывавшиеся за ним экспансионистские стремления. Последние руководили теперь действиями как французов, так и англичан, но с характерными для них отличиями.
Притязания французов к Сирии основывались на фактах, имевших место еще в средние века, и исходили из того, что после крестовых походов на Левантийском побережье, как обломки после кораблекрушения, остались латинские государства. Во время мировой войны нежелание французов видеть союзника обосновавшимся на этой земле их предков, по-видимому, было столь же сильным, как и стремление оградить свою собственную территорию от вторжения немцев в ущерб участию в кампании против турок на азиатском театре.
Руководители французской политики никогда не теряли из виду послевоенных намерений с того момента, как в марте 1915 г. они объявили о своих притязаниях на Сирию, услышав, что русские заявили о своем требовании на захват Константинополя. Французы готовились начать свое наступление сразу после достижения победы и подкрепить его как военными силами, так и политикой притязаний на роль защитников христианства в восточной части Средиземного моря и ислама — в южной. К несчастью, сирийские мусульмане считали, что французы слишком сильно защищают интересы Алжира и Туниса.
Но если у французов была самая долгая память, то у англичан — самая короткая. В целом это являлось преимуществом, но все же это имело и определенные неудобства, в особенности когда дело касалось народа, который не так-то легко все забывал. Ни французы, ни арабы не собирались предать забвению несколько противоречивых заверений, полученных ими от британских представителей; победа же укрепила их память и усилила аппетиты. Таким образом Англия встретилась с дилеммой: удовлетворить одного союзника означало не только нарушить доверие, но также и вызвать неприятности для другого.
Возникновение дилеммы в значительной степени могло быть приписано отсутствию предвидения, так как, когда арабам давались заверения, что они смогут удержать за собой все ими захваченное, имелась весьма слабая надежда на то, что им удастся захватить так много.
Положение осложнилось также расхождением во взглядах, выявившихся среди членов британского правительства.
Некоторые представители последнего вдохновлялись так называемой исторической целью — распространением британского контроля над менее культурными странами.
Это было равносильно признанию того, что кое-кто из этих апостолов экспансии руководствовался не просто империалистическими стремлениями, но и обоснованной верой в пользу британской администрации как средства обеспечения народу в целом высшей степени справедливости по сравнению с той, которая обычно преобладает у азиатских народностей. Подобная точка зрения, едва ли заслуживающая поощрения, объяснялась, с одной стороны, идеализацией национализма, а с другой — твердолобым консерватизмом, который все еще смешивает обширность с величием. Другим фактором, который повлиял на защитников идеи британского контроля и в особенности в Месопотамии, являлось убеждение в практических трудностях создания эффективной арабской администрации для немедленной замены ею турецкой.
Но каковы бы ни были мотивы, решение задерживалось не только желанием удержаться в Месопотамии, но также и плохо продуманным шагом, нашедшим свое отражение в договоре Сайке—Пико, по которому Моссульский вилайет попадал в сферу французского влияния. В результате для того, чтобы сохранить единство Месопотамии к будущему благополучию арабов, британское правительство было вынуждено нарушить свою торжественную клятву сохранить суверенитет арабов в Сирии.
Подобная обстановка сложилась постепенно. Перспектива представлялась благоприятной, а договор Сайке—Пико казался чем-то вроде облачка на горизонте, когда в конце октября 1918 г. Алленби установил военное руководство на занятой территории и поделил ее на три области: «Южная» — под руководством британского администратора — включала Палестину и совпадала с «красной» зоной Сайке—Пико; «Северная» — под руководством французского администратора — являлась «голубой» зоной Сайке — Пико на побережье Сирии; «Восточная» являлась значительно более длинным и широким поясом от Алеппо за Дамаск и вниз к Акаба. Она охватывала старые зоны «А» и «Б», поскольку они были добыты силами Алленби. Выполняя свое обещание Фейсалу, Алленби передал этот громадный пояс военной администрации арабов. Более того, чтобы удовлетворить арабские притязания, в «Восточную» область была включена небольшая часть старой «голубой» зоны.
Тогда 7 ноября французское и английское правительства выпустили совместную декларацию о том, что:
«…цель, к которой стремятся Франция и Великобритания… заключается в полной и несомненной свободе народов, так долго находившихся под гнетом турок, и в установлении национальных правительств и администраций, власть которых основывается на инициативе и свободном выборе туземного населения.
Для того, чтобы выполнить эти намерения, Франция и Великобритания согласились в своем желании побудить и помочь установлению туземных правительств и административных управлений в Сирии и Месопотамии… Совершенно не желая возлагать на население этих областей подобного или подобных учреждений сверху, Франция и Великобритания озабочены лишь тем, чтобы заверить в своей поддержке и практической помощи нормальной работе правительств и учреждений, которые эти народности могут установить по своему выбору».
Каковы бы ни были сомнения в отношении мудрости этого документа, одна лишь эта декларация является достаточной для того, чтобы оправдать часто подвергавшуюся критике линию поведения Лоуренса в отношении послевоенного упорядочения и осудить всех тех, кто во Франции и Англии стремился к другим целям. И все же какой иронией звучит эта декларация в свете последующей истории!
Отъезд Лоуренса из Дамаска, после того как была обеспечена военная победа, дал ему возможность принять участие в борьбе за честь Англии в том единственном месте, где она могла быть выиграна. Однако он не ожидал, что эта борьба наступит так быстро; он не предполагал, что падение Германии последует немедленно за разгромом Турции. Непосредственная причина переезда Лоуренса с востока на запад объясняется лучше всего его собственными словами: «Когда я направлялся в Лондон, я имел в виду начать учиться в качестве младшего офицера новому методу ведения войны во Франции. Восток был высосан до дна».
Для ускорения своего путешествия в Англию Лоуренс не только принял, но и просил о том, что могло быть названо «честью или наградой», — чина полковника. Его равнодушие к подобным отличиям было настолько общеизвестно, что эта просьба вызвала забавные комментарии. Последние возросли еще более, когда он объяснил, что хотел получить этот чин для того, чтобы быстро проехать через Италию в специальном штабном поезде из Таранто. «Спальные места предоставлялись только лицам в чине полковника и выше. Я ехал вместе с Чэтвудом в чине полковника (полученном от Алленби) и чувствовал себя великолепно. Я люблю комфорт! Для воинских поездов на переезд требуется восемь дней, а для экспресса с международными спальными вагонами только три дня».
По прибытии в Лондон Лоуренс был вызван на заседание восточной комиссии кабинета, чтобы изложить свои взгляды на будущее арабских стран. Он предложил создать три государства с шерифами — в Сирии, Верхней Месопотамии и Нижней Месопотамии — и назначить в качестве их управителей трех сыновей короля Хуссейна. Предложение было отправлено по телеграфу полковнику Вильсону, временно исполнявшему обязанности гражданского комиссара в Месопотамии, который отнесся к нему довольно «прохладно», но комментировал с большей горячностью, поскольку не соглашался ни с разделением Месопотамии, ни с удалением британской администрации.
Еще более серьезным, хотя и менее открытым, была сопротивление, подготовлявшееся во французских кругах. 6 ноября в Бейруте высадился Пико в качестве «верховного французского комиссара в Сирии и Армении». 14-го он протелеграфировал в Париж: «До тех пор, пока британская армия занимает страну, в настроении населения будет существовать сомнение, благоприятное для враждебных нам элементов. Единственным выходом из положения являются отправка 20 000 солдат в Сирию и просьба к Англии передать ее нам… Если мы будем колебаться… наше положение в Сирии будет подорвано так же, как оно было подорвано в Палестине». Пико был недоволен уже потому, что лицо, стоявшее во главе администрации арабов в «Восточной» области, имело дело непосредственно с Алленби, минуя его самого.
Затем французы узнали, что по приглашению британского правительства Фейсал отправляется в Лондон; это они приписали махинациям Лоуренса. Они отправили резкую телеграмму Хуссейну, в которой говорилось, что Фейсал был бы принят во Франции с почестями, соответствующими сыну союзного правителя, и наряду с этим выражали свое удивление, что проезд не был подготовлен через их представителя. Бремону, находившемуся в то время во Франции, было приказано встретить Фейсала. Ему было указано французским министерством иностранных дел, что Фейсала надлежало рассматривать как «генерала, выдающееся лицо, но ни в коем случае не признавать в нем носителя какой-либо дипломатической миссии. С Лоуренсом же следует обходиться очень резко, показав ему тем самым, что он идет по неправильному пути». Согласно опубликованному отчету Бремона, к этой директиве было добавлено: «Если Лоуренс приедет как полковник британской армии в английской военной форме, то его надо приветствовать. Но мы не принимаем его за араба, и если он будет в арабском одеянии, то нам с ним делать нечего».
Фейсал прибыл на британском крейсере и был встречен Лоуренсом. Бремону не удалось встретиться с ним, пока они 28 ноября не прибыли в Лион. Фейсал был быстро уведомлен о точке зрения французского правительства на Лоуренса, который в связи с этим в тот же вечер решил выехать поездом в Англию. Вопреки заявлению Бремона, Лоуренс не носил одеяния арабов, так что Бремон, по-видимому, либо страдал забывчивостью, либо упомянул об этом в качестве извинения, для того чтобы загладить нарушение вежливости со стороны французского правительства.
В данном случае можно лишь добавить, что указания на то, что Лоуренс часто появлялся в одеянии араба, были сильно преувеличены. Он носил арабскую одежду однажды на вечере просто для забавы, потом одевал ее, позируя художнику Августу Джону и сопровождая Фейсала в Букингемский дворец в качестве переводчика. Его внешний вид шокировал некое лицо, которое с упреком сказало ему:
«Считаете ли вы правильным, полковник Лоуренс, что подданный короны, а к тому же офицер, должен приходить сюда одетым в иностранную военную форму?» На это Лоуренс спокойно ответил: «Когда человек служит двум господам и вынужден разгневать одного из них, то лучше обидеть более могущественного. Я пришел сюда в качестве переводчика эмира Фейсала, у которого это одеяние является военной формой». В Париже он не надевал арабского одеяния, но несколько раз носил арабское головное покрывало с военной формой хаки и британскими знаками отличия — на заседании Совета десяти, выполняя обязанности переводчика для Фейсала и для того, чтобы сфотографироваться вместе с Фейсалом.
После поездки по старой линии фронта во Франции Фейсал и его свита 9 декабря прибыли в Булонь. Пароход подошел к пристани, и Лоуренс сошел вниз по сходням, для того чтобы их встретить. Отдав почести Фейсалу, он любезно передал Бремону приглашение сопровождать Фейсала в Англию, заверив Бремона, что тот будет хорошо принят. В этом, конечно, чувствовалась определенная ирония.
После того, как Фейсалу была показана Англия, Лоуренс в январе возвратился в Париж на заседание мирной конференции. На этот раз уже французы больше не могли возражать против присутствия Лоуренса, и он был назначен членом делегации министерства иностранных дел по восточным делам. Однако они возражали против Фейсала и уступили лишь после того, как Клемансо нажал на своих подчиненных благодаря вмешательству англичан и американцев. Фейсал просил лишь о том, чтобы его допустили на конференцию в качестве представителя своего отца, который был признан как король Хиджаза. Но даже и этого положения было трудно добиться из-за ревнивых подозрений Хуссейна в отношении целей своего сына. Лоуренсу пришлось использовать свои различные связи, прежде чем в середине декабря была одобрена кандидатура Фейсала. Но его участие было ограничено тем фактом, что право Хуссейна высказать свой голос в отношении будущего Сирии и Месопотамии не было признано открыто.
В действительности, голос Лоуренса, сделавшегося советником в деле арабов, проникал из кулуаров версальского дворца в самые отдаленные кабинеты. Его успех был тем более замечательным, что дело, которое он представлял, порождало осложнение, которое ни один из государственных людей, уже запутавшихся в паутине международных отношений, не мог приветствовать.
Его аргументы произвели особенно сильное впечатление на Ллойд-Джорджа. Хотя Ллойд-Джордж и Лоуренс очень отличались друг от друга в отношении своих взглядов, оба они ценили друг друга. По мнению Лоуренса, Ллойд-Джордж не только возвышался над другими государственными людьми в Версале, но и отличался почти от всех их своим желанием сделать то, что являлось, по мнению Лоуренса, справедливым, вместо того чтобы только играть в пользу национального превосходства.
С другой стороны, способность Лоуренса ясно излагать свои мысли была весьма оценена Ллойд-Джорджем, который испытывал затруднения с официальными экспертами, прикрывавшими собственную скудость мысли тяжеловесными объяснениями. Лоуренс изложил Ллойд-Джорджу не только арабскую проблему в том виде, как она ему представлялась, но и то решение, которое он имел в виду. Если главной заботой его являлось желание видеть Фейсала обосновавшимся в Дамаске во главе независимого сирийского государства, оставляя северный берег французам, то организацию подобного же государства в Месопотамии он рассматривал не только в качестве необходимого приложения для избежания неприятностей, но и с точки зрения справедливости. Арабы пустыни должны были удержать свою основную независимость как в новых государствах, так и в старых.
Однако препятствием на путях приближения к подобному решению являлось желание французов добиться контроля над Сирией в такой же степени, как британское нежелание покинуть Месопотамию являлось тормозом для всех наших усилий заставить французов изменить их позицию. Имелся обманчивый проблеск надежды, когда была назначена межсоюзническая комиссия для посещения Сирии, Палестины и Месопотамии и представления доклада о желаниях самого населения в отношении его будущего правительства. Французы позаботились о том, чтобы не назначить своего представителя, и хотя американские члены комиссии все же туда отправились, доклад их не привлек никакого внимания. Их выводы показали, что французский мандат будет совершенно неприемлемым.
Хотя эти месяцы пребывания в Париже и были тяжелыми для Лоуренса, они все-таки не повлияли на его чувство юмора, так как мирная конференция, пожалуй, изобиловала слишком большими возможностями. Одной из забавных историй является рассказ о том, как Лоуренс встретился с маршалом Фошем, который, как говорят, заметил:
«Я полагаю, что вскоре начнется война в Сирии между моей страной и арабами? Будете ли вы руководить их армиями?» — «Нет, до тех пор, пока вы не обещаете лично встать во главе французских армий. Тогда это доставит мне удовольствие». После этого Фош пригрозил пальцем Лоуренсу и ответил: «Мой юный друг, если вы думаете, что я собираюсь рисковать своей репутацией, которую я себе создал на Западном фронте, вступив в борьбу с вами в вашей области, то вы слишком заблуждаетесь».
К сожалению, та версия, которую я слышал от Лоуренса, более проста. Фош сказал ему в шутливом тоне: «Когда мне потребуется умиротворение Сирии, то я пошлю Вэйгана», — на что Лоуренс возразил: «Нам там будет очень хорошо — до тех пор, пока не приедете вы сами». Этот тонкий оттенок лести напоминает один из классических эпизодов встречи между двумя великими полководцами пунических войн. Когда Ганнибал на вопрос Сципиона, которого он считал величайшим из всех полководцев, назвал первым Александра, вторым Пирра и себя третьим, Сципион спросил: «А что будет в том случае, если вы победите меня?» Ганнибал ответил: «Тогда я буду вынужден поставить себя на первое место».
Дав аналогичный ответ Фошу, Лоуренс из вежливости скрыл свое фактическое впечатление, так как сомневался в глубоком знании военного искусства Фошем еще с тех пор, как он обнаружил в своих углубленных проработках перед войной, что большая часть материалов в учебниках, которые создали Фошу репутацию военного мыслителя, являлась «заимствованием из трудов германского автора». Личный контакт с Фошем дополнил его разочарование. Другое замечание, которое сделал Лоуренс, когда узнал, что я занялся изучением карьеры Фоша, слишком метко для того, чтобы его не привести: «Он был довольно серой фигурой, обладавшей, конечно, больше зубами, чем мозгами. Это было иронией судьбы, что история сделала его победоносным генералом последнего периода».
В отношении высших военных руководителей восхищение Лоуренса было оставлено за Алленби, но скорее в качестве дара его характеру, чем способностям. «Он был командующим с таким здравым суждением, что мы все работали для него без устали и почти без передышки».
Вопреки общепринятому мнению, Лоуренс не презирал профессионального военного как такового. Его презрение относилось к военному, выказывающему знания, которыми он не обладает, и не прилагающему усилий для того, чтобы их приобрести. Подобный взгляд породил другой рассказ, основанный на действительном случае, происшедшем с Лоуренсом на мирной конференции. Некий генерал, который в дальнейшем командовал на Рейне и в отношении которого можно было сказать, что лай его был хуже, чем его укус, рассерженный самоуверенной манерой Лоуренса выражать свои взгляды, разразился глупейшим упреком: «Вы не являетесь профессиональным военным». Лоуренс едко возразил: «Совершенно верно, но если у вас будет дивизия и у меня будет дивизия, что я заранее знаю, кто из нас будет захвачен в плен!»
Этот рассказ подтверждается мнением, которое было высказано Алленби, когда он был спрошен Робертом Грэивсом о том, думает ли он, что Лоуренс сделался бы хорошим генералом регулярных частей: «Он был бы очень плохим генералом, но, несомненно, хорошим командующим. Нет такого дела, в отношении которого я сомневался бы что он его не выполнит, если захочет, но ему необходимо давать полную свободу действий».
С мельничным жерновом (в виде Месопотамии) на шее британская государственность оказалась в безнадежном положении в своих попытках добиться видоизменения условий договора Сайке—Пико. Французы настаивали на получении своего полного «пайка» не только потому, что они изголодались по новым колониям, но также и потому, что боялись потрясения в своих старых колониях в Африке, если они согласятся на независимость Сирии. Фейсал апеллировал к Совету Десяти, но не получил удовлетворения. Когда Пишон, французский министр иностранных дел, коснулся истории крестовых походов как основания французских притязаний на Сирию, Фейсал уколол его красноречие спокойным вопросом: «Простите, месье Пишон, но кто из нас оказался победителем в крестовых походах?» Именно в этом случае Лоуренс, официально присутствовавший на заседании в качестве переводчика Фейсала, проделал ловкую штуку, обратившись к собранию с этим вопросом последовательно по-английски, по-французски и по-арабски.
Поскольку французы твердо стояли на своей позиции, англичане уступили. Необходимость разрешения более серьезных вопросов являлась удобным извинением для этой уступки в отношении Среднего Востока. Новое изобретение под названием «мандаты», которое арабы выговаривали как «протектораты», было использовано для придания внешней оболочки истинным намерениям.
Предоставленный, таким образом, самому себе, Фейсал отложил конец переговоров, договорившись с французами или, по крайней мере, с Клемансо. Вопреки общему в Англии мнению, «тигр» был менее жадным, чем многие из его «шакалов». В достижении этого временного соглашения Фейсал воспользовался затруднениями, возникшими у французов в Сирии. Последние были заняты скрытой войной с не демобилизовавшимися турками, которые пытались повторить свой трюк, проделанный ими во время балканской войны, а именно — взять обратно во время перемирия ту территорию, которую они потеряли во время войны.
Вследствие этого Клемансо, который вначале не желал считаться с Фейсалом, теперь сам предложил признать независимость Сирии при условии, что Фейсал будет поддерживать интересы Франции.
Убедившись, что британская поддержка оказалась весьма обманчивой, Фейсал был вынужден согласиться с предложением Клемансо, к большому негодованию своего отца, который, услышав об этом, стал смотреть на него как на человека, продавшего свою душу за чечевичную похлебку.
Частично именно от возмущения этой сделкой с неверными Хуссейн и предпринял роковой для него шаг, объявив себя верховным повелителем правоверных — акт, который немедленно восстановил против него имама Йемена и ассирийского эмира Идриссн. Это же обстоятельство вызвало взрыв негодования среди фанатичных вакхабитов, которые начали добиваться окончательного низложения Хуссейна. Катастрофа уже предчувствовалась к концу мая, когда Абдулла, выступивший по настоянию своего ослепленного гордостью родителя через границы Неджда, был захвачен врасплох ночью. Из всего отряда шерифа, состоявшего примерно из 4000 человек, с Абдуллой спаслась бегством лишь горсть арабов. Остальные были убиты с жестокостью, свидетельствовавшей о дикости вакхабитов и снискавшей для них уважение со стороны англичан, всегда готовых назвать таких людей «благородными дикарями». С того момента сохранение Хуссейном Мекки являлось лишь вопросом времени и поддерживалось только сомнительной британской защитой союзника, который уже не представлял никакого интереса.
Хотя Фейсал и вступил в соглашение с французами исходя из практического понимания государственных дел, которое отсутствовало у его отца, он, возвратясь в мае в Сирию, по-видимому, не питал никаких иллюзий относительно слабости своих перспектив и тех стремлений и надежд, которые втайне лелеяли французы. Он откровенно заявил их представителям: «Я приму вашу помощь, но я никогда не приму рабства».
Изгнание Фейсала являлось последней каплей, переполнившей чашу горечи Лоуренса, хотя продолжительное ожидание этого события и смягчило до некоторой степени его остроту. Это ожидание, смешанное с сознанием своей собственной бесчестности в прошлом, являлось одной из причин, которые заставили Лоуренса, когда он увидел короля, просить об освобождении его от британских военных наград.
После года беспокойств его предчувствия оправдались. В сентябре 1919 г. во время своего вторичного посещения Лондона Фейсал был уведомлен о том, что правительство вошло в соглашение с французами об удалении британских войск из Сирии в ноябре. Ему был дан совет договориться с французами непосредственно, т. е. пойти по тому пути, по которому он уже заранее пошел и который тогда предугадывал. Тем не менее теперь Фейсал сознавал лучше, чем когда бы то ни было, всю ненадежность подобной договоренности и еще раз обратился с отчаянным призывом к Англии не оставлять его без поддержки. Это произвело впечатление, но не привело к удовлетворительным результатам. Месопотамия была не только преградой на пути Англии, но и бревном в глазу лорда Керзона, империалистические стремления которого в отношении Месопотамии давно задерживались политикой его собственных помощников в министерстве иностранных дел.
Когда Лоуренс возобновил свои попытки помочь Фейсалу и предлагал, чтобы британское правительство раскрыло свои истинные намерения в отношении Месопотамии, Керзон воспротивился и отвлек внимание от этого вопроса, указав на «сучок в глазу» Фейсала — на визит, который был нанесен некоторыми офицерами шерифа из Дамаска племенам Месопотамии. Тамошние военные власти подозревали их в попытке создать антибританское движение. Однако какова бы ни была правда и этом обвинении, которое Нури Саид со всей горячностью отрицал, имелась правда и в жалобе офицеров шерифа, что отношение со стороны британских офицеров было совершенно отличным от того, которое им было известно по пути в Дамаск.
Дела подходили к своему мрачному концу. Вопрос о будущем правительстве Месопотамии разбирался в ноябре на междуведомственном совещании, где были решено сделать «что-то» для удовлетворения чаяний арабов, и сэр Перси Кокс являлся тем человеком, который должен был взять бразды правления от существовавшего в то время военного руководства. Однако военное министерство считало, что положение должно оставаться таким же до тех пор, пока не будет улажен вопрос относительно мандата и пока не будет достигнута ратификация мира с Турцией. Со своей стороны, сэр Перси Кокс, собственно, не желал брать на себя ответственность, пока не получит полной свободы действий. В дальнейшем последовали и другие задержки.
В марте 1920 г. воркование союзнических голубей было прервано известием о том, что арабский конгресс, собравшийся в Дамаске, объявил Фейсала королем Сирии, а Абдуллу — королем Ирака. Это мероприятие, по-видимому, было инспирировано слишком соблазнительной перспективой повторения успеха переворота Д’Аннунцио в Фиуме. Однако, арабам вскоре пришлось понять, что они относятся к другой категории, чем великие державы. Керзон быстро ответил на призыв французов к совместному действию: была отправлена телеграмма, которая резко порицала решение конгресса и приглашала Фейсала присутствовать при франко-британских переговорах, которые должны были уладить вопрос. Предложение это имело определенно неприятный привкус.
Мандат на Сирию был передан Франции, на Палестину и Месопотамию — Англии. Французы формально отказались от своих притязаний на Мосул.
Однако между получателями имелась существенная разница, заключавшаяся в том, что британское правительство хотя и слишком медленно, но шло по пути предоставления арабам Месопотамии фактической доли участия в правительстве Ирака, в то время как новое французское правительство, сменившее правительство Клемансо, шло быстрыми шагами к тому, чтобы отстранять сирийских арабов от контроля над Дамаском.
В Ираке англичане поплатились за свою задержку восстанием племен, расположенных у Евфрата. Возникшие повсюду вспышки восстания не удалось подавить до конца года, в связи с чем потребовалась отправка крупных подкреплений из Индии. В результате в том году и в последующем британские военные расходы в Ираке достигли 60 000 000 фунтов стерлингов. В этом отношении весьма интересным является тот факт, что умиротворение арабов в Ираке на протяжении этих двух лет обошлось, грубо говоря, в шесть раз больше той суммы, которая нам потребовалась для поддержания в течение такого же периода арабского восстания против Турции.
В Сирии Фейсал поплатился за французскую поспешность, поскольку обладатели вновь присужденного мандата воспользовались первой же возможностью, чтобы отметить договор, заключенный им с Клемансо, и обосноваться в Дамаске. Даже допущение штаба французского верховного комиссара потребовало от Фейсала борьбы с воинственностью арабских экстремистов; и все же он сделался мишенью того ультиматума, который французы отправили 14 июля при появлении признаков вооруженного сопротивления. Напрасно он отправил телеграмму, в которой соглашался на требования ультиматума — факт, подтверждаемый самими французами. По приказу генерала Гуро, солдатская простота которого делала его легким орудием в руках политических руководителей, французские войска были приведены в движение. Остановить их было трудно: в силу знакомого заявления о «военной необходимости» войска Гуро продолжали свое наступление и заняли 25-го Дамаск, а Фейсал потерял свой трон. Он спасся бегством в Палестину, откуда направился в Англию, повторив еще одну бесплодную попытку добиться британской интервенции для своей поддержки. Однако французы пожалели о том, что они его свергли, так как им пришлось встретиться с рядом неприятностей, которые обошлись гораздо дороже и были более продолжительны, чем те, которые претерпели англичане в Ираке.[85]
Глава XVIII. «Семь столпов мудрости»
Хоггарт настоял на том, что обязанностью Лоуренса по отношению к истории является создание труда, который был бы достойным памятником восстания арабов. Лоуренс с неохотой взялся за это дело, но, дав свое согласие, выполнил его с той же энергией, какую проявлял и во время самой кампании.
Едва ли найдется какое-либо другое литературное произведение, которое увидело бы свет при наличии стольких затруднений. Кроме того, оно дважды чуть не погибло вообще: первый раз в Риме во время аварии самолета, а второй раз в Риддинге при пересадке с одного поезда на другой.
Едва набросав план, Лоуренс счел необходимым воспользоваться своими дневниками и другими документами, которые оставались в его вещевом мешке в Каире. Поскольку к тому времени (весной 1919 г.) дело Фейсала было заслушано и отложено в сторону, Лоуренс решил, что он может воспользоваться этим случаем, чтобы забрать свои вещи из Каира. Генерал Гровс — британский делегат от авиации — предложил ему совершить перелет с отрядом самолетов, который намеревался в то время проложить путь для будущих имперских линий, направившись на Средний Восток. К несчастью, гигантские самолеты, вследствие сильной изношенности и скверного ухода, находились в плохом состоянии. В результате на всем пути их преследовали аварии. Головная машина, в которой Лоуренс находился, упала близ Рима, причем оба летчика погибли. Лоуренс оказался счастливее их только потому, что сел позади моторов, твердо отклонив предложение сесть перед ними. Благодаря своему благоразумию он отделался только переломом трех ребер и позвоночника. При этом одно из ребер проткнуло легкое, которое с тех пор после сильного напряжения всегда испытывало боль.
Однако это был не единственный случай, когда он избегал гибели при воздушной катастрофе. Лоуренс рассказывал мне, что за свои 2000 летных часов он пережил семь «смертельных» падений. Это было шестым; седьмое произошло в 1921 г. в Палестине.
После трехдневного пребывания в итальянском госпитале он позвонил своему товарищу по войне Фрэнсису Родду, находившемуся в то время в Риме, где его отец был британским послом. Фрэнсис Родд быстро договорился о том, чтобы перевезти Лоуренса в помещение посольства, однако после нескольких дней пребывания в прекрасных условиях Лоуренс настоял на том, чтобы продолжить свой перелет в Египет с остальной частью отряда. Покидая Рим, еще находился в гипсе, однако ряд последующих задержек отряда, пока они, наконец, долетели до Египта, предоставил ему достаточно времени, чтобы оправиться от падения.
Он говорил мне, что писал в течение длительных периодов, продолжавшихся иногда целые сутки с одним перерывом для еды. Во время этой работы он иногда писал по 1000–1500 слов в час. В промежутках между отдельными фазами работы бывали длительные перерывы, которые он использовал для просмотра написанного. Однако когда он к концу лета покинул Париж, его труд, состоявший из десяти «книг», был почти закончен. В июле он демобилизовался, а в ноябре был избран на семь лет членом колледжа «Всех душ» в Оксфорде, занимавшегося исследовательской работой, где ему было предложено написать по собственному выбору какой-либо труд по истории Среднего Востока.
В конце года он захватил с собой рукопись и поехал в Оксфорд, уложив ее вместе с другими вещами в чемодан такого типа, которым обычно пользуются банковские или правительственные курьеры. Поскольку в Риддинге ему предстояла пересадка, он пошел в буфет, положил чемодан под стол и вспомнил о нем, лишь когда сел в поезд. По прибытии в Оксфорд он позвонил по телефону в Риддинг, но чемодан исчез. С тех пор так и не удалось найти его следов.
Лоуренс вынужден был заняться вновь составлением рукописи и благодаря своей почти фотографической памяти и дневникам быстро восстановил потерянный текст. Он снова приступил к работе, отдаваясь ей длительными порывами, как и раньше. Весной 1920 г. восемь потерянных «книг» были написаны заново, а оставшиеся две пересмотрены, и весь труд был закончен.
При проявлении столь удивительного упорства Лоуренс не руководствовался обычным стимулом подобной спешки — желанием поскорее опубликовать свое произведение. В данном случае он заботился больше о том, чтобы поскорее освободить свои мозги, чем дать пишу для ума других.
Перед войной Лоуренс написал книгу, основой для которой явились его путешествия по Ближнему и Среднему Востоку, но когда работа была закончена, он уничтожил рукопись.
«Семь столпов мудрости» были изданы в 1926 г. Некоторые экземпляры переходили из рук в руки но баснословным ценам; один из них продавался книготорговцем за 700 фунтов. Появившееся в 1927 г. «Восстание в пустыне» быстро разошлось в пяти изданиях, но, как только Лоуренс узнал от своих издателей, что превышение его кредита в банке почти покрылось, выпуск английского издания был прекращен.
Его личный взгляд на «Семь столпов мудрости» как на литературное произведение отражает ту же привычку сравнивать только с создаваемым им самим критерием. Поэтому те похвалы, которые расточали другие его великолепной прозе, описательному повествованию и силе анализа, или вовсе не удовлетворяли Лоуренса, или удовлетворяли в незначительной степени. Однако указание Герберта Уэллса на то, что книга является великим человеческим документом без всякой претензии быть произведением искусства, вызвало в нем не только удивление, но и показалось ему забавным. Услышав об этом замечании Уэллса, Лоуренс ответил, что наоборот, книга написала с «громадными претензиями» и является не человеческим документом вроде «Анабазиса» Ксенофонта, но искусственной потугой на искусство. Он также называет ее «угнетающей» книгой без какого бы то ни было поучения.
Глава XIX. Осуществление
Почему Лоуренс решил пойти в ряды авиации? Как может человек, имеющий такие таланты, зарывать их, отдаваясь столь нудной работе? Конечно, он мог бы найти для себя лучшее призвание. Почему он, по крайней мере, не занял офицерской должности? Как может человек с его интеллектуальными запросами выдерживать скуку и неудобства казарменной жизни?
Вот вопросы, которые всегда возникали, как только где-либо упоминалось его имя. Ответить на этот вопрос со всей определенностью является невозможным, но в процессе обсуждения может быть уловлено некоторое объяснение.
Это объяснение станет понятным, если вкратце проследить карьеру Лоуренса начиная с 1920 г., после изгнания Фейсала из Дамаска.
Воспользовавшись правом своего членства, Лоуренс перебрался на жительство в колледж «Всех душ» лишь после того, как он в 1920 г. закончил вторично работу над своей книгой. Он всегда хорошо владел разговорным языком, но мог работать только в одиночестве, а этого ему недоставало в Оксфорде. Таинственный студент, который избегал компании в довоенные дни, теперь обладал магнитным притяжением легендарной фигуры для посетителей Оксфорда в еще большей степени, чем для членов университета. Лоуренс говорил, что единственным, что ему удалось написать за время пребывания в колледже, было введение к новому изданию «Доути».
Кроме того, незначительная стипендия члена Исследовательской ассоциации могла быть полезным дополнением для молодого ученого, обладавшего собственными средствами к существованию, но она была недостаточна для тех неизбежных расходов, с которыми Лоуренсу пришлось встретиться. 200 фунтов в год не только не давали ему возможности проявлять гостеприимство, но и содержать себя в приличном виде. Впервые с момента своего юношеского возраста он встретился с тяготами, вызванными отсутствием денег. Он неоднократно говорил мне, что идеалом для одинокого человека с его привычками был бы твердый доход в 300 фунтов в год, что, по его мнению, являлось «достаточным для проживания в городе и в деревне». Но Оксфорд не был ни тем, ни другим, и даже в том случае, если бы ему удалось добывать недостающую разницу, я сомневаюсь, согласился ли бы он там остаться. Он не смог бы иметь там ни разнообразия людей, ни простоты, которые соответствовали его вкусу. Представление его о проживании в городе или в деревне сводилось к уединенной мансарде в достаточно оживленном квартале Лондона и к примитивному коттеджу в деревенской глуши Англии. Пребывание в Оксфорде перегрузило его бюджет, не обеспечив тех потребностей, которые он имел.
Выходом из положения явилась новая возможность служения прежнему делу. С материальной стороны она была временной, с духовной же стороны она была постоянной.
К концу 1920 г. события оправдали повторные предостережения Лоуренса об опасностях безответственной игры на национальных вожделениях на Среднем Востоке. В самой Англии послевоенный бум сменился кризисом, который в виде реакции вызвал требование снизить наши расходы и «убраться» с новых мандатных территорий.
При встрече с Ллойд-Джорджем Лоуренс обсудил создавшееся затруднительное положение и ответственность за него Керзона, считая единственным выходом из положения отстранение Керзона от ведения дел. Поскольку Ллойд-Джордж ясно дал понять, что он не сможет убрать Керзона из министерства иностранных дел, альтернатива заключалась в том, чтобы убрать от него Средний Восток. Эта возможность была учтена Ллойд-Джорджем и вскоре принесла свои плоды. Министерство по делам колоний оказалось подходящим учреждением, которое смогло принять на себя контроль за Средним Востоком при условии возглавления его соответствующим лицом — человеком, который расценивался больше, чем министерство.
Министерство по делам колоний с расширением его ответственности было предложено Уинстону Черчиллю. Лоуренс, который жаждал видеть его во главе министерства по делам колоний, откровенно предупредил его, что успех будет зависеть от готовности принять на себя известный риск, в частности, посадить арабского короля в Месопотамии и эвакуировать британские войска, передав оборону ее авиации как менее назойливому и более экономному типу иностранного гарнизона, чем армия. При подобных условиях Черчилль, по мнению Лоуренса, мог рассчитывать на успех, который не только облегчил бы положение Англии и обеспечил бы ей будущее, но и усилил бы перспективы Черчилля на получение им поста канцлера казначейства: цель его честолюбивых мечтаний — возможность носить одеяние его отца.
История показала, что Черчилль принял министерство и достиг обеих целей. Старое деление ответственности между министерством иностранных дел, министерством по делам Индии и военным министерством было заменено единым руководством делами Среднего Востока, которое сосредоточилось в новом управлении по делам Среднего Востока в министерстве по делам колоний. Здесь Лоуренс сплотил вокруг себя отборную группу помощников. К числу последних относились два выдающихся участника кампании Алленби — Майнертцхаген и Юнг. Лоуренс был назначен политическим советником.
Он согласился занять этот пост, понимая, что обещания, которые были сделаны арабам со стороны Англии, теперь заслужат должного внимания, поскольку это будет от него зависеть. Он также просил, и ему были обещаны, свободный доступ к министру иностранных дел и позволение отказаться от своего поста, когда он пожелает. Когда возник вопрос о его вознаграждении, Лоуренс спросил 1000 фунтов в год, на что Черчилль заметил, что это была самая скромная просьба, с какой к нему когда-либо обращались, и назначил 1 600 фунтов в год.
Таким образом обе стороны пришли к соглашению, и было достигнуто единство действий. Лишь однажды пронесся холодный ветерок, когда бюст Наполеона, которого очень любил Черчилль, дал повод Лоуренсу начать восхваление величия Ленина, что весьма не понравилось Черчиллю. Установившиеся между ними взаимопонимание и острота интеллекта, которая была общей у того и у другого, помогли превратить их официальные взаимоотношения в содружество. В результате немного более чем через год это содружество добилось своих целей.
Сирия была проглочена французами, но Трансиордания и — что являлось более важным — Месопотамия остались. Еще до войны Лоуренс пришел к заключению, что конечное средоточие арабской национальности и ее будущее лежат в Месопотамии, потенциально более богатой и более обширной, чем Сирия. Таким образом, он гораздо легче мог приспосабливать ближайшие стоявшие перед ним задачи к своему глубокому предвидению.
Новое управление организовалось в феврале 1921 г., а в марте Черчилль, Лоуренс и Юнг отправились в Каир на конференцию, в которой приняли участие главнейшие политические и военные чиновники территории Среднего Востока наряду с выдающимися представителями военного министерства и министерства авиации. Однако все основные вопросы были подготовлены еще до начала конференции. Под мастерским руководством Черчилля конференция послужила лишь для того, чтобы подтвердить принятые решения и восполнить детали.
Фейсал, лишенный своего королевства французами, получил от англичан другое королевство — в Ираке. Он прибыл в Ирак в июне и был коронован в августе. Британским правительством заранее было установлено, что после вступления на трон Фейсала будет заключен договор, по которому суверенность Ирака будет совмещена с мандатом Англии.
Этот договор, в отношении которого велись соответствующие переговоры, открыл путь для Ирака сделаться независимым государством, дружелюбно относящимся к интересам Англии и выполняющим условия цивилизованного правительства, как это было предусмотрено положениями Лиги наций. Благоразумие сэра Перси Кокса, который с самого начала поставил себя в положение советника, а не контролера, облегчило возможность постепенного перехода административного управления из рук англичан в руки арабов.
Честь Лоуренса также была восстановлена, и его чувство неудачи сменилось чувством удовлетворения. Для арабов он приобрел больше того, на что первоначально рассчитывал. Кроме того, он почти не ожидал, что англичане согласятся расстаться с Багдадом, а тем более с Басрой. Лоуренс приобрел для арабов возможность стать на свои собственные ноги и воспользоваться этой возможностью соответственно их желаниям и талантам. Большего он сделать не мог.
Создание арабского государства в Ираке, связанного симпатией с Англией, было главной целью Лоуренса, но не единственным его достижением. Он испытывал дополнительное удовлетворение в том, что тот же самый росчерк пера, который обеспечил арабам их возможности, предоставил также возможность использования для воздушных сил.
Другое достижение Лоуренса, а именно установление власти Абдуллы в Трансиордании, не являлось заранее подготовленным. Среди местных арабов уже нарастало беспокойство, в связи с чем создавалась угроза Палестине, как вдруг возникло дальнейшее осложнение в результате инициативы Абдуллы, который продвинулся со своими войсками к Амману для расплаты с французами за изгнание его брата. Это известие вызвало тревогу в Иерусалиме и Каире. Трудности подавления этого движения силой были очевидны, так как трансиорданские племена могли восстать и прийти ему на помощь, а свободных британских войск не имелось. Однако чувствовалось, что если ему позволить добиваться своей цели и допустить вести военные действия против французов из британской зоны, то последние имели бы достаточно серьезные основания быть недовольными. Неожиданным созданием нового государства был найден выход, который опрокинул решение конференции в Каире.
Хорошо зная Абдуллу по прошлому, Лоуренс считал, что его легко можно будет убедить пойти но мирному пути, если последний будет достаточно выгодным. С одобрения Черчилля Лоуренс полетел в Амман и привез с собой обратно на машине Абдуллу в Иерусалим, куда прибыл Черчилль, чтобы повидаться с сэром Хербертом Самуэлем. После получасового разговора у Черчилля создалось настолько ясное представление о здравом смысле и политической мудрости Абдуллы, что он тотчас же принял серьезнейшее решение оставить Абдуллу в Трансиордании как главу полунезависимого арабского государства при условии, что он воздержится и в дальнейшем будет удерживать своих будущих подданных от столкновений с французами в Сирии. Этим был добавлен еще один устой к намеченной Лоуренсом основе, хотя и не в том порядке, как это предусматривалось первоначальным планом.
В то же самое лето 1921 г. Лоуренс сделал попытку удержать на месте отца Абдуллы. В июне он отправился в Джидду, чтобы предложить Хуссейну договор, который послужил бы средством для обеспечения ему Хиджаза при условии, что он откажется от своего притязания встать во главе остальных земель арабов. Однако Хуссейн упорно придерживался самолично присвоенных прерогатив и тем самым определил свою судьбу. Лоуренс оживил скуку бесконечных аргументов в летнюю жару в Джидде посылкой телеграмм, составленных с шекспировской остротой, которые шокировали чрезвычайно сильно развитое чувство дипломатического достоинства у Керзона.
Самоубийственное решение Хуссейна вмешиваться в дела других арабов являлось единственным моментом, омрачавшим Лоуренса. Если бы не этот факт, то он чувствовал бы, что все, что можно, было достигнуто и не только для арабов в целом, но и для тех арабов, которые были его соучастниками в войне. Он также был убежден, что достигнутое освободит его собственную страну от того мельничного жернова, который близорукое честолюбие повесило ей на шею. Спасая ее честь, он спас также и ее деньги, 16 000 000 фунтов, в первый же год.
Приобретя для арабов право свободно распоряжаться своим будущим, Лоуренс добился этого права также и для себя. У него оказался «выход из положения» в том смысле, что он получил возможность отойти от общественных дел и отказаться от жизни «Лоуренса».
В начале 1922 г. ему казалось, что критический период был благополучно пройден, и поэтому по окончании года службы в феврале он стал просить разрешения освободиться от дел. Однако Черчилль категорически воспротивился, и из уважения к нему Лоуренс согласился остаться до тех пор, пока это окажется необходимым, отказавшись от получения жалованья. В дальнейшем, в июне, устав от ожидания обещанного согласия на увольнение, он снова напомнил о своем определенном решении оставить работу, заявив при этом Черчиллю: «Я полагаю, что серьезных неприятностей не произойдет по крайней мере в течение семи лет». Это пророчество, когда о нем узнали, было встречено презрительным смехом в различных кругах, но время его оправдало.
В августе Лоуренс поступил рядовым в британский воздушный флот под фамилией Росса, которая была случайно предложена одним из офицеров министерства авиации, пользовавшимся его доверием.
Могло бы показаться странным, что после того, как он проявил такую решимость освободить себя от государственной службы, он быстро снова к ней вернулся. Однако факт этот легче понять, если мы вспомним, что он отказался от должности, возлагавшей громадную ответственность, чтобы вернуться к состоянию безответственности.
Это не было внезапным решением, но было его намерением, начиная с последнего года войны. Он задержался с его осуществлением из-за трехлетней отсрочки, вызванной необходимостью урегулировать арабские дела. Еще в 1919 г. он заявил сэру Джофрею Сальмонду о своем желании поступить в авиацию, причем Сальмонд предложил ему сделаться его помощником в Египте. Но Лоуренс категорически заявил: «Я имею в виду поступить рядовым».
Лоуренс считал, что использование воздушной стихи является еще одной большой проблемой, оставшейся для нашего поколения. Таким образом «каждый должен либо сам поступить в авиацию, либо помогать ее развитию».
С первого взгляда подобное отношение не так-то легко примирить с его постоянным отказом согласиться на какое либо продвижение по службе. В связи с этим наиболее частым вопросом, который возникал у всех, являлся вопрос: «Почему он не принимает на себя звание офицера?» Ответ, который однажды дал мне Лоуренс, заключался в следующем: он ничего не имеет против того, чтобы повиноваться глупым приказаниям, но возражает против того чтобы передавать их другим, а это он вынужден был бы делать, если бы взял на себя должность офицера или унтер-офицера. Замечание, несмотря на его дерзость, имело серьезное основание. На войне подобные приказания зачастую приводят к бесполезным потерям человеческих жизней; в мирное время они часто способствуют притуплению человеческого мышления. Кроме того, они неизбежно делают человека, который передает приказание, соучастником преступления, хотя и помимо его желания. К счастью, лишь немногие из тех, кто передает подобные приказания, обладают тем пониманием, которое позволило бы им почувствовать свою ответственность. Однако Лоуренс им обладал. Таким образом, для него оставалось лишь два пригодных поста — самый верхний или самый нижний. Из этих двух он предпочел последний вследствие своего сильного нежелания нарушать свободу других. Впрочем, было еще одно место, а именно — незримого советника. И занять эту должность, как я полагаю, вполне соответствовало желанию Лоуренса, в особенности после того, как он оправился от тех переживаний, которые испытывал в момент своего зачисления. Однако, степень использования его в этой должности зависела бы от тех людей, в руках которых находится власть, так как он никогда навязывал бы им сам своих советов.
Лоуренс имел случай занять один из самых важных постов в Британской империи. Он отказался от него не открыто, но предложил условия, которые делали его назначение невозможным: освободить его от необходимости жить в официальном здании. Он оставлял бы свою официальную резиденцию, наняв где-либо спокойную комнату ездил бы туда и назад на мотоцикле, вращаясь среди людей как можно больше. По его мнению, значение внешнего блеска в нашей имперской системе весьма переоценивается.
Лоуренс прошел свой начальный кратковременный период службы в авиации на сборном пункте в Эксбридже. В течение ряда месяцев он успешно скрывал свою подлинную биографию с присущим ему умом и остроумием, когда нужно было сбить с толку и провести тех, которые его опрашивали, без особого нарушения истины. Так, на первом же инспекторском смотру командир спросил Лоуренса, чем он занимался до поступления в ряды авиации; он ответил, что работал в архитектурном бюро. Фактически он работал на Бартон-стрит. Тогда ему задали наиболее щекотливый вопрос, а именно — почему он поступил в авиацию. На это он ответил: «Я думаю, что у меня было умственное расстройство, сэр». Этот ответ оказался не столь удачным, и ему пришлось довольно долго убеждать оскорбленного начальника, что он не имел в виду того, что поступление в авиацию было актом и поступком ненормального состояния. Но как объяснение ответ содержал глубокую правду, хотя и не всю.
Испытание по образованию было другой преградой, и в данном случае он до известной степени посвятил инструктора в свою тайну. Лоуренс был не первым человеком с университетским образованием, которого обстоятельства заставили в дальнейшем сделаться рядовым.
Джонатан Кэйп несколько лет спустя узнал о существовании рукописного дневника, который Лоуренс как произведение ставит выше, чем «Семь столпов мудрости». Он стал уговаривать Лоуренса выполнить условие, имевшееся в договоре на «Восстание в пустыне», которым издательству предоставлялось право опубликования следующей книги. Автор немедленно согласился и представил свои записки на отзыв, указав, что он готов передать издательству права на их опубликование на следующих условиях: миллион фунтов в качестве аванса и 75 % отчислений в дальнейшем. Мистер Кэйп, конечно, не был в состоянии достать миллион до того, когда упомянутое выше условие договора потеряло силу.
Несмотря на существовавшие в те дни тяжелые условия в Эксбридже, Лоуренсу удалось предохранить себя от каких бы то ни было неприятностей и заслужить хороший отзыв своим беспрекословным повиновением, дисциплиной, готовностью выполнять любую поручавшуюся ему работу как бы она ни была неприятна. Однако это все же не сохранило его инкогнито, так как спустя полгода офицер, который знал Лоуренса во время войны, сообщил о нем в прессе. Говорят, что за эту информацию офицер получил 30 фунтов — сумма слишком большая, чтобы быть правдоподобной.
Однако последствия оказались весьма серьезными, так как оглашение факта пребывания Лоуренса в рядах авиации вызвало беспокойство и неудовольствие министерства авиации, которое было настолько увлечено своей борьбой за существование, что весьма болезненно реагировало на все то, что могло вызвать критику. В результате, несмотря на свои категорические протесты, Лоуренс в феврале 1923 г. был уволен из авиации. Конечно, его протесты подействовали бы, если бы решение было предоставлено начальнику штаба авиации Тренчарду, который в отношения к Лоуренсу сделался вторым Алленби. С ним Лоуренс обсудил положение и получил намек, который он рассматривал как обещание, что его вторичное поступление в авиацию сможет быть устроено, если он получит хороший отзыв после пребывания в армии.
С помощью своих друзей в военном министерстве он подготовил почву для поступления в танковый корпус. На этот раз Лоуренс выбрал для себя имя Шоу. Вопреки слухам этот выбор не был вызван ни его дружбой, ни восхищением перед Бернардом Шоу; он выбрал его наудачу из указателя справочника личного состава, ожидая своей очереди в военном министерстве.
В марте он присоединился к сборному пункту танкового корпуса в лагере Бовингтон в Дорсете. По окончании первоначальной подготовки, проводимой с новобранцами, и соответствующей учебы он был назначен на склад, где его работа заключалась в подгонке обмундирования. В целом это являлось легкой и хорошо оплачиваемой работой и давало преимущество уединения, которое позволяло ему проводить по вечерам работу по окончательному пересмотру «Семи столпов мудрости». Он выполнял свои обязанности настолько пунктуально и точно, что его редко беспокоили представители власти, хотя в одном случае он был наказан пребыванием в казармах в течение трех дней за то, что оставил на постели свое рабочее платье. В другой раз он наказал чванного капрала за несправедливое обращение с другим рядовым, выкинув чемодан капрала в мусорный ящик.
Танковый корпус оказался для него в известной степени разочарованием. За некоторыми исключениями, старшие офицеры и лица младшего начальствующего состава, с которыми ему пришлось встретиться на пункте, казались ему пропитанными духом военщины и слишком мало знакомыми с техникой, чтобы быть пригодными для подготовки технического корпуса. Самой совершенной формой механического инструмента, доступной их понятию, были приспособления для чистки пуговиц. И он унес с собой после двухлетнего пребывания глубокое убеждение в неправильном использовании людей и сожаление о зря потраченном времени. Будет справедливым, однако, добавить, что с тех пор в танковом корпусе произошли заметные перемены к лучшему.
Хотя условия во время службы Лоуренса и были тяжелыми, но для своего действительно военного чувства он находил компенсацию в других местах.
Единственной слабостью Лоуренса являлась езда на мотоцикле, и в этом отношении у него был всегда вкус к роскоши, вследствие его любви к скорости, а не к комфорту. Человек, который ездит со скоростью 50 км в час, двигается слишком быстро для того, чтобы оценить детали, но все же слишком медленно, чтобы получить впечатление от целого, как это бывает с человеком, едущим со скоростью 100 км в час. Ездить еще быстрее, делать по 140–160 км — значит не просто ездить вверх и вниз по долине, а проноситься через холмы и через долины, получая впечатление, что они вырастают по вашему желанию. Для Лоуренса это ощущение максимальной скорости вызывало особую радость, потому что оно как бы освобождало дух от оков человеческой слабости, а также, я думаю, потому, что создавало впечатление о силе для преодоления тех преград, которые природа устанавливает на пути всех достижений.
Скорость, подобная той, которую желал Лоуренс, — возможность делать 150 или 160 км в час по любому открытому пространству, — стоит денег. Он уменьшил свой расход благодаря любезности Джорджа Бро — владельца завода мотоциклов.
«Для того, чтобы объяснить соблазн скорости, вам пришлось бы объяснить человеческую природу, однако понять ее легче, чем объяснить. Все люди во всех веках приходили в восторг от быстрых лошадей или верблюдов, кораблей или автомобилей, велосипедов или самолетов; все люди стремились бегать, ходить или плавать как можно быстрее. Скорость является второй страстью в нашем характере, и наше поколение является достаточно счастливым, чтобы отдаваться ей более дешево и более массово, чем наши предки. Каждый человек культивирует ту скорость, которая ему больше всего нравится. Я, например, имею доход, позволяющий содержать мотоцикл».
Однако он посмеивается над теми из своих друзей, кто увлекается скоростью езды за рулем автомобиля, являющегося нечувствительной повозкой по сравнению с мотоциклом, который, по его мнению, превосходит только моторная лодка. Однако он соглашается с преимуществами автомобиля в сырую погоду, когда человек стареет, и говорит, что если он будет достаточно богатым, то он отправится путешествовать с двумя машинами: пользуясь автомобилем, когда идет дождь, и заставляя шофера доставлять ему мотоцикл.
Авиационная форма с обмотками на икрах и легко расстегивающимся высоким воротником казалась ему идеальной одеждой для езды на мотоцикле в нормальных условиях, и по этой причине он чаще путешествовал в форме, чем в штатском.
Однако последнее нередко создавало затруднения. Я слышал из различных источников забавную историю, касавшуюся того времени, когда несколько лет назад Фейсал проживал в Лондоне. К нему зашел Лоуренс, но не был допущен, а затем его вытолкал по лестнице лакей, который был возмущен настойчивостью этого простого «Томми». На шум вышел Фейсал, в свою очередь расправившийся с лакеем и обнявший Лоуренса. Когда я спросил Лоуренса об этом эпизоде, он сказал, что не помнит о нем, но что он часто был вынужден ожидать у дверей своих друзей, пока недоверчивый слуга вел переговоры внутри со своим хозяином. Голубая форма авиации порождала недоразумения другого сорта. Помню, как несколько лет назад приехал Лоуренс, совершивший на моей машине поездку по северному побережью Корнуолла, и нам пришлось долго убеждать хозяев гостиницы, что он не был шофером.
После того, как он прослужил в течение года в армии без каких бы то ни было замечаний в своем послужном списке, он косвенным путем сообщил об этом Тренчарду в надежде, что его снова возьмут в авиацию. Однако никакого извещения не приходило, и Лоуренс, не желая нажимать на этот вопрос, вообразил, что возражение имеется у самого Тренчарда. Затем он получил от лорда Томсона — министра авиации в новом лейбористском правительстве — предложение закончить начатую ранее историю авиации.
Это предложение не вызвало у Лоуренса большого восторга. Он с трудом воображал себя составителем официальной истории. Тем не менее полученное предложение он хотел рассматривать как шаг, обеспечивающий ему достижение своей цели и в связи с этим согласился принять его и даже выполнить без всякого вознаграждения, если начальство разрешит ему вернуться в авиацию после того, как книга будет закончена, на что по его подсчетам потребовалось бы два года. Однако министерство авиации не согласилось с этим, и его предложение отпало.
Быстрое возвращение консервативного правительства позволило добиться преждевременного и неожиданного поворота к лучшему в его личных делах. В результате ходатайства Джона Бючена на Даунинг-стрит политические возражения против его вторичного зачисления в авиацию были устранены, и в августе 1925 г. он был переведен из танкового корпуса в авиацию на весь остальной срок его службы — семь лет действительной и пять лет в резерве, считая с марта 1923 г. Подобное решение удовлетворило его желание, так как он возвратился в авиацию гораздо быстрее, чем это имело бы место в том случае, если бы его предложение было принято, — и без необходимости составлять историю.
Лоуренс был отправлен в Индию. Он очень хотел избежать той известности, которая, конечно, должна была последовать после организации «Восстания в пустыне». Он ехал туда на военном транспорте «Девоншир» и по прибытии явился в распределительный пункт воздушных сил в Карачи. Здесь он находился большую часть своего пребывания в Индии и, судя по некоторым из его писем, нашел жизнь менее привлекательной, чем в Крэнвелле. Если бы его пребывание стало известно правительству Индии, то вследствие тех диких слухов, которые могли в силу этого возникнуть, он оказался бы в затруднительном положении, а поскольку официальные круги Индии смотрели на него как на ловкого нарушителя политики, проводившейся ими во время войны, он считал более разумным избежать повода для возникновения жалоб. В связи с этим он добровольно «приговорил себя к отбыванию наказания» в казармах в течение всего времени пребывания в Индии. Поэтому, когда после 18 месяцев пребывания в Карачи, где жизнь была чрезвычайно скучной, он был переведен на границу, это было большим облегчением. В Пешаваре он провел лишь несколько дней, а затем отправился в свой отряд, находившийся в форту Миранша, представлявшем собою изолированный пограничный пост, который обычному человеку показался бы более похожим на место для отбывания наказания. У меня создалось впечатление, что этот двухгодичный период пребывания Лоуренса в Индии, за время которого он «ни разу не покидал лагеря, кроме тех случаев, когда ему приходилось летать, скорее замедлял, чем ускорял его поправку от умственного напряжения прошлого. Он ни разу не болел и не чувствовал жары. Пребывание в Индии было засчитано ему за пять лет действительной службы в резерве.
Однако, несмотря на все принимавшиеся им меры предосторожности, его служба в Индии была прервана совершенно неожиданным обстоятельством. Сведения о пребывании на границе «рядового авиационной части Шоу» просочились в американские газеты и породили обвинения русских газет в том, что «полковник Лоуренс» ведет таинственную работу в Афганистане как агент британского империализма в осуществлении большого заговора против Советского Союза. Говорят, что в связи с этим афганское правительство опубликовало сообщение, что в случае обнаружения он должен быть немедленно арестован, и другое, в котором говорилось, что в случае его обнаружения он будет расстрелян. В то время отношения между Афганистаном и правительством Индии были настолько щекотливыми, что в связи с повторными обращениями британского посла в Кабуле сэра Фрэнсиса Хемфи в начале 1929 г. Лоуренс был отправлен обратно в Англию.
Он был доставлен на самолете до побережья, где сел на пароход «Раджпутана». Его незаметное возвращение и Англию в феврале как раз совпало с моментом выступления против него друзей Советского Союза. Члены лейбористской партии только что сделали ряд запросов в парламенте в отношении предполагаемых активных действий Лоуренса в Афганистане. В демонстрации, организованной коммунистами, во время которой в Тауэр-Хилле было сожжено изображение Лоуренса, особую активность проявил Саклатвала. Все эти инциденты закончились неожиданной «новостью» о том, что Лоуренс был принят Мэкстоном в ряды лейбористской партии. Возможно, причиной этого удивительного сообщения послужил тот факт, что после своего возвращения Лоуренс отправился в парламент и представился Третлу и Мэкстону. Если его очевидное пребывание в Лондоне и убедило их в том, что он не занимается шпионской деятельностью в Афганистане, оно все же оставило их в недоумении, почему человек, имеющий полную свободу выбора профессии, решил остаться служить в рядах армии.
Находясь в Лондоне, Лоуренс виделся с Тренчардом, который спросил его, куда он хотел бы направиться, и со своей стороны предложил Шотландию, как удаленную от центра. Однако это было не особенно желательным для Лоуренса, и вместо Шотландии он был назначен в Кэттуотер у Плимут-Саунд, где имелась станция морской авиации. Хотя последняя и находилась далеко от Лондона, а следовательно, и от его друзей, он нашел такие условия, которые в значительной мере компенсировали эти недостатки. Когда он имел несколько свободных часов, которые мог провести за пределами станции, он всегда встречал в доме леди Астор самое разнообразное общество.[86]
К несчастью, с приходом нового министра авиации или, вернее, с возвращением старого — лорда Томсона — на горизонте появилось новое облако. Несмотря на таланты Томсона и доказанную им готовность пожертвовать своей военной карьерой из-за политических убеждений, он был одним из многих лиц, которые не могли понять Лоуренса. В разговоре, который произошел вскоре после возвращения Томсона в министерство, он выказал заметное предубеждение против оставления Лоуренса в рядах авиации. Это было им сделано не по личным мотивам, но все же было ясно, что досада, вызванная отказом Лоуренса написать историю авиации, сделала Томсона более восприимчивым к враждебным выступлениям в отношении Лоуренса со стороны некоторых офицеров.
Тренчард сознавал моральное значение присутствия Лоуренса в рядах новой службы, для создания и поддержания которой он приложил столько стараний. Это мнение разделяли и его лучшие помощники. Однако людям меньшего кругозора, которые всегда болезненно относились к тому, чего они не понимали, не нравился факт нахождения в их рядах критически настроенного человека, каким был Лоуренс.
Подобные люди, не уверенные в самих себе, испытывали острое беспокойство перед лицом подчиненного, который заставлял их чувствовать себя ниже его. Они инстинктивно искали выхода, обвиняя Лоуренса в недисциплинированности или… если это было невозможно, в том, что его присутствие «скверно отражается на дисциплине».
Дотошная корректность Лоуренса производила поразительное впечатление. Я никогда не забуду, как однажды, когда Лоуренс в военной форме был со мной в деревенском отеле, к нам подошел в несколько «приподнятом» настроении офицер, недавно назначенный к нему на станцию. Узнав Лоуренса, офицер попытался проявить по отношению к нему покровительственную фамильярность. Лоуренс вытянулся во фронт и на все попытки офицера заговорить с ним отвечал с холодным уважением, которое трудно было долго выдержать. Для постороннего наблюдателя инцидент был в высшей степени забавным и поучительным.
30 сентября Лоуренс виделся с Тренчардом, который заявил ему, что впредь он должен будет выполнять обязанности обыкновенного рядового авиационной части. Ему запрещалось летать и куда-либо выезжать из Англии, даже в Ирландию. Он не должен был посещать или разговаривать с кем-либо из «больших людей». Когда Лоуренс просил для примера указать последних, то ему были названы имена Уинстона Черчилля, Остина Чемберлена, лорда Биркенхеда, сэра Филиппа Сассун и леди Астор, т. е. виднейших членов политической партии, находившейся в то время в оппозиции.
Лоуренс решил лучше согласиться на эти тяжелые условия, чем покинуть любимую им службу.
Вынужденное воздержание от умственной работы дало ему возможность продолжать урывками перевод в прозе «Одиссеи», который был поручен ему американским издателем за гонорар, значительно превышавший тот, который он когда-либо получал за оригинальный труд.
Вначале он рассчитывал сдать перевод к концу 1929 г., но вынужден был отложить свою работу, о чем решил не особенно сожалеть. «Говоря по правде, мне было гораздо приятнее выполнять что-либо для авиации, чем заниматься своей личной работой; поэтому я охотно освобождался от всего, когда на меня нажимали». Хотя на святках он и «сидел в прохладной штабной канцелярии и корпел над Гомером», к Новому году работа не была готова и наполовину. В конце года он снова отметил у себя в дневнике: «Я работаю над «Одиссеей» как тигр, в надежде закончить ее следующей весной; она отнимает у меня все вечера, а иногда и дни, и я решил не отдыхать, пока не закончу этой работы. Учитывая перерывы, она должна быть готова в апреле, а когда наступит целое лето для отдыха, я буду с кучей денег в кармане и без всяких стесняющих меня обязательств». Если Лоуренс и надрывался над работой, то он, во всяком случае, убедился, что столь тщательное чтение греческих классиков было очень полезным занятием.
Вскоре после этого работа была наконец закончена. Последний период был прерван требованием выполнить задание для авиации и флота. На протяжении двух лет Лоуренс пытался различными способами убедить министерство авиации в необходимости и возможности постройки новых типов катеров, пригодных для обслуживания гидросамолетов, — катеров, которые могли бы быстро приходить к ним на помощь в случае аварии, спасать экипаж и не дать самолетам утонуть. В этом деле ему помогли вновь появившийся энтузиазм и его знание техники, которые, наконец, в 1931 г. принесли свои плоды. Поставщики изготовили опытные катера, и Лоуренсу было поручено произвести испытание катера конструкции Скотт-Пэйна. В процессе испытания Лоуренс хорошо изучил побережье Англии. В результате проведенных опытов была заказана большая партия. Катера могли идти со скоростью 45 км в час, что вдвое превышало быстроходность старых катеров; они обладали прекрасной мореходностью, обслуживались двумя человеками и имели застекленную каюту для медицинского персонала. Корма была сконструирована таким образом, чтобы иметь возможность подойти между поплавками и удержать тонущий самолет на воде. Удобство, простота и доступность внутренних частей были продуманы и рассчитаны поразительно или, вернее, были бы поразительны для тех, кто не знал, что частично это было делом Лоуренса.
Уже давно чувствовалось, что единственный способ, который позволил бы Лоуренсу примирить его возродившееся стремление к конкретной работе с постоянным отказом от присвоения ему какого-либо чина, заключался в том, чтобы использовать его на независимой работе, где отсутствовали бы старшие начальники.
То обстоятельство, что быстроходные катера были в некотором отношении чуждыми для авиации, облегчило возможность применения правил службы, не связанных с чином. Достижение этого удачного разрешения вопроса об использовании Лоуренса обязано главным образом сэру Джоффри Сальмонду, который в арабскую кампанию был всегда готов придти ему на помощь.
Работа заставила Лоуренса перебраться в Саутгемптон, откуда он совершил свои длительные морские переходы к восточному побережью и в Шотландию, доставляя катера по мере их приемки на соответствующие станции морской авиации. Однако осенью 1932 г., когда одна из воскресных газет опубликовала сведения о новой деятельности Лоуренса, опять произошел перерыв в его работе. Статья настолько повлияла на министерство авиации, что оно временно отстранило Лоуренса. Оно боялось гласности, которая им воспринималась болезненно, в отношении же «рядового авиационной части Шоу» министерство авиации было особенно чувствительно. Министерство мало считалось с ценностью службы в авиации «полковника Лоуренса», оно больше беспокоилось о возможности ответа на запрос любого члена парламента, выступающего с критикой деятельности министерства, что ни одной отрасли военного дела не удалось столько сэкономить на зарплате, как авиации, которая имеет технического специалиста по ставке рядового авиационной части.
К счастью, здравый смысл Джоффри Сальмонда заставил его вскоре вернуть Лоуренса к исполнению его прежней работы. Одним из последних мероприятий Сальмонд перед его преждевременной кончиной было обещание предоставить Лоуренсу средства для производства дальнейших опытов. Хотя непосредственной целью этих опытов являлось обеспечение еще более быстрой помощи морским самолетам, но результаты, несомненно, смогли оказать косвенное влияние на достижение безопасности и в будущей подводной войне.
Несколько лет тому назад единственным желанием Лоуренса было продлить до конца жизни свою службу в авиации, срок которой истекал в 1935 г. Но он сомневался в возможности этой пожизненной службы, говоря, что чувствует себя старым, а жизнь становится все более трудной.
Совсем недавно, когда умер Фейсал, Лоуренс был предупрежден по телефону о том, что к нему за интервью выехало несколько репортеров из Лондона. Для того, чтобы избежать встречи с ними, он моментально сел в поезд, который шел в Лондон, и разъехался с репортерами. Для того, чтобы усилить пыл погони за ним, он направил репортеров по ложному следу, и им пришлось совершить, правда, непродолжительное, но не бесцельное путешествие на остров Уайт.
По окончании срока службы Лоуренс собирался обосноваться в своем коттедже в Уэссексе — жилище отшельника, откуда он смог бы при желании поехать навестить своих друзей, посещать концерты, театры или просто повидать Лондон. Что касается работы, то он склонен был заняться переводами и ничем больше.
Эпилог
Пытаясь охарактеризовать Лоуренса как человека, мне остается мало что добавить к тому, что я рассказал на страницах этой книги. Представление, которое у меня сложилось о его характере, неизбежно оказалось не больше того, что я смог сам увидеть и размышляя о тех сторонах, какие он проявлял по отношению к другим людям. Контакт со многими людьми, которых мир характеризует как великих людей, приводит к разочарованию или, во всяком случае, к сознанию ограниченности их сил.
Последнее справедливо также и при ближайшем изучении их карьеры. В противоположность этому знакомство с Лоуренсом и более близкое изучение его карьеры повысило мою оценку его успехов как личных, так и общественных.
Такое впечатление производит Лоуренс (или Шоу) при ближайшем знакомстве с ним. Однако всегда имеется другой Лоуренс (и Шоу), который остается неуловимым. Его действия порой настолько сбивают с толку, а его позы настолько изменчивы, что вызывают раздражение даже у друзей, знающих его приемы, — насколько же раздражающими они должны казаться людям, относящимся к Лоуренсу с предубеждением! Но когда кто-либо пытается обвинить его в безрассудстве, ответом на это является его собственная характеристика арабов: «Их умы работают так же, как и наши, но в других направлениях. В арабах нет ничего безрассудного, непонятного, непостижимого». Лоуренс не мог бы так хорошо разыгрывать из себя араба не восприняв их мышления, и араб остался в нем, хотя и в менее сильной степени, чем прежде.
Он обладал самоуверенностью, которая иногда приобретает оттенок высокомерия, но мне еще не удалось обнаружить тех случаев, когда Лоуренс проявлял ее неподобающим образом. В нем была склонность к романтике, но признаки ее были едва уловимы. Сознание бесплодности своих усилий приостановило активность Лоуренса, которая, по-видимому, была очень большой.
Ни один человек не сумел достигнуть подобного соответствия между мышлением и действием, как Лоуренс. Без той полноты понимания, которая была у Лоуренса, достигнутые им успехи могли бы сделать его общественно опасным человеком типа Наполеона. С другой стороны возникает вопрос, смогли ли его достижения оказаться столь великими без этого понимания, так как ресурсы, которыми он располагал, были значительно меньше, а обстановка значительно труднее, чем у большинства тех людей, которые создавали историю мечом. Легенда, которая создалась вокруг личности Лоуренса, скорее затемнила, чем усилила значение его военных успехов. Значение арабской кампании для мировой войны я уже выявил.
Между арабской кампанией в том виде, как ею руководил Лоуренс, и обычной иррегулярной войной прошлого имеется существенная разница. Она велась против неприятеля, который хотя и являлся отсталым, но, так же, как и любое государство в Европе, целиком зависел от железнодорожного сообщения и был вынужден применять механические средства современной войны, а в случае исчерпания своих материальных ресурсов утратил способность к сопротивлению. Против подобного неприятеля арабская кампания велась на основе теории, которая настолько опрокинула условную военную доктрину, что превратила слабость арабов в их силу, а силу турок в слабость.
На первый взгляд, сама полнота подобной метаморфозы заставляет предполагать, что она еще более углубляет разрыв существующий между регулярной и иррегулярной войнами. Однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что успех ее зависел от новых материальных условий, которые при современных военных действиях заметны еще более. Ни одна страна не может долго продержаться без железных дорог или вести войну без снарядов. То, что вчера делали арабы, завтра сможет таким же образом, но гораздо быстрее сделать авиация. Ее успех смогут разделить моторизованные сухопутные силы, например, танки и бронемашины.
Кроме того, это новое использование изменившихся «биологических» условий может быть соединено с более точным использованием «психологических» условий, в отношении которых Лоуренсом также был показан путь. Разоружить — значит проявить большее могущество, чем убивать. И именно в этом процессе материального и. морального разоружения старый принцип сосредоточения сил, невидимому, и окажется замененным неуловимым, вездесущим распределением сил, нажимающих повсюду и все же нигде не наступающих.
В этом заключается основное значение кампании Лоуренса. Величайшее достижение его военного предвидения характеризуется тем, что, разрабатывая свою теорию иррегулярных военных действий, он понимал возможность ее применения для всех войн, хотя делать подобный вывод он и оставлял для тех, кто мог читать между строк.
Этот факт в связи со всей войной придает новое значение его подвигам в Аравии и Сирии. Военная история не может рассматривать Лоуренса лишь как удачного вождя иррегулярных частей. Он является чем-то большим. Он выявляется скорее в качестве гениального стратега, предугадавшего партизанский характер войн вытекающий из все возрастающей зависимости народов от промышленных ресурсов.
С точки зрения ортодоксальной стратегии, которая ищет скорее решения, чем парализующего удара, из изучения арабской кампании, особенно ее последней фазы, может быть извлечен весьма ценный опыт, поскольку возможность решения зависит от успеха предварительного отвлечения сил. Военными историками эта основная военная истина недостаточно подчеркивалась и значение ее весьма недооценивалось, за что их странам приходилось расплачиваться. Отвлечение — гораздо больше, чем «наполовину выигранное сражение». Нигде в военной истории я не встречал столь тонко задуманного и умело рассчитанного отвлечения противника, как разработанное Лоуренсом в помощь арабам и Алленби. Представляя пример для изучения военным специалистам, оно наряду с этим является доказательством тех знаний, которые Лоуренс приобрел у мастеров XVIII столетия, — последних, которые отдавали должное внимание этому весьма важному вопросу.
Сила личности Лоуренса общепризнанна, но ее влияние затуманило более глубокую силу, которую дало ему его знание. Однако именно в этом заключается главная суть того, что военный успех Лоуренса дал миру и в особенности военным.
Истина заключается в том, что Лоуренс был более подкован в военных знаниях, чем любой из генералов последней войны. На первый взгляд подобное заявление может показаться весьма странным, но это фактически так и было. Многие из генералов последней войны, конечно, знали больше о работе военной машины, чем Лоуренс, но во всем остальном преимущество было на стороне последнего. Его молодость в этом отношении ему помогла. Они потратили столько лет на продвижение в чинах, что, естественно, не могли надеяться приобрести себе свой собственный опыт в использовании оружия, на котором основана тактика. Будучи молодыми офицерами, некоторые из них, возможно, и были специалистами в вопросе винтовок и артиллерии, но их опыт, несомненно, потерял большую часть своей ценности вследствие развития техники оружия и методов его применения. Пулемет, который господствовал на полях сражений в 1914–1918 гг., был новым изобретением, появившимся после их молодости, а легкая автоматическая винтовка, имевшая едва ли меньшее значение, была введена лишь с началом войны. Все это он освоил, проявив при этом способности, редко встречающиеся даже у молодых восприимчивых юношей, и добавил кое-что свое в вопросе тактического использования новых видов вооружения. Авиация была другим новшеством, которое он изучал, приобретая такой летный опыт, каким не воспользовался ни один командир сухопутных войск. Он также преодолел те препятствия, которые в былые дни ставились пехоте или кавалерии в отношении освоения ими саперного или артиллерийского дела, и тем самым добавил к своим знаниям искусство подрывного дела и необходимое для военных действий представление об артиллерии.
Это первоклассное знание боевых средств если и не являлось основным, то во всяком случае было неоценимым. В свете истории мы можем понять, что если бы другие высшие командиры 1914–1918 гг. обладали подобными знаниями, они избежали бы самых роковых ошибок и показали бы также, каким образом использовать полную мощность новых боевых средств. Великие полководцы прошлого, когда средства вооружения были простыми и медленно изменявшимися, строили свои стратегические планы на личном знании оборонительных сооружений. К несчастью, их современные преемники заменили это слишком хорошим знанием штабной службы. Возросшая специализация военных действий в значительной степени ответственна за бесплодность военного искусства. По мере того, как военные действия будут вестись на более научной основе, военное искусство еще больше упадет. Лишь от немногих мы можем ожидать той поразительной способности и к тому и к другому, которую обнаружил Лоуренс, в чем ему помогло его удивительное чувство меры и еще более удивительная способность уединяться от общественности.
Он в молодые годы приобрел свое знание истории и высшей теории войны, и я никогда не встречал ни одного генерала, который был бы так начитан, как Лоуренс. Особенную пользу он получил от изучения тех мыслителей XVIII столетия, которые проложили дорогу революции в стратегии, начавшейся накануне французской революции, учеником которых был Наполеон. Это глубокое знание исторического опыта, обогащенное общим знанием целого ряда предметов, имевших косвенное отношение к военному искусству, оказалось таким интеллектуальным вооружением, каким в его время не обладал ни один командир. Будучи проверено на личном опыте, оно дало Лоуренсу такое теоретическое понимание войны, которое также было единственным в своем роде. Действительная сущность изумительной военной карьеры Лоуренса лучше всего характеризуется его собственными словами:
«Я не был солдатом, действовавшим под влиянием инстинкта, автоматом с интуицией и удачными идеями. Когда я принимал решение или выбирал альтернативу, я это делал лишь после того, как изучал все относящиеся, а также и многие не относящиеся к делу факторы. В моем распоряжении была география, структура племен, общественные обычаи, язык, принятые стандарты — все. Противника я знал, почти так же, как и свои собственные силы, и неоднократно сражался вместе с ним, подвергая себя риску, чтобы «научиться».
То же самое и в отношении тактики. Если я хорошо пользовался оружием, то это потому, что я умел с ним обращаться. В отношении винтовок дело обстояло просто. Я прошел курс обучения под руководством инструкторов по обращению с пулеметами Льюиса, Виккерса и Гочкиса. Я ознакомился со взрывчатыми веществами у моих учителей из инженерных войск.
Для того, чтобы уметь использовать бронемашины, я научился ими управлять и выводить их в бой. Я по необходимости сделался артиллеристом, а также мог лечить и разбираться в верблюдах.
Я не мог найти на войне учителей для той стратегии, которая мне была нужна, но у меня были знания, приобретенные чтением военных книг в течение нескольких лет, и даже в том небольшом труде, который я написал об этом, вы сможете проследить намеки и цитаты, представляющие собой сознательную аналогию.
Поймите, что военное искусство, по крайней мере мною, было достигнуто не благодаря инстинкту, без всяких усилий, но пониманием, упорным изучением и напряжением ума. Если бы оно далось мне легко, я не достиг бы подобных результатов».
Поставленного им самим для себя идеала он не достиг, поскольку считал, что «совершенный полководец должен знать все на небе и на земле». Однако судить о нем следует по образцам, оставленным историей. Возможно, что Лоуренс был прав, когда, сожалея об «отсутствии любознательности» сказал: «Имея за собой боевой опыт на протяжении 2000 лет, мы не имеем никаких оправданий тому факту, что, сражаясь, мы сражаемся недостаточно хорошо». То обстоятельство, что он эту любознательность проявил, позволяет не только отнести его к мастерам военного искусства, но благодаря ясности понимания им своего дела поставить его выше их.
Тем не менее, если я считаю доказанным его право быть отнесенным к этой группе полководцев, то все же Лоуренс от них отличается, потому что в духовном отношении он их превосходит.
Мне говорят, что молодые люди рассказывают, а молодые поэты пишут о нем как о каком-то «мессии», как о человеке, который смог бы, если бы захотел, быть светочем, который вывел бы спотыкающееся человечество из его затруднений. Я не собираюсь предаваться пророчествам о том, смогла ли его внутренняя сила повести куда-либо далее, — в этой книге я рассматриваю лишь факты, а не будущее. К тому же трудно найти тот совместимый с его философией путь, идя по которому, он смог бы сыграть подобную роль. Безразличие Лоуренса к политическим вопросам столь же известно, как и его отвращение к искусству подмостков. Но во всяком случае я могу сказать, поскольку я знаю Лоуренса, что он, мне кажется, подошел ближе, чем кто бы то ни было другой, к обладанию подобной силой. Лишенный мелочности, свободный от честолюбия и неизмеримый в понимании, его индивидуализм исходит из мудрости веков — той мудрости, которая показывает, что жизнь может быть выносима, и человечество может развиваться только в атмосфере свободы.
Примечания
1
Почетный титул, обозначающий потомков Мухаммеда и дающий ряд административно-религиозных прав.
(обратно)2
Титул правителя Мекки, назначавшегося турками из местных ишанов. Хуссейн захватил Мекку 5 июня 1916 г.
(обратно)3
Восточный секретарь британского верховного комиссара в Египте.
(обратно)4
Первый британский верховный комиссар в Египте (1914–1916 гг.).
(обратно)5
Руководитель британской разведки в Каире и непосредственный начальник Лоуренса.
(обратно)6
Таиф, осаждавшийся с 11 июня по 26 сентября 1916 г., пал от голода. 23 сентября Галиб-паша, турецкий губернатор Хиджаза, сдался Абдулле с двухтысячным гарнизоном.
(обратно)7
После первой атаки Фейсала и Али (10 июня) 22 июня в Медину было прислано подкрепление из Сирии, и 25 июня гарнизон Медины перешел в наступление против армии Фейсала.
(обратно)8
Третий сын Хуссейна.
(обратно)9
Второй после Джидды порт Хиджаза.
(обратно)10
Два похода Джемаль-паши в 1915 и 1916 гг.
(обратно)11
Первый сын Хуссейна.
(обратно)12
Старинный религиозный памятник в Джедде, имеет в длину 150 метров.
(обратно)13
Арабы не носят чалмы, а легкое головное покрывало (так называемая «сомада»), которое держится на голове при помощи повязки в виде гибкого обруча.
(обратно)14
Британские силы в Египте в 1914 г. состояли из 150 000 человек, в том числе 30 000 индусов из Биканира, составлявших верблюжий корпус (мехаристы).
(обратно)15
Британский верховный комиссар в Египте (1916–1919 гг.), сменивший Мак-Магона.
(обратно)16
Арабский город на правом берегу Тигра, конечный пункт южного отрезка Багдадской дороги (Басра — Багдад — Текрит).
(обратно)17
Местечко к юго-востоку от Басры (Южная Месопотамия). Решительное поражение туркам под Шайбой было нанесено англичанами в апреле 1915 г.
(обратно)18
10 июня 1916 г.
(обратно)19
17 июня 1917 г. командование гарнизоном Медины было передано Фахри-паше с общими силами в 14 000 человек.
(обратно)20
Младший сын Хуссейна.
(обратно)21
В районе Медины.
(обратно)22
В начале войны турецкий султан Мохаммед V провозгласил джихад против держав Антанты, что, однако, не имело успеха.
(обратно)23
Особую роль сыграли Нури Саид и Джафар эль-Аскери, ставшие ближайшими сподвижниками Фейсала.
(обратно)24
Лоуренс разрабатывал «теоретическую» сторону британской разведки на Ближнем Востоке, руководя так называемым «Арабским бюро».
(обратно)25
Командующий (сирдар) египетской армией обычно в то же время является генерал-губернатором Судана.
(обратно)26
Военно-политическая сводка, редактировавшаяся Лоуренсом.
(обратно)27
Вождь племени джухейна в районе Янбу.
(обратно)28
В дальнейшем (с 1925 г.) британский верховный комиссар в Египте.
(обратно)29
После ревизии, произведенной Китченером в конце 1915 г., было признано, что меры по охране Суэцкого канала, принятые Мак-Магоном, недостаточны. В связи с этим Мак-Магон вышел в отставку.
(обратно)30
Алленби сменил в июне 1917 г. генерал Мэррея на посту главнокомандующего союзнической экспедиции в Египте.
(обратно)31
Один из вождей младотурецкой партии и морской министр Турции в эпоху мировой войны, когда он руководил всеми операциями в Аравии.
(обратно)32
Станция Хиджазской ж. д., недалеко от Медины.
(обратно)33
«Хоуль» по-арабски значит — неопределенный, странный.
(обратно)34
Бисайта означает по-арабски — крошечка и луговинка.
(обратно)35
Турецкий фронт против английских сухопутных сил проходил в Палестине в это время по северной окраине Синайского полуострова (линия обороны — Газа — Беэр-Шева).
(обратно)36
Имеются в виду военные операции в Сирии эпохи крестовых походов.
(обратно)37
Начальник британских воздушных сил в Египте.
(обратно)38
По Фаренгейту. По Цельсию это 50°.
(обратно)39
Корпус состоял из индийских мехаристов из Биканира.
(обратно)40
В марте и апреле 1917 г. Обе атаки окончились неудачей.
(обратно)41
Левый приток Иордана.
(обратно)42
Плодородное горное плато Джебель-Хаурана (к юго-востоку от Дамаска) населено племенами друзов.
(обратно)43
Kacp эль-Азрак — оазис у северной оконечности Сирхана.
(обратно)44
Абд эль-Кадер — алжирский вождь. С 30-х годов XIX века вел многолетнюю борьбу с колонизацией французов. Был вынужден эмигрировать в Турцию, где он поселился в Дамаске. Его внуки (Омар, Тахир и Сайд Мустафа) в дальнейшем возглавляли собой арабское движение в Сирии. Лоуренс, не желая обидеть французов, подставил на место французов в Алжире турок, с которыми Абд эль-Кадер никогда не боролся.
(обратно)45
Имеются в виду гурки.
(обратно)46
Урду — язык, распространенный в Северной Индии и Афганистане, представляет смесь индийских наречий с персидским языком.
(обратно)47
В последних числах октября 1917 г. Алленби приступил к артиллерийскому обстрелу турецкой линии Беэр-Шева — Газа, доведя свою артиллерию до 100 орудий.
(обратно)48
Долина Ярмука почти сплошь заселена эмигрантами из Алжира, выселившимися после завоевания Алжира французами.
(обратно)49
Черкесские всадники в Сирии — потомки эмигрантов с Кавказа. При Абдул-Гамиде несли пограничную охрану.
(обратно)50
Аравия пересечена караванными тропами, ведущими к священным городам — Мекке и Медине. Они обычно называются «дорогами богомольцев» или «дорогами разбойников», так как богомольцы нередко подвергались грабежу.
(обратно)51
По приказу Энвера-паши происходили переброски турецких частей на палестинский фронт против наступавшего Алленби.
(обратно)52
Джемаль-паша (Мерсинли) — впоследствии один из сторонников кемалистского движения в Турции.
(обратно)53
Взятие Беэр-Шевы — 31 октября, Газы — 7 ноября, Яффы — 16 ноября. После этого турецкий штаб генерала Фалькенгайна эвакуировался из Иерусалима, который был обойден англичанами с запада.
(обратно)54
Это произошло 9 декабря 1917 г.
(обратно)55
Важный пункт Трансиордании, прикрывающий с юга Мертвое море.
(обратно)56
Древняя римская крепость к северо-западу от Маана.
(обратно)57
Местечко к западу от южной оконечности Мертвого моря.
(обратно)58
Моаб — название холмистого плато в Иордании, Эдом — холмы южной Палестины, достигающие Синайской низменности.
(обратно)59
Мэлори, «Смерть Артура».
(обратно)60
Путешествие Лоуренса с грузом золота заставляет вспомнить, что, согласно официальным данным, англичане тратили 300 000 фунтов в месяц на содержание «арабского восстания».
(обратно)61
Французский инструктор из Алжира в частях эмира Фейсала.
(обратно)62
После английских побед в Месопотамии летом 1917 г. часть индийских войск, действовавших там, начала перебрасываться на палестино-египетский фронт.
(обратно)63
Одно из военных сокращений в английском языке, обозначающее «генерал-квартирмейстер».
(обратно)64
С. М. G. — кавалер св. Михаила и Георгия.
(обратно)65
Орган, проповедовавший идеи панарабизма. «Кибелла» означает пункт, куда обращаются мусульмане во время молитвы.
(обратно)66
Укрепленный пункт на подступах к Амману с юга.
(обратно)67
Хауран — земледельческая область к юго-востоку от Дамаска.
(обратно)68
Лиман фон Сандерс — начальник немецкой военной миссии в Турции накануне войны. Один из реорганизаторов турецкой армии и ближайший советник Энвера. Во время войны командовал турецкими армиями при защите Дарданелл и войсками Илдырым в Сирии. Под напором Алленби штаб Лимана фон Сандерса отступал из Иерусалима на Назарет, а оттуда на Алеппо.
(обратно)69
В боях с 19 по 21 сентября армия Алленби подвинулась на север до Тивериадского озера и Хайфы, заняв всю историческую часть Палестины.
(обратно)70
В это время началось генеральное отступление армий Лимана фон Сандерса на Дамаск и Алеппо.
(обратно)71
Капитуляция Болгарии произошла 28 сентября 1918 г.
(обратно)72
Баба — по-турецки дядя.
(обратно)73
Этот род войск существовал только в Англии и Шотландии и состоял главным образом из землевладельцев.
(обратно)74
Группа сирийских националистов, загнанных в подполье Джемаль-пашой (в том числе Али Риза-паша и Шукри-паша).
(обратно)75
Незначительный ущерб, причиненный Дамаску пожаром турецких складов, был через несколько лет во много раз превзойден колоссальными разрушениями при обстреле Дамаска «культурными» французами в октябре 1925 г. при подавлении восстания в Сирии. Французы уничтожили два квартала, базар, ряд дворцов и в том числе знаменитую мечеть халифа Омара с ее бесценной библиотекой.
(обратно)76
В дальнейшем — главный вождь сирийского восстания 1925 г. против французов.
(обратно)77
Имеется в виду французское правительство, которое добивалось передачи ему всей Сирии, включая Дамаск, согласно секретному договору Сайкс-Пико.
(обратно)78
Здесь и дальше автор цитирует записки самого Лоуренса.
(обратно)79
Сухие русла рек.
(обратно)80
Мера жидкости в Англии, равная 4,54 л. — Ред.
(обратно)81
По словам Лоуренса, удивление офицеров лишь показывало, «…что они знали больше об обычаях Египта, чем Аравии. Раб вел себя передо мной так же, как в присутствии своего хозяина. Арабские гранды обычно играют со своими рабами. Я был рад, что меня принимают за своего.
Рабы арабов являются привилегированными людьми и занимают следующее за детьми место. Например, раб может есть вместе со своим хозяином, что обычно и делает, слуга же никогда. Раб может спать со своим хозяином, а слуга должен спать за дверью. Раб может назвать своего хозяина по имени, а слуга не может».
(обратно)82
В автомобиле.
(обратно)83
Лоуренс дал в отношении этого инцидента следующие пояснения: «В пустыне я брился регулярно. Мое красное от загара лицо, чисто выбритое и поражавшее своими голубыми глазами на фоне белого головного покрывала и одеяния, стало известно в пустыне. Кочевые арабы и крестьяне, которые раньше никогда меня не видели, сразу же узнавали меня по описанию. Таким образом моя арабская маскировка фактически была рекламой. Она предавала меня мгновенно по всей пустыне, а быть моментально узнанным означало безопасность в 99 случаях из 100.
Сотый случай всегда был случайностью, которой нужно было бояться. Когда я видел, что он наступает, я надевал военную фуражку рубашку и трусики и уходил или опускал мое головное покрывало поверх лица, как маску, и отделывался наглостью.
Ни один араб с Востока не принял бы меня ни на один момент за араба. Допустить это могли только бенгальские уланы и подобные им наивные иностранные военные здесь, в Деръа, в Египте и в штабе Алленби. Они стали распространять рассказы о моей маскировке, значение которой было равно нулю».
(обратно)84
Имеются в виду военнослужащие регулярных частей.
(обратно)85
О событиях в Сирии
(обратно)86
Великосветский салон леди Астор в 1930-х годах был известен своей ультраконсервативной и профашистской ориентацией.
(обратно)
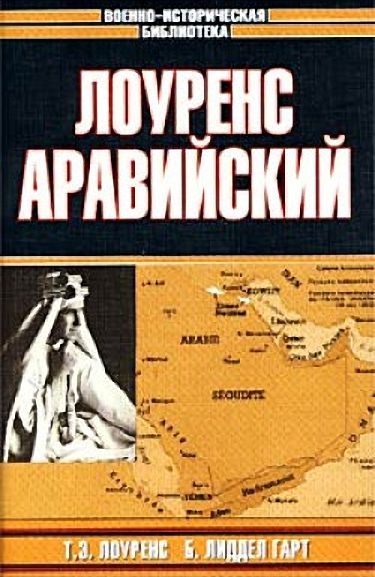


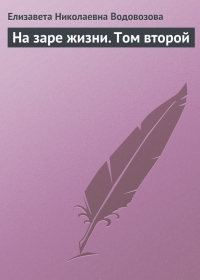


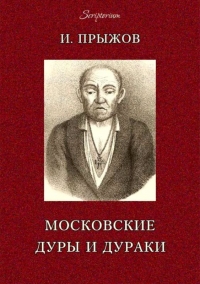
Комментарии к книге «Лоуренс Аравийский», Томас Эдвард Лоуренс
Всего 0 комментариев