Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам Составители О. Немеровская и Ц. Вольпе
Составитель серии Давид Рудман
Оформление и иллюстрация, на фронтисписе Ф. Барбышев
На авнтитуле:
Ю. Анненков. Иллюстрация к поэме «Двенадцать». 1918 г.
От издательства
Вначале 1930 года в тогдашнем уже Ленинграде, в Государственной типографии им. Евг. Соколовой (проспект Красных Командиров, 29) было отпечатано для Издательства Писателей Ленинграда 4200 экз. книги «Судьба Блока», составленной О. Кемеровской и Ц. Вольпе по документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам.
Эта посмертная книга о Блоке не была, конечно, первой. Уже в 1922 году появилась биографическая книга М. Бекетовой «А. Блок», в том же году В. Княжнин издал свою книгу «А. А. Блок», в 1924 году. Н. Атттукин составил «Блок в воспоминаниях современников и его письмах». Многие из этих книг сделались почти недоступными раритетами.
С тех пор прошли десятилетия. За это время во множестве издавались сборники писем Блока к отдельным лицам, его записные книжки, литературные о нем воспоминания, множество исследований блоковского творчества, его поэтики, даже описания личной библиотеки Александра Александровича…
В 1980–1986 годах издательство «Наука» выпустило 92-й том «Литературного наследства в четырех книгах: «Александр Блок. Новые материалы и исследования», вобравший в себя огромный и разнообразный материал…
И все же выполненная в форме биографического монтажа, относительно небольшая, но чрезвычайно емкая и разноплановая книга «Судьба Блока», изданная восемь десятилетий назад и давно ставшая библиографической редкостью, ни в малой степени не утеряла ни своего значения, ни интереса, ни обаяния. Она дает достаточно цельный образ одного из величайших русских поэтов, который никогда не будет забыт.
Нынешний читатель получает сегодня счастливую возможность стать обладателем замечательной старой книги, обретшей новую жизнь[1].
В. Кабанов
2008
Предисловие к изданию 1930 года
Александр Блок, быть может, самый значительный поэт XX века, – неразрывно связан с эпохой русского символизма. Понять Блока вне литературных и бытовых отношений, вне условий возникновения, расцвета и разложения символизма – нельзя. И книга о Блоке должна быть книгой о символистах, и история судьбы Блока – историей всего литературного движения символизма. Поэтому и наша задача – показать не только Блока человека – носителя обособленной личной судьбы, но Блока поэта, представителя большой эстетической культуры.
Между тем, если литературная судьба Блока необъяснима вне того движения, на фоне которого протекло его творчество, то само это движение остается непонятным без освещения тех социальных условий, в которых оно развивалось. Отношения символизма и русского капитализма, меценатство купцов Рябушинского, Морозова и пр., возникновение различных издательств от «Скорпиона» до «Сирина» – все это существенные моменты в истории русской символистической культуры, представляющие для социолога огромный интерес.
Вследствие этого материал книги оказался чрезвычайно расширенным, и в нее вошло многое, что с первого взгляда непосредственного отношения к биографии Блока не имеет.
Установка на эпоху повела к построению книги как работы исторической, определив не только ее тему, но и ее структуру. Поэтому и отдельные главы построены не по чисто биографическому принципу, а прикреплены к определенному историческому стержню: «1905-й год», «Годы военного коммунизма», «Годы реакции», «Война и революция» и проч.
Так же точно смерть Блока дается не как завершение отдельной оборвавшейся человеческой судьбы, а как гибель целой культуры.
Блок умер восемь лет тому назад. Восемь лет – это срок, слишком маленький для того, чтобы могла возникнуть систематизированная исследовательская или даже биографическая литература о нем, но достаточно большой для того, чтобы назрела потребность в такой систематизации. Некоторые документы, опубликованные в период гражданской войны в мелких и незначительных изданиях, некоторые воспоминания, напечатанные в различных органах провинциальной прессы, часто не сохранившихся даже в больших книгохранилищах, остаются совершенно недоступными.
Между тем многое из этого материала представляет собой интерес и цену и должно быть предоставлено читателю.
Этими обстоятельствами был предопределен и самый выбор жанра книги, несмотря на всю спорность и как бы скомпрометированность его в настоящий момент.
Вопрос о монтаже стоит сейчас особенно остро в связи с кризисом, последовавшим за недавним расцветом монтажей. Это, конечно, не случайно. Сейчас, когда исторический документ все чаще призывается на замену писательской выдумке, монтаж оказывается хорошим суррогатом как для беллетристики, так и для науки. Он дает обычному среднему читателю ту подлинную правду об историческом герое, которую читатель ищет в литературе, он дает исследователю тот собранный материал, который может послужить ему путеводителем при собственной исследовательской работе.
От подбора материала, от большего или меньшего членения цитат зависит уклон монтажа в сторону научности или беллетристичности.
И очень показательно, что журналист из «Nouvelles Litteraires» сравнивает русскую форму биографического монтажа с чрезвычайно популярными во Франции биографическими романами, считая их разными воплощениями одного и того же жанра. И поскольку монтаж действительно есть не чисто художественная форма, а промежуточное звено между исследованием и беллетристикой, он все еще остается настолько спорным, что до сих пор, несмотря на явочным порядком приобретенные права гражданства, вызывает сомнения в законности своего существования.
И, тем не менее, нам пришлось остановиться именно на жанре монтажа. Можно оспаривать целесообразность монтажей о классиках, о которых существует большая и доступная читателям литература, – там, где дело касается писателя недавно умершего, монтаж целесообразен уже по одному тому, что материал разбросан в разновременных, порою очень редких изданиях – альманахах, журналах и газетах.
В поисках материала нам пришлось по годам просматривать отдельные газеты, как дореволюционные («Московские Ведомости», «Новое Время», «Товарищ», «Утро России», «Речь»), так и послереволюционные («Известия ВЦИК», «Правда» и др.). Мы старались подобрать документы, печатавшиеся в почти несохранившихся изданиях, например письмо Блока к Мейерхольду в журнале «Искусство и Труд» в 1921 г. Из зарубежной печати мы привлекали главным образом по перепечаткам в мелких советских изданиях то, что с нашей точки зрения представляется наиболее интересным и ценным для советского читателя. Наконец, в книге воспроизводятся и некоторые документы (частично или полностью), до сих пор еще не появлявшиеся в печати (отрывки из речи В. И. Княжнина, письмо Блока к Π. Е. Щеголеву, архив Ленинградского Университета и друг.).
Помимо чисто технической задачи нахождения и собирания материала, перед нами стояла еще более сложная и ответственная задача критического обзора и сверки разноречивых показаний в письмах и документах. Читатель в своем интересе к «подлинности» нередко попадает во власть тех случайных и тенденциозных сообщений, какие ему преподносят различные мемуаристы, руководимые часто далеко не литературными соображениями.
Но для того, чтобы восстановить реальную картину сложившихся отношений, нам пришлось приводить рядом разнопартийные и порой противоречивые документы. Это относится как к годам, предшествовавшим кризису символизма (1906—10), когда разгоралась литературная борьба, так и к эпохе послереволюционной, когда вражда и борьба литературные заменились еще более непримиримыми враждой и борьбой политическими (глава «Двенадцать и Скифы»).
Наконец, еще в одном отношении нами были раздвинуты рамки жанра монтажа (если можно говорить о каких-то нормах в этой области): мы включили в текст книги стихотворный материал. Основанием к этому послужило, прежде всего, собственное свидетельство Блока об автобиографичности его поэзии. Конечно, мы вполне учитываем, что к подобным личным заявлениям поэтов надо относиться с большою осторожностью. Поэтому из всего стихотворного наследия Блока нами было выбрано только то, что соответствовало следующим трем принципам: 1) стихи с посвящением, как бы несущие функцию письма или записи в дневнике, 2) стихи, проверенные документами и точно воспроизводящие действительность, и 3) стихи, являвшиеся в какой-то степени литературно-общественным фактом или знаменем данной среды («Менада» Вяч. Иванова).
Что касается до личного биографического материала, на первый взгляд не имеющего отношения к литературной судьбе Блока, то мы вводим его в книгу лишь в тех случаях, когда он был литературно осмыслен самим Блоком.
Такова, например, первая глава «Семья и детство», которая строится на данных, почти сплошь составивших материал поэмы «Возмездие» (потому-то мы и сочли возможным и даже необходимым ввести в эту главу стихи из «Возмездия»).
Момент для настоящей монографии о Блоке еще не настал, но подготовка такой монографии в виде свода собранного материала, дающего по возможности цельный образ поэта, нам кажется вполне своевременной.
В заключение выражаем благодарность лицам и учреждениям, оказавшим нам содействие в нашей работе указаниями и предоставлением различных материалов: М. А. Бекетовой, В. Н. Княжнину, В. А. и Π. Е. Щеголевым, Е. И. Замятину, К. А. Эрбергу, библиотеке и Рукописному Отделению Пушкинского дома, Рукописному Отделению Академии Наук, Ленинградскому Ун-ту и Кабинету Иностранной Литературы Публичной Библиотеки. Особую благодарность приносим Ю. Г. Оксману и Б. М. Эйхенбауму за советы и указания.
Часть первая
Глава первая Семья и детство
Сыны отражены в отцах: Коротенький обрывок рода — Два-три звена, – и уж ясны Заветы темной старины: Созрела новая порода, — Угль превращается в алмаз. «Возмездие»Род, предки…
Александр Александрович не интересовался этим. Он искренне верил в легенду… будто бы один из его предков был врачом царя Алексея Михайловича. Прапрадед – Иоган фон-Блок, родом из Мекленбург-Шверина, действительно, был медиком, но в русскую службу вступил лишь в 1755 г. полковым врачом.
И. Н. Княжнин[2]. Алекс. Алекс. Блок
Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права.
Александр Блок. Автобиографическая справка
Родился Александр Львович 20 октября 1852 г. во Пскове… Среднее образование он получил в новгородской гимназии, где был учеником известного педагога Я. Г. Гуревича. В 1870 г. он окончил курс с золотой медалью и поступил на юридический факультет петербургского университета. Спустя четыре года по представлении кандидатской диссертации «О городском управлении в России» он был оставлен профессором А. Д. Градовским при университете для подготовки к профессуре по кафедре государственного права.
Е. Спекторский. Александр Львович Блок – государствовед и философ
Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, – отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Я встречался с ним мало, но помню его кровно.
А. Блок
Его отмечены черты Печатью не совсем обычной. Раз (он гостиной проходил) Его заметил Достоевский. – «Кто сей красавец?» – он спросил Негромко, наклонившись к Вревской: – «Похож на Байрона». Словцо Крылатое все подхватили, И все на новое лицо Свое вниманье обратили. На сей раз милостив был свет, Обыкновенно – столь упрямый. «Красив, умен» – твердили дамы, Мужчины морщились: «поэт»… «Возмездие»[3]Отец поэта… Александр Львович сам в душе был поэтом не менее, чем ученым, а может быть, даже и более. Своих любимых поэтов он знал наизусть. И когда – нередко среди глубокой ночи – он садился за рояль, то раздавались звуки, свидетельствовавшие, что музыка была для него не просто техникою, алгеброю тонов, а живым, почти мистическим общением с гармониею, если не действительною, то возможною, космоса. Гармония стиха или мелодии нередко совершенно отвлекала его от суровой прозаической действительности, а также связанных с нею практических дел и увлекала в мир грез. И это налагало на него отпечаток какой-то созерцательности и даже мечтательности, если и не стиравшей совершенно, то значительно стушевывавшей его этический ригоризм…
Ирония властно толкала его мысль на путь критики всякого рода иллюзий, и притом критики, дающей отрицательные, более или менее безотрадные плоды, рассеивающей воздушные замки и ничего не оставляющей, кроме действительности во всей ее печальной наготе. Но вместе с тем она сопровождалась какою-то грустью, какою-то тоской по иллюзии, каким-то желанием все-таки не расстаться окончательно с мечтою и верить в нее.
Е. Спекторский
Потомок поздний поколений, В котором жил мятежный пыл Нечеловеческих стремлений, На Байрона он походил, Как брат болезненный на брата Здорового порой похож: Тот самый отсвет красноватый, И выраженье власти то ж, И то же порыванье к бездне. «Возмездие»Он обладал твердою, непреклонною, можно сказать упрямою, волею. Раз начатое дело он доводил до конца, раз принятое решение он осуществлял во что бы то ни стало… Его этика была этикой сознания, этикой натур, желающих и умеющих подчинять чувства воле, а волю – идее… Такие люди мало популярны. Их избегают. И хотя для них добро – нечто весьма важное, их не считают добрыми. Но их нельзя не уважать.
Е. Спекторский
* * *
Семья моей матери причастна к литературе и к науке…
Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в ректорском доме). Петербургские Высшие Женские Курсы, называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим, главным образом, моему деду.
Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает.
А. Блок
Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден; последние годы она делала до 200 печатных листов в год.
А. Блок
От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери – моя мать и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков.
Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу Кублицкая-Пиоттух), переводила и переводит с французского стихами и прозой…
В молодости писала стихи, но печатала только детские.
А. Блок
Александр Львович познакомился с нами в год нашего переезда в ректорский дом. Он стал усиленно ухаживать за Асей, что очень ей нравилось, тем более что Александр Львович был не только красив и интересен, но его чувство к Асе отличалось и страстностью и проникновением в ее сущность.
В конце зимы Александр Львович сделал Асе предложение, но она ему отказала, после чего он даже перестал бывать у нас в доме. Ася не каялась в своем поступке, но мать наша, совершенно покоренная оригинальным обликом и необычайной музыкальностью Александра Львовича, не могла утешиться после ее отказа и стала говорить Асе, что она оттолкнула необыкновенного человека, с которым могла бы быть счастлива, как ни с кем. Ася начала задумываться, вспоминать прошлое и подпала под влияние матери. Тут, как нарочно, А. Л. напомнил о себе, прислав Асе очень милый и лестный подарок в день ее рождения 6 марта 1877 года. Это была тетрадь с романсами Глинки и Даргомыжского в голубом переплете. Романсов было 17, по числу лет Аси, так как это был год ее семнадцатилетия. Кажется, приложена была и записка. Этот подарок, разумеется, произвел впечатление. Ася начинала думать, что поступила опрометчиво. Следующей зимой А. Л. неожиданно явился к нам в дом. Он пришел по делу к отцу, как к ректору. Ему нужны были какие-то справки и подписи на деловых бумагах. Узнав, что у нас А. Л., Ася подстерегла его внизу на лестнице, очень благосклонно встретила и повела наверх. Все это очень его удивило. Между ними произошло объяснение, результатом которого было вторичное предложение Александра Львовича, на этот раз принятое Асей, а потом и родителями.
М. А. Бекетова'}. Ал. Блок и его мать
Жизнь сестры была тяжела. Любя ее страстно, муж в то же время жестоко ее мучил, но она никому не жаловалась. Кое-где по городу ходили слухи о странном поведении профессора Блока, но в нашей семье ничего не знали, так как по письмам сестры можно было думать, что она счастлива. Первый ребенок родился мертвым. Мать горевала, мечтала о втором.
Между тем Александр Львович писал магистерскую диссертацию. Окончив ее осенью 1880 года, он собрался ехать для защиты ее в Петербург. Жену, уже беременную на восьмом месяце, взял с собой. Молодые Блоки приехали прямо к нам. Сестра поразила нас с первого взгляда: она была почти неузнаваема. Красота ее поблекла, самый характер изменился. Из беззаботной хохотушки она превратилась в тихую, робкую женщину болезненного, жалкого вида.
Диспут окончился блестяще, магистерская степень была получена; приходилось возвращаться в Варшаву. Но на время родов отец уговорил Александра Львовича оставить жену у нас. Она была очень истощена, и доктор находил опасным везти ее на последнем месяце беременности, тем более, что Александр Львович стоял на том, чтобы ехать без всяких удобств, в вагоне третьего класса, находя, что второй класс ему не по средствам.
В конце концов он сдался на увещания, оставил жену и уехал один.
К утру воскресенья, 16 ноября 1880 года, у нее родился сын – будущий поэт и свет ее жизни.
М. А. Бекетова. А. Блок. Биогр. очерк [4]
Александр Львович, во-первых, держал жену впроголодь, так как был очень скуп, во-вторых, совсем не заботился об ее здоровье и, в-третьих, – бил ее. Не стану описывать подробностей этих тяжелых сцен. Скажу только, что никаких серьезных поводов к неудовольствию Александра Андреевна не подавала. Она вела себя так, что муж перестал ее ревновать, была с ним ласкова и очень заботилась о хозяйстве. Но муж желал перевоспитать жену по-своему, и ей доставалось за всякое несогласие во мнениях, за недостаточное понимание музыки Шумана, за плохо переписанную страницу его диссертации и т. д. В минуты гнева Александр Львович был до того страшен, что у жены его буквально волосы на голове шевелились. Их прислуга полька, очевидно боясь ответственности, уходила из дому, как только Александр Львович начинал возвышать голос. Ася слышала, как щелкал ключ двери, запираемой снаружи, и затем оставалась одна с мужем, а жили они в захолустном квартале на окраине города, так что, если бы она вздумала кричать, это вряд ли к чему-либо повело бы. Не буду, однако, преувеличивать: Александр Львович только пугал, унижал и мучил жену, он не наносил ей увечий и не покушался на ее жизнь. Но довольно и этого…
Несмотря на всю свою жестокость, Александр Львович так искренно и горячо любил ее, так понимал лучшие стороны ее натуры, что жизнь ее с мужем имела и светлые стороны. От нее я знаю, что в хорошие минуты он нежно ласкал ее, и они проводили много прекрасных часов за чтением и разговорами о прочитанном.
М. А. Бекетова
Вокруг Александра Львовича – «дяди Саши», как у нас его называли, – выросло в нашей семье множество сказаний. Встречаться с ним нам, детям, было довольно страшно. Еще до первой из этих встреч я успел подслушать, что он живет где-то очень далеко, в Варшаве, живет совершенно один, в грязной, странно обставленной квартире. От него убежали две жены. Он их бил, а одной даже нож приставлял к горлу. Пробовал будто бы истязать и детей. И детей от него увезли.
В альбоме была его фотография. Он на ней очень красив, повернут в профиль – еще молодой. «Жестокий» взгляд, угрюмо опущенное лицо как нельзя более соответствовали страшным рассказам о Варшаве, одинокой квартире и ноже.
Когда он – впервые на моей памяти – появился у нас, то оказалось, что наружность у него совсем не такая величаво-инфернальная, как я себе представлял. Он был не очень высок, узок в плечах, сгорблен, с жидкими волосами и жидкой бородкой, заикался, а главное – чего я никак не ожидал – он был робок, совсем как бабушка. Садился в темный уголок, не любил встречаться с посторонними, за столом все больше молчал, а если вставлял словечко, то сразу потом начинал смеяться застенчивым, неестественным, невеселым смехом.
Г. Блок[5]. Герой Возмездия
После развода с мужем, когда Саше было около девяти лет, сестра Александра Андреевна повенчалась вторично с поручиком лейб-гвардии гренадерского полка, Францем Феликсовичем Кублицким-Пиоттух. В том же году обвенчался с Марьей Тимофеевной Беляевой и Александр Львович.
М. А. Бекетова
Выходя замуж за Франца Феликсовича, Александра Андреевна думала найти в нем помощника, который заменил бы Саше отца, но этого не случилось. Франц Феликсович был вообще равнодушен к детям, Саша же был не в его духе, кроме того, он ревновал к нему мать. Словом, он не был привязан к мальчику и относился к нему, если не прямо враждебно, то по меньшей мере равнодушно. Его взгляды на воспитание были совершенно противоположны тем, которые Александра Андреевна вынесла из своей семьи. Он советовал ей держать сына построже, тяготился его обществом и, при первой попытке Саши расположиться со своими игрушками и занятиями в гостиной, отослал его в его комнату, чем жестоко обидел Александру Андреевну, привыкшую к совсем другому отношению.
М. А. Бекетова
Я был у него (у А. Л. Блока) в его варшавской квартире. Он сидел на клеенчатом диване за столом. Посоветовал мне не снимать пальто, потому что холодно. Он никогда не топил печей. Не держал постоянной прислуги, а временами нанимал поденщицу, которую называл «служанкой». Столовался в плохих «цукернях». Дома только чай пил. Считал почему-то нужным экономить движения и объяснял мне:
– Вот здесь в шкапу стоит сахарница; когда после занятий я перед сном пью чай, я ставлю сюда чернильницу и тем же движением беру сахар, а утром опять одним движением ставлю сахар и беру чернильницу.
Он был неопрятен (я ни у кого не видал таких грязных и рваных манжет), но за умываньем, несмотря на «экономию движений», проводил так много времени, что поставил даже в ванной комнате кресло:
– Я вымою руки, потом посижу и подумаю.
Г. Блок
Скончался он 1 декабря 1909 года от чахотки, осложненной болезнью сердца.
И жаль отца, безмерно жаль: Он тоже получил от детства Флобера странное наследство — Education sentimentale. «Возмездие»…
Он был заботой женщин нежной От грубой жизни огражден. «Возмездие»СВИДЕТЕЛЬСТВО
Города С.-Петербурга, церкви Св. Апостол Петра и Павла, что при С.-Петербургском Императорском Университете, в метрических книгах за 1880 год, в первой части о родившихся за № 9-м, мужеска пола, значится: Тысяча восемь-сот-восемь-десятого года, месяца ноября шестнадцатого дня, у Титулярного Советника, Доцента Варшавского Университета Александра Львова Блока и законной жены его Александры Андреевой, обоих православного исповедания и первым браком, родился сын, Александр, крещен того же года месяца Декабря 28-го дня. Восприемниками были: Действительный Статский Советник, Вице-Дирек-тор Департамента Таможни, Лев Александрович Блок и жена Тайного Советника Елизавета Григорьевна Бекетова. В чем и дано сие свидетельство за надлежащим подписом и с приложением церковной печати:
1881 года апреля 8-го дня.
Университетской церкви священник
Василий Рождественский.
Диакон Василий Смирнов.
Архив Спб. Университета. Дело № 495
С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи. В доме установился культ ребенка. Его обожали все, начиная с прабабушки и кончая старой няней, которая нянчила его первое время. О матери нечего и говорить.
М. А. Бекетова
Отца он никогда не знал. Они встречались лишь случайно, Живя в различных городах, Столь чуждые во всех путях (Быть может, кроме самых тайных). Отец ходил к нему как гость, Согбенный, с красными кругами Вкруг глаз. За вялыми словами Нередко шевелилась злость… «Возмездие»Саша был живой, неутомимо резвый, интересный, но очень трудный ребенок: капризный, своевольный, с неистовыми желаниями и непреодолимыми антипатиями. Приучить его к чему-нибудь было трудно, отговорить или остановить почти невозможно. Мать прибегала к наказаниям: сиди на этом стуле, пока не угомонишься. Но он продолжал кричать до тех пор, пока мать не спустит его со стула, не добившись никакого толка.
До трехлетнего возраста у Саши менялись няньки, все были неподходящие, но с трех до семи за ним ходила одна и та же няня Соня, после которой больше никого не нанимали. Кроткий, ясный и ровный характер няни Сони прекрасно действовал на Сашу. Она его не дергала, не приставала к нему с наставлениями. Неизменно внимательная и терпеливая, она не раздражала его суетливой болтливостью. Он не слыхал от нее ни одной пошлости. Она с ним играла, читала ему вслух. Саша любил слушать Пушкинские сказки, стихи Жуковского, Полонского, детские рассказы. «Степку-растрепку» и «Говорящих животных» знал наизусть и повторял с забавными и милыми интонациями.
М. А. Бекетова
Так и стояли вокруг него теплой стеной прабабушка, бабушка, мама, няня, тетя Катя – не слишком ли много обожающих женщин? Вспоминая свое детство, он постоянно подчеркивал, что то было детство дворянское, – «золотое детство, елка, дворянское баловство», и называл себя в поэме «Возмездие» то «баловнем судеб», то «баловнем и любимцем семьи». Для своей семьи у него был единственный эпитет – дворянская.
К. Чуковский. А. А. Блок как человек и поэт
«Жизненных опытов» не было долго, сознательной жизни еще дольше. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками, елками, баловством – и благоуханную глушь маленькой дворянской усадьбы (с. Шахматово Московской губернии Клинского уезда).
Первые литературные шаги.
Автобиографии современных русских писателей. А. Блок
Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматово, верст 7 от Боблова, имения Дмитрия Ивановича Менделеева, по совету которого они и купили свое. Трудно представить себе другой более мирный, поэтичный и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед балконом старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром: тут варилось варенье, собирались поболтать, полакомиться пенками с варенья – словом, это было любимым местом. Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто русская даль. Из парка, через маленькую калитку, шла тропинка под гору к пруду и оврагу, заросшему старыми деревьями, кустарниками и хмелем, и дно оврага и пруд покрывались роскошными незабудками и зеленью; дальше шел большой лес, место постоянных прогулок маленького Саши с дедушкой.
А. И. Менделеева[6]. Алекс. Блок
Веял уют той естественно скромной и утонченной культуры, которая не допускала перегружения тяготящими душу реликвиями стародворянского быта; и тем не менее обстановка – дворянская; соединение быта с безбытностью; говорили чистейшие деревянные стены (как кажется, без обой, с орнаментом перепиленных суков).
Андрей Белый. Воспоминания об Ал. Блоке
Мои собственные воспоминания о деде – очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушовки, вида, неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу; очевидно, он засеялся случайно и потом выродился.
А. Блок
Он рос правильно, был силен и крепок, но развивался очень медленно: поздно начал ходить, поздно заговорил.
М. А. Бекетова
С семи лет, еще при няне Соне, Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом. Сохранилось несколько маленьких книжек такого рода. Есть «Мамулин альбом», помеченный рукой матери 23 декабря 1888 года (написано в 8 лет). В нем только одно четверостишие, явно навеянное и Пушкиным и Кольцовым, и ребус, придуманный на тот же текст. На последней странице тщательно выведено: «Я очень люблю мамулю».
М. А. Бекетова
Сочинять я стал чуть ли не с 5 лет.
А. Блок
Мать задумала отдать его в гимназию. Ей казалось, что будет это ему занятно и здорово. Но она ошибалась… На лето приглашен был учитель, студент-юрист Вячеслав Михайлович Грибовский, впоследствии профессор по кафедре гражданского права. Студент оказался веселый и милый, не томил Сашу науками и в свободное время пускал с ним кораблики в ручье, возле пруда.
М. А. Бекетова
По словам Марии Грибовской[7], мальчик жадно принялся за новый предмет, восхищая порой своего учителя меткими сравнениями, блестящей памятью… Рим, с его героической историей, с его походами, с его дивными архитектурными памятниками, не давал мальчику покоя. Стали замечать, что Сашура куда-то исчезает. Приехали как-то раз соседи: проф. Фаминицын и Менделеев со своей маленькой дочкой, сделавшейся впоследствии женой поэта. Все разбрелись по саду искать мальчика, а он в выпачканном матросском костюме, весь потный, в овраге усердно проводит римские дороги и акведуки.
– Мне еще нужно в стороне от терм Каракаллы закончить Via Appia, сейчас приду, – пояснил будущий поэт.
В. Н. Княжнин
Вся жизнь Александры Андреевны имела одно содержание – сын. Это было одно всепроникающее чувство – от материальной заботы – был бы сыт, был бы здоров, чтобы зубы не болели, чтобы под дождем не простудился – до высокой заботы – чтоб довершил свой подвиг. Она преклонялась перед ним и гордилась, как только может гордиться мать своим гениальным, прекрасным сыном, и, улыбаясь, говорила: «Он только одного беспокойства мне не доставлял – на аэроплане не летал. А так – я вечно боялась: или утонет, как Сапунов, или пойдет по рельсам, заглядится на что-нибудь, хоть на девушку какую-нибудь (помните, «высокая с тугой косой»), а поезд налетит на него и раздавит, или еще что-нибудь…»
Над. Павлович[8]. Мать А. Блока
Много лет мать была его единственным советником. Она указывала ему на недостатки первых творческих шагов. Он прислушивался к ее советам, доверяя ее вкусу.
М. А. Бекетова
Она привила сыну чистоту вкуса, воспитанного на классических образцах, тяготение к высокому и к подлинному лиризму. С уверенностью можно сказать только одно: мать открыла ему глаза на Тютчева, Аполлона Григорьева и Флобера.
М. А. Бекетова
Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось, разве, имя Полонского и первое впечатление от его строф:
Снится мне: я свеж и молод, Я влюблен. Мечты кипят. От зари роскошный холод Проникает в сад.Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали слово: в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-Верлэновски, преобладание имела здесь eloquence; одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к musique находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной Ploquence обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлэна и не с декадентства вообще.
А. Блок
Глава вторая Гимназия
Я чувствую давно,
Что скоро жизнь меня коснется…
А. БлокВ августе 1889 года отправились поступать в гимназию. Впоследствии она была переименована в гимназию Петра I, а в то время она носила название Введенской.
М. А. Бекетова
Видали ли Вы белое 3-этажное здание с двумя флигелечками, что на углу Большого пр. и Шамшевой улицы? – Это и есть Введенская гимназия. Особенной репутацией пользовалась среди других учебных заведений Петербурга эта гимназия. И, действительно, среди этой буйной молодежи находили себе приют отчаяннейшие сорви-головы, когда-либо носившие гимназическую фуражку. Около 500 человек всякого возраста от 8 до 24 лет, и всякого звания и состояния, сходились здесь ежедневно, и гам стоял здесь, как в кипящем котле.
Из неопубликованных воспоминаний гимназического товарища Блока
Мама привела меня в гимназию; первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь; но в дверях класса, хотя и открытых, мне чувствовалась непереходимая черта.
Меня посадили на первую парту, прямо перед кафедрой, которая была придвинута к ней вплотную и на которую с минуты на минуту должен был войти учитель латинского языка. Я чувствовал себя как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову. Парта полагалась к тому же на двух человек, а я сидел на ней третий, на первый раз, потому что в классе не хватило для меня места.
А. Блок. Исповедь язычника
Состав учившихся – дети мелкого чиновничества и зажиточного мещанства, с крайне невысоким интеллектуальным уровнем. Гимназия отбывалась как неприятная и ненужная повинность. Заветной, конечно, мечтой огромного большинства было получить, ничего не делая, удовлетворительную отметку.
В. Н. Княжнин
Дворянско-интеллигентская атмосфера детства Блока теперь разбавляется струей мещанско-бюрократической. И не только дома, но и в гимназии, куда Блок поступил в 1890 году.
А. Цинговатов.[9] А. А. Блок
Педагогический персонал, в общем, также был ниже среднего. Это были – или старые и усталые, равнодушные люди, дослуживавшие до полной пенсии, либо формалисты-бюрократы в худшем смысле этого слова.
В. Н. Княжнин
Учение началось
Времена были деляновские; толстовская классическая система преподавания вырождалась и умирала, но, вырождаясь, как это всегда бывает, особенно свирепствовала: учили почти исключительно грамматикам, ничем их не одухотворяя, учили свирепо и неуклонно, из года в год, тратя на это бесконечные часы. К тому же, гимназия была очень захолустная, мальчики вышли, по большей части, из семей неинтеллигентных, и во многих свежих сердцах можно было, при желании и умении, написать и начертать, что угодно. Однако никому из учителей и в голову не приходило пробовать научить мальчиков чему-нибудь, кроме того, что было написано в учебниках «крупным» шрифтом («мелкий» обыкновенно позволяли пропускать).
Дети быстро развращались. Среди нас было несколько больных, тупых и слабоумных. Учились курить, говорили и рисовали много сальностей. К середине гимназического учения кое-кто уже обзавелся романом; некоторые свели дружбу с классными наставниками и их помощниками, и стало чувствоваться, что, кроме обязательных гимназических, существуют еще какие-то приватные и частные отношения между воспитателями и некоторыми учениками. На крупные шалости и даже гнусные патологические проявления одних – начальство смотрело сквозь пальцы; других же, стоявших в стороне от какого-то заговора, который казался таинственным, но имел очень дурной и непривлекающий запах, напротив, преследовали иногда несправедливо. Как всегда бывает, страдали больше невинные и безответные.
А. Блок
Среди всей этой кутерьмы гимназического бедлама скромно цвел Блок. Именно цвел, я не могу придумать термина удачнее. Молодое буйство товарищеской ватаги как будто бы не задевало его. Не приходилось мне сталкиваться с ним близко. Я был классом или двумя старше его, а класс – это было нечто цельное, замкнутое и самодовлеющее, со своими «классовыми» интересами, и общение ограничивалось своими одноклассниками. Но помню его классически-правильное, бледное, спокойное лицо с ясными, задумчивыми глазами.
Из неопубликованных воспоминаний гимназического товарища Блока
В последних двух классах завелись уже настоящие друзья: то были его товарищи по классу, Фосс и Гун. Фосс – еврей, сын богатого инженера, имевшего касание к Сормовским заводам. Это был щеголь и франт, но не без поэтических наклонностей и хорошо играл на скрипке. Гун принадлежал к одной из отраслей семьи известного художника Гуна. Это был мечтательный и страстный юноша немецкого типа. Друзья часто сходились втроем у Саши или в красивом доме Фоссов на Лицейской улице. Вели разговоры «про любовь», Саша читал свои стихи, восхищавшие обоих, Фосс играл на скрипке серенаду Брага, бывшую в то время в моде. В весенние ночи разгуливали они вместе по Невскому, по островам. С Гуном Саша сошелся гораздо ближе, Фосса скоро потерял из вида. Гун приезжал в Шахматово. А после окончания гимназии они вдвоем ездили в Москву, где отпраздновали свою свободу выпивкой и концертом Вяльцевой. На последнем курсе университета Гун застрелился внезапно по романическим причинам. По этому поводу написано Сашей стихотворение. Случай произвел на него впечатление.
М. А. Бекетова
Внешне Александр Александрович в эту пору, по словам одного из его товарищей по гимназии, был всегда чисто, даже изящно одетым мальчиком, очень воспитанным и аккуратным, что, по моему мнению, сказывается и на его тогдашнем почерке.
В. Н. Княжнин
В пору своей гимназической жизни Саша не стал сообщительнее. Он не любил разговоров. Придет, бывало, из гимназии, – мать подходит с расспросами. В ответ – или прямо молчание или односложные скупые ответы. Какая-то замкнутость, особого рода целомудрие не позволяли ему открывать свою душу.
М. А. Бекетова
Титульный лист рукописного журнала «Вестник». № 1,1897 г.
Гимназия страшно плебейская и совсем не вяжется с моими мыслями, манерами и чувствами. Впрочем, что ж? Я наблюдаю там типы купцов, хлыщей, забулдыг и проч. А таких типов много, я думаю больше и разнообразнее, чем в каком-нибудь другом месте (в другой гимн.).
Письмо к матери 20/VIII 1897 г.
В гимназии настолько много идиотизма, что у меня заболела голова, впрочем, прошла, когда я оттуда выбрался.
Письмо к матери 19/VIII 1897 г.
Гимназия надоедает страшно, особенно с тех пор, как я начал понимать, что она ни к чему не ведет.
Письмо к матери 20/VIII 1897 г.
Весной 1898 года он кончил курс гимназии.
М. А. Бекетова
АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
от
С.-Петербургской Введенской Гимназии.
Дан сей Александру Блоку, православного вероисповедания, сыну статского советника, родившемуся 16 ноября 1880 года в С.-Петербурге, обучавшемуся в С.-Петербургской Введенской гимназии 7 лет и пробывшему один год в VIII классе, в том:
Во-первых, что на основании наблюдений за все время обучения его в С.-Петербургской Введенской Гимназии поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ весьма удовлетворительная, прилежание хорошее и любознательность весьма значительная ко всем предметам гимназического курса.
И во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания:
ОТМЕТКИ:
Примечание. Отметка 5 означает познания и успехи отличные, 4 – хорошие, 3 – удовлетворительные.
В раннем детстве мне приходилось слышать, что существует где-то в Петербурге двоюродный брат Саша, умный мальчик, издающий в гимназии журнал. Имя Саша не нравилось, не нравилось и про журнал. Мне не хотелось с ним знакомиться.
Г. Блок
Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три года.
А. Блок
Мне лет восемь, и я еду вдвоем с отцом от станции Подсолнечная. Колокольчик весело звенит, кругом – крутые овраги, горы с зелеными квадратиками молодой ржи. Проехали темный еловый лес, и как-то неожиданно на пригорке появилось небольшое Шахматове: несколько домов, деревни рядом не видно. Наконец осуществилась мечта моего детства: я увижу моего троюродного брата Сашу Блока, о котором мне так много рассказывали и который представлялся мне каким-то прекрасным мифом.
Мы входим в дом. Появляются две незнакомые мне тети – тетя Аля и тетя Маня Бекетовы – ласково увлекают меня за собой и спрашивают у прислуги, где Саша. Кухарка отвечает: «Ушли за грибами, не скоро придут». Я первый раз в чужом месте, и мне как-то не по себе… Но Сашура возвращается скорее, чем его ждали. Высокий, светлый гимназист, какой-то вялый и флегматичный, говорит в нос. Но мне сразу становится интересно. Он издавал журнал «Вестник», при участии своих двоюродных братьев Кублицких. Тогда уж меня поразила и пленила в нем любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность. Тетради журнала имели образцовый вид, на страницах были приклеены иллюстрации, вырезанные из «Нивы» и других журналов. Он подарил мне несколько таких картинок. Когда я дал ему в «Вестник» рассказ, он прислал мне коробку шоколадных сардин, написав, что это – в подарок, а не в виде гонорара, который будет выслан после.
С. Соловьев. Воспоминания об А. Блоке [10]
* * *
Около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом приступы отчаяния и иронии, которые нашли себе исход через много лет в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены).
А. Блок
Весной 1897 года я кончил гимназические экзамены и поехал за границу с тетей и мамой – сопровождать маму для лечения.
Из Берлина в Bad Nauheim поезд всегда раскачивается при полете (узкая колея и частые повороты). Маму тошнило в окно, и я придерживал ее за рукава кофточки.
После скучного житья в Bad Nauheim'e, слонянья и леченья здорового мальчика, каким я был, мы познакомились с м-м С.
Дневник А. Блока. 17 (30)/VIII 1918 г.
1897 год памятен нашей семье и знаменателен для Саши. Ему было шестнадцать с половиною лет, когда он с матерью и со мною отправился в Бад Наугейм. Сестре был прописан курс лечения ваннами от обострившейся болезни сердца. Путешествие по Германии интересовало Сашу; Наугейм ему понравился. Он был весел, смешил нас с сестрой шалостями и остротами, но скоро его равновесие было нарушено многознаменательной встречей с красивой и обаятельной женщиной. Все стихи, означенные буквами К. М. С.[10], посвящаются этой первой любви. Это была высокая, статная, темноволосая дама с тонким профилем и великолепными синими глазами. Была она малороссиянка, и ее красота, щегольские туалеты и смелое, завлекательное кокетство сильно действовали на юношеское воображение. Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охва– [11] чен любовью. В ту пору он был поразительно хорош собой уже не детской, а юношеской красотой.
М. А. Бекетова
К. М. С.
Бывают тихие минуты: Узор морозный на стекле; Мечта невольно льнет к чему-то, Скучая в комнатном тепле… И вдруг – туман сырого сада, Железный мост через ручей, Вся в розах серая ограда, И синий, синий плен очей… О чем-то шепчущие струи, Кружащаяся голова… Твои, хохлушка, поцелуи, Твои гортанные слова… Июнь 1909Красавица всячески старалась завлечь неопытного мальчика, но он любил ее восторженной, идеальной любовью, испытывая все волнения первой страсти. Они виделись ежедневно. Встав рано, Саша бежал покупать ей розы, брать для нее билеты на ванну. Они гуляли, катались на лодке. Все это длилось не больше месяца. Она уехала в Петербург, где они встретились снова после большого перерыва.
М. А. Бекетова
* * *
В августе 1898 г. я встречал Блока в перелеске, на границах нашего Дедова. Показался тарантас. В нем – молодой человек, изящно одетый, с венчиком золотистых кудрей, с розой в петлице и тросточкой. Рядом – барышня. Он только что кончил гимназию и веселился. Театр, флирт и стихи… Уже его поэтическое призвание вполне обнаружилось. Во всем подражал Фету, идей еще не было, но пел. Писал стереотипные стихи о соловьях и розах, воспевал Офелию, но уже что-то мощное и чарующее подымалось в его напевах.
С. Соловьев
Который-то из девяностых годов (право, они так мало отличались один от другого!). Осень, дождливый день, репетиция какой-то пьесы (все равно – какой) в Суворинском театре на Фонтанке. В воздухе что-то несообразное, не нюхавший и представить себе не может: Викторьен Сарду вместе с Евтихием Карповым… Пустыня. Я, студент-первокурсник, с трепетом жду в коридоре В. П. Далматова, который запишет меня на свой бенефис, а на бенефисе – прорычит роль Макбета, так что ни одного слова нельзя будет разобрать, и никто из бывших в театре не поверит, что В. П. Далматов – очень большой артист и способен в другой вечер – не бенефисный, а обыкновенный, «ударить по сердцам с неведомою силой…» Теперь, впрочем, на сцене нет Макбета, нет никакого героя: сквозь открытую дверь ложи я смотрю, как по сцене ходят взад и вперед, обняв друг друга за талии, К. В. Бравич[12] и В. П. Далматов, оба такие партикулярные, простые и милые.
А. Блок. Памяти К. В. Бравича
С этих пор он стал постоянно стремиться в театр, увлекался Далматовым и Дальским, в то же время замечая все их слабости и умея их в совершенстве представлять. А вскоре и сам стал мечтать об актерской карьере.
М. А. Бекетова
Александр Александрович стал руководить Бобловскими спектаклями – у нас всегда время от времени бывали они, но отношение к ним и постановки носили детский характер… С появлением Александра Александровича началась, можно сказать, новая эра. Он поставил все на должную высоту. Репертуар был установлен самый классический, самое большое место было отдано Шекспиру, Пушкину, Грибоедову; исполнялся также Чехов. Александр Александрович своим горячим отношением к поэзии и драме увлек своих юных друзей, а потом своих родных.
А. И. Менделеева
Но самые спектакли приносили иногда большие огорчения. Публику, кроме родственников и соседей, составляли крестьяне ближайших деревень. Репертуар совершенно не подходил под уровень их развития. Происходило следующее: в патетических местах Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля… Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех… Артисты огорчались, но не унывали. Их художественная совесть могла быть спокойна, – игра их была талантлива. Александр Александрович как исполнитель был сильней всех с технической стороны. Исполнение же пятнадцатилетней Любови Дмитриевны роли Офелии, например, было необыкновенно трогательно. Она не знала тогда сценических приемов и эффектов и на сцене жила.
А. И. Менделеева
Играли в Боблове и на третье лето, 1900 года, но Блок уже охладевал к этим затеям, почитая себя несколько выросшим.
М. А. Рыбникова[13]. Блок-Гамлет
Мало кто помнит теперь (да и я этого времени сам «не застал»), что известности Блока в передовых артистических кругах, как поэта, предшествовала его известность, как декламатора.
Не раз мне рассказывали и разные люди, что вот в гостиной появляется молодой красивый студент (в сюртуке непременно, «тужурок» он не носил). «Саша Блок, – передавали друг другу имя пришедшего в отдаленных углах. – Он будет говорить стихи».
И если Блока об этом просили, он декламировал с охотой. Коронными его вещами были «Сумасшедший» Апухтина и менее известное одноименное стихотворение Полонского.
Было это в самом начале девятисотых годов. А когда Александр Александрович Блок познакомился с будущей своей женой Л. Д. Менделеевой (впоследствии Блок-Басаргиной), в 1898 году, в имении отца последней они играли «Горе от ума», пьесу, требующую вследствие совершенства своих стихов искусной, как ритмически, так и эмоционально, читки.
Вл. Пяст[12]. Два слова о чтении А. Блоком стихов
Я поступил в «Петербургский драматический кружок», и мне дали большую драматическую роль первого любовника в скверной пьесе, которую я буду играть б февраля в зале Павловой; считки, репетиции, а главное – мысль об исполнении такой ответственной роли берут у меня, конечно, время; однако, я аккуратно хожу на лекции и немного занимаюсь дома.
Стихи подвигаются довольно туго, потому что драматическое искусство – область более реальная, особенно, когда входишь в состав труппы, которая хотя и имеет цели нравственные, но, неизбежно, отзывает закулисностью, впрочем, в очень малой степени и далеко не вся: профессиональных актеров почти нет, во главе стоят присяжные поверенные. Во всяком случае время я провожу очень приятно и надеюсь получить некоторую сценическую опытность, играя на большой сцене.
Письмо к отцу 22/I 1900 г. [14]
На одном из спектаклей в зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна.
Дневник А. Блока
В 1901 году, когда Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы г-жи Читау, Саша тоже посещал их некоторое время, но, охладев к сцене, скоро оставил это занятие. Несколько уроков г-жи Читау и краткий курс декламации, пройденный в последнем классе гимназии под руководством учителя Глазунова, вот и вся подготовка Александра Александровича к сценическому и декламационному искусству. Выработанная им манера читать стихи была плодом самостоятельного творчества и его личного темперамента.
М. А. Бекетова
Чаще всего в это время приходилось видеть его декламирующим. Помню в его исполнении «Сумасшедшего» Апухтина и Гамлетовский монолог «Быть или не быть». Это было не чтение, а именно декламация – традиционно-актерская, с жестами и взрывами голоса. «Сумасшедшего» он произносил сидя, Гамлета – стоя, непременно в дверях. Заключительные слова «Офелия, о нимфа» – говорил, поднося руку к полузакрытым глазам.
Он был очень хорош собой в эти годы. Дедовское лицо, согретое и смягченное молодостью, очень ранней, было в высокой степени изящно под пепельными курчавыми волосами. Безупречно стройный, в нарядном, ловко сшитом студенческом сюртуке, он был красив и во всех своих движениях. Мне вспоминается – он стоит, прислонясь к роялю, с папиросой в руке, а мой двоюродный брат показывает мне на него и говорит:
– Посмотри, как Саша картинно курит.
Г. Блок
Блок состоял членом одного из драматических кружков Петербурга. У Блока были все данные, чтобы играть любовников. Но руководитель кружка – немолодой профессиональный актер – сам любил роли молодых героев, и Блоку пришлось выступать в незначительных ролях стариков.
Когда Блоку открыли глаза на эту типичную закулисную интригу, он вышел из кружка, а потом и совсем отказался от мысли стать актером.
Н. Волков. А. Блок и театр
Глава третья Университет
Мне странен холод здешних стен И непонятна жизни бедность. А. Блок1898 года сентября 3-го дня я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что во время своего пребывания в числе студентов или слушателей Императорского С.-Петербургского Университета обязуюсь не только не принадлежать ни к какому тайному сообществу, но даже без разрешения на то, в каждом отдельном случае, ближайшего начальства, не вступать в дозволенные законом общества, а также не участвовать ни в каком денежном сборе; в случае же нарушения мною сего обещания, подвергаюсь немедленному удалению из заведения и лишаюсь всякого права на внесенные мною, в пользу недозволенного сбора, деньги.
Студент юридического факультета-разряда. Учебные планы, обязательство, свидетельство, билет и правила для студентов, которые обязуюсь исполнять, получил. Ал. Блок.
Архив Спб. Университета
Теперешней своей жизнью я очень доволен, особенно тем, конечно, что развязался с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования дала мало, разве «общее». В Университете конечно гораздо интереснее, а кроме того, очень сильное чувство свободы, которую я, однако, во зло не употребляю и лекции посещаю аккуратно. Относительно будущего пока не думаю, да и рано еще мне, кажется, думать о будущем.
Письмо к отцу 18/Х 1898 г.
Никакой «обструкции» пока нет, все спокойно. Сходки начались, но не состоялись, впрочем, поговаривают об этом все более и более серьезно. Может быть, что-нибудь и будет, но, по моему мнению, во всех случаях что-нибудь не особенно умное.
Я совершенно здоров, был у Качаловых два раза, но теперь мне предстоит очень много дела, так что не знаю, буду ли бывать у них так часто, как в прошлом году. Думаю посократить слегка свой «светский» образ жизни и заниматься, тем более что занятия могут быть интересны и увлекательны.
Письмо к отцу 20/VIII 1899 г.
Читаю посторонних книг вообще мало, но, вообще, стараюсь занимать свое время всегда так, чтобы не быть вполне праздным, не знаю, в какой степени это удается. Не могу сказать, чтобы все давалось без труда, многие мои прохождения с ним связаны, хотя и не всегда в прямом и точном смысле. В университет я уже не хожу почти никогда, что кажется мне правильным на том основании, что я второй год на втором курсе, а кроме того, и слушание лекций для меня бесполезно, вероятно вследствие, между прочим, моей дурной памяти на вещи этого рода. Стихов пишу немного и нерационально, потому что не имею в виду их печатания.
Письмо к отцу 1 /XII 1900 г.
Не очень-то я часто бываю в университете, а если и бываю, то слушаю лекции Введенского по истории философии вообще (а не права) – и только. Больше занимаюсь дома по-прежнему, нахожусь в общении с Гиппиусом[15], который умен и часто интересен, вообще вполне противоположен Коке Гуну и пр. «их же имена ты веси, господи».
Таковы эскизы нашей жизни в самых общих чертах.
Письмо к С. А. Кублицкой-Пиоттух 23/XI 1900 г.
Что касается подробностей учебных волнений, то я знаю о них также большею частью по газетам (самое точное). Частные же слухи до такой степени путаны, сбивчивы и неправдивы, а настроение мое (в основании) так отвлеченно и противно всяким страстям толпы, что я едва ли могу сообщить Вам что-нибудь незнакомое.
Письмо к отцу 2/V 1901 г.
Происходило «политическое» 8 февраля и мартовские события у Казанского собора (рассказ о Вяземском[16]). Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти разговоры у дяди Николая Николаевича [Бекетова] и от старого студента Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен со мной.
Эта «аполитичность» кончилась плачевно. Я стал держать экзамены (я сидел уже второй год на первом курсе[17], когда «порядочные люди» их не держали. Любовь Дмитриевна, встретившая меня в Гостином Дворе, обошлась со мной за это сурово. На экзамене политической экономии я сидел, дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратясь к проф. Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: «Вы подлец!» На это я довольно мягко и вяло ответил ему, что могу ответить ему то же самое. Когда я, дрожа от страха, подошел к заплаканному Георгиевскому и вынул билет, Георгиевский спросил меня, что такое «рынок». Я ответил: «Сфера сбыта»; профессор вообще очень ценил такой ответ, не терпя, когда ему отвечали, что рынок есть «место сбыта». Я знал это твердо (или запомнил на лекции или услышал от кого-то). За это Георгиевский сразу отпустил меня, поставив мне пять.
Дневник А. Блока 17(30)/VIII 1918 г.
Начинается чтение книг; история философии. Мистика начинается. Средневековый город Дубровской березовой рощи[18]. Начинается покорность богу и Платон. В августе (?) решено окончательно, что я перейду на филологический факультет. «Паскаль» Золя (и др.).
Дневник А. Блока 17(30)/VIII 1918 г.
Занимаюсь более или менее правильно, насколько позволяет мне это петербургская жизнь, сопряженная всегда с многими удовольствиями, из которых особенно меня привлекает декламация; декламировать приходится довольно много у разных знакомых, может быть, удастся также играть со временем, что мне также очень желательно, потому что я давно не играл. Философские занятия, по преимуществу Платон, подвигаются не очень быстро. Все еще я читаю и перечитываю первый том его творений в Соловьевском переводе – Сократические диалоги, причем прихожу часто в скверное настроение, потому что все это (и многое другое, касающееся самой жизни во всех ее проявлениях) представляется очень туманным и неясным. Иногда совершенно наоборот (реже, конечно), и это главным образом после известного периода целесообразных занятий, когда все приходит в некоторую логическую систему.
Письмо к отцу 1 /XII 1900 г.
А. Блок. 1907 г.
Милый папа!
В этом году я более, чем когда-нибудь, почувствовал свою полную неспособность к практическим наукам, которые проходят на III курсе. Об этом мы с мамой говорили уже и летом, причем я тогда уже возымел намерение перейти на филологический факультет. Теперь же, в Петербурге, я окончательно решился на этот серьезный и крайне для меня важный шаг и уже подал прошение ректору о переводе, о чем и спешу сообщить Вам, как о важной перемене в моей жизни; дело в том, что, пока я был на юридическом факультете, мое пребывание в университете было очень мало обосновано. Три года тому назад я желал больше всего облегчения занятий и выбрал юридический факультет как самый легкий (при желании, разумеется). Теперь же моя тогдашняя леность и бессознательность прошли, и, вместо того, я почувствовал вполне определенное стремление к филологическим занятиям, к которым, кстати, я теперь значительно подготовлен двумя теоретическими курсами юридического факультета. Сознание необходимости моих занятий до сих пор у меня отсутствовало, и никаких целей (практических) я даже не имел возможности провидеть впереди, потому что был ужасно отчужден от того, что собственно должно быть в полной гармонии с моими душевными наклонностями. Мама очень поддерживает меня в моих начинаниях. Хотел бы знать, что думаете об этом Вы. Лекции я уже слушать начал. Со вторника начнутся для меня правильные занятия. Здоровье мое за лето поправилось.
Целую Вас крепко и жду Вашего ответа.
Ваш Сашура.
Письмо к отцу 29/IX1901 г.
Осенью 1901 года он перешел на филологический факультет.
М. А. Бекетова
Я встретился с ним в первый раз и познакомился на лекциях по сербскому языку проф. Лаврова. Я переходил на третий курс, он, должно быть, был на четвертом.
В старинном здании Петербургского университета – двенадцати коллегий – есть замкнутые, очень солнечные маленькие аудитории, где читают профессора, которых не слушают. Таким и был Лавров, читавший предмет обязательный, но скучный. Толстый, красный, сонный, он учил нас сербскому языку и читал нам былины. В сербском языке, в прошедшем времени, «л» переходит в «о»: «мойя майко помамио» – получается какой-то голубиный лепет. Блоку это нравилось, мне тоже, и, кажется, на этот именно предмет мы обменялись с ним первой фразой. Он ходил в аккуратном студенческом сюртуке, всегда застегнутом, воротник был светло-синий (мода была на темные), волосы вились, как нимб, вокруг его аполлоновского лба, и весь он был чистый, светлый, я бы сказал, изолированный – от лохмачей так же, как и от модников. Студентов было очень мало. Блок лекций не пропускал и аккуратно записывал все, что говорил Лавров, в синие гимназические тетрадки. Я ходил редко, и Блок мне передал свои записки – несколько тетрадок должны быть в моем архиве в Петербурге, если он цел. Там, ранним его почерком, записана вся сербская премудрость.
С. Городецкий. Воспоминания об А. Блоке
В нашем университете (который б февраля закрыт) происходят ужасные вещи: на сходке требовали активной забастовки, и на следующий же день «свыше» прекратили занятия. Еще есть однако слабая надежда, но вопрос в четырех неделях, потому что Ванновский, по-видимому, приведет в исполнение все, что обещал.
Письмо к отцу 8/II 1902 г.
С годами я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих уважаемых профессоров – А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского.
А. Блок
Специализируюсь же я по русской литературе и, по всем видимостям, у проф. Шляпкина[19], который надежнее другого специалиста (прив. – доц. Бороздина), сообщающего с кафедры чересчур уже откровенно всевозможные неприличия о русской литературе, окрашивающего ее, ни в чем неповинную, красненьким колером. Кстати, этот Бороздин и в университете не моден, а только любим некоторыми студентами, «брюхатыми» от либерализма. Существует опасение, что эти последние в нынешнем сезоне снова разрешатся от бремени при громких кликах сотоварищей своих, современных корибантов. Впрочем, я не теряю надежды, что они «доносят» содержимое своих чрев хоть до будущей зимы.
Письмо к отцу 2/Х 1903 г.
Вообще-то можно сказать, что мой реализм граничит, да и будет, по-видимому, граничить с фантастическим («Подросток» – Достоевского). «Такова уж черта моя». И ее очень трудно бывает примирить, например, с прекрасной и высокоталантливой доктриной Ал. Ив. Введенского, от которой, только благодаря таланту и такту, не разит каким-то особого рода шестидесятничаньем. По крайней мере, иногда впечатление таково. В этом случае, обжигаясь на философии, я устремляюсь в классическую филологию, которая пострастнее и попросторнее. Иногда можно даже «обдумывать тайные стихи», не ссорясь с ней. Полного же мира достигнуть нельзя, иначе непременно попадешь в компромисс; уподобишься «александрийскому» декаденту, играющему в тонкости науки, убивающему двух зайцев, эклектику, «дилетанту».
Письмо к отцу 5/ VIII 1902 г.
В университете я слушал польский язык и русскую литературу по преимуществу. Теперь должен представить реферат по славянскому языку, что давно уже затрудняет меня. Реферат трудный. Вообще я с удовольствием вижу конец университ. курса, потому что часто вижу в нем нечто глубоко чуждое мне и для меня трудно переносимое. Прежде всего, существует черта, на которую ни один из моих профессоров до смерти не (пер)ступит: это – религиозная мистика. Живя ею изо дня в день, я чувствовал себя одно время нещадно гонимым за правую веру. Лучшее, что предлагалось взамен религии, была грамматика. Последнее мне представляется действительно лучшим, потому что самый мертвый, схематический mos geometricus терзает меня менее, чем социологические и т. и. воззрения на то, что для меня священно. К этому всему можно присоединить глубокое неведение истинной красоты и непроходимые сальности, отпускаемые ex cathedra для специалистов очевидно (ибо на общих курсах – I и II – они преподносились в более ограниченном объеме). Вместе с тем я не могу пожаловаться на бездарность всех моих «учителей». Проф. Шляпкин, например, человек оригинальный и своеобычный, может быть, по-своему религиозный (что ему приходится старательно прятать), однако за вышеупомянутую черту и ему не перейти. Мне приходит в голову, что предстоящая война способна чуть-чуть оживить покойников. Мои главные «впечатления» сосредоточивались за этот период на настоящем литературы, и лично я, без оговорок, могу констатировать в ней нити истинного Ренессанса. «Новый Путь» при всех своих недостатках делает свое дело, а в нынешней январской книжке расцвел, как никогда. Москва обладает «Скорпионом», родился «Гриф» – книгоиздательства «для борьбы с хулиганством», как недавно писал Дм. Философов. Из поэтов, по-моему, Брюсов сделал неизмеримый шаг вперед, выпустив свою последнюю книгу «Urbi et orbi». Петербургским позитивистам поневоле приходится уже считаться теперь с этим. Новое искусство растет и в ширину.
Письмо к отцу 30/XII 1903 г.
Собирался писать кандидатское сочинение о чудотворных иконах божьей матери. Потом охладел к этой теме, одно время думал заняться письмами Жуковского и наконец подал кандидатское сочинение о Записках Болотова.
С. Соловьев
Блок писал Илье Александровичу [Шляпкину] реферат о Болотове. Помню, что профессор не раз отзывался о работе Блока почти восторженно и находил в авторе методологический навык и крупное исследовательское чутье.
А. Громов[20]
С начала великого поста Блок тщательнейшим образом переключает весь свой обиход на потребный для экзаменного бдения. Самое испытание еще не скоро, – но Блок уже «невидим» ни для кого, кроме имеющих непосредственное отношение к задуманному им делу (с некоторыми университетскими товарищами он готовится к двум-трем экзаменам совместно). Кроме того, он очень регулярно встает в одно и то же время; ест, пьет, ходит гулять (пешком далеко) в определенные часы; занимается почти ежедневно одно и то же количество часов и ложится в одинаковую пору. По сдаче каждого экзамена позволяет себе более продолжительную прогулку, – и, кажется, судя по письму ко мне в Мюнхен, заходит в ресторан пить красное вино. Я не думаю, что это метафора. Насколько помню, это он обучил Г. И. Чулкова «пить красное вино» (с начала будущего сезона), именно привыкнув это делать сам между экзаменами (изредка, конечно).
Вл. Пяст. Воспоминания о Блоке
Готовился А. А. Блок к государственным экзаменам, что называется, истово; со всею щепетильной аккуратностью, что была в его натуре; со всею становящейся силою своей воли.
Вл. Пяст
Сегодня кончились мои экзамены. Спешу сообщить Вам об этом. Кончить удалось по первому разряду, получив четыре «весьма» на устных и круглое «весьма» на письменных экзаменах.
Письмо к отцу 5/V 1906 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Предъявитель сего Александр Александрович Блок православного вероисповедания, сын статского советника, родившийся 16 ноября 1880 года, по аттестату зрелости Спб. Введенской гимназии, принят был в число студентов Императорского С.-Петербургского университета в августе 1898 года и зачислен на Историко-филологический факультет, на котором слушал курсы: по Греческому и Латинскому языкам, Философии, Сравнительному языковедению, Санскритскому языку, русскому языку и словесности, Славянской филологии, Истории Западно-Европейских Литератур, Русской и Всеобщей истории. Участвовал в устраиваемых учебным планом практических занятиях, подвергался испытанию из Богословия и Французского языка, и по выполнении всех условий, требуемых правилами о зачете полугодий, имеет восемь зачтенных полугодий…
(На полях надпись рукою Блока: Выпускное свидетельство и все документы получил, Александр Блок. 25 февраля 1906 г.).
Архив Спб. Университета
Поэт не порвал связи со своими университетскими учителями по окончании курса: одно время он серьезно думал об оставлении при кафедре – на чем настаивал и Шляпкин – и хотел готовиться к магистерским экзаменам.
А. Громов
Иногда я любил университет, и бывает жалко расставаться с ним, но может быть, по причине, сходной с сожалением Шильонского узника. Чувствовать себя по праву «неучащейся» молодежью будет лучше для меня тем более, что я, кое-чему научившись, надеюсь еще подучиться сам для себя.
Письмо к отцу 25/IV 1906 г.
Глава четвертая Литературный дебют и «Стихи о Прекрасной Даме»
Но ясно чует слух поэта Далекий гул в своем пути. А. БлокСемейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех.
А. Блок
Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100. После я печатал и до сих пор печатаю кое-что из старого в журналах и газетах.
А. Блок
От полного незнания и неумения обращаться с миром со мной случился анекдот, о котором я вспоминаю теперь с удовольствием и благодарностью: как-то, в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года), отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир Божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сириным, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете бог знает что творится!» – и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах.
А. Блок
После этого случая я долго никуда не совался, пока в 1902 г. меня не направили к Б. Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник.
А. Блок
По совету Ольги Михайловны Соловьевой, очень внимательно относившейся к творчеству молодого поэта, Блок в первой половине сентября 1902 года послал ряд стихотворений в издательство «Скорпион», но они почему-то не дошли до своего назначения.
В. Гольцев[21]. Брюсов и Блок
Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич[22] и Ольга Михайловна Соловьевы (двоюродная сестра моей матери). Первые мои вещи появились в 1903 г. в журнале «Новый Путь» и, почти одновременно, в альманахе «Северные Цветы».
А. Блок
Вчера был Брюсов… Он очень охотно напечатает стихи Саши в «Северных Цветах», для которых теперь набирает материалы.
Письмо О. М. Соловьевой к матери Блока. 19/Х 1902
Многоуважаемый Валерий Яковлевич!
Посылаю Вам стихи о «Прекрасной Даме». Заглавие ко всему отделу моих стихов в «Северных Цветах» я бы хотел поместить такое: «О вечно женственном». В сущности это и есть тема всех стихов, так что не меняет дела и то, что я не знаю точно, какие именно Вы выбрали, тем более что, вероятно, у Вас были на руках некоторые стихи, посланные мной Соловьевым. Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: Александр Блок; потому что мой отец, варшавский профессор, подписывался на диссертациях А. Блок или Ал. Блок, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали.
Преданный Вам и готовый к услугам
Александр Блок.
Письмо к Брюсову 1 /II – 1903
Это было золотою осенью 1902 года… Наш литературный кружок той осенью готовился к своему боевому делу – создавался журнал «Новый Путь». Журнал религиозно-философский – орган только недавно открытых, кипевших тогда полной жизнью петербургских первых религиозно-философских собраний, где впервые встретились друг с другом две глубокие струи – традиционная мысль традиционной церкви и новаторская мысль с бессильными взлетами и упорным стремлением – мысль так называемой «интеллигенции».
В. Перцов. Ранний Блок
Той осенью небольшой «декадентский» кружок собрался издавать (без денег и без возможности платить гонорар) синтетический «Новый Путь», беспрограммная «программа» которого должна была вести куда-то в даль… Во главе дела стояли Д. С. Мережковский и 3. Н. Гиппиус, а так как обстоятельства и выбор кружка сделали меня третьим и внешне «ответственным» соредактором, то и приходилось часто видаться с первыми двумя на почве «злободневных» редакционных вопросов.
В. Перцов
Помню, как сейчас, широкую серую террасу старого барского дома, эту осеннюю теплынь – и Зинаиду Николаевну Гиппиус с пачкой чьих-то стихов в руках. «Прислали (не помню, от кого)… какой-то петербургский студент… Александр Блок… посмотрите. Дмитрий Сергеевич забраковал, а по-моему, как будто недурно…» Что Дмитрий Сергеевич забраковал новичка – это было настолько в порядке вещей, что само по себе еще ничего не говорило ни за, ни против. Забраковать сперва он, конечно, должен был во всяком случае, что не могло помешать ему дня через два, может быть, шумно «признать». Одобрение Зинаиды Николаевны значило уже многое, но все-таки оно было еще очень сдержанным. Поэтому я взял стихи без недоверия, но и без особого ожидания. Я прочел их…
Это были стихи из цикла «Прекрасной Дамы». Между ними отчетливо помню «Когда святого забвения…» и «Я, отрок, зажигаю свечи…» И эта минута на даче в Луге запомнилась навсегда. «Послушайте, это гораздо больше, чем недурно; это, кажется, настоящий поэт». – Я сказал что-то в этом роде. «Ну, уж вы всегда преувеличиваете», – старалась сохранить осторожность Зинаида Николаевна. Но за много лет разной редакционной возни, случайного и обязательного чтения «начинающих» и «обещающих» молодых поэтов только однажды было такое впечатление: пришел большой поэт. Может быть, я и самому себе и с той же осторожностью не посмел тогда сказать этими именно словами, но ощущение было это. Пришел кто-то необыкновенный, никто из «начинающих» никогда еще не начинал такими стихами. Их была тут целая пачка – и все это было необыкновенно.
В. Перцов
Скоро он пришел к нам в редакцию – высокий статный юноша, с вьющимися белокурыми волосами, с крупными, твердыми чертами лица и с каким-то странным налетом старообразности на все-таки красивом лице. Было в нем что-то отдаленно Байроническое, хотя он нисколько не рисовался. Скорее это было какое-то неясное и невольное сходство. Светлые выпуклые глаза смотрели уверенно и мудро… Синий студенческий воротник подчеркивал эту вневременную мудрость и странно ограничивал ее преждевременные права. Блок держался как «начинающий», – он был застенчив перед Мережковским, иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким авторитетом. 3. Н. Гиппиус была для него гораздо ближе, и юношеская робость падала в ее сотовариществе – он скоро стал носить ей свои стихи и литературно беседовать.
На редакционных собраниях «Нового Пути» Блок появлялся довольно аккуратно, хотя отсутствие сверстников – по крайней мере первое время – замыкало его в некоторую изолированность. Но журнал был для него «своим» – и не мог не быть ему близок.
В. Перцов
Он был с самого начала зарождения журнала «Новый Путь». В этом журнале была впервые напечатана целая серия его стихов о «Прекрасной Даме». Очень помогал он мне и в критической части журнала. Чуть не в каждую книжку давал какую-нибудь рецензию или статейку: о Вячеславе Иванове, о новом издании Вл. Соловьева.
3. Гиппиус. Мой лунный друг
«Новый Путь», как журнал религиозно-светский, был подчинен целым двум цензурам – светской и духовной, в которую направлялись корректуры религиозного или «похожего» на то (по мнению светского цензора) содержания.
Большие буквы стихов Блока подчеркнуто говорили о некоей Прекрасной Даме – о чем-то, о ком-то, – как понять о ком?
Белая Ты, в глубинах несмутима, В жизни – строга и гневна. Тайно тревожна и тайно любима, Дева, Заря, Купина.От таких стихов не только наш старомодный и угрюмо подозрительный «черносотенец» Савинков (светский цензор журнала, очень к нему придиравшийся) мог впасть в раздумье… Стихи с большими буквами могли легко угодить в духовную цензуру, и хотя она в общем была мягче светской, но в данном случае и она могла смутиться: менестрелей Прекрасной Дамы не знают русские требники. И без того, отправляя стихи в цензуру, мы трепетали, вероятно – минутами казалось: неизбежного – запрещения. Большие буквы… ах, эти большие буквы! – именно они-то и выдавали, как казалось, автора с головой. «Не пропустят…» И тут вдруг кому-то в редакции мелькнула гениальная мысль: по цензурным правилам нельзя менять текста после «пропуска» и подписи цензора, но ничего не сказано о чисто корректурных, почти орфографических поправках, как, например, перемена маленьких букв на большие. Итак, почему бы не послать стихи Блока в цензуру в наборе, где не будет ни одной большой буквы, а по возвращении из чистилища, когда разрешительная подпись будет уже на своем месте, почему бы не восстановить все большие буквы на тех местах, где им полагается быть по рукописи? Так и было сделано – и, вероятно, эта уловка спасла дебют Блока: цензор вернул стихи без единой помарки и не заикнулся о духовной цензуре, – хотя при встрече выразил мне недоумение: «странные стихи…» Но ведь странными должны были они показаться далеко не одному благонамеренному старцу Савинкову.
В. Перцов
Стихов пишу не очень много и не очень хорошо, как-то переходно; вероятно, чувствую переход от мистической запутанности к мистической ясности.
Письмо к отцу. Великая Пятница. 1903 г.
Пламенная душа Блока прикоснулась к ясной чистоте девичества, и была написана книга «Стихи о Прекрасной Даме». Книга эта, по свидетельству А. Н. Толстого, не была ни понята, ни принята читателями. Когда самого Блока спрашивали: «Ну, хорошо, объясните мне сами, что значит это: «Уронила матовые кисти в зеркала», – он со слабой улыбкой прекрасных губ отвечал простодушно: «Уверяю Вас, я сам не знаю». И Блок, как утверждает А. Н. Толстой, действительно «сам не знал». Он «ни минуты не думал, что писал книгу о России, он лишь переживал свою влюбленность и вещим, пронзительным взором видел, что она недостижима, невоплотима».
А. Н. Толстой. Падший ангел
Получил длинное письмо от Бугаева[23]. Он (о стихах) пишет: «Никого нет, кроме вас, кто бы так изумительно реально указал на вкравшийся ужас. Знаете, я боюсь, куда приведут такие стихи? Что вскроют? Что повлекут за собой?» И еще много похвал. Я вполне и окончательно чувствую, наконец, что «Новый Путь» (пришла интересная августовск. книжка без моей заметки) – дрянь. Бугаев подтвердил это вполне.
Письмо к матери 30/VIII 1903
Е. Голяховский. Иллюстрациях стихотворению «Незнакомка».
1970 г.
Первое поколение русских модернистов увлекалось между прочим и эстетизмом. Их стихи пестрели красивыми, часто бессодержательными словами, названиями. В них, действительно, по словам Бальмонта, «звуки, краски и цветы, ароматы и мечты, все сошлись в согласный хор, все сплелись в один узор». Реакция появилась во втором поколении (у Белого и Блока), но какая нерешительная.
Н. С. Гумилев. Письма о русской поэзии
Несколько лет назад, под заглавием «Сто рублей за объяснение» в одной газете появилось такое «Письмо в редакцию»:
«Прочитывая стихи большинства современных русских поэтов, я часто не могу уловить в них здравого смысла, и они производят на меня впечатление бреда больного человека или загадочных слов: «Мани, факел, фарес».
«Я обращался за разъяснениями этих стихов-загадок ко многим литераторам и простым смертным людям, но никто не мог мне объяснить их, и я готов был придти к заключению, что эти непонятные стихи, действительно, лишены всякого смысла и являются плодами больного рассудка, как, напр., хлыстовские песнопения. Но то обстоятельство, что такая, невидимому, галиматья печатается в лучших журналах наряду с общепонятными, хорошими произведениями, ставит меня в тупик, и я решил, во что бы то ни стало, найти разгадку непонятному для меня явлению».
«Этим письмом я предлагаю всякому, – в том числе автору, – уплатить 100 рублей за перевод на общепонятный язык стихов Александра Блока: «Ты так светла»… помещенных там-то».
Это не была шутка местного газетного хроникера или «дружеская» выходка литературного «приятеля». Писал это не оригинальничающий интеллигент, а профессор с небезызвестным именем.
А. Измайлов[24]. Пестрые знамена
Какое было впечатление от появления первых стихов Блока? Разумеется, как и следовало ожидать, впечатление едва ли не самого «курьезного» из курьезов курьезнейшего журнала. «Новый Путь» считался вообще какой-то копилкой курьезов в нашей журналистике.
В. Перцов
Критических отзывов о моей первой книге было немного; больше всего, насколько я знаю, о второй. Впрочем, они всегда попадались мне случайно. Мне приходилось читать о себе и заметки и целые статьи, но почти никогда они не останавливали моего внимания. За немногими исключениями (замечания Брюсова, Вяч. Иванова, Д. В. Философова, В. И. Самойло) они меня ничему не научили; были и буренински-праздные и фельетонно-хлесткие и уморительно-декадентские, но везде – ложка правды в бочке критических вымыслов, хулиганской ругани, бесстыдных расхваливаний, а иногда, к сожалению, намеки вовсе не литературного свойства. Важнейшими приговорами, кроме собственных, были для меня приговоры ближайших литературных друзей и некоторых людей, не относящихся к интеллигенции.
А. Блок
Я услышал Блока в литературном кружке приват-доцента Никольского, где читали еще Семенов и Кондратьев, будущие поэты. Ничего не понял, но был сразу и навсегда, как все, очарован внутренней музыкой блоковского чтения, уже тогда имевшей все свои характерные черты. Этот голос, это чтение, может быть, единственное в литературе, потом наполнилось страстью – в эпоху «Снежной Маски», потом мучительностью – в дни «Ночных Часов», потом смертельной усталостью – когда пришло «Возмездие». Но ритм всю жизнь оставался тот же, и та же всегда была напряженность горения. Кто слышал Блока, тому нельзя слышать его стихи в другом чтении. Одна из самых больших мыслей при его смерти: «как же голос неизъяснимый не услышим». Записан ли он фонографом?
Кружок собирался в большой аудитории «Jeu de pomme'a», – так называлось старое здание во дворе университета. Все сидели за длинным столом, освещаемым несколькими зелеными лампами. Тени скрадывали углы, было уютно и ново. Лысый и юркий Никольский, почитатель и исследователь Фета, сам плохой поэт, умел придать этим вечерам торжественную интимность. Но Блока не умели там оценить в полной мере. Пожалуй, больше всех выделяли Леонида Семенова, поэта талантливого, но не овладевшего тайной слова, онемевшего, как Александр Добролюбов, и сгинувшего где-то в деревнях.
С. Городецкий
Когда в 1903 году он выступил на литературное поприще, газетчики глумились над ним, как над спятившим с ума декадентом. Из близких (кроме жены и всепонимающей матери) никто не воспринимал его лирики[24]. Но он не сделал ни одной уступки, он шел своим путем до конца.
К. Чуковский
Стихов почти не пишу, с декадентами очень затрудняюсь говорить.
Письмо к отцу 21-Х-04 [25]
Сам Блок верил, что в эту эпоху, т. е. до 1905 года, ему был ведом особый – светлый мир, исполненный благодатной красоты и благоухания.
Г. Чулков[26]. А. Блок и его время
Милый папа!
Большое спасибо за присланные Вами сто рублей, которые пришлись очень кстати. Поздравляю Вас с близящимся Новым Годом и, как всегда, желаю Вам всего лучшего.
Мне странно, что Вы находите мои стихи непонятными и, даже, обвиняете в рекламе и эротизме. Мне кажется, это нужно «понимать в стихах». В непонятности меня, конечно, обвиняют почти все, но на днях мне было очень отрадно слышать, что вся почти книга понята, до тонкости часто, а иногда и до слез, – совсем простыми «неинтеллигентными» людьми. Не выхваляя ни своих форм и ничего, вообще, от меня исходящего, я могу с уверенностью сказать, что плохо ли, хорошо ли, – написал стихи о вечном и вполне несомненном, что рано или поздно должно быть воспринято всеми (не стихи, а эта вечная сущность). Что же касается «распродажи» в настоящем, то она идет, разумеется, «туго», что, впрочем, я мог ожидать всегда и ни на какие доходы не надеялся… Раскаиваться в том, что книга вышла, я не могу, хотя и славы не ожидаю.
Письмо к отцу [конец декабря 1904 г.]
Характерно, что во всей огромной переписке со мной Брюсова тех годов (1902–1904 гг.) я встречаю только одну строчку о Блоке – и какую?.. «Блока знаю, – пишет он осенью 1902 г. – Он из мира Соловьевых. Он – не поэт». – Правда, что вскоре при личном свидании, по прочтении стихотворений «Я, отрок, зажигаю свечи» и «Когда святого забвения», этот краткий и столь безапелляционный приговор был взят обратно.
В. Перцов
За первые напечатанные вещи я не получил гонорара. Мои рецензии и заметки подвергались иногда легкому исправлению. Первые деньги получил я от редактора «Журнала для всех» Виктора Сергеевича Миролюбова, хотя он был вместе с тем и издателем, а по выражению Лескова, «издатель – всегда издатель», я встречал немного людей с такой открытой душой, как у него.
А. Блок
В 1905 году Блок был уже определившимся певцом Прекрасной Дамы, которая пришла из романтически задумчивых далей от нездешних берегов поэзии Жуковского, Тютчева и Вл. Соловьева.
Но всегда сдержанно гордый и замкнутый, он был поэтом для друзей, а для товарищей по университету лишь «студентом Блоком». Даже в тесном кругу филологов-словесников его мало кто знал как поэта, а многие из «знавших» были враждебны.
Помню, как один из печальников горя народного возмущался Блоком:
– Помилуйте, Блок оскорбляет русскую женщину. Он пишет, что «в сердце каждой девушки – альков».
Хриплый баритон сурового цензора звучал убежденно, речь дышала искренним негодованием.
А. Громов
Первый сборник автора – «Стихи о Прекрасной Даме» – своеобразным слиянием «Небесной эротики» Вл. Соловьева с нежным, обвеянным дыханием природы мистицизмом художника Нестерова сразу определял своеобразие тем, волнующих поэта.
Н. Я. Абрамович[26].
Реценз. на «Нечаянную Радость» Ал. Блока
Глава пятая Женитьба
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — Все в облике одном предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо, И молча жду, – тоскуя и любя. А. БлокСознательно они встретились первый раз в Боблове, когда Саше было 14, а Любе – 13 лет.
Вторая встреча произошла через три года после этого, когда Саша только что покончил с гимназией.
Саша приехал в Боблово верхом на своем высоком, статном белом коне, о котором не один раз упоминается в его стихах и в «Возмездии». Он ходил тогда в штатском, а для верховой езды надевал длинные русские сапоги. Люба носила розовые платья, а великолепные золотистые волосы заплетала в косы. Нежный бело-розовый цвет лица, черные брови, детские голубые глаза и строгий неприступный вид. Такова была Любовь Дмитриевна того времени.
Эта вторая встреча определила их судьбу. Оба сразу произвели друг на друга глубокое впечатление.
М. А. Бекетова
Да, когда я носил в себе великое пламя любви, созданной из тех же простых элементов, но получившей новое содержание, новый смысл от того, что носителями этой любви были Любовь Дмитриевна и я – «люди необыкновенные»; когда я носил в себе эту любовь, о которой и после моей смерти прочтут в моих книгах, – я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы екнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии – и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червоточины – отсюда?), а напротив, – раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот «иной» великий пламень…
Дневник А. Блока 6/Ι/14/ΧΙΙ 1918 г.
Я описываю окрестности Шахматова, потому что в поэзии Блока отчетливо отразились они – и в «Нечаянной Радости», и в «Стихах о Прекрасной Даме»; мне кажется: знаю я место, где молча стояла «Она», «устремившая руки в зенит»: на прицерковном лугу, заливном, около синего прудика, где в июле – кувшинки, которые мы собирали, перегибаясь над прудиком, с риском упасть в студенистую воду; и кажется, что гора, над которой «Она» оживала – вот та:
Ты живешь над высокой горой.Гора та – за рощицей, где бывает закат, куда мчались искры поэзии Блока; дорога, которой шел «нищий», – по битому камню ее узнаю («Битый камень лег по косогорам, скудной глины желтые листы»), то – шоссе меж Москвою и Клином; вокруг косогоры, пласты желтой глины и кучи шоссейного щебня, покрытые белым крестом; здесь, по клинско-московской дороге я мальчиком гуливал; и собирал битый камень: под Клином, верстах в 20-ти у Демьянова, где проживал восемь лет и откуда бывал я в Нагорном; бывали и Блоки в Нагорном, – посередине дороги, меж Клином и Шахматовым.
А. Белый
Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был столь преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.
Дневник А. Блока 17(20)/VIII 1918 г.
Мой милый и дорогой Сережа!
Тебе, одному из немногих и под непременной тайной, я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни… Я женюсь. Имя моей невесты – Любовь Дмитриевна Менделеева. Срок еще не определен – и не менее года.
Пожалуйста, не сообщай этого никому, даже Борису Николаевичу, не говоря уже о родственниках.
Письмо к С. Соловьеву 20/III 1903 г.
1903 г. Весна и лето за границей. Черновые стихи. Объявлены женихом и невестой. Белые ночи – в Палате.
Дм. Ив. Менделеев слоняется по светлым комнатам, о чем-то беспокоясь. В конце апреля я получил от отца 1000 руб., с очень язвительным и наставительным письмом. 24 мая вечером мы исповедались, 25 утром в Троицу – причастились и обручились в университетской церкви у Рождественского.
Счеты, счеты с мамой – как бы выкроить деньги и на заграницу (я сопровождаю ее лечиться в Bad Nauheim), и на свадьбу, и на многое другое – кольца, штатское платье (уродливое от дешевизны).
В конце мая (по-русски) уезжаем в Nauheim. Скряжническое и нищенское житье там, записывается каждый пфенниг. Покупка плохих и дешевых подарков. В середине европейского июля возвращаемся в Россию (через С.-Петербург в Шахматово). Немедленные мысли о том, какие бумаги нужны для свадьбы, оглашение, букет, церковь, причт, певчие, ямщики и т. и. – В Bad Nauheim'e я большей частью томился, меня пробовали лечить, это принесло мне вред. Переписка с невестой – ее обязательно – ежедневный характер, раздувание всяких ощущений – ненужное и не в ту сторону, надрыв, надрыв…
Дневник А. Блока 3/VII 1921 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Дано сие студенту историко-филологического факультета С.-Петербургского Университета Александру Александровичу Блоку в
том, что со стороны Университетского начальства не встречается препятствий к вступлению его, Блока, в первый законный брак с девицею Любовью Дмитриевной Менделеевой, если будут в наличности все условия, необходимые для вступления в брак. (Св. Зак. Гражд., т. X, ч. 1, ст. 1-33).
Исп. об. Ректора Университета
А. Жданов
Архив Спб. Университета
Я приехал с розовым букетом к невесте, чтобы везти ее в церковь. «Я готова», – сказала Любовь Дмитриевна и поднялась с места. Я ждал у дверей. Начался обряд благословения. Старик Менделеев быстро крестил дочь дряхлой дрожащей рукой и только повторял: «Христос с тобой! Христос с тобой!»
Наш поезд двинулся.
Священник церкви села Тараканова был, по выражению Блока, «не иерей, а поп», и у него бывали постоянные неприятности с шахматовскими господами. Это был старичок резкий и порывистый. «Извольте креститься», – покрикивал он на Блока, растерянно бравшего в пальцы золотой венец вместо того, чтобы приложиться к нему губами. Но после венчания Блок сказал мне, что все было превосходно и священник особенно хорош.
С. Соловьев
Мы, нижеподписавшиеся священно-церковно-служители Московской Епархии, Клинского уезда, Погоста Никольского Самостоятельной Покровской, что при реке Лутосне, церкви сим удостоверяем, с приложением церковной печати, в том, что означенный в сем свидетельстве студент Императорского С.-Петербургского Университета Александр Александрович Блок с девицею, дочерью Тайного Советника Любовию Дмитриевной Менделеевой, сего 1903-го года месяца августа 17-го дня, во приписной Михаило-Архангельской, села Высокого, Тараканова то-ж, церкви, Студент Блок с означенною девицей, первым церковным браком повенчан.
Μ. П.
Священник Василий Любимов.
Диакон Петр Буравцов
Псаломщик Петр Беляев
Архив Спб. Университета
После окончания обряда, когда молодые выходили из церкви, крестьяне вздумали их почтить старинным местным обычаем – поднесли им пару белых гусей, украшенных розовыми лентами. Гуси эти долго потом жили в Шахматове, пользуясь особыми правами: ходили в цветник, под липу к чайному столу, на балкон и т. д.
После венца молодые и гости на разукрашенных дубовыми гирляндами тройках проехали в Боблово. Старая няня и крестьяне, знавшие «Любовь Митревну» с детских лет, непременно захотели выполнить русский обычай, и только что молодые взошли на ступеньки крыльца, – как были осыпаны хмелем. Дома стол был уже готов, обед вышел на славу. Дмитрий Иванович, очень расстроенный в церкви, где он во время обряда даже плакал, успокоился…
А. И. Менделеева
При личном знакомстве с Люб. Дм. Блок – Андрей Белый, С. М. Соловьев и Петровский[27] решили, что жена поэта и есть «Земное отображение Прекрасной Дамы», та «Единственная, Одна и т. д.», которая оказалась среди новых мистиков как естественное отображение Софии. На основании этой уверенности С. М. Соловьев полушутя, полусерьезно придумал их тесному дружескому кружку название «секты блоковцев». Он рисовал всевозможные узоры комических пародий с будущих ученых XXII века, Lapan и Pampan, которые будут решать вопрос, существовала ли секта «блоковцев», истолковывать имя супруги поэта Любовь Дмитриевны при помощи терминов ранней мифологии и т. д.[28]
М. А. Бекетова
Очень забавны были шаржи Сергея Соловьева: философы Lapan и Pampan и будущие споры филологов XXII века смешили нас до изнеможения, были в высшей степени остроумны. Но все-таки нельзя не вспомнить, что поведение «блоковцев» не всегда соответствовало тому серьезному смыслу, который они придавали своему культу. В их восторгах была изрядная доля аффектации, а в речах много излишней экспансивности. Они положительно не давали покоя Любови Дмитриевне, делая мистические выводы и обобщения по поводу ее жестов, движений, прически. Стоило ей надеть яркую ленту, иногда просто махнуть рукою, как уже «блоковцы» переглядывались с значительным видом и вслух произносили свои выводы. На это нельзя было сердиться, но это как-то утомляло, атмосфера получалась тяжеловатая. Шутки Сережи, его пародии на собственную особу облегчали дело, но и тут оставался какой-то неприятный осадок. Сам Александр Александрович никогда не шутил такими вещами, не принимал во всем этом никакого участия и, относясь ко всему этому совершенно иначе, тут предпочитал отмалчиваться.
М. А. Бекетова
Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, так давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой вьюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были междуреволюционные годы, утомившие и потрепавшие душу и тело.
Дневник А. Блока 15/VIII 1917 г.
Глава шестая Московские символисты
Мы путь расчищаем Для наших далеких сынов! А. БлокЕсли мы попробуем пережить девяносто седьмой, девяносто восьмой и девятый годы, тот период, который отразился у Блока в цикле «Ante lucem», то мы заметим одно общее явление, обнаруживающееся в этом периоде: разные художники, разные мыслители, разные устремления, при всех их индивидуальных различиях, сходились на одном: они были выражением известного пессимизма, стремления к небытию. Философия Шопенгауэра была разлита в воздухе, и воздухом этой философии были пропитаны и пессимистические песни Чехова, одинаково, как и пессимистические песни Бальмонта, – «В безбрежности» и «Тишина», – где открывалось сознанию, что «времени нет», что «недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет».
А. Белый. Памяти Александра Блока
В те годы в Москве собирался кружок, очень тесно привязанный к гостеприимным М. С. и О. С. Соловьевым; в кружке этом, помню, помимо хозяев и маленького «Сережи», Д. Новского (будущего католика), А. Унковскую, А. Г Коваленскую, А. С. Петровского, братьев Л. Л. и С. Л. Кобылинских, Рачинского; здесь я встречался с Ключевским, с С. Л. Трубецким[29]; здесь я встретился с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, с поэтессой Allegro[30] (с Владимиром Соловьевым встречался я раньше). Всех членов кружка единил звук эпохи, раздавшийся внятно, по-разному оформляемый каждым.
А. Белый
Слова А. А. Блока: «Январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года», – полны реализма; их надо принять текстуально; они – выражение опыта, пережитого Блоком; А. А. был свидетель эпохи, всегда наделенный тончайшим прозором и слухом.
А. Белый
Мы обманули надежды московского общества: я, сын математика и будущий московский профессор, ушел к «декадентам», опубликовавши «Симфонию», а М. С. Соловьев, покрывая своим одобреньем меня, уронил себя; именно в его доме сходились «подпольные» люди; и здесь окрепло течение, ниспровергающее традиции московского ученого округа.
Отсюда, из этого дома, распространилась поэзия А. А. Блока в Москве.
А. Белый
Соловьевы первые оценили стихи Блока. Их поддержка ободряла его в начале его литературного поприща. Когда же его стихи были показаны Андрею Белому, они произвели на него ошеломляющее впечатление. Он тут же понял, что народился большой поэт, непохожий ни на кого из тех, которые славились в то время. О появлении стихов Блока он говорил как о событии. Об этом сообщила Ольга Михайловна матери поэта. Известие обрадовало и мать и сына. Стихи стали распространяться в кружке «Аргонавтов», в котором числился в то время некий Соколов[31], писавший под псевдонимом Кречетова. Соколов основал издательство «Гриф» и в один прекрасный день явился к Блоку (в то время студенту третьего курса) для переговоров об издании его стихов.
М. А. Бекетова
В 1902 году в Москве образовался кружок (небольшой) горячих ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми, старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начинали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати.
А. Белый
Ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских и после каждого номера холодного и рыхлого «Мира искусства». Наконец, последний его номер ясно и цинично обнаружил, как церемонно расшаркиваются наши Дягилевы[32], Бенуа и проч., а как с другой стороны, с Вашей, действительно страшно до содрогания «цветет сердце» Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком.
Письмо к С. Соловьеву 23/ΧΙΙ-02 г.
Помнится: в первых числах января 1903 года я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, «в застегнутом виде»: предполагая, что в будущем мы подробно коснемся деталей сближавших нас тем, поступил я, как поступают в «порядочном» обществе, отправляясь с визитом, надел на себя мировоззрительный официальный сюртук, окаймленный весь ссылками на философов. К своему изумлению, на другой уже день получаю я синий, для Блока такой характерный конверт, с адресом, написанным четкою рукой Блока, и со штемпелем «Петербург». Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое, начиналось с расшаркиванья: не будучи лично знаком, он имеет желание ко мне обратиться; без уговора друг с другом, обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись.
А. Белый
В январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают в переднюю; – вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с Любовью Дмитриевной.
Поразило в А. А. Блоке (то первое впечатление) – стиль: корректности, светскости. Все в нем было хорошего тона: прекрасно сидящий сюртук, с крепко стянутой талией, с воротником, подпирающим подбородок, – сюртук не того неприятного зеленоватого тона, который всегда отмечал белоподкладочников, как тогда называли студенческих франтов; в руках А. А. были белые верхние рукавицы, которые он неловко затиснул в руке, быстро сунув куда-то; вид его был визитный; супруга поэта, одетая с чуть подчеркнутой чопорностью, стояла за ним; Александр Александрович с Любовь Дмитриевной составляли прекрасную пару: веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов. Что меня поразило в А. А. – цвет лица: равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый: и поразила спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть – «доброго молодца» сказок. Упругая сдержанность очень немногих движений вполне расходилась с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне (он был выше меня), с растерявшимися очень большими, прекрасными, голубыми глазами, старательно устремленными на меня и от усилия разглядеть чуть присевшими в складки морщинок; лицо показалось знакомым; впоследствии, помню, не раз говорил я А. А., что в нем есть что-то от Гауптмана (сходство с Гауптманом не поражало поздней).
А. Белый
Венчальная фотография А. А. Блока и А. Д. Менделеевой
Бугаев (совсем не такой, как казался, – поцеловались) и Петровский – очень милый.
Письмо к матери 10/I 1904 г.
Успех Блока и Любови Дмитриевны в Москве был большой. Молчаливость, скромность, простота и изящество Любови Дмитриевны всех очаровали, Бальмонт сразу написал ей восторженное стихотворение, которое начиналось:
Я сидел с тобою рядом, Ты была вся в белом.Ее тициановская древнерусская красота еще выигрывала от умения одеваться: всего более шло к ней белое, но хороша она была также и в черном, и в ярко-красном. Белый дарил ей розы, я – лилии. Поражало в ней отсутствие всякого style moderne. Она была очень милой и внимательной хозяйкой. Блок бегал в угловую лавочку за сардинками, Любовь Дмитриевна разливала великолепный борщ. Днем я водил Блоков по кремлевским соборам, мы ездили в Новодевичий монастырь.
С. Соловьев
Все, что в прошлом таилось в «подполье», теперь выявлялось в кружках; был кружок молодых литераторов «Грифа», кружок «Скорпиона»[33]; возник теософский кружок и кружок «Аргонавтов» (мои воскресенья); наш Арго готовился плыть; и – забил золотыми крылами сердец; новый кружок был кружком «символистов» – «par excellence» символистов, поэты из «Скорпиона» и «Грифа» его посещали; бывали и теософы; ядро же «Аргонавтов», не обретя себе органа, проливалося в органы «Скорпиона» и «Грифа», в «Свободную совесть», в «Теософический Вестник», впоследствии в «Перевал», в «Золотое Руно» (так название «Золотое Руно» Соколов подсказал Рябушинскому[34], памятуя об «Арго»); поздней «аргонавты» участвовали в заседаниях «Свободной Эстетики», в кружке Крахта и в «Доме песни» д'Альгеймов; объединились вокруг «Мусагета»; оттуда рассеялись в 1910 году; семилетие «аргонавтизм» процветал, его нотой окрашен в Москве «символизм»; может быть, «Аргонавты» и были единственными московскими символистами среди декадентов. Душою кружка – толкачом-агитатором, пропагандистом был Эллис; я был идеологом.
А. Белый
Искусство ютилось по салонам. В Москве были свои Медичи, свои меценаты. Впоследствии они стали покупать декадентские картины, а тогда еще они побаивались «нового» искусства. Любили задушевность во вкусе Левитана. Одним из тогдашних литературных салонов был салон В. А. Морозовой[35]. В ее доме на Воздвиженке читали доклады и устраивались беседы.
Среди московских меценатов наиболее просвещенным и тонким был С. А. Поляков. Он был издателем «Скорпиона»; он впоследствии устроил журнал «Весы». Воистину, не будь его, литературный путь Брюсова был бы путем кремнистым. За кулисами «Скорпиона» шла серьезная и деятельная работа художников слова – К. Д. Бальмонта, Ю. К. Балтрушайтиса[36], В. Я. Брюсова и некоторых других, а эстрадно, для публики, эти поэты все еще были забавными чудаками. Такова, очевидно, судьба всякой школы. Нужен срок, чтобы poetes maudits превращались в академиков. Для Брюсова и его друзей этот срок наступил примерно в 1907 г. А за семь лет до того сотрудники «Скорпиона» были «притчею во языцех». Больше всех тому давал повод К. Д. Бальмонт.
Г. Чулков
Мчусь на извозчике к Бугаеву, чтобы ехать в «Скорпион». Не застаю, приезжаю один. Редакция: портрет Ницше, Брюсов, Поляков, Балтрушайтис. Разговариваю со всеми, особенно с Брюсовым. Рец. на Метерлинка не принята, потому что не хотят бранить Метерлинка. Уходим с Бугаевым, идем пешком. Захожу за Любой. После чаю едем на собрание «Грифов»; заключаемся в объятия с Соколовым (его не было дома раньше); собрание: Соколовы, Кобылинский, Батюшков, Бугаевы (и мать), Койранский, Курсинский; отчего нет Бальмонта? «Он – в своей полосе». Читаю стихи – иные в восторге. Ужин. Звонок. Входит пьяный Бальмонт (последующее не распространяй особенно). Грустный, ребячливый, красноглазый. Разговаривает с Любой, со мной. Кобылинский, разругавшись с ним, уходит (очень неприятная сцена). Бальмонт в восторге, говорит, что «не любит больше своих стихов»… «Вы выросли в деревне» и мн. др. Читает свои стихи – полупьяно, но хорошо. Соколов показывает корректуры альманаха (выйдет 1 февраля). Моих стихотворений – семнадцать (кроме посланных – «Фабрика», «Лучики»). Уходим в третьем часу. Бальмонт умоляет нас обоих остаться. Тяжеловато и странновато.
Письмо к матери 13/1-1904 г.
Помнится, – характернейший вечер в издательстве «Гриф», где особенно переживалась нестроица; были там: иаргонавты, и грифы, и барышни «л у н н о – с т р у й н ы е», и А. А. с Л. Д.; произошел балаган; от неискренности одних, от маниловщины других; и – привирания третьих; там кто-то из теософов воскликнул, что шествует, шествует Посвященный, а Эртель, блеснувши осатанелыми от экстаза глазами, скартавил бессмыслицу, что Москва, вся объятая теургией (вот что это «что» – позабыл: преображается, что ли?) Вдруг сытый присяжный поверенный забасил: «Господа – стол трясется». Наверное, преображение мира себе он представил, как… столоверчательный акт, – увидел, что Блок – посерел от страдания, а Л. Д. очень гневно блеснула глазами; я – что говорить: все во мне замутилось за А. А за себя (за Нину Петровскую, понимавшую «Балаганчик»), вдруг вижу: А. А. очень нежно подходит ко мне; начинает подбадривать: взглядом без слов; сочувствие превозмогло в нем брезгливость к душевному кавардаку; он весь просиял; и пахнула тишайшая успокоительная атмосфера его на меня.
Вскоре вместе мы вышли; я шел, провожая А. А. и Л. Д.: шли мы в тихий снежок, порошивший полночную Знаменку; этот мягкий снежок так пушисто ложился на меховую, уютную шубку Л. Д.; помню себя я с ободранной кожей; помню: А. А., тихо взяв меня под руку, успокоительными словами сумел отходить; с того времени, в дни, когда что-либо огорчало меня, я являлся к А. А.; я усаживался в удобное кресло; выкладывал Блокам – все, все. Л. Д., пурпуровая капотом, склонив свою голову на руки, молчала: лишь блестками глаз отвечала она; А. А., – тихий-тихий, уютный и всепонимающий брат, открывал на меня не глаза – голубые свои фонари: и казалось мне, видел насквозь; и – он видел; подготовлялось тяжелое испытание: сорваться в мистерии; и потерять белизну устремлений; А. А. это знал; невыразимым сочувствием мне отвечал.
В эти дни перешли мы на «ты».
А. Белый
До 1905 года, когда в «Весах» появился беллетристический отдел, в русской символической поэзии царил хаос. «Мир Искусства» выдвигал, наряду с Бальмонтом и Брюсовым, такую сомнительную поэтическую величину, как Минский; «Новый Путь» печатал стихи Рославлева, Фофанова и др. Даже «Скорпион», даже осторожный «Скорпион», и тот не избежал общей участи: издал Бунина и в «Северных Цветах» поместил поэму того же Фофанова.
Н. С. Гумилев
Как истинный фанатик, редакция «Весов» утверждает, что и нет иного пути, как ее путь. Куда по этому пути доедет разношерстная тройка, состоящая из «Мира Искусства», «Нового Пути» и «Весов», мы еще не знаем, но нас, читателей, она уже довезла до решетки дома для умалишенных, за которою слышатся плач и скрежет зубовный, визги и крики.
Сами же господа декаденты полагают, вероятно, что они домчатся до вершины какой ни на есть Лысой Горы, где совершат такую черную мессу, что небу станет жарко.
Стародум[37]. Журнальное обозрение
На первой ступени мистицизма стоит романтизм, на второй – декадентство, в этом, по-нашему, вся суть дела, все различие между ними.
Декадентство, шагнув в сторону мистицизма, нашло… улицу… Это на первый взгляд странно, но это так, ибо есть и мистика улицы, идеализация разврата и пьянства, порока и уличной грязи.
На протяжении столетия, отделяющего романтизм от декадентства, совершилась поучительная «эволюция»: тогда тянула к себе людей, склонных к уединению, мистической мечтательности, пустыня, деревня, с тесным дружеским или еще более интимным семейным кругом в ней, теперь – притянул к себе безличный или, точнее, многоличный город с его ярко освещенными окнами, кафешантанами и тысячами развлечений.
А. Басаргин [38]. Романтизм и декадентство
Поэзия русских символистов была экстенсивной, хищнической: они, т. е. Бальмонт, Брюсов, Андрей Белый, открывали новые области для себя, опустошали их и подобно конквистадорам стремились дальше. Поэзия Блока от начала до конца, от стихов о «Прекрасной Даме» до «Двенадцати» включительно была интенсивной, культурно-созидательной.
О. Мандельштам. А. Блок
В Московском Литературном Кружке, где устраивались собрания так называемой «Свободной Эстетики», участники бесед не касались «проклятых вопросов». Тут была «тишь да гладь», а если происходили недоразумения, то на почве безвредного соперничества того же Брюсова с Бальмонтом, причем споры всегда оканчивались более или менее благополучно.
Г. Чулков
Этой осенью часто встречалися – почти каждый день где-нибудь: по воскресеньям мы виделись у меня, а по вторникам собирались иные из нас у Бальмонта, по средам собирались у Брюсова, по четвергам в «Скорпионе»; был вечер собрания у «Грифов». Совсем неожиданно «Скорпион» предъявил ультиматум: сотрудникам «Скорпиона»; должны они были уйти из издательства «Гриф»; мы с Бальмонтом отвергли такой ультиматум; поэтому Брюсов косился на нас; говорили, что Гиппиус интриговала; А. А. меня спрашивал письмами, как быть ему; но, узнав, что я с «Грифом», он тотчас же присоединился к ослушникам, сопровождая письмо свое шуточным стихотворением, изображающим разоблачение гиппиусовой интриги:
…Опрокинут Зинаидин грозный щит…И далее – «разбит»: «разбит» – Брюсов.
А. Белый
В ноябре 1903 года Белый на улице окликнул меня и между прочим сказал: «Вы слышали, Брюсов рассылает какие-то циркуляры о том, что кто участвует в «Грифе», не может участвовать в «Сев. Цветах»». Он сказал это немного возмущенным тоном и добавил: «после этого я решил ничего не печатать в «Скорпионе»». Он, по-видимому, хотел склонить к этому и меня, но так как я, кажется, подал первый эту мысль Брюсову, то ответил, что участвовать в «Грифе» вообще не стоит – «Соколов глуп» – сказал я. Он промолчал…
Дневник Пантюхова 2/Х 1906 г. Михаил Иванович Пантюхов
После в «Скорпионе»… М-ий проповедовал нужность «Скорпиона» и убеждал не участвовать в «Грифе». Белый решил взять оттуда все свое. Я решил ничего не давать. В субботу провожать М-их приехал я и С. А. Поляков. Простились очень «сердечно», клянясь во взаимной любви…
Едва уехали, все расстроилось. Нам разрешили «Весы», и это развело нас окончательно с «Новым Путем», – а Белый опять сошелся с «Грифом». Как случилось это последнее, не знаю. Одно время Белый взял все свои рукописи из «Грифа» и отдал нам. (Я тогда же писал Соколову, что участвовать в «Грифе» не могу.) Но после, внезапно, Белый заявил, что участвовать в «Грифе» будет, и потребовал рукописи обратно. Я так рассердился, что наговорил ему довольно-таки неприятных вещей. Он обиделся, написал, что вовсе не будет участвовать в «Скорпионе» и «Весах». После были у него, и мы умилительно примирились. Позднее Белый стал все-таки «своим человеком» у Соколова.
Валерий Брюсов. Дневник[39]
Отношение нас, молодежи, к поэзии Брюсова было двусмысленно: ведь вожаком признавали мы Брюсова; мы почитали слиянье поэта с историком, с техником; был он единственным «мэтром», сознавшим значение поднимаемых в то время проблем; В. Иванов, не живший в России, был только что – здесь, среди нас: он блеснул, озадачил, очаровал, многим он не понравился; и – он уехал; его мы не знали; Бальмонт не играл никакой уже роли; 3. Гиппиус уходила в «проблемы», отмахивалась от поэзии (помню: А. А. понимал и ценил ее музу); в религиозную философию он мало верил; Ф. К. Сологуб как поэт не приковывал взоров (А. А. его очень любил; я любил его больше, прозаиком). Брюсов для нас был единственным «мэтром», бойцом за все новое, организатором пропаганды; так: в чине вождя и борца подчинялись ему; очень многое знали о Брюсове мы; но таили и чтили вождя в нем.
А. Белый
Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!
Каждый вечер я читаю «Urbi et orbi». Так как в эту минуту одно из таких навечерий, я, несмотря на всю мою сдержанность, не могу вовсе умолкнуть. Что же вы еще сделаете после этого? Ничего ли? У меня в голове груды стихов, но этих я никогда не предполагал возможными. Все, что я могу сделать (а делать что-нибудь необходимо), – это отказать себе в чести печататься в Вашем «альманахе», хотя бы вы и позволили мне это. Быть рядом с вами я не надеюсь никогда. То, что Вам известно, не знаю, доступно ли кому-нибудь еще и скоро ли будет доступно. Несмотря на всю излишность этого письма, я умолкаю только теперь.
Письмо к Брюсову от 20/XI 1903 г.
Я помню А. А. на одном из собраний книгоиздательства «Скорпион»; помню Брюсова очень сухого, с монгольскими скулами и с тычком заостренной бородки, с движениями рук, разлетавшихся, снова слагавшихся на груди, очень плоской (совсем как дощечка); и – помню я Блока, стоявшего рядом, моргающего голубыми глазами, внимающего объяснению Брюсова, почему вот такая-то строчка стихов никуда не годится и почему вот такая-то строчка годится.
А. Белый
Милый друг!
Почему ты придаешь такое значение Брюсову? – Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь, «что прошло, то прошло». Год минул как раз с тех пор, как «Urbi et orbi» начало нас всех раздирать пополам. Но половинки понемногу склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого. «Маг» ужасен не вечно, а лишь тогда, когда внезапно в «разрыве туч» появится его очертание. В следующий раз в очертании уже заметишь частности («острую бородку»), а потом и пуговицы сюртука, а потом, наконец, начнешь говорить: А что этот черноватый господин все еще там стоит?
Письмо к С. Соловьеву 21 /X 1904
А. А. первый Брюсова понял: он лишь – математик, он – счетчик, номенклатурист; и никакого серьезного мага в нем нет.
А. Белый
Пишу иногда стихи, большая часть их есть у Бори. О Брюсове ничего не понимаю, кроме того, что он – гениальный поэт Александрийского периода русской литературы.
Письмо к С. Соловьеву. Январь 1905 г.
Мы разошлись с Блоком прежде всего на взгляде на поэзию. Блок отстаивал стихийную свободу лирики, отрицал возможность для поэта нравственной борьбы, пел проклятие и гибель. Я всегда стоял на той точке зрения, что высшие достижения поэзии необходимо моральны, что красота, по слову Влад. Соловьева, есть только «ощутительная форма добра и истины». Разошлись мы и в вопросах поэтической школы: я стремился к классицизму. Блок был типичным романтиком, с разорванными образами, с мутными красками – «сплавами», с отсутствием логики. Мы ожесточенно нападали друг на друга от 1907 г. до 1910 г. Затем полемика затихла.
С. Соловьев
Ибо что же приятней на свете, Чем утрата лучших друзей?А. Блок
Ал. Ал. был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям «непереносным, обидным, намеренно унижающим» (выражения А. Белого) и был совершенно неподготовлен к тому в высшей степени неприятному письму, которое получил от Бор. Никол, в октябрьские дни 1906 г. А. Белый писал в следующем тоне: «Что ты делаешь? готовишь избирательные списки? говоришь речи?.. В то время, как мы с Сережей обливаемся кровью от страданий, ты кейфуешь за чашкой чаю…» и т. д. Само собой разумеется, что эта «риторика печали» и упреки Ал. Ал-чу, который воспринимал тогдашние события общественной жизни очень ярко и глубоко, – рассердили и раздосадовали и Ал. Андр-ну, и Люб. Дм-вну. Один Ал. Ал. беззлобно огорчился и написал А. Белому смиренное письмо с недоуменными вопросами. Авторитет А. Белого был сильно поколеблен, вскоре произошел и разрыв дипломатических сношений: Люб. Дм. властно потребовала, чтобы А. Белый отказался от некоторых слов, написанных в письме к ее мужу, и заявила, чтобы он помнил, «что она всегда с Сашей». Он резко порвал переписку с ней, не признав себя неправым по отношению к Ал. Ал-чу. Довольно скоро, однако, Борис Никол, опомнился и написал Ал. Ал. покаянное письмо, а Люб. Дм-не прислал подаренные ею ему когда-то белые лилии, повитые черным крепом, которые она безжалостно сожгла в печке. Таков был тон тогдашних отношений А. Белого с Блоками. После этого письма на А. Белого перестали сердиться. В начале декабря он приехал в Петербург, и произошло полное примирение даже без объяснений. Между прочим выяснилось при разговоре с ним в доме Ал. Андр., что он относится к Серг. Мих. Соловьеву с исключительным пристрастием. Он прямо-таки заявил, что в «Москве нет людей, кроме Сережи».
М. А. Бекетова
Глава седьмая Петербургские литературные кружки
За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты – и каждый встречал Другого надменной улыбкой. Напрасно и день светозарный вставал Над этим печальным болотом: Его обитатель свой день посвящал Вину и усердным работам. А. БлокПриехав из Москвы, мы с Любой совершенно пришли в отчаяние от Петербурга. Въезд наш был при резком безнадежном ветре – без снега, так что порошинки неслись по мостовой взад и вперед без толку, и весь город как будто забыл число и направление своих улиц. Через несколько дней впечатление было еще пострашнее. Мы встретились в конке с чортом, и, что всего ужаснее, – не лицом к лицу. В погоду, подобную вышеописанной, сидела в конке против нас «симфоническая» (А. Белый) фигура женщины (или – нет), по-видимому, на подложенном круге (какой кладут больным от геморроя и т. п.) в бесформенной шубе, с лицом, закрытым белой вуалью, под которой вместо глаз и носа виднелись черные впадины. Она говорила вульгарно сипловатым дамским баском с несчастно и преждевременно состарившейся (!) женщиной-подводильщицей. По-видимому, последняя от рождения раба. Всего ужаснее, что мы с Любой до сих пор не знаем, клевета ли это на больную старушку (впрочем, исполинского роста), или правдивый рассказ о «нем». Но «он» был близко, ибо в тот же день мы не узнали одной из самых примечательных для нас улиц.
Через несколько дней стали приходить «петербургские мистики». Один целый вечер хихикал неточным голосом. Другой не знал, что ему предпринять, в виду важности своего положения, и говорил строгим и уклончиво дипломатическим тоном. Третьего (и самого замечательного – Иванова Евгения)[40].
А. Блок
Блок бежал «болтовни» и кружковской общественности, которая должна была скоро лопнуть в годах русской жизни; но он, поэт страшной годины России, кипел, волновался в те дни; это видел я часто; а его обвиняли в апатии; и да: он из этого кабинетика мог сбежать бы… на баррикаду, а не в редакцию «Вопросов Жизни», куда собирались писатели, где трещал мимиограф Чулкова; Чулков здесь часами вытрескивал совершенно бесцельные резолюции и протесты ненужных общественных групп, уносимых водоворотами жизни, но полагающих, что они-то и сотворяют ее; в эти дни вся Россия кипела; у Мережковских же обсуждалось: какие условия соединения с группами писателей идеалистов приемлемы. Идеалисты теснили новопутейцев; новопутейцы отстаивали себя; и невольно казалось, что от союза Булгакова, Н. А. Бердяева, С. А. Аскольдова[41] с Д. В. Философовым и Мережковским переродится стихия тогда разливавшейся революции.
А. А. чувствовал карикатурность таких устремлений; он волил воистину большего, пренебрежительно относясь к «пустяковой» журнальной шумихе; и оттого-то его называли аполитичным, антиобщественным мистиком.
А. Белый
Мережковские – недовольны:
– Блок вот – пропал, не приходит, сидит бирюком с своим «где-то», «что-то»… Разводит свою декаденщину.
В очень тактичном по отношению к Мережковским отходе (другой – мог бы срезать Д. С.) Александра Александровича сказывалось упорство: не уступать Мережковским; а им – уступали (хоть временно) все: я, Бердяев, А. В. Карташев, Эри, Свенцицкий и Волжский[42] и – прочие.
Но натыкалися в Блоке – на камень.
А. Белый
В последнее время Мережковский так тих и грустен (впрочем, это и прежде бывало), что я не вижу, «откуда» они «куда»? Весьма сомнительно, есть ли здесь и доля оргиазма. По этому поводу у меня есть одно соображение: не слишком ли ясна была бы его разгадка – и, может быть, не чересчур ли глубока? Его значение исчерпается скорее, – именно в тот момент, когда многие из нас ясно увидят, что пора «заглядеться» на другое. Иное дело – явное нецеломудрие в его стиле (пожалуй, даже, в стиле души). Ибо нельзя так вопить о том, на чем непременно понижается голос. Есть ли в нем любовь, я опять затрудняюсь решать: он часто «мил». Вообще он так сложен пока, что в будущем окажется прост… Вот Розанов, м. б., проще, но в будущем осложнится. Признаюсь тебе, что редкий талант отвратительнее его.
Письмо к С. Соловьеву. 1903. Спб.
Центром внимания в доме Мережковских нередко был В. В. Розанов, впоследствии ими изгнанный из религиозно-философского общества за политические убеждения и юдофобство, а в то время Мережковский, провозгласивши Розанова гением, увивался вокруг него, восхищался каждым его парадоксом. Я помню в тот вечер, когда я в первый раз увидел у Мережковских Розанова, этот лукавый мистик поразил меня своею откровенностью. В ответ на вопрос Мережковского – «кто же, по-вашему, Христос?» – Розанов, тряся коленками и пуская слюну, просюсюкал: «Что ж! Сами догадайтесь! От него, ведь, пошли все скорби и печали. Значит, дух тьмы…»
Г. Чулков
…Что-то от логова было в квартире, в которой вынашивались в эти годы острейшие религиозно-философские мысли; оранжерея, парник, или «логово мысли», – такою казалась мне квартира в угрюмом и серо-чернеющем доме Мурузи, встающем доселе пятью этажами своими с угла Пантелеймоновской и Литейного;…и Д. С. Мережковский, то показывающийся меж собравшихся, то исчезающий в свой кабинет, – не нарушал впечатления «атмосферы»; ее он подчеркивал: маленький, щупленький, как былиночка (сквознячок пробежит – унесет его), поражал он особою матовостью белого, зеленоватого иконописного лика, провалами щек, отененных огромнейшим носом и скулами, от которых сейчас же стремительно вырывалась растительность; строгие, выпуклые, водянистые очи, прилизанные волосики лобика рисовали в нем постника, а темно-красные, чувственно вспухшие губы, посасывающие дорогую сигару, коричневый пиджачок, темно-синий, прекрасно повязанный галстук и ручки белейшие, протонченные (как у девочки), создавали опять-таки впечатление оранжереи, теплицы; оранжерейный, утонченный, маленький попик, воздвигший молеленку средь лорнеток, духов туберозы, гаванских сигар, – вот облик Д. С. того времени.
А. Белый
Однажды, когда мы сидели с 3. Н. и предавались перед камином высокой «проблеме», в гостиную из передней дробно – быстро, скорее просеменил, чем вошел, невысокого роста блондин, скорее плотный, с едва начинавшейся проседью желтой бородки торчком; он был в черном, как кажется, сюртуке, обрамлявшем меня поразивший белейший жилет; на лоснящемся полноватом краснеющем (бледно-морковного цвета) дряблевшем лице глянцевели большие очки с золотою оправой; а голову все-то клонил он набок; скороговоркою приговаривал что-то, сюсюкая, он; и 3. Н. нас представила; это был – Розанов.
…В. В., круто ко мне повернувшись, дотрагиваясь рукою до пуговиц моего пиджака, вдруг спросил об отце; и, узнав, что отец мой не жив уже, – выпрямился; и с сериозным лицом молчаливо и богомольно перекрестился; потом, посмотрев на меня, скороговоркою забормотал:
– Не забывайте могилки… Не забывайте могилки… Молитесь могилкам…
И все возвращался к «могилке»; так с этой «могилкой» ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши крепко свою круглую шапочку и попадая ногою в объемистый ботик, он – вновь повернулся ко мне; и принялся побрызгивать:
– Помните же: поклонитесь могилке…
Когда он ушел, то 3. Н. подняла на меня веселеющий, торжествующий взгляд, точно только что показала редчайшего зверя она.
– Ну, что скажете?..
– Да… – я сумел лишь ответить.
И после молчания вдруг я воскликнул:
– А знаете, «это» ведь страшно…
– Ужасно! – значительно посмотрела она на меня.
– Тут какое-то от «приведите мне Вия»…
– Тут – плоть: вот уж «п л о т ь»…
– И не «плоть» даже, – нет, – фантазировал я, – «плоть» без «ть»; в звуке «ть» – окрыление; не «плоть», только – «пло», или даже два «п» (для плотяности): п – пло!
В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова: «Просто п пло!» В звуке «ппло» переживалася бездна физиологически кипящей материи: и в последующих беседах с В. В. (в той особенно, которая происходила в Москве на Тверской и в кофейне Филиппова) мне казалось, что Розанов не высказывает свои мысли, а кипятится, побрызгивает физиологическими отправлениями процесса мыслительности; побрызгает и – ослабнет: до – следующего отправления; оттого-то так действуют отправления эти: мысль Розанова; все совершают абстрактно ходы, а он – лишь побрызгивает: отправлениями.
А. Белый
В «Нов. Пути» мы прочитали поразительную статью Розанова. Гениальную. Такой еще не читал. О браке.
Письмо к матери 1 /IX 1903 г.
Когда-то, лет 12 назад, В. В. Розанов напечатал в «Русском Слове», что Блок будто бы женился на богатой ради большого приданого; Блок всегда вспоминал об этом с ясной улыбкой и, в своей статье об Аполлоне Григорьеве, прославил В. В. Розанова, как большого писателя, наперекор тогдашним газетным нападкам.
Деликатность у него была необычайная.
К. Чуковский
Помню, – однажды изумленный Розанов рассказывал мне:
– Представьте, написал я как-то о Блоке статью – ругательную, насмешливую: на следующий день встречаюсь с ним у общих знакомых: подходит ко мне первый, протягивает руку, приветлив, как ни в чем не бывало. А статью – он мне говорил – читал. Удивительно.
Э. Голлербах[43]. К воспоминаниям о поэте-рыцаре
Такая незлобивость поразила В. В.; он рассказывал после:
– Ведь вот, обругал я его, а он… сам подошел, как ни в чем не бывало.
А. Белый
А. А. чувствовал силу прозора В. В.; порою он с ужасом вглядывался в мир В. В., столь враждебный ему; В. В. Розанов мучил его; он однажды в письме, обращенном ко мне, фантазировал, будто В. В., «потрясая своей рыжеватой бородкою», подбирается ближе и ближе и – настигает уже. «Настигающий» Розанов стоял пред А. А. в эпоху, когда мучил Кант; то двойное подстерегание сознания А. А. и Розановым, и Кантом происходит в эпоху, когда «Она», «Цельная» начинает уже отходить, подменяясь образами «Астарты», действующими чрез абстракции (Кант) и чрез чувственность (Розанов); цельность – надломлена; появляются две половинки; пол цельности – логика Канта; и пол цельности – «пол» (тема Розанова). Переживания такие смущали А. А. уже в 1903 году. Но и в 1905 году он становился настороженным, когда возникал пред ним Розанов.
А. Белый
Встречи с разнообразными людьми учащаются. Кружок Мережковских стал менее самодовлеющим. Много приехало в последнее время и из России (в противоположность Петербургу). И все-таки, ближайшими людьми остаются Сергей Соловьев, Борис Ник. Бугаев (Андрей Белый) и Евг. Павл. Иванов (из «Нового Пути»). Роль «фона» близости играют до сих пор в большой степени Мережковские, злостно ненавидимые почти всеми за то или за другое. Правда, в этом они часто виноваты сами (особенно 3. Н. Гиппиус), но замены их я не предвижу, и долго не дождаться других, которые так же прошумят, как они (в своей сфере – теорий великолепных, часто почти нелепых, всегда талантливых, всегда мозолящих глаза светским и духовным лицам). О декадентстве в последнее время (и давно уже) как-то нет помину, и его, в сущности, по-моему, нет. Оно ютится где-то в Москве, в среде совершенно бездарных «грифенят», молодых гимназистов, отслуживших черные мессы (будто бы в Берлине), говорящих на собраниях много и скучно о черных лилиях. Сами маги (Брюсов и др.), давно, в сущности, оставившие декадентство, взирают на этих с тайной грустью. Всего этого так много и все это – внешне, и, большей частью, скучно. Выходя в «поле за Петербургом» на шоссе, я чувствую себя совершенно по-настоящему. «Здравость» ничем не нарушается, кроме религиозных впечатлений, впрочем, в очень широком смысле.
Письмо к отцу 28/III 1905 г.
Я чувствую неразрывную связь с Мережковскими только как с прошлым ив смысле отучения от пошлости и пр. Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу однако неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалиптизм Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к откровению) не освещены исключительно багрянцем, или исключительно рациональной белизной, как у М-ских. Что он смятеннее их (истинный безумец), что у него есть детское в выражениях лица, в неуловимом. Что он может быть положительно добр. Наконец, что он без сомнения носит в себе возможности многого, которых М-ский совсем не носит, ибо большего уже не скажет. Притом, мне кажется теперь, что Брюсов всех крупнее – и Мережковского. Ах, да! Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву – положительное, а Μοκογο – вполне отрицательное. Как-то Мережковский сказал: «Начитались Соловьева, что же – умный человек (!?)». Вообще я могу припомнить много словечек Дм. Сергеевича, не говорящих в его пользу. Но он важен, и считаться с ним надо.
Письмо к С. Соловьеву. 8/III– 04 г.
В салоне Мережковских шли горячие дебаты на религиозно-философские темы; произносились монологи и диалоги, иногда речи походили на проповедь… У Сологуба таких «платоновских» бесед не устраивалось. И даже Мережковские, посещая поэта, избегали у него поднимать споры на ответственные темы. У Мережковских говорили громко, у Сологуба – вполголоса; у Мережковских спорили о церкви взволнованно и даже запальчиво, у Сологуба – рассуждали о стихах с бесстрастием мастеров и знатоков поэтического ремесла. В кабинете хозяина, где стояла темная, несколько холодная кожаная мебель, сидели чинно поэты, читали покорно по желанию хозяина свои стихи и почтительно выслушивали суждения мэтра, точные и строгие, почти всегда, впрочем, благожелательные, но иногда острые и беспощадные, если стихотворец рискнул выступить со стихами легкомысленными и несовершенными. Это был ареопаг петербургских поэтов.
Г. Чулков. Ф. Сологуб
Совершенно иными встречали гостей очень строгие «воскресенья» у Федора Кузмича Сологуба. Он жил на Васильевском Острове, в здании школы, которой инспектором он состоял; проходя к Сологубу, легко можно было попасть вместо комнат квартиры его в освещенную классную комнату; вся квартира Ф. К. поражала своим неуютом, какою-то пустотой, переходами, потолками, углами, лампадками; помнилось тусклое, зеленоватое освещение– от цвета ли абажуров, от цвета ли стен; в нем вставала фигура Ф. К., зеленоватая, строгая; и сестры его, как две капли воды похожей на Федора Кузмича; тоже бледная, строгая, тихая, с гладко зачесанными волосами; совсем как Ф. К. – но в юбке, без бороды; на «сологубовских» воскресеньях господствовал строгий дориз, сам хозяин подчеркнуто занимал приходящих своими особенными сологубовскими разговорами, напоминающими порою ответственный, строгий экзамен; здесь много читалось стихов; и приходили поэты, по преимуществу здесь встречался с Семеновым, с В. В. Гиппиус, ветераном и зачинателем декадентства; ходили сюда мы с почтением, не без боязни; и получали порой нагоняй от Ф. К.; а порой и награду; Ф. К. был приветлив к поэтам, но скуп; философия, религиозные пререкания не допускалися тоном холодной и строгой квартиры.
А. Белый
В это время – я говорю про 1904 год… посещал нередко А. А. Блок дом Федора Кузмича Тетерникова (Федора Сологуба).
Г. Чулков
Сологуб тогда еще не был женат, и в доме хозяйничала его сестра, Ольга Кузминична.
Брат и сестра были чрезвычайно гостеприимны. Ужины они устраивали вкусные, угощая домашними соленьями и всякими яствами, и казалось, что ты сидишь не в Петербурге, а где-нибудь в далекой провинции, где люди хлебосольные и мастера готовить всякие настойки и закуски.
Г. Чулков
После угощения поэты переходили в кабинет хозяина, где по требованию мэтра покорно читали свои стихи, выслушивая почтительно его замечания, чаще всего формальные, а иногда и по существу, сдобренные иронией. Все было с внешней стороны по-провинциальному чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бытом и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченной поэзии.
Г. Чулков
Сологуб был важен, беседу пел внятно и мерно, чуть-чуть улыбаясь. О житейском он почти никогда не говорил. Я никогда от него не слышал ни одного слова об его училище, об учениках, об его службе. Кажется, он был превосходный педагог. Учителем он был несомненно прекрасным. Он любил точность и ясность и умел излагать свои мысли с убедительностью математической. Чем фантастичнее и загадочнее была его внутренняя жизнь, тем логичнее и строже он мыслил. В этом отношении он был похож на Эдгара По. Даже таинственные и загадочные темы он облекал в стройную систему силлогизмов. Он в совершенстве владел техникою спора. Самые рискованные парадоксы он блестяще защищал, владея диалектикою, как опытный фехтовальщик шпагою.
Некоторых он пугал насмешливостью, иных он отталкивал своею обидчивою мнительностью, другим он казался холодным и злым. Но мне почему-то он сразу внушил к себе доверие, и я разглядел за холодною маскою то иронического, то мнительного человека его настоящее лицо – лицо печального и доброго поэта.
Г. Чулков
Д. С. и 3. Н. почитали талант Сологуба; и в своих отзывах высказывали maximum объективности, что было редко для них; а Ф. К. выражался порой очень остро о деятельности Мережковских; мне кажется, – более признавал он поэзию Блока; о Блоке тогда еще он выражался решительно;
– Блок – поэт: настоящий поэт!
Раз сказал:
– Блок умен, когда пишет стихи: не умен, когда пробует писать прозой.
Та петербургская романтическая ирония, которой был болен Блок, была, конечно, не чужда и Сологубу. Этим недугом позднего романтизма мы все страдали. Поэты смеялись и шутили невесело над собою и над миром. И Сологуб шутил. Одной из тогдашних забав поэтов были каламбуры. Иногда они были многозначительны и загадочны, иногда вся соль их заключалась в их предельной дурашливости. Здесь уж смеялись над самим каламбуром.
Федор Кузмич особенно изощрялся по этой части. Он даже шутя предлагал основать общество каламбуристов и приглашал в это общество в качестве членов-основателей Блока, Эрберга и меня.
Однажды утром Федор Кузмич явился ко мне и пресерьезно объявил, что необходимо петербургским «каламбуристам» сняться вместе у знаменитого фотографа Здобного. Мы вызвали Блока и Эрберга и отправились на Невский к фотографу.
Г. Чулков
Я думаю с удовольствием только о нашей квартире в П-бге. Видеть Мережковских слишком не хочу. Тоже – всех Петербург, «мистиков» – студентов. Все это – в стороне. Тоже с Любой – относит, этих «мистиков». Пьяный Бальмонт отвратил от себя, личность Брюсова тоже для меня не очень желательна. Хочется святого, тихого и белого. Хочу к книгам, от людей в Пб-ге ничего не жду, кроме «литературных» разговоров в лучшем случае и пошлых издевательств или «подмигиваний о другом» – в худшем. Но будет так много хорошего в воспоминании о Москве, что я долго этим проживу.
Письмо к матери 19/1 – 1904 г.
Глава восьмая Символисты и 1905 г.
И, если лик свободы явлен, То прежде явлен лик змеи… А. Блок. 18 октября 1905 г.Фабричный район, где жили Кублицкие и Блоки, а также условия полковой жизни дали нам всем возможность видеть то, что не могли знать многие в Петербурге. Задолго до 9-го Января уже чувствовалась в воздухе тревога. Александр Александрович пришел в возбужденное состояние и зорко присматривался к тому, что происходило вокруг Когда начались забастовки заводов и фабрик, по улицам подле казарм стали ходить выборные от рабочих. Из окон квартиры можно было наблюдать, как один из группы таких выборных махнет рукой, проходя мимо светящихся окон фабрики, и по одному мановению этой руки все огни фабричного корпуса мгновенно гаснут. Это зрелище произвело на Александра Александровича сильное впечатление. Они с матерью волновались, ждали событий.
В ночь на 9-е Января, в очень морозную ночь, когда полный месяц стоял на небе, денщик разбудил Франца Феликсовича, сказав, что «командир полка требует г-д офицеров в собрание».
Когда Франц Феликсович ушел, Александра Андреевна оделась и вышла из дому. На улице, подле казарм, весь полк уже оказался в сборе, и она слышала, как заведующий хозяйством полковник крикнул старшему фельдшеру: «Алексей Иванович, санитарные повозки взяли?»
Поняв, что готовится нечто серьезное, сестра вернулась домой, постучалась к сыну и в двух словах сообщила о случившемся. Он тотчас же встал. Сын и мать вышли на улицу. На набережной у Сампсониевского моста, у всех переходов через Неву стояли вызванные из окрестностей Петербурга кавалерийские посты. Тот отряд гренадер, где находился Франц Феликсович, занимал позицию возле часовни Спасителя. Тут же стояли уланы, которые спешились, разожгли костры и вокруг этих костров устроили танцы, вероятно, для согревания. Возле моста рабочий дружески уговаривал конного солдата сойти с поста, объясняя ему, что «все мы, что рабочий, что солдат – одинаковые люди». В ответ на увещания бедный солдат отмалчивался, но видимо томился. Празднично одетый рабочий вышел из квартиры и долго крестился на церковь, но переходы на ту сторону оказались в руках неприятеля, и видно было, как он тычется и тщетно ищет свободного прохода, мелькая издали нарядным розовым шарфом. От Петровского парка прокатился ружейный залп, за ним второй. Сестра зашла за мною. Мы еще долго ходили по улицам. Александр Александрович ушел несколько раньше. Вернувшись в свою квартиру, Александра Андреевна нашла у себя Андрея Белого.
М. А. Бекетова
А. Блок. 1907 г.
В тот день познакомился с милым я Францем Феликсовичем, который тихонько выслушивал все разговоры, явившися к завтраку, от какого-то пункта, где должен стоять был с отрядом… Мне было неловко; старался быть сдержанней я; но А. А., как нарочно, с приходом тишайшего Франца Феликсовича говорил все решительней; мне казалося: тоном старался его – подковырнуть, уязвить, отпуская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, солдафонства, не обращая внимания на Ф. Ф., будто не было вовсе его, – будто мы не сидели в Казармах; как-никак, Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост, мог быть вынужденным остановить грубой силою толпы (к великому облегчению Александры Андреевны этого не произошло); но я думаю, что Ф. Ф. не отдал бы приказа стрелять, предпочтя, вероятно, арест; с каким видом вернулся бы он в этот дом, так решительно, революционно настроенный; да и сам он с презрением относился к «солдатчине»; тем не менее, факт стояния Ф. Ф. у какого-то моста с отрядом все время нервил А. А.; крепко, несдержанно он выражался, бросая салфетку, и – чувствовалась беспощадность к Ф. Ф.
Я заметил в А. А. этот тон беспощадности по отношению к отчиму и в других проявлениях; мне показалось, его недолюбливал он, и – без всякого основанья, как кажется, раз он сказал:
– «Франц Феликсович, Боря, – не любит меня».
– «Таки очень… – прибавил с улыбкой он».
Но этого – я не видел, не чувствовал даже; наоборот: постоянно я видел уступчивость, предупредительность, мягкость, хотя Александра Андреевна поговаривала, что Ф. Ф. очень вспыльчив.
– «Он может кричать – очень страшно!»
Но был он отходчив.
А. Белый
Историческую декорацию 1905 года легко себе представить, но мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такой острою напряженностью, какую едва ли можно сейчас выразить точными и убедительными словами. Возможно ли передать, например, ночь с 8-го на 9-е января в помещении редакции «Сына Отечества»? Тогда все петербургские писатели сошлись здесь, чувствуя ответственность за надвигающиеся события. Самые противоположные люди толпились теперь в одной комнате, сознавая себя связанными круговою порукою. Здесь были все, начиная от Максима Горького и кончая Мережковским. В течение всей ночи велись переговоры с правительством. Наши депутаты уезжали и приезжали. Там, за оградою правящей бюрократии, все ссылались друг на друга. Как будто никто не был повинен в том, что изо всех казарм шли солдаты и что готовится расстрел безоружных рабочих. Вот эти залпы и трупы несчастных, «поверивших в царя», были вещим знаком – особливо для поэтов.
Г. Чулков
Помню я эту страшную ночь – ночь с восьмого на девятое января 1905 года. Мы собрались в одной из петербургских редакций – кучка интеллигенции. Все знали, что «завтра казнь». Забыв идейные распри, сошлись тогда вместе либералы и социалисты, атеисты и верующие, Максим Горький и Д. С. Мережковский.
Г. Чулков. Письма со стороны
Но А. А. в этот день волновался другим: значит был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и – расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей шерсти и каменной гордо закинутой головою на фоне обой; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна (лазурное, светлое – в темно-зеленом): покуривая, на ходу, он протягивал синий дымок папиросы и подходил то и дело к окошку, впиваясь глазами в простор сиротливого льда, точно – он – развивал неукротимость какую-то: а за чаем узнали: расстрелы, действительно, были.
С собой из Москвы привез целые ворохи разнообразнейших впечатлений о том, что меня волновало, с чем ехал я к Блокам; но говорить ни о чем не могли мы; события заслонили слова.
Мы – простились, и я поспешил к Мережковским.
А. Белый
Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной стихии, – прежде всего из ненависти к буржуазии.
Г. Чулков
Необходимо отметить, что именно в это же самое время, т. е. одновременно с тем, когда Блок увидел реальных рабочих и революционеров, он также увидел иреальную Россию.
И. Машбиц-Веров[44]. Ал. Блок и первая революция
Я политики не понимаю и на сходке подписался в числе «воздержавшихся», но… покорных большинству. Не знаю, что из всего этого выйдет. Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему и спросить, когда нас всех перережут. Близился к сумасшествию, но утром на следующий день (читал ночью) пил чай. Иногда «бормочу» и о политике, но все меньше. Осенью был либералом более. Но, когда заговорили о «реформах», почувствовал, что деятельного участия в них не приму. Впрочем, консерваторов тоже почти не могу выносить.
Письмо к С. Соловьеву. Январь 1905
Узнал много о наших литераторах и о здешней революции. Нервы у рабочих так приподняты, что они все лето и даже до сего дня по четыре раза в неделю устраивают собрания числом в 1000 человек.
Письмо к матери 29/VIII – 1905
С этой зимы равнодушие Александра Александровича к окружающей жизни сменилось живым интересом ко всему происходящему. Он следил за ходом революции, за настроением рабочих, но политика и партии по-прежнему были ему чужды. Во всем этом он вполне сходился с матерью. Любовь Дмитриевна сначала относилась к событиям безразлично или даже враждебно, но понемногу и она зажглась настроением мужа.
М. А. Бекетова
Блок в октябре ходил по Невскому с красным флагом.
Письмо Брюсова к Перцову от 17/II 1906
Тревожный, ищущий, обворожительно кроткий, встретил Блок пятый год. Помню, как Любовь Дмитриевна с гордостью сказала мне: «Саша нес красное знамя» – в одной из первых демонстраций рабочих… Помню, как значительно читал он стихотворение, только что написанное, где говорится о рыцаре на крыше Зимнего Дворца, склонившем свой меч. Бродили в нем большие замыслы. Он говорил, что пишет поэму – написал только отрывок о кораблях, вошедший в «Нечаянную Радость».
С. Городецкий
Широкому читателю обычно известны «Двенадцать» и «Скифы» – это замечательные поэмы об Октябре. Но у Блока есть также исключительно-ценные стихотворения, посвященные революции 1905 года. Первую революцию поэт приветствовал прекрасными и восторженными песнями. И, зная эту раннюю революционную поэзию Блока, по-иному воспринимаешь «Двенадцать» и «Скифы»: они оказываются органическим продолжением прошлого революционного творчества поэта.
И. Машбиц-Веров. Блок и современность
В 1905 году издавался журнал «Вопросы Жизни». Я принимал в нем ближайшее участие, и Александр Александрович был в нем постоянным сотрудником. Печатались его стихи и рецензии. Революция 1905 года как факелом осветила сумерки нашей тогдашней культуры. И все, для кого революция была не только внешний, социальный и политический факт, но и нечто большее, некоторое внутреннее событие, искали встреч друг с другом – даже одинокие люди, как Александр Блок. Я хорошо помню белые бессонные петербургские ночи, наши ночные блуждания с Блоком, ночные беседы за стаканом вина где-нибудь в углу сомнительного кабачка. Какие были предчувствия! И как ужасно они оправдались! Та «мистическая ирония», о которой любили толковать немецкие романтики, отравила ночные души тогдашних лириков. И это было, быть может, начало смертельной болезни.
Г. Чулков. Наши спутники
1905 год. Редакция «Вопросов Жизни» в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового – все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковского, помните: «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми письмами я подписывался: «старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что мой «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усумнилась в вашей настоящей фамилии:
– Блок! Псевдоним?
И когда вы пришли в редакцию – еще в студенческой форме с синим воротником – первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.
И с этой первой встречи, а была весна петербургская особенная – и пошло что-то, чудное что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.
А. Ремизов. Из Огненной России
В этом году мне удавалось получать довольно много литературной работы: с марта меня печатали в большом количестве «Вопросы Жизни» (преимущественно – рецензии). Осенью я познакомился с С. А. Венгеровым, для которого перевел несколько больших и маленьких юношеских стихотворений Байрона, в издании Ефрона, для III тома, и теперь жду новых переводов Байрона от него же. Кроме того, Венгеров заказал мне историко-литературную компиляцию: «Очерк литературы о Грибоедове», на которую пошло довольно много труда. Если жизнь всех издательских фирм не прервется окончательно (а это становится, по словам того же Венгерова, очень возможным), – моя работа войдет в какое-то новое школьное издание Грибоедова. Таким образом я все-таки доволен работой истекающего года. Стихов писал много, чувствую, что в них еще много неустановившегося, перелом длится уже несколько лет. Появления новых стихов в печати жду в начале будущего года, – основываются бесчисленные журналы, из которых иные, впрочем, могут и прогореть. Все это ужасно шатко теперь.
Письмо к отцу 30/XII – 1905 г.
Журнал «Вопросы Жизни» издавался в 1905 году. Официальным редактором журнала был Н. О. Лосский, издателем – Д. Е. Жуковский. Этот журнал возник по инициативе Е И. Чулкова после того, как журнал «Новый Путь», куда в конце 1904 г. вошли С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев, прекратил свое существование из-за разногласий, возникших между Д. С. Мережковским и Г. И. Чулковым. «Вопросы Жизни» был тогда единственный толстый петербургский журнал, который оказал широкое гостеприимство символистам, в то время еще не признанным критиками и широкими кругами читателей. На страницах «Вопросов Жизни» печатались замечательнейшие произведения эпохи – роман «Мелкий Бес» Федора Сологуба, трактат Вячеслава Иванова «Религия Диониса», стихи Александра Блока и др.
Письма, примеч.
Последние месяцы существования «Нового Пути», а затем год журнальной работы в «Вопросах Жизни» характеризуются не столько богословским творчеством, сколько академической работой.
Г. Чулков. Об утверждении личности
После обеда (в б час.) я пошел в редакцию, которая оказалась на седьмой Рождественской. (Надо сказать, что Достоевский воскресает в городе.) Нашел и лез на лестницу, и услыхал из-за одной двери крик: – Мистический богоборец! Почти по этому и догадался, что кричат «Вопросы Жизни». Квартира их оказалась темной и маленькой; в ожидании электричества при свечах в бутылках сидели в конторе Булгаков, Чулков и Жуковский и Б-в высмеивал Жуковского, крича: «Мистический богоборец!». Почти без речей, как я вошел, пустили залп новых стихов Брюсова (не особенных) и Вяч. Иванова (особенных). После этого Булгаков взял у Чулкова галстук и, хохоча, увел Жуковского к Вяч. Иванову. Мы же с Чулковым и сестрой Чулкова стали пить чай при тех же свечах в бутылках. Тут-то, в запахе Достоевского, и узнал я сбивчиво, что «В. Ж.», может быть, и совсем прекратятся, что у Жук(овского) нет денег и что идеалисты очень против меня.
Письмо к матери 29/VIII – 1905 г.
Отношение мое к «освободительному движению» выражалось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и одно время даже в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу (из «общественности»), отбросив то, чего душа не принимает. А не принимает она почти ничего такого, – так пусть уж займет свое место, то, к которому стремится. Никогда я не стану ни революционером, ни «строителем жизни», и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто, по природе, качеству и теме душевных переживаний… В смысле моих последних «дум» о государств, думе я все-таки «мещанин» (по Горькому), так как не прочь от «земцев», Струве и пр. «умеренных» партий (разумеется, не для жизни, а для «государственной думы» и т. и.).
Письмо к отцу 30/XII – 1905 г.
Блок не «пошел в революцию», но душевно равнялся по ней. Уже приближение 1905 года открыло Блоку фабрику (1903 г.), впервые подняв его творчество над лирическими туманами. Первая революция пронзила его, оторвав от индивидуалистического самодовольства и мистического квиетизма.
Л. Троцкий. Внеоктябрьская литература
Часть вторая
Глава девятая Среды Вячеслава Иванова
Пришелец, на башне приют я обрел С моею царицей – Сивиллой, Над городом – мороком – смурый орел С орлицею ширококрылой. Вячеслав ИвановНа башне
Тут появилась впервые в России фигура двусмысленного Вячеслава Иванова, давшего обоснование символизму, с одной стороны; но с другой – что-то слишком расширившего его сферу и тем затопившего символизм расширением в декадентство, с одной стороны, в александрийство – с другой; вскоре «среды» Иванова в Петербурге явились рассадником синкретических веяний, вдохновляя творцов популярных газетных статеек: фигура Иванова – фатум в истории русского символизма, вписующий в эту историю светлые строки и темные строки; сыграл этот крупный ученый поэт не последнюю роль в распылении наших тенденций; под влиянием плохо понятных, недостаточно оговоренных взглядов Иванова ставился как бы знак равенства между театром и храмом, мистерией и драматической формой, Христом и Дионисом, богоматерью и просто женщиной, символом и сакраментальной Эмблемой, между любовью и эротизмом, меж девушкой и менадой, Платоном и… греческой любовью, теургией и филологией, Вл. Соловьевым и Розановым, орхестрою и… Парламентом, русскою первобытною общиною и… «Новым Иерусалимом», народничеством и славянофильством.
А. Белый
Вячеслав Иванов, один из образованнейших писателей сегодняшнего дня. Профессор по служебному своему положению, он объездил чужие края вдоль и поперек. Он так долго жил в Италии и Греции, что при своей любви к античному миру имел всю возможность изучить эти страны до мелких подробностей: он стал чистым эллином и чистым римлянином… Он почти не может мыслить образами иными, чем древний грек или римлянин, весь ушедший в мифологию.
И знания его – не дилетантская осведомленность человека, случайно увлекшегося. Из каждого его стихотворения, из каждой его статьи глядит настоящее изучение предмета. К каждому собственному имени он, очевидно, без труда и без справок в энциклопедиях мог бы подставить научное примечание.
В его эпиграфах, которые он так любит, пестрят языки греческий, латинский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. В «прозрачности» вы найдете его шестистишие Бальмонту, написанное по-латыни с настоящим чувствованием и языка и ритма. В последней его книге «Сог ardens» («Пылающее сердце») несколько страниц отведено искусным строкам на немецком, что сейчас мог бы еще сделать, вероятно, один Фидлер. И как предел учености, совсем необычной в наши дни, – в издании археологического общества сейчас печатается его диссертация на латинском – «De societatibus vectigalium publicorum populi Romani».
А. Измайлов
Нельзя сказать, чтобы литературный Петроград радушно его принял, скорее наоборот: это Вячеслав Иванов принял тех, кто был ему интересен и близок из литературного мира: вместе с женой, интересной и своеобразной писательницей Зиновьевой-Аннибал, радушно, в самом прямом смысле этого слова, стали они принимать по средам в скромной квартире шестого этажа на Таврической.
Е. Аничков[45]. Новая русская поэзия
Вячеслав Иванов. Рисунок К. Сомова. 1906 г.
П. И. Безобразов, которого выбрали председателем беседы-импровизации на тему «Любовь», – заложил первый камень фундамента «сред»; если память не изменяет, на этом собраньи присутствовали: Мережковский с женою, Бердяев с женою, В. Розанов, П. Безобразов, Иванов с женою, Александр Александрович, кто еще – не упомню (Г. И. Чулков, может быть); помню я, что о любви говорили: Иванов, Бердяев, я, Л. Ю. Бердяева; говорил ли Д.С. Мережковский – не помню; молчал В. В. Розанов…
Александр Александрович сидел в дальнем углу, прислонив свою голову к стенке, откинувшись, очень внимательно слушая, с полуулыбкой; когда обратились к нему, чтоб и он нам сказал что-нибудь, он ответил, что говорить не умеет, но что охотно он прочитает свое стихотворение: и прочел он «Влюбленность»; он был в этот вечер в ударе; уверенно, громко, с высоко закинутой головой бросал в нас строками:
Влюбленность! Ты строже Судьбы! Повелительней древних законов отцов! Слаще звука военной трубы!А. Белый
Осенью 1905 г. Вячеслав Иванович Иванов и покойная жена его Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал устроили у себя на «башне» журфиксы по средам. В начале это были скромные собрания друзей и близких знакомых из литературного мира. Ивановы недавно переехали в Петроград из-за границы и завязывали литературные связи. Но как-то сразу сумели они создать вокруг себя особенную атмосферу и привлечь людей самых различных душевных складов и направлений. Это была атмосфера особенной интимности, сгущенная, но совершенно лишенная духа сектантства и исключительности. Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения. Много талантливой энергии тратили они на людей, много внимания уделяли каждому человеку, заинтересовывались каждым в отдельности и заинтересовывали каждого собой, вводили в свою атмосферу, вокруг своих исканий. Сразу же выяснилось, В. И. Иванов не только поэт, но и широкий ученый, мыслитель, мистически настроенный, человек очень широких и разнообразных интересов. Всегда поражала меня в Вяч. Иванове эта необыкновенная способность с каждым говорить на те темы, которые его более всего интересуют – с ученым о его науке, с художником о живописи, с музыкантом о музыке, с актером о театре, с общественным деятелем об общественных вопросах. Но это было не только приспособление к людям, не только гибкость и пластичность, не только светскость, которая в В. Иванове поистине изумительна – это был дар незаметно вводить каждого в атмосферу своих интересов, своих тем, своих поэтических или мистических переживаний через путь, которым каждый идет в жизни. В. Иванов никогда не обострял никаких разногласий, не вел резких споров, он всегда искал сближений и соединений разных людей и разных направлений, – любил вырабатывать общие платформы. Он мастерски ставил вопросы, провоцировал у разных людей идейные и интимные признания. Всегда было желание у В. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозион, всегда призывал он Эрос. «Соборность» – излюбленный его лозунг. Все эти свойства очень благоприятны для образования центра, духовной лаборатории, в которой сталкивались и формировались разные идейные и литературные течения. И скоро журфиксы по средам превратились в известные всему Петрограду, и даже не одному Петрограду, «Ивановские среды», о которых слагались целые легенды. Все увеличивалось число лиц, посещавших среды, и беседы становились планомерными, с председателем, с определенными темами.
Н. Бердяев. Ивановские среды
Начинались среды обычно чем-то вроде ученого диспута. Спорили и говорили парадоксы. При этом по какому-то молчаливому соглашению никогда о книгах. Начитанность должна была быть превзойдена и оставлена дома. Только от себя надо было высказываться, не разводя публицистику, а поднявшись над переживаемой минутой; если удастся, то пусть в аспекте вечности. Тут выступали гости не поэты: профессора Ростовцев[46], реже Зелинский, высоко ценившие Вячеслава Иванова как эллинисты, и другие, случайные, часто из любопытства добивавшиеся приглашения в это святилище; чаще других бывал Луначарский. Слушал эти споры, молчаливо сидя в стороне, заколдованный своей еще не высказанной мудростью, Федор Сологуб. А сам хозяин, прохаживаясь по комнате, прежде всего всех примирял и досказывал мысли, угадывая все ценное, что кто-либо сказал, и уже этим самым любезно, но уверенно поучая.
Ему, однако, редко удавалось договорить какое-либо свое сложное, ученое и возвышенное прозрение.
Врывалась всегда облеченная в античные разноцветные хитоны, подобранные ей Сомовым, Лидия Дмитриевна и объявляла, что довольно умничать, поэты хотят читать свои стихи. Они уже шумели и шалили в соседней комнате, потому что все они были тогда еще юны и веселы, а быть мальчиком, шутить, радоваться всему, что бодрого дает жизнь, полагалось. Ведь прозвучали уже в этом смысле стихи о солнечности Бальмонта. И споры сразу обрывались. Стихи, стихи! Как им было не загореться в этом поэтическом доме.
Гурьбой входили поэты, их бывало много… Весь Петроград, блестевший огнями там, внизу, за Таврическим садом, будто слушал то, что читалось «на башне». Слушал, потому что прислушивался тогда к поэтическим событиям, а на «башне» они чередовались неугомонно, не переставая и никогда не спускаясь до какой бы то ни было, даже самой новомодной рутины. Оттого, когда в одну и ту же ночь Александр Блок прочел на башне «Незнакомку», а Сергей Городецкий свои стихи об Удрасе и Барыбе, вошедшие в его лучший первый сборник «Ярь», в эту среду русская поэзия обогатилась двумя новыми и не дальше как через две недели всем литературным миром признанными поэтами, признанными, хотя, конечно, непонятными и высмеиваемыми за свои странные новшества.
Е. Аничков
Душой, психеей «Ивановских сред» была Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало все наше общение, все наши разговоры. Л. Д. Зиновьева-Аннибал была совсем иной натурой, чем Вяч. Иванов, более дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной, вечно толкающей вперед и ввысь. Такая женская стихия в соединении с утонченным академизмом Вяч. Иванова, слишком много принимающего и совмещающего в себе, с трудом уловимого в своей единственной и последней вере, образовывала талантливую, поэтически претворенную атмосферу общения, никому и ничего из себя не извергавшую и не отталкивавшую. Три года продолжались эти «среды», отвечая назревшей культурной потребности, все расширялись и претерпели разные изменения. Я, кажется, не пропустил ни одной «среды» и был несменяемым председателем на всех происходивших собеседованиях.
Н. Бердяев
Быт жизни «башни» – незабываемый, единственный быт… внутри круглого выступа – находилась квартира, – на пятом, как помнится, этаже; по мере увеличения количества обитателей стены проламывались, квартира соединялась со смежными: и под конец, как мне помнится, состояла она из трех слитых квартир или путаницы комнатушек и комнат, соединенных между собой переходами, коридоришками и передними; были – квадратные комнаты, треугольные комнаты, овальные чуть ли не комнаты, уставленные креслами, стульями, диванами, то прихотливо разными, то вовсе простыми; мне помнится: коврики и ковры заглушали шаги; выдавалися: полочки с книгами, с книжицами, даже с книжищами, вперемежку с предметами самого разнообразного свойства; казалося: попади в эту «башню», – забудешь, в какой ты стране и в какой ты эпохе; столетия, годы, недели, часы – все сместится; и день будет ночью, и ночь будет днем; так и жили на «башне»: отчетливого представления времени не было здесь; знаменитые «среды» Иванова были не «средами», а «четвергами»; да, да: посетители собирались не ранее 12 часов ночи; и, стало быть: – собирались в «четверг»…
А. Белый
Квартира до такой степени в знаменитые «среды» заполнялась литературным и иным народом, что присутствующие сидели на полу, очищая небольшой круг для тех, кто хотел говорить на общественно-философские темы или читать свои произведения. Здесь с бесконечным снисхождением и радушием встречали и пестовали всех, кто, нося в себе искру таланта, приходил сюда за советом. И редкие, я думаю, уходили отсюда душевно неудовлетворенными. С каждым годом, несмотря на смерть Лидии Дмитриевны, квартира все расширялась и, в конце концов, в ней было не меньше 8 комнат. Некоторые из посторонних, как, например, М. А. Кузьмин, жили здесь годами на положении оседлых жильцов. Другие, наездами, гостили здесь по целым неделям и месяцам. Гости ежедневные здесь почти не переводились. Ночи здесь постепенно превращались в дни, а дни – в ночи. Обедали здесь нередко в 9 час. вечера, ужинали в 2 ночи, а расходились в б утра. Как сводились «материальные» концы с концами, при минимальном заработке всех, мне непонятно… Умолкал рояль, стихали голоса, гасился свет и отдергивались темные тяжелые занавески. Открывались окна, и рассветный ветер, внося изначальную свежесть, пробуждал какие-то сладкие и молодые воспоминания о непосредственной когда-то близости к праматери-земле. В Таврическом саду начинали перекликаться птицы, и в своеобразных комнатах постепенно оживали: старинная мебель, привезенная с Запада, небольшая статуя Геркулеса с малюткой Дионисом на руках, виды афинского акрополя и Парфенона, гравюры Пиранези и боги и герои Эллады по стенам… Так продолжалось до весны 1912 г., когда все оборвалось и кончилось.
В. Н. Княжнин
В период «Снежной Маски» среды сыграли для Блока большую роль… Большая мансарда с узким окном прямо в звезды. Свечи в канделябрах. Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал в хитоне. И вся литература, сгруппировавшаяся около «Нового Пути», переходившего в «Вопросы Жизни». Собирались поздно. После двенадцати Вячеслав и Аничков или еще кто-нибудь делали сообщение на темы мистического анархизма, соборного индивидуализма, страдающего бога эллинской религии, соборного театра, Христа и Антихриста и т. д. Спорили бурно и долго. Блестящий подбор сил гарантировал каждой теме многоцветное освещение – не лучами одного и того же волшебного фонаря мистики. Маленький Столпнер[47] возражал язвительно и умно, но один в поле не воин. Надо отдать справедливость, что много в этих средах было будоражащего мысль, захватывающего и волнующего, но, к сожалению, в одном только направлении. После диспута, к утру, начиналось чтение стихов. Это происходило превосходно. Возбужденность мозга, хотя своеобразный, но все же исключительно высокий интеллект аудитории создавали нужное настроение. Много прекрасных вещей, вошедших в литературу, прозвучали там впервые. Оттуда пошла и «Незнакомка» Блока. В своем длинном сюртуке, с изысканно-небрежно повязанным мягким галстуком, в нимбе пепельно-золотых волос, он был романтически прекрасен тогда, в шестом-седьмом году. Он медленно выходил к столику со свечами, обводил всех каменными глазами и сам окаменевал, пока тишина не достигала беззвучия. И давал голос, мучительно-хорошо держа строфу и чуть замедляя темп на рифмах. Он завораживал своим чтением, и, когда кончал стихотворение, не меняя голоса, внезапно, всегда казалось, что слишком рано кончилось наслаждение и нужно было еще слышать. Под настойчивыми требованиями он иногда повторял стихи. Все были влюблены в него, но вместе с обожанием точили яд разложения на него.
С. Городецкий
«Снежная Маска» имела особый успех на вечерах Вячеслава Иванова… Высоко образованный, талантливый, вкрадчиво любезный хозяин авторитетно руководил направлением башенных сборищ. Тут царила «богема», часто безвкусная в своей бесшабашности. Но здесь же читались новые произведения, шли утонченные беседы, здесь Блок прочел свою «Снежную Маску» в присутствии той, которой она была посвящена.
М. А. Бекетова
БОГ В ЛУПАНАРЕ
Александру Блоку
Я видел: мрамор Праксителя Дыханьем Вакховым ожил, И ядом огненного хмеля Налилась сеть бескровных жил. И взор бесцветный обезумел Очей божественно-пустых; И бога демон надоумел Сойти на стогна с плит святых — И по тропам бродяг и пьяниц Вступить единым из гостей В притон, где слышны гик и танец И стук бросаемых костей, — И в микве смрадной ясно видеть, И, лик узнав, что в ликах скрыт, Внезапным холодом обидеть Нагих блудниц воскресший стыд, — И, флейту вдруг к устам приблизив, Воспоминаньем чаровать — И, к долу горнее принизив, За непонятным узывать. Вяч. ИвановНа «Ивановских средах»… преобладал тон и стиль мистический. Сразу же создалась атмосфера, в которой очень легко говорилось. В постановке тем и в характере, который приняло их обсуждение, быть может, не хватало жизненной остроты, и никто не думал, что речь идет о самых жизненных его интересах. Но образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории. Многое зарождалось и выявлялось в атмосфере этих собеседований. Мистический анархизм, мистический реализм, символизм, оккультизм, неохристианство, – все эти течения обозначались на средах, имели своих представителей. Темы, связанные с этими течениями, всегда ставились на обсуждение. Но ошибочно было бы смотреть на среды как на религиозно-философские собрания. Это не было местом религиозных исканий. Это была сфера культуры, литературы, но с уклоном к предельному. Мистические и религиозные темы ставились скорее как темы культурные, литературные – чем жизненные. Многие подходили к религиозным темам со стороны историко-культурной, эстетической, археологической. Мистика была новью для русских культурных людей, и в подходе к ней чувствовался недостаток опыта и знания, слишком литературное к ней отношение. То было время духовного кризиса и идейного перелома в русском обществе, в наиболее культурном его слое. На «среды» ходили люди, которые группировались вокруг журналов нового направления: «Мира Искусства», «Нового Пути», «Вопросов Жизни», «Весов». Повышался уровень нашей эстетической культуры, загоралось сознание огромного значения искусства для русского возрождения. И как-то сразу же русское литературно-художественное движение соприкоснулось с движением религиозно-философским. В лице Вяч. Иванова оба течения были слиты в одном образе, и это соприкосновение разных сторон русской духовной жизни все время чувствовалось на «средах». Но ничего не было узко кружкового, сектантского. В беседах находили себе места и люди другого духа, позитивисты, любившие поэзию, марксисты со вкусами к литературе. Вспоминаю беседу об Эросе – одну из центральных тем «сред». Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди как сам хозяин Вяч. Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный проф. Ф. Ф. Зелинский и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов. Но господствовали символисты и философы религиозного направления. Нередко «среды» были посвящены поэзии, и многие молодые поэты впервые читали там свои стихи.
Н. Бердяев
Последнее время почти ничего не пишется и не ходится ни в какие гости. Литературные воскресенья и знаменитые «среды» Вяч. Иванова давно уже влекут меня не слишком сильно. Совсем разучиваюсь говорить и погружаюсь в себя.
Письмо к отцу 25/IV 1906 г.
Среды стали уж не те – серо и скучновато.
Письмо к матери 30/XI 1908 г.
Собрания по средам постепенно начали расширяться, появлялись все новые и новые люди. В Петрограде много говорили об «Ивановских средах», они вызывали к себе интерес в разных кругах. На одной из «сред», когда собралось человек шестьдесят поэтов, художников, артистов, мыслителей, ученых, мирно беседовавших на утонченные культурные темы, вошел чиновник охранного отделения в сопровождении целого наряда солдат, которые с ружьями и штыками разместились около всех дверей. Почти целую ночь продолжался обыск, в результате которого нежданным гостям пришлось признать свою ошибку… Политики на «средах» не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Но дионисическая общественная атмосфера отражалась на «средах». В другую эпоху «среды» были бы невозможны. На третий год своего существования собрания по средам начали вырождаться, они потеряли свой интимный характер и стали слишком многолюдными. В последнюю зиму начало бывать много артистов нового театра Комиссаржевской. Много молодежи; бывали люди, совсем неизвестные хозяевам, и собеседования потеряли свой прежний характер.
Н. Бердяев
17 октября 1911 г.
Вячеслав Иванов. Если хочешь сохранить его, – окончательно подальше от него. Простриг бороду, и на подбородке невыразимо ужасная линия глубоко врезалась. Внутри воет Гете, «классицизм» (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает – большое, но меньше, чем должно (могло бы) быть. Дочь – худа, бледна, измучена, печальна.
Дневник А. Блока
В конце пятого года и в шестом «среды» Вячеслава еще имели некоторую связь с революцией, с общественностью. Но выявление их и развитие шло в сторону интеллигентского сектантства, мистической соборности, выставляемой против анархизма личности, тоже поощряемого. Все более накипало гурманство в отношении к темам. Ничего не решалось крепко и ясно. Процесс обсуждения был важнее самого искомого суждения. Целью художнику ставилось идти от земной реальности к реальности небесной через какие-то промежуточные звенья сознания, которые именно и должен был уловить поэт-символист путем изображения «соответствий». В конце концов всю эту хитрую музыку каждый понимал по-своему, но она постулировалась как всеми искомая единственная истина. Возражали: будущие богоискатели, марксисты и реалисты, но настроение давал Вячеслав. От идеи страдающего Диониса и, следовательно, поэта-жертвы, он уже начинал переходить к идее «совлечения», «нисхождения», применяемой к исторической судьбе России. Достоевский назывался «Федором Михайловичем», как сообщник и хороший знакомый. Чем больше разгоралась реакция, тем более «среды» заинтересовывались идеями эротики. Из этой хитрой музыки выявлялись самые разнообразные течения. Чулков спелся с Вячеславом на теме «мистического анархизма» и ловил на «Факелы» Андреева и Блока. Первый попался больше, чем второй. Молодой студент Модест Гофман[48] изобрел «соборный индивидуализм». Но все было замкнуто в узком мистико-эротическом, интеллигентски-самодовольном кругу. Запах тления воспринимался как божественный фимиам. Сладко-дурманящая, убаюкивающая идейными наркозами атмосфера стояла на «башне», построенной «высоко над мороком жизни». Дурман все сгущался. Эстетика «сред» все гуще проникалась истонченной эротикой. Кузьмин пел свои пастушески-сладострастные «Александрийские песни». Сомов и Бакст были законодателями вкуса в живописи, прянно-чувствен-ного – у первого через призму помещичьей жизни, у второго – через античность. Без конца читал Вячеслав свое любимое всеми стихотворение.
С. Городецкий
МЭНАДА
Смерть нашла и смута на Мэнаду; Сердце в ней тоской захолонуло. Недвижимо у пещеры жадной Стала безглагольная Мэнада. Мрачным оком смотрит – и не видит; Душный рот разверзла – и не дышит. И текучие взмолились Нимфы Из глубин пещерных за Мэнаду: «Влаги, влажный бог!.. Я скалой застыла острогрудой, Рассекая черные туманы, Высекая луч из хлябей синих… Ты резни, Полосни Зубом молнийным мой камень, Дионис! Млатом звучным источи Из груди моей застылой слез ликующих ключи» Бурно ринулась Мэнада, Словно лань, Словно лань, — С сердцем, вспугнутым из персей, Словно лань, Словно лань, — С сердцем бьющимся, как сокол Во плену, Во плену, — С сердцем яростным, как солнце Поутру, Поутру, — С сердцем жертвенным, как солнце Ввечеру, Ввечеру!.. Так и ты, встречая бога, Сердце, стань… Сердце, стань… У последнего порога, Сердце, стань… Сердце, стань… Жертва, пей из чаши мирной Тишину, Тишину. Смесь вина с глухою смирной — Тишину… Тишину… Вячеслав Иванов«Башня» казалась мне символом безвременности; а сама повисала над «временем», над современностью… Порою Иванов устраивал ратоборства (ну, кто кого – Аполлон Диониса, иль Дионис Аполлона?). И с приходящими на «башню» С. К. Маковским[49], В. А. Чудовским[50] и особенно с Гумилевым сражался. Бывало: В. И. весь взъерошится, покраснеет, забьет пальцем в стол и покрикивает громко в нос (негармоничными, скрипичными нотами, напоминающими петушиные крики); наскакивает на чопорно стянутого Гумилева, явившегося к часу ночи откуда-то – в черном фраке, с цилиндром и в белых перчатках, прямо сидящего в кресле, недвижно, невозмутимо, как палка, с надменно-бесстрастным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; Гумилев отпарировал эти наскоки Иванова не словами, скорей – своим видом, Иванов же – втравливает в «свару», бывало, меня; я – поддамся: я начинаю громить «аполлоновскую» легкомысленность: после дружно мы все распиваем вино.
Не забуду я одного разговора: В. И., очень-очень лукаво расхаживая пред И. С. Гумилевым – с иронией пускал едкости, что, мол, вот бы вы, И. С. – вместо того, чтобы отвергать символистов, придумали бы свое направление, – да-с; и, подмигивая, предложил сочинить мне платформу для Гумилева он; я тоже начал шутливо и, кажется, употребил выражение «адамизм»; В. И. тотчас меня подхватил и – пошел и пошел; выскочило откуда-то слово «акмэ» (острие); и Иванов торжественно предложил Гумилеву стать «акмэистом». Но каково же было великое изумленье его, когда сам Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив ногу на ногу:
– Вот и прекрасно: пусть будет же – «акмэизм».
Вызов принял он: и впоследствии «акмэизм» появился действительно…
А. Белый
Все были жрецами Диониса. На этом Парнасе бесноватых Блок держался как «Бог в лупанаре» (название стихотворения Вячеслава, обращенного к Блоку). Но душа его была уже в театре, что означало победу в нем лирики над эпосом, ночи – над солнцем, мистики – над революцией.
С. Городецкий
А вот, кого опять я понял, это – Вяч. Иванова. Перед его отъездом в Москву (ночью, когда ты ехала в вагоне отсюда), мы говорили долго и очень откровенно. Он совсем уж перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой.
Письмо к матери 1 /IV 1908
В 1-м часу мы пришли с Любой к Вячеславу (Иванову). Там уже – собрание большое. Кузьмин (читал хорошие стихи, вечером пел из «Хованщины» с Каратыгиным[51] – хороший какой-то стал, прозрачный, кристальный), Кузьмины-Караваевы[52] (Е. Ю. читала стихи, черноморское побережье, свой «Понт»), Чапыгин, А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше). Сюннерберг[53], m-eur Reau, Аничков. Вячеслав читал замечательную сказку «Солнце в перстне».
В кабинете висит открытый теперь портрет Лидии Дмитриевны работы М. В. Сабашниковой – не по-женски прекрасно.
Все было красиво, хорошо, гармонично.
Дневник А. Блока
Вяч. Ив. Иванов – такой же грешный человек, как все, со всеми ошибками, падениями и слабостями. Но скажу одно: в то время как иные блудили, блуждали и окончательно заблудились в трех соснах, он один, можно, гордясь им, сказать, с честью вышел из тяжкого положения.
Его отношения с Блоком – такие же, как со многими иными у А. А.: сначала сближение, потом охлаждение.
В. Н. Княжнин
5 января 1912 г.
Мысли о Мережковском и Вячеславе Иванове. Мережковские для меня очень много, издавна, я не могу обратиться к ним с воспоминательными стихами, как собираюсь обратиться к Вячеславу (Иванову), с которыми теперь могу быть близким только через воспоминание о Лидии Дмитриевне.
Дневник А. Блока
17 апреля 1912 г.
У В. Щванова] надо, кажется, понять это ясно, душа женственная; и деспотизм его – женский (о личных отношениях к нему – «роман», а не дружба, не любовь).
Дневник А. Блока
Вячеславу Иванову
Был скрипок вой в разгаре бала. Вином и кровию дыша, В ту ночь нам судьбы диктовала Восстанья страшная душа. Из стран чужих, из стран далеких В наш огнь вступивши снеговой, В кругу безумных, темнооких Ты золотою встал главой. Слегка согбен, не стар, не молод, Весь – излученье тайных сил, О, скольких душ пустынный холод Своим ты холодом пронзил! Был миг – неведомая сила, Восторгом разрывая грудь, Сребристым звоном оглушила, Секучим снегом ослепила, Блаженством исказила путь! И в этот миг, в слепящей вьюге, Не ведаю, в какой стране, Не ведаю, в котором круге, Твой страшный лик явился мне… И я, дичившийся доселе Очей пронзительных твоих, Взглянул… И наши души спели В те дни один и тот же стих. Но миновала ныне вьюга. И горькой складкой те года Легли на сердце мне. И друга В тебе не вижу, как тогда. Как в годы юности, не знаю Бездонных чар твоей души… Порой, как прежде, различаю Песнь соловья в твоей глуши… И много чар, и много песен, И древних ликов красоты… Твой мир, поистине, чудесен! Да, царь самодержавный – ты. А я, печальный, нищий, жосткий, В час утра встретивший зарю, Теперь на пыльном перекрестке На царский поезд твой смотрю.18 апреля 1912 г.
Глава десятая Театр Комиссаржевской
Театр, это нежное чудовище, берет всего человека, если он призван, грубо выкидывает его, если он не призван. Оно в своих нежных лапах и баюкает и треплет человека, и надо иметь воистину призвание, воистину любовь к театру, чтобы не устать от его нежной грубости.
Письмо к Монахову[54]В конце 1905 года я предложил Александру Александровичу разработать в драматическую сцену тему его стихотворения «Балаганчик» («Вот открыт балаганчик»). Я просил у него эту вещь для альманаха «Факелы», который я в то время подготовлял к печати.
Г. Чулков
М. Добужинский. Шмуцтитул к лирической драме «Балаганчик».
1906 г.
Включаю после «Балаганчика» Блока в священное число семи современных поэтов: Сологуб, 3. Гиппиус, Бальмонт, я, Вяч. Иванов, Белый, Блок – вот эти семь (в политике это называется гептархией).
Письмо Брюсова к Перцову от 5/IV 1906 г.
Более чем какой бы то ни было род искусства театр изобличает кощунственную бесплотность формулы «искусство для искусства». Ибо театр – это сама плоть искусства – та высокая область, в которой «слово становится плотью». Вот почему почти все, без различия направлений сходятся на том, что высшее проявление творчества есть творчество драматическое.
А. Блок. О театре
Мы – символисты – долгие годы жили, думали, мучились в тишине, совершенно одинокие, будто ждали. Да, конечно, ждали. И вот, предреволюционный год, открылись перед нами высокие двери, поднялись тяжелые бархатные занавесы – и в дверях – на фоне громадного белого театрального зала – появилась еще смутная, еще в сумраке, не отчетливо (так не отчетливо, как появляются именно живые) эта маленькая фигура со страстью ожидания и надежды в синих глазах, с весенней дрожью в голосе, вся изображающая один порыв, одно устремление куда-то, на какие-то синие, синие пределы человеческой здешней жизни. Мы и не знали тогда, кто перед нами, нас ослепили окружающие огни, задушили цветы, оглушала торжественная музыка этой большой и всегда певучей души. Конечно, все мы были влюблены в Веру Федоровну Комиссаржевскую, сами о том не ведая, и были влюблены не только в нее, но в то, что светилось за ее беспокойными плечами, в то, к чему звали ее бессонные глаза и всегда волнующий голос.
А. Блок. Вера Федоровна Комиссаржевская
В конце января 1906 года в периодической печати появились заметки, что дирекцией «Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской» ведутся переговоры о снятии театра на Офицерской. Слухи стали действительностью. В начале февраля уже сообщается, что снятый В. Ф. Комиссаржевской театр будет перестроен, и дирекцией ассигнована сумма в несколько десятков тысяч рублей. О направлении, репертуаре сведений для большой публики не было, но перемены в администрации, приглашение режиссером, вместо Н. А. Попова, В. Э. Мейерхольда давало повод предполагать, что театр вступит на новый путь. Брожение политическое 1905–1906 года не могло не захватить и сценических деятелей. Дань увлечению протестами отдал и художественный мир. Вчерашние декаденты, кричавшие о «новой красоте», делаются ярыми социал-демократами; но увлечение политическими запросами продолжалось не долго. Подготовляемый журналами «Мир Искусства», «Весы», «Вопросы Жизни» перелом в художественной сфере, в искусстве уже совершился. Творения «модернистов», «декадентов» распространяются в массе экземпляров; к крику поэта: «для новой красоты нарушаем все законы, преступаем все черты» не только прислушались, взяли лозунгом, но началось уже практическое выполнение призывов мятущегося духа, в противовес «кухне реализма». Пронесшись ураганом, «переоценка ценностей» захватила в свою полосу и театр. Мечты о «классовом» театре были отброшены, художники вспоминали о святой обязанности завоевать свободу к проявлению своего «я», показать душу, красоту, грезу. В литературных кругах вопросы искусства, ближайшие задачи театра, его реформа, возбуждают горячие дебаты, в разборе направлений создаются и ярко определяются партии.
А. Зонов. Памяти В. Ф. Комиссаржевской
В Комиссаржевской было что-то над-бытовое, что-то отрицавшее быт, была какая-то своя личная песня, которую она постоянно пела и которая так увлекала публику, и не только потому, что песня эта была обворожительно-прекрасна для публики, но и потому, что в ней она чувствовала отголосок какого-то надвигающегося нового гимна.
Застой, в чем бы он ни выражался, был для нее пыткой. В ней свили себе гнездо дух непоседливости, жажда перемен, исканий, путешествий, открытий.
«Мейерхольдовский период» был естественным этапом ее жизненной сказки.
А. Кугель[55]. Театральные портреты
У Веры Федоровны Комиссаржевской были глаза и голос художницы. В. Ф. Комиссаржевская видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз; оттого эти большие синие глаза, глядящие на нас со сцены, так удивляли и восхищали нас; говорили о чем-то безмерно большем, чем она сама.
А. Блок
Несчастная душа современности – вот что больше всего привлекало в Комиссаржевской. Комиссаржевская и лицом, и талантом, и душой была асимметрична именно потому, что была слишком современна, как боль сегодняшнего дня.
А. Кугель
«Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской» был основан артисткой в 1904 году; первые сезоны, не порывая решительно с театром старым, ограничивались полумерами, как в смысле репертуара, так и режиссуры; только спустя две зимы Вера Федоровна поняла, что «ее театр не тот», о котором она «грезила на казенной сцене» и для которого «собирала деньги в провинции».
Весной 1906 года Комиссаржевская приступила к реформе своего театра, дабы сделать его «театром свободного актера, театром духа, в котором все внешнее зависит от внутреннего». Приглашение на пост главного режиссера В. Э. Мейерхольда, уже успевшего к этому времени приобрести репутацию смелого новатора, закрепляло такую перемену художественного вкуса.
В Петербурге было много разговоров о театре, говорили тоже о театре Комиссаржевской: новый режиссер этого театра В. Э. Мейерхольд получил известность как человек, мечтающий о «новом» театре. Впрочем, мечтания его были не очень ясны. Он из московского театра-студии, который не открыл своих дверей для публики. Однако после нескольких бесед на «средах» Вяч. Иванова и в некоторых других петербургских кружках удалось выяснить, что В. Э. Мейерхольд наметил некоторые определенные художественные методы, которые мечтает применить к своим постановкам; эти методы – стилизация обстановки и утверждение ритма в диалоге и действии.
Г. Чулков. «Балаганчик»
Вступив на новый путь исканий, Вера Федоровна отдала не только свою артистическую душу, не только смело бросилась сама, но и привлекла к себе все, рвущееся от рутины. При театре образовался кружок молодых, «субботы» в театре собирали художников и писателей нового направления, где делились впечатлениями, планами; верилось, что театр должен создать что-то новое, небывалое, встряхнуть оковы традиций.
А. Бонов
Начались субботние сборища в клубе театра. Пригласили на них и Блока. В первый субботний вечер он прочитал там своего «Короля на площади». Бурный успех. На третьем сборище Брюсов читал свои стихи. «Король на площади» и ему понравился. Он просил его в «Весы». О том же просил «Гриф» и наконец «Золотое Руно», где и был напечатан впервые «Король на площади».
М. А. Бекетова
Актерская среда приняла Александра Александровича с распростертыми объятиями. Любили его как поэта и просто как обаятельного человека. Восхищало полное соответствие внешнего облика со стихами. Нравилась его милая, застенчивая и скромная манера, в которой было столько детского.
М. А. Бекетова
«Театр на Офицерской» включил среди прочего в свой репертуар и блоковский «Балаганчик», и 31 декабря, в последний день старого года, – состоялось первое представление первой лирической драмы Блока. «Балаганчик» шел в постановке В. Э. Мейерхольда, в декорациях Η. Н. Сапунова, в сопровождении музыки М. А. Кузьмина.
Н. Волков
Значение Сапунова в театральной живописи несомненно большое: он первый своими декорациями сказал публике громко и ясно: «смерть быту». То, что он предъявил публике в «Балаганчике» Блока, было лишь талантливым продолжением начатого вне всяких компромиссов и, между прочим, лишним доказательством того парадоксального для многих положения, что тонкая душа художника являет эстетизм и в сфере нарочитой грубости.
Н. Евреинова
В первой картине блоковского «Балаганчика» на сцене длинный стол, до пола покрытый черным сукном, поставлен параллельно рампе. За столом сидят «мистики» так, что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук. Оказывается, что это из картона были выкроены контуры фигур и на них сажей и мелом намалеваны были сюртуки, манишки, воротнички и манжеты. Руки актеров просунуты были в круглые отверстия, вырезанные в картонных бюстах, а головы лишь прислонены к картонным воротничкам.
Вс. Мейерхольд. О театре
Как-то разговорились перед репетицией у Мейерхольда. Я его спрашиваю: доволен ли он своими пьесами у Комиссаржевской? Он молчит, а потом с твердостью отвечает: «Нет, меня оскорбляло». Кажется, и он не верит в театр.
3. Н. Гиппиус
Дорогой Всеволод Эмильевич!
Пишу Вам наскоро то, что заметил вчера. Общий тон, как я уже говорил Вам, настолько понравился мне, что для меня открылись новые перспективы на «Балаганчик»: мне кажется, что это не одна лирика, но есть уже и в нем остов пьесы; я сам стараюсь «спрятать в карман» те недовольства, которые возникают в моей лирической душе, настроенной на одну песню и потому ограниченной; я гоню это недовольство пинками во имя другой и более нужной во мне ноты – ноты этого балагана, который надувает и тем самым «выводит в люди» старую каргу, сплетенную из мертвых театральных полотнищ, веревок, плотничьей ругани и довольной сытости.
Это последнее и глубоко искреннее, что сейчас могу сказать Вам, может быть, потом скажу больше и точнее. Извините, что заболтался, все это захотелось сказать Вам вообще, потому что мне казалось, что Вы думаете, будто я только «мирюсь». Но поверьте, что мне нужно быть около Вашего театра, нужно, чтобы «Балаганчик» шел у Вас; для меня в этом очистительный момент, выход из лирической уединенности. Да и к тому же за основу своей лирической души я глубоко спокоен, потому что знаю и вижу, какую истинную меру соблюдает именно Ваш театр: того, чего нельзя продавать толпе, этому слепому и отдыхающему театральному залу, – он никогда не продаст – ни у Метерлинка, ни у Пшибышевского. И для меня в этом чувствуется факт очень значительный – присутствие истинной любви, которая одна спасает от предательства.
Письмо к В. Э. Мейерхольду 22/XII 1906 г.
Новая постановка театра на праздниках, 31-го декабря, «Чудо странника Антонио» Метерлинка и «Балаганчик» Блока снова лишила обычных критериев оценки. В смысле режиссерском, по своей художественной интуиции, спектакль этот может считаться самым знаменательным и ярким явлением в истории театра последних лет. Первая пьеса, поставленная в стиле театров марионеток, после применения новых приемов, приучивших уже публику к исканиям руководителей, кое-как принималась без особых протестов, но «Балаганчик» вызвал «какое-то столпотворение». Публика разделилась на два лагеря: одни, доходя до ярости, свистали и шикали, другие – не менее дружно аплодировали. Если после первых спектаклей театра присутствующие сравнительно мирно, чинно, разбирали и спорили, здесь прямо уже ругались. Страсти разгорались, и это продолжалось на каждом спектакле, когда «протестующие даже вооружились… ключами». Имя Мейерхольда было известно всему театральному Петербургу, было темой для шаржей и пародий. Вера Федоровна в этом спектакле не участвовала.
А. Зонов[56]
Постановка… «Балаганчика» Александра Блока представляет значительную ценность. Эта постановка, несмотря на ее несовершенство, несмотря на торопливость, которая чувствуется в руке режиссера, волнует меня и всех, кому внятны полуулыбки Блока. Конечно, «Балаганчик» не так поставлен, как его возможно будет поставить в ином театре, которому суждено родиться в иной, послезавтрашней культуре, но сегодня пусть играют «Балаганчик» с музыкой Кузьмина, пусть Пьеро-Мейерхольд нелепо болтает своими руками, пусть будет так сладостно и жутко предчувствовать Будущее, прозревать его сквозь смешные и трогательные двойные маски, что, неожиданно, пришли с чужого берега. Театр Александра Блока – это уже событие.
Г. Чулков
Театр Комиссаржевской поставил его «Балаганчик» под свист одних и аплодисменты других. За Блоком установились «эпитеты» – верный знак популярности. А. А. Измайлов назвал его стихи «цветами новой романтики», К. И. Чуковский определил его, как «поэта Невского проспекта», В. Я. Брюсов приветствовал в нем поэта «дня, красок и звуков». Вспоминается, как при первом представлении «Балаганчика» в театре Комиссаржевской среди зрителей шла успешная работа по пригонке символов пьесы к современным событиям.
С. Городецкий. Рец. на «Лирические драмы»
9 Ноября было назначено общее собрание труппы, где Вера Федоровна прочла написанное В. Э. Мейерхольду письмо следующего содержания: «За последние дни, Всеволод Эмильевич, я много думала и пришла к глубокому убеждению, что мы с Вами разно смотрим на театр, и того, чего ищете Вы, не ищу я. Путь, ведущий к театру кукол, – к которому Вы шли все время, не считая таких постановок, в которых Вы соединили принципы театра «старого» с принципами марионеток (например «Комедия любви» и «Победа смерти»), не мой. К моему глубокому сожалению, мне это открылось вполне только за последние дни, после долгих дум. Я смотрю будущему прямо в глаза и говорю, что по этому пути мы вместе идти не можем; путь это ваш, но не мой, и на вашу фразу, сказанную в последнем заседании нашего художественного совета: «Может быть, мне уйти из театра?» – я говорю теперь – да, уйти Вам необходимо. Поэтому я больше не могу считать Вас моим сотрудником, о чем просила К. В. Бравича сообщить труппе и выяснить ей все положение дела, потому что не хочу, чтобы люди, работающие со мной, работали с закрытыми глазами».
Решение порвать совместную работу явилось неожиданностью. В. Э. Мейерхольд вызвал Веру Федоровну на третейский суд, который, под председательством Пергамента, и вынес следующую резолюцию: «Признать обвинение в нарушении этики В. Комиссаржевской, возбужденное Мейерхольдом, неосновательным, потому что поведение В. Комиссаржевской основывалось на соображениях принципиального свойства в области искусства, и признать, что форма, в которую было облечено прекращение совместной работы, не является оскорбительной для Мейерхольда». Инцидент вызвал длинный ряд газетных статей и заметок. Разбирали поступок Веры Федоровны с точки зрения профессиональной этики, гадали о направлении театра, его будущем. Несочувствующие новым путям театра, его исканиям, рассчитывали, что Вера Федоровна вступила на старый путь. Радовались, что она избавилась от «кошмара стилизации», забывая, что такой яркой, вечно ищущей индивидуальности, с тонким художественным чутьем, как Вера Федоровна, нельзя вернуться назад.
А. Зонов
Постановка «Балаганчика» имела важные последствия. Близкое знакомство с актерской средой отмечено в автобиографии Ал. Ал. в числе важнейших моментов жизни. После первого представления на «бумажном балу» у Веры Ивановой началось увлечение Нат. Ник. Волоховой[57]. В эту снежную вьюжную зиму создалась «Снежная Маска». Как это произведение, так и все, что значится в цикле «Фаина», – составляет одну повесть. Стихи говорят за себя. Здесь отразился весь «безумный год», проведенный «у шлейфа черного».
М. А. Бекетова
Вот явилась. Заронила Всех нарядных, всех подруг, И душа моя вступила В предназначенный ей круг. И под знойным снежным стоном Расцвели черты твои. Только тройка мчит со звоном В снежно-белом забытьи. Ты взмахнула бубенцами, Увлекла меня в поля… Душишь черными шелками, Распахнула соболя… И о той ли вольной воле Ветер плачет вдоль реки, И звенят, и гаснут в поле Бубенцы, да огоньки? Золотой твой пояс стянут, Нагло скромен дикий взор! Пусть мгновенья все обманут, Канут в пламенный костер! Так пускай же ветер будет Петь обманы, петь шелка! Пусть навек не знают люди, Как узка твоя рука! Как за темною вуалью Мне на миг открылась даль… Как над белой снежной далью Пала темная вуаль…Декабрь 1906 г.
Скажу одно: поэт не прикрасил свою «снежную деву». Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, какое это было дивное обаяние. Высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы, и глаза, именно «крылатые», черные, широко открытые «маки злых очей». И еще поразительна была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили: «раскольничья богородица».
М. А. Бекетова
Жить становится все трудней – очень холодно. Бессмысленное прожигание больших денег и полная пустота кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно, и не любили никогда. Очутился на каком-то острове в пустом и холодном море (да и морозы теперь стоят по 20 градусов, почти без снега, с пронзительным ветром). На остров люди с душой никогда не приходят, а приходят все по делам – чужие и несносные. На всем острове – только мы втроем, как-то странно относящиеся друг к другу – все очень тесно. Я думаю, что, если бы ты была в этом городе, то присоединяла бы к этим трем тоскам свою четвертую тоску. Все мы тоскуем по-разному. Я знаю, что должен и имею возможность найти профессию и надежду в творчестве, и что надо взять в руки молот. Но не имею сил – так холодно. Тем двум – женщинам с ищущими душами, очень разным, но в чем-то неимоверно похожим – тоже страшно холодно.
Письмо к матери 9/XII 1907 г.
И я провел безумный год У шлейфа чорного. За муки, За дни терзаний и невзгод Моих волос касались руки, Смотрели темные глаза. Дышала синяя гроза.21 октября 1901
«Черный шлейф», у которого провел Блок целый год, не принес ему ни жизненного, ни творческого счастья.
Вл. Пяст
Летом 1906 года был написан «Король на площади».
М. А. Бекетова
Понемногу учась драматической форме и еще очень плохо научившись прозаическому языку, я стараюсь отдавать в стихи то, что им преимущественно свойственно – песню и лирику, и выражать в драме и в прозе то, что прежде поневоле выражалось только в стихах.
Письмо к В. Брюсову от 24/IV 1907 г.
Драмы я продал «Шиповнику». Буду получать 150 р. с тысячи (сразу напечатают только 1000, но сохранят т. наз. «матрицу», т. е. нечто вроде стереотипа), и немедленно приступят к изданию второй тысячи, как только на складе останется 200 экземпляров. 150 р. – это очень мало, но, по крайней мере, это будет книга, по которой я буду видеть наглядно, как относится ко мне публика (ведь если бы раскупили 10000 – я получил бы 1500 р.!) Так вот – это все для денежных расчетов, а внутри – тихо и грустно.
Письмо к матери 20/ΙΧ-1907 г.
Настроение отвратительное, т. е. было бы совсем мерзкое, если бы я не был постоянно занят – это спасает. Кончаю мистерию[58]; кажется, удачно.
Письмо к матери 29/Х-1907 г.
Драма подвигается, теперь пишу четвертый акт. Это – целая область жизни, в которой я строю, ломаю и распоряжаюсь по-свойски. Встречаюсь с хорошо уже знакомыми лицами и ставлю их в разные положения по своей воле. У них – капризный нрав, и многое они открывают мне при встрече.
Письмо к матери 17/1-1908 г.
Я собираю и тщательно выслушиваю все мнения как писателей, так и неписателей, мне очень важно на этот раз, как относятся. Это – первая моя вещь, в которой я нащупываю не шаткую и не только лирическую почву, так я определяю для себя значение «Песни Судьбы», и потому люблю ее больше всего, что написал. Очень хочу прочесть ее тебе в новом, отделанном виде.
Письмо к матери 3/V-1908 г.
Читал «Песню Судьбы» Городецким и Мейерхольду. Мейерхольд сказал очень много ценного – сильно критиковал. Я опять усомнился в пьесе. Пусть пока лежит еще. Женя[59], по-прежнему, относится отрицательно.
Письмо к матери 18/VII-1908 г.
«Лирические драмы» Блока принадлежат к тому роду интимных произведений, которые появляются в эпохи переломов как в жизни народов, так и в жизни барометров их – поэтов. Критический возраст русской жизни в острейшем своем моменте совпал с кризисом в творчестве Блока, переходящего от декадентской лирики к общенародной драматургии, – и в результате мы имеем любопытнейшую книгу.
Нельзя не упомянуть о рисунке Сомова на обложке и музыке Кузьмина к «Балаганчику». В том, как совпали настроения художника-пессимиста, изобразившего трагическое и комическое под эгидой смерти, раздвигающей занавес, и композитора, сложившего безнадежную и пленительную музыку, с настроениями автора, нельзя не видеть большого и печального смысла, характерного для наших дней.
С. Городецкий
Глава одиннадцатая Годы реакции (1906–1910)
Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые Как слезы первые любви! А. БлокРеакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся было жизни. Перед глазами нашими – несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах. Редко, даже среди молодых, можно было встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо свое до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утонченности, исключительного себялюбия.
А. Блок
Чувство «катастрофичности» овладело поэтами с поистине изумительною, ничем непреоборимою силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы. И в то время, как я и Вячеслав Иванов, которому я чрезвычайно обязан, не потеряли еще уверенности, что жизнь определяется не только отрицанием, но и утверждением, у Блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного «нет». Он уже тогда ничему не говорил «да», ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря. Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый, загадочно-красивый, он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и, в сущности, уже безумным человеком. Блок уже тогда сжег свои корабли.
Г. Чулков
Обыски настолько повальные, что к нам, я думаю, придут скоро. Но не найдут ничего, только выворотят все и, может быть украдут ложки, как бывает иногда. После этого я Столыпину не буду подавать руки.
Письмо к матери [декабрь 1906]
Зиму 1907–1908 гг. А. А. проводил в Петербурге в заботах и интересах, совсем схожих с нашими; разойдясь решительно в литературных платформах, вдыхали мы оба все ту же стихию, естественно вызывавшую необходимость помощи нелегальным; и я надрывался от лекций; и я, как А. А., – «попадался»: лекции в «пользу» большевиков устраивала мне Путято, которую скоро потом уличил в провокации Бурцев; объяснялись провалы всех сборов и конфискации денег полицией; и объяснялись аресты; полиция почему-то меня не тревожила…
А. Белый
На улице – ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране – «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», ненужных, – ничего в России бы не убавилось и не прибавилось!
А. Блок
На почве таких мыслей и настроений создался наделавший столько шума доклад «Интеллигенция и народ». Впервые он был прочитан 13 ноября 1908 года в Религиозно-Философском обществе и при большом стечении публики. После заседания, на котором выступали еще Баронов[60] и Розанов, Блока окружило человек пять сектантов. Звали к себе. Доклад об «Интеллигенции и народе» возмутил Струве, который заявил Мережковскому, что отказывается печатать его в «Русской Мысли», где он должен был выйти. Мережковский, которому доклад был во многом близок, отстаивал его перед Струве, что послужило одним из поводов его разрыва с «Русской Мыслью».
12 декабря 1908 года состоялось второе чтение доклада в «Литературном Обществе». Здесь была публика нарочито интеллигентская. И опять-таки очень многочисленная. С. А. Венгеров заявил добродушно, что это уж не доклад, а стихи. Зато Рейснер (профессор и ученик Сашиного отца, Ал. Львовича Блока) объявил, что Ал. Ал. опозорил своим докладом имя глубокоуважаемого родителя. На что молодая социал-демократка с улыбкой возражала: «Зачем стрелять из пушек по воробьям? Это такие миленькие серенькие птички. Чирикают и никому не мешают». Заседание вышло знаменательное.
М. А. Бекетова
А. Родченко. Иллюстрация к стихотворению «В ресторане».
1915 г.
На собрании слушали меня очень хорошо, после собрания обступили сектанты – человек пять и зовут к себе. Пойду.
Письмо к матери 16/XI 1808 г.
В то время, как литература наша вступает в период «комментариев» (или проще: количество критических разговоров несравненно превышает количество литературных произведений), в то время, как мы в интеллигентских статьях ежедневно меняем свои мнения и воззрения и болтаем, – в России растет одно грозное и огромное явление. Корни его – не в одном «императорском периоде», на котором все мы, начиная с Достоевского, помешались, а в веках гораздо ранних. Явление это – «сектантство», как мы привыкли называть его; всё мы привыкли называть, надо всем ставить кавычки; отбросьте кавычки, раскройте смысл, докопайтесь до корня. И выйдет, что слово это мы, как сотни других слов, произносим для собственного успокоения; его коренной смысл – широк, грозен, слово это – пламенное слово.
Ал. Блок
Мы ненавидим – православную черную сотню, мы придумаем про раскольников «рационализм» (толстовцы, Милюков), только бы «не слышать». А стихия идет. Какой огонь брызнет из-под этой коры – губительный или спасительный? И будем ли мы иметь право сказать, что это огонь – вообще губительный, если он только нас (интеллигенцию) погубит?
26 декабря 1908 г.
Из записных книжек А. Блока
Мережковские и другие, стоявшие у кормила Религиозно-Философского общества, переживали тогда моду на «людей от земли» из «народной толщи»; тяготение к таким людям было и у Александра Александровича.
К числу этих людей у Мережковских относили Пимена Карпова[61], Сергея Есенина, Николая Клюева и меня. Первые трое и в литературе и в жизни так и заявляли, что они «землю знают».
А. Скалдин[62]. О письмах Блока ко мне
Всего важнее для меня – то, что Клюев написал мне длинное письмо о «Земле в снегу», где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, напр., за Вольные мысли). И я поверил ему в том, что даже я, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но еще лучше, что указывает мне на это именно Клюев. Другому бы я не поверил так, как ему.
Письмо к матери 2/ΧΙ-1908
К Мережковским приходил Струве, совершенно возмущенный моим рефератом. И намекал, что он, как редактор, имеет право не пропустить такой «наивной» статьи «только что проснувшегося человека» в «Русскую Мысль». Ближайшим последствием этого может быть разрыв М-их и с «Русской Мыслью». Они говорят, что будут стоять за мою статью, как за свою. Я говорю, что им необходим свой журнал. Философов говорил со мной о положении их очень откровенно.
Письмо к матери 16/ΧΙ-1908
Получил я от Гиппиус милое и грустное письмо. Они ушли из «Русской Мысли».
Письмо к матери 6/ΧΙΙ-1908
Опять встреча с Блоком. По внешности он изменился мало. Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить с Блоком особым языком, около слов. Стал ли Блок взрослым? У него есть как будто новые выражения и суждения «общие». Так же мучительно-медленны его речи. А каменное лицо этого поэта еще каменнее. В нем печать удивленного, недоброго утомления. И одиночества, не смиренного, но и не буйного, только трагичного. Впрочем, порою что-то в нем настойчиво горело и волновалось, хотело вырваться в словах и не могло, и тогда глаза его делались недоуменно, по-детски огорчены.
Как-то Блок читал мне свою драму. Очень «блоковская» вещь. Называли ее по имени героини «Фаиной». Блок читает – как говорит, глухо, однотонно. И это дает своеобразную силу его чтению. Чем дальше слушаю, тем ярче вспоминаю прежнего, юного Блока. Но это не Фаина… «года проходят мимо, предчувствую: изменишь облик Ты». Я говорю: Но ведь это же не Фаина, это она. Ведь это Россия. И он отвечает также просто: Да, Россия, может быть, Россия. Вот это и было в нем новое, по-своему глубокое и мучительно оформившееся. Налетная послереволюционная «общественность» на нем держалась. Наедине с ним все становилось понятней: он свое для себя вырастил в душе. Свою Россию и ее полюбил, и любовь свою полюбил – «несказанную».
3. Н. Гиппиус
Опять над полем Куликовым Взошла и расточилась мгла. И, словно облаком суровым, Грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, За разливающейся мглой, Не слышно грома битвы чудной, Не слышно молньи боевой. Но узнаю тебя, начало Высоких и мятежных дней! Над вражьим станом, как бывало, И плеск и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, Не даром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. – Молись!23 декабря 1908
1908 год – гнет ожидания: испытаний…
Стихи о Прекрасной Даме когда-то нас сблизили с Блоком; а «Куликово Поле», «Серебряный Голубь» свели нас вторично. В Гоголе соединились мы снова; мы оба увидели в Гоголе муки боли, рождающей новое, будущее России…
А. Белый
Общественность Блока в то время свершалась не в заседаниях, а – в прогулках по Петербургской стороне; иногда он захватывал на прогулки меня; мы блуждали по грязненьким переулкам, наполненным к вечеру людом, бредущим от фабрик домой (где-то близко уже от казарм начинался рабочий район); здесь мелькали измученные проститутки-работницы; здесь из грязных лачуг двухэтажных домов раздавалися пьяные крики; здесь в ночных кабачках насмотрелся Александр Александрович на суровую правду тогдашней общественной жизни; о ней же он, мистик-поэт, судил резче, правдивей, реальней ходульных общественников, брезгающих такими местами, предпочитающих «прения» с сытыми попиками.
А. Белый
Долгое время у меня копилось недоброжелательство на Мережковских. Вчера, наконец, я очень хорошо и откровенно поговорил со всеми ими, и теперь опять все хорошо. Система откровенного высказыванья (даже беспощадного) – единств, возможная, иначе – отношения путаются невероятно.
Письмо к матери 24/XI—1908
Своеобразность Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно – как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит, он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ, он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но повторяю – все в нем было своеобразно, угловато и неожиданно. Он имел свои собственные мнения относительно общественных вопросов, хотя находился вне многих интеллигентских группировок, и были они неопределенные в общем, резки в частностях. Столкновения с Блоком происходили изредка только на этой почве. Мимолетные, правда. Ведь общих дел у нас не было. Но подчас столкновения были резкие…
3. Н. Гиппиус
Мало сказать, что с религиозных собраний уходишь с чувством неудовлетворенности; есть еще чувство грызущей скуки, озлобления на всю неуместность происходившего, оскорбления за красоту, за безобразность. Между романами Мережковского, некоторыми книгами Розанова и их религиозно-философскими докладами – глубокая пропасть. Это – своего рода словесный кафе-шантан, и не я один предпочту ему кафе-шантан обыкновенный, где сквозь скуку прожжет порою «буйное веселье, страстное похмелье».
А. Блок
Я в переписке с Розановым. Ему написал два письма и от него получил одно большое, умное и интересное. Он старается оправдаться в том, будто он за смертную казнь, а мне доказывает, что я не против террора. Я, действительно, не (не осуждаю)… против террора сейчас, о чем и пишу ему.
Письмо к матери 21 /П-1909 г.
Завтра пойду к Мережковским, очень хорошее письмо мне написала Зинаида Николаевна в ответ на мое злое письмо о том, что мне тошно слышать о Христе. Пишет, что они оба нас все больше уважают и любят.
Письмо к матери 7/III-1909 г.
Вчера днем мы с Любой были у Мережковских, простились и перецеловались. Я их люблю все-таки – всех трех: в них есть вкус, злоба и воля.
Письмо к матери. 13/IV-1909 г.
С Мережковскими произошел временный, но острый разрыв. Еще летом 1910 года Мережковский написал фельетон, рассердивший Блока, которого он осыпал едкими либеральными упреками, касавшимися и вообще символистов. Обвинения были направлены по обыкновению в сторону недостатка общественности. По тону и по характеру нападений фельетон был так неприятен, что Ал. Ал. рассердился не на шутку, даже против обыкновения, и написал Мережковскому, накануне его отъезда в Париж, резкое письмо.
В конце ноября он пишет матери: «Я вообще чувствую себя уравновешенным, но сегодня изнервлен этими отписками Мережковскому. Это просто противно. Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие его по наследству с Запада (Мережковский и Минский), растратили его и теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. К тому же они любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружены в настоящее, смешивают все в одну кучу (религию, искусство, политику, и т. д. и т. д.) и предаются истерике. Мережковскому мне пришлось просто прочесть нотацию».
Получив от него длинный ответ в смиренном тоне с уверениями в искренности и «взволнованности», Ал. Ал. еще пуще рассердился: «Лучше бы он не писал вовсе, – пишет он матери – Письмо христианское, елейное, с объяснениями, мертвыми по существу».
Написав ответ еще более резкий, Ал. Ал. истратил весь запас своего гнева и не стал возражать Мережковскому печатно, несмотря на то, что собирался сделать это непременно. Гнев его остыл.
М. А. Бекетова
Несчастны мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву – для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за китайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный общий враг наш – российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники – не показывают своего лица, а натравляют нас друг на друга.
…Я считаю теперь себя в праве умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях.
Письмо к матери 13/IV-1909 г.
Единственное место, где я могу жить, – все-таки Россия, но ужаснее того, что в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде. Утешает меня (и Любу) только несколько то, что всем (кого мы ценим) отвратительно – всё хуже и хуже.
Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться и как будто некуда вернуться – на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, цензура не пропустит того, что я написал. Пишу я мало и, вероятно, буду еще долго писать мало, потому – нужно найти заработок.
Письмо к матери 19/VI-1909 г.
Более, чем когда-нибудь, я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя – не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня – все та же – лирическая величина. На самом деле – ее нет, не было и не будет.
Я давно уже читаю «Войну и Мир» и перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует.
Письмо к матери 19/VI-1909 г.
Глава двенадцатая Годы реакции. Продолжение
Печальная доля – так сложно, Так трудно и празднично жить, И стать достояньем доцента, И критиков новых плодить… А. БлокПетербург совсем переменился, мама. Того, чего я боялся, нет пока. Даже Кузьмин скрывает свою грусть. Ауслендер говорит, что если жизнь станет «серьезной», Кузьмин опять уйдет совсем от людей и будет жить, как прежде, в раскольничьей лавке. – Народу я видел много, и все это было грустно: все какие-то скрытные, себе на уме, охраняющие себя от вторжения других. Кажется, я и сам такой. Появился на моем горизонте новый тип подобострастных людей: сейчас ушел приходивший второй раз редактор нового журнальчика «Луч» (я пришлю тебе первый номер), который кланяется чуть не в пояс, говорит на каждую фразу «спасибо» и оставляет денежные авансы.
Письмо к матери 20/ΙΧ 1907 г.
В среде поэтов модернизма установилась «табель о рангах», согласно которой Ал. Блок занимает определенное довольно видное положение, не только непосредственно после вождей – Бальмонта, Брюсова и Вяч. Иванова, но даже оспаривая именно это положение maitr'a.
Н. Я. Абрамович
Пишут обо мне страшно много и в М-ве и здесь – и ругают, и хвалят. Почти все озадачены моей деятельностью в «Руне» и, вероятно, многие думают обо мне плохо. Приготовляюсь к тому, что начнут травить. Печаль и бодрость все по-прежнему. Стихов еще не
Письмо к матери 28/IX 1907 г.
Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь.
1906 г.
Из записных книжек А. Блока
Я чувствую себя бодро и здорово, ко мне приходят, помимо приглашателей на концерты, от которых я стал отказываться, – начинающие писатели. Я даю им советы, чувствую, что здоровые и полезные, они рассказывают о публике, о провинции: люди иногда простые, всегда бездарные.
Письмо к матери 21 /XI 1907 г.
Я с особенным интересом и вниманием наблюдал за взаимоотношениями Блока и его собратьев по перу. В них была трогательная любовность и вместе с тем сознание глубокого превосходства Блока над всеми ними. И поэт хорошо понимал эти чувствования по отношению к нему. Он отвечал ласковым вниманием, но без малейшего оттенка покровительственной снисходительности. Сколько раз ни случалось мне потом встречаться с Блоком, он никогда не пытался разыгрывать роль maitre'a, даже при общении с самыми юными литературными дебютантами.
В описываемый вечер таковые оказались и в нашей среде. По настоянию Блока, «волнуясь и спеша», прочитали они кое-что из своих произведений. И ко всем Блок отнесся с ласковою благожелательностью, а одному молодому политическому поэту, описывавшему смертную казнь в крепости, дружески посоветовал отбросить риторическое заключение, и от этой безболезненной операции стихотворение, к великому восторгу автора, значительно выиграло в своей выразительности.
Сергей Штейн\ Воспоминания об Ал. Ал. Блоке
Блока мало читают и мало знают; его книга распространяется очень медленно. Но молодой поэт может гордиться теми немногими верными, искренними поклонниками, которые особенно часты среди молодежи.
Николай Поярков [63]. Поэты наших дней (Критические этюды)
Помню, как мы, восемнадцатилетние юноши, собирались в кабаках Петербурга, где-нибудь на Рождественской, и за бутылкой пива читали его стихи. Наша молодость вырастала под знаком Блока.
Юрий Анненков. Смерть Блока.
Пока я живу таким ускоренным темпом, как в эту зиму, – я «доволен», но очень допускаю, что могу почувствовать отчаяние, если ослабится этот темп.
Письмо к матери 1907 г.
В Москве все мирно. «Золотое Руно» ежедневно устрояет торжественные пьянства (или «оргийные празднества») – и это все, о чем говорит наш литературный мир. Ресторан Метрополь изобрел даже особое парфэ – «Золотое Руно».
Письмо В. Брюсова к В. Перцову 17/ΙΙ-1906 г.
Мелкие заботы – литературные. Страшно много надо писать, критику в «Руно», фельетон в «Своб. Мысли», всюду рассылать стихи – и при всем этом находить время заниматься расколом и историей театра, да еще не быть в состоянии написать драму и таскать ее в себе.
Письмо к матери 28/IX-1907. [64]
Декаденты празднуют победу, г-н Горнфельд говорит о торжестве победителей, а Л. Галич[65] жалуется на то, что мы в «плену у лирики».
Декаденты действительно торжествуют. Главное их торжество не в том только, что им удалось выйти из своей «келий под елью» на широкую улицу, а что они перестали быть в глазах читателей особой школой, направлением в русской литературе. Это им удалось благодаря соединению с враждебным дотоле лагерем так называемых реалистов. Если Горький и Брюсов были два антипода, то теперь, благодаря Леониду Андрееву, который встал у самого водораздела, антиподы встретились, Леонид Андреев пьет воду у обоих источников. Оба лагеря считают его своим. Между сборниками «Знания», альманахами «Шиповник», «Факелы» и декадентскими журналами «Весы», «Золотое Руно», «Перевал» завязались как будто дружеские связи. Границы отдельных течений стерлись, все смелось в бурном водовороте ультрасовременной литературы, которой одни дают кличку «мистического анархизма», другие «соборного индивидуализма», а третьи, наиболее желчные – «хулиганства».
Д. Философов. Дела домашние
Эпоха альманахов характерна именно, как показатель полнейшего разлада литературных школ, распайки тех духовных течений, которые еще так недавно определяли русскую литературную жизнь. Групповое, соборное, артельное идейное творчество заменилось творчеством эклектическим, и то обстоятельство, что в большинстве этих альманахов писатели-модернисты встречались со «Знаньевцами» – Белый, Брюсов, Блок, Сологуб с Юшкевичем, Серафимовичем, Найденовым и Чириковым – свидетельствует о явлении, несколько более значительном, чем та «победа декадентов», которую провозгласили иные литературные круги. Здесь мы наблюдаем отнюдь не слияние двух направлений доселе враждебных, а, напротив, их полнейшую внутреннюю дезорганизацию, и когда пышноватая пьеса Найденова «Хорошенькая» выходила в «Шиповнике» под утонченнейшей обложкою В. Сомова, когда И. Потапенко в «Современном Мире» сталкивался с Валерием Брюсовым, а г. Брешко-Брешковский в «Ниве» с Александром Блоком, то это свидетельствовало только о том, что в общественном сознании давно порвалась та нить, которая привязывала Сомовых к «Миру Искусства», а Найденовых к «Знанию». Здесь скорее инерция, чем взаимное притяжение; скорее эклектизм, чем синтез.
К. Чуковский. Русская литература
В Москве издаются три декадентских журнала: «Весы», «Перевал» и «Золотое Руно». Но совершенно неизвестно, чем один журнал отличается от другого, где кончаются «Весы» и где начинается «Перевал». Почти те же сотрудники, везде попадаются интересные статьи, и везде чувствуется – как бы сказать повежливее? – слишком сильный привкус именно «мистического анархизма». Отличаются журналы, и очень резко, только шрифтом, обложкой и форматом…
Но… если для нас, «профанов», журналы эти ничем не отличаются друг от друга, то для посвященных – между ними непроходимая пропасть, «Гриф» клюет «Скорпиона», «Скорпион» жалит «Грифа», и оба вместе поедом едят беззащитное «Золотое Руно».
Д. Философов
В августовских №№ большинства московских газет и петербургских и в некоторых №№ провинциальных газет было напечатано два следующих «письма в редакцию».
I
Позвольте через вашу уважаемую газету довести до сведения наших читателей, что мы более не считаем возможным сотрудничать в «Золотом Руне» г. Н. Рябушинского и никакого участия в этом журнале более не принимаем. Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Валерий Брюсов, Андрей Белый.
II
Вполне присоединяясь к письму Д. Мережковского, 3. Гиппиус, Валерия Брюсова и Андрея Белого, мы также более не считаем возможным сотрудничать в «Золотом Руне» г. Н. Рябушинского и никакого участия в этом журнале более не принимаем. М. Кузьмин, Ю. Балтрушайтис, М. Ликиардопуло[66].
«Весы», 1907 № 8
Дорогой Георгий Иванович! Я и отказываюсь решительно от «мист. анархизма», потому что хочу сохранить «душу незыблемой». Точно так же откажусь от «мист. реализма», «соборн. индивидуализма» и т. и. – если меня туда потянут. Я прежде всего – сам по себе и хочу быть все проще. Если Вы будете возражать Семенову, это хорошо, потому что – что может значить: «l'anarchisme mysterieux n'est pas une ecole, mais un courant de la nouvelle poesie russe»? Что ecole, что courant – все единственно, и это доказывается далее немедленно приводимой схемой, в которой все – оспоримо. В частности, поэты самые замечательные, по-моему, и такие, к которым я был всегда близок и не имею причин не быть близким, разбросаны по разным рубрикам. Это – Бальмонт, Брюсов, Гиппиус, Андрей Белый. Из них Брюсова я считал, считаю и буду считать своим ближайшим учителем – после Вл. Соловьева. Вот почему мне необходимо опровергнуть Семенова печатно. Второе – я сделаю это в «Весах», потому что глубоко уважаю «Весы» (хотя во многом не согласен с ними) и чувствую себя связанным с ними так же прочно, как с «Новым Путем». «Весы» и были, и есть событие для меня, а, по-моему, и вообще – событие, и самый цельный и боевой теперь журнал. Если бы я пренебрегал «Весами», т. е. лицами, с которыми я связан или лучшими литературными традициями (как Брюсов) или Роком (как А. Белый), то это было бы «душа клеточка, а отца – в рыло». А я не хочу так.
Письмо к Г. И. Чулкову 26/VIII 1907
Г. А. В. Траугот. Иллюстрациях стихотворению «В ресторане».
1967 г.
Прошу Вас поместить в Вашем уважаемом журнале нижеследующее: в № (таком-то) «Mercure de France» этого года г. Семенов[67] приведет какую-то тенденциозную схему, в которой современные русские поэты рассажены в клетки «декад.», «неохристианск. мистики» и «мист. анархизма». Не говоря о том, что автор схемы выказал ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких, о том, что вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна, и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев, – я считаю своим долгом заявить: высоко ценя творчество Вяч. Иванова и Сергея Городецкого, с которым я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с «мистическим анархизмом», о чем свидетельствуют мои стихи и проза.
Письмо к Г. И. Чулкову 26/VIII-1907
Мистический анархизм! А есть еще – телячий восторг. Ничего не произошло – а теленок безумствует.
1907 г.
Из записных книжек А. Блока
Популяризатором анархизма был у нас Г. И. Чулков. Я присутствовал, можно сказать, при самом зарождении этого течения и отлично знаю, что именно Вячеслав Иванов и Блок были совершенно солидарны с г. Чулковым. В свое время предполагалось устроить при содействии тогдашнего режиссера театра г-жи Комиссаржевской В. Э. Мейерхольда маленькую «мистико-анархическую» сцену, для которой и был написан знаменитый «Балаганчик» Блока. Вяч. Иванов же написал предисловие к брошюре г-на Чулкова. Пока мистический анархизм оставался экзотическим письмом – выросшим в парниках декадентской кружковщины – ни Вяч. Иванов, ни А. Блок от него не открещивались, а самодовольно радовались своей выдумке. Но, когда критика начала свой поход против этой новинки, Вяч. Иванов и Блок сейчас же от своего излюбленного детища отказались, предоставив Г. И. Чулкова всецело на съедение обозлившихся сотоварищей. Иванов снисходительно отзывается о мистическом анархизме как о выдумке молодежи (как будто он сам тут ни при чем), А. А. Блок удостоверяет, ссылаясь на свои «стихи и прозу», что он не мистический анархист… Мне эти стихи и прозу изучать пришлось, и я по совести утверждаю, что г. Блок именно мистический анархист, потому что его «стихи и проза» покрыты, с одной стороны, налетом мистицизма, в начале литературной карьеры Блока очень глубокого и нежного, а затем ставшего уличным и плоским, и кроме того, эти «стихи и проза» преисполнились самого озорского, разнузданного «анархизма» или, вернее, хулиганства. Сначала были у него проникновенные гимны «Прекрасной Даме», к «Деве Марии», а затем Дева Мария превратилась каким-то фокусом в Мэри, героиню «Незнакомки», пьесы, абсолютно недоступной пониманию не только профанов, но, я думаю, и специалистов, пьесы, отдающей остроумием самым уличным и пошлым. Нам интересно знать не «нет» Блока, а его «да». Или, выражаясь языком «миротворца» Иванова, не его «непримиримое нет», а слепительное «да». Но в том-то и штука, что это «слепительное да» отсутствует, и ссылка на «стихи и прозу» не более, как жест страдающего манией величия сверх-че-ловека.
Д. Философов
Я зол на Москву. Боря пишет мне встревоженные письма (обещает между прочим прислать тебе Симфонию), а я ему не в силах ответить. Ибо неуловимо… выходки есть в этой Симфонии против меня, а в только что вышедшей книге Сережи – целая очень уловимо… статья обо мне. Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индейские петухи. Хожу и плююсь, как будто в рот попал клоп. Чорт с ними.
Письмо к матери 21/IV—1908
Блок – талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни – красота погибающей души: красота «оторопи», а не красота созидания ценности…
Как атласные розы распускались стихи Блока: из-под них сквозило «видение, непостижное уму» для немногих его почитателей, для нас когда-то пламенных его поклонников, встретивших его, как созидателя новых ценностей. Но когда облетел покров с его музы, и раскрылись розы, в каждой розе сидела гусеница, – правда, красивая гусеница… Блок, казавшийся действительно мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого, прекрасного поэта гусениц; но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину, нечто вроде «√-1»): призыв к жизни (той или этой – вообще новой жизни) оказался призывом к смерти. Но даже: Блок стал еще более совершенным техником, а Незнакомка, смерть, жизнь, проститутка, рыцари, кабачки – все, все, к чему ни касался Блок, превращалось в изящный, как изящная виньетка, покров над… чем? И вот в «дремах» оказалось, что это что-то есть… большое «Ничто». Сначала распылил мир явлений, потом распылил мир сущностей… Лирика Блока, надорванная в клочки драма, не перешла в драму; драма предполагает борьбу или гибель за что-то: в драмах Блока гибель; ни за что ни про что: так гибель для гибели. Лирика разорвалась и только: и все просыпалось в пустоту. Мы читаем и любуемся, а ведь тут погибла душа, не во имя, а так себе: «ужас, ужас, ужас!»
А. Белый. Обломки миров
Андрей Белый больше не едет мириться. А ведь умная у него статья обо мне и занятная, хотя я и не согласен с ней.
Письмо к Г. И. Чулкову 14/VI-1908
Несправедливая эта рецензия появилась в номере майском «Весов». И А. А. на нее обижался, считая, что уговор наш естественно отделять наши личности от литературной полемики – явно нарушен; до появления рецензии мы не думали, что – в разрыве мы; после рецензии – ссора оформилась: мы при встречах протягивали сухо руки; и отходили в разные стороны… Но одержание разливалось широко в России; «огарки», саниновщина, азартные игры, пляс, пьянство, серия убийств – вот чем характеризуемо темное время.
А. Белый
А. Белого я не видал. Кажется, мы не выносим друг друга взаимно.
Письмо к матери 24/ΧΙ-1908
22 мая 1908 г.
Разве я не откровенен с Вами, дорогой Михаил Иванович?[68] Нет, я не скрываю ничего и не «оберегаю». Но я чувствую все более нищету слов. С людьми, с которыми было больше всех разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и др. – я разошелся: отношения наши запутались окончательно, и я сильно подозреваю, что это от систематической лжи изреченных мыслей.
И я совершенно не умею сказать прозою лучше, чем говорю стихами. Одиночество не победит сравнением мистических переживаний, я глубоко уверен в этом. Может быть, одиночество преодолимо только ритмами действительной жизни – страстью и трудом. Остальное – сны. Но неужели Вы думаете, что я отказываю в реальности Вашим снам?.. Я только не хочу говорить, лучше не могу говорить.
На днях уезжаю отдохнуть в деревню – недели на две.
Ваш А. Блок.
Письмо к М. И. Пантюхову
Четверо мы – инициатива живчика Городецкого – задумываем кружок, общество молодого искусства. Городецкий привлекает к нему своих друзей и товарищей (между прочим, поэтов В. А. Юнгера и Н. В. Недоброво, обоих ныне – более трех лет – покойных, а также своего младшего брата, талантливого художника – одного из первых футуристов, А. М. Городецкого, безвременно скончавшегося еще до войны). От Блока в этот круг входит друг его, член религиозно-философских собраний, впоследствии же – Религиозно-Философского общества Евг. П. Иванов. Когда приезжает Андрей Белый, он неизменно посещает собрания кружка (два у Блока). Бывает художница Т. Н. Гиппиус[69]. Также поэт Яков Годин (ныне крестьянин). Затем мой университетский товарищ Π. П. Потемкин, только что меняющий замысленную карьеру психиатра на противоположную ей (по его же тогдашнему мнению) карьеру поэта-декадента.
Вл. Пяст
«Вечера искусств» в «кружке молодых» происходили всегда необыкновенно оживленно и… весело.
Сравнительно небольшая аудитория бывала битком набита народом, преимущественно, конечно, учащейся молодежью. Развевались небрежные шевелюры, пестрели косоворотки различнейших цветов. Являлись сюда в большом количестве и декадентствующие юноши и девушки, – первые с бритыми физиономиями, артистическими галстуками и цветами в петлицах сюртуков, – вторые в платьях Reforme со стилизованными прическами.
Декаденты держали себя с подобающим достоинством и серьезностью. Партийная молодежь шумела, громко разговаривала и явно обнаруживала свое недоброжелательное отношение к господам декадентам.
Но стоило появиться на кафедре Александру Блоку, как вся аудитория заметно стихала, сглаживались резкости неприязненно-настроенных сторон и чувствовался общий бесспорный интерес к молодому поэту. Внешность Блока приковывает к себе внимание. Ровное, спокойное выражение бледного, как бы застывшего в неподвижности, правильного лица, прямой взгляд голубых стальных глаз, некоторая окаменелость позы – все это производит впечатление необыкновенной цельности и ясности. И голос его бесстрастен и в то же время упорен, как металл.
Вот он читает свою драму «Незнакомка». Ни единый мускул не дрогнет на лице его. Каждое слово его звучит вызовом, непреклонным и решительным. Он читает о ресторане, в котором сидели лица: один, похожий на Гауптмана, – другой, вылитый Верлэн, о звездочете в голубом плаще и т. д.
Все это большинству аудитории чуждо. Но никто ни единым звуком не нарушает чтенья.
Блок сходит с кафедры так же спокойно и твердо, как он вошел на нее.
О. Норвежский. Литературные силуэты[70]
А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И, когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.
А. Ремизов
Я сам не раз читал на вечерах «нового» и не нового искусства, с благотворительной целью и, увы, даже без оной, читал «с успехом» и без успеха, с шиканьем и с аплодисментами, – но всегда и всюду уносил чувство недовольства собою, чувство досады от нелепо и уродливо проведенного вечера; мало того, всегда было чувство, как будто я сделал что-то дурное…
Стихи любого из новых поэтов читать (на вечерах) не нужно и почти всегда – вредно.
Вредно потому, что новые поэты еще почти ничего не сделали, потому что нельзя приучить публику любоваться писателем, у которого нет ореола общественного… Хуже того: вечера нового искусства в особенности… становятся как бы ячейками общественной реакции.
А. Блок. Вечера «Искусства»
Учредители «Кружка» «широко», как они уверяли, раскрывали двери реалистам и материалистам, хотя они позаботились своевременно о том, чтобы в бюро «Кружка» преобладали декаденты и прочая соответствующая братия. Забота об ограждении бюро «Кружка» от материалистов была настолько велика, что, не успев еще начать функционировать, «Кружок» успел уже оттолкнуть часть литераторов, «знаниевцев». Но предположим, что все это не столь важно, и перейдем кдеятельности «Кружка», хотя мы и не можем не отметить, что состав бюро «Кружка» имел большое значение ввиду непрестанного «заушения» материалистов, коим двери были широко раскрыты в обратную сторону, т. е. в надежде, что через них скорее и легче уйдут… «Реалисты», однако, не уходили. Точнее говоря, социал-демократическая молодежь считала своим долгом бороться с теми декадентско-импрессионистскими тенденциями и проявлениями, которые господствовали в «Кружке» и к тому же в самых бездарных, бессмысленных и невежественных формах. Можно сказать, что лишь первых три-четыре заседания имели кое-какой смысл и представляли кое-какой интерес. Разъяснения Мейерхольда о театре Комиссаржевской, реферат А. Луначарского и возражения Г. Чулкова, Вяч. Иванова и того же Мейерхольда – наконец разбор стихотворений С. Городецкого – вот три вечера, действительно несколько заинтересовавшие собравшихся. Но уже на заседании, посвященном книжке С. Городецкого «Ярь», непривычный слушатель легко мог подумать временами, что стал жертвой чьей-то мистификации, либо, в лучшем случае, услышал горячечный бред. Юный поборник «соборного (??!!) индивидуализма» (!) г. Гофман, упрекавший, между прочим, ранее А. Луначарского в полном незнакомстве с географией и христианством, уверял на этом собрании с самым серьезным и убежденным видом, что г. С. Городецкий – «это молодой фавн, еще не обросший волосами. Но он вырастает», уверял г. Гофман. И обрастает, по всей вероятности, – добавим мы от себя… Другой член «Кружка» того же толка возражал г. Гофману не менее убежденно, что род С. Городецкого идет от «бабы беспалой»[71]. И все это говорилось с видом «тонких» знатоков! И все это слушалось достаточной долей собрания без гомерического хохота!
Л. Герасимов[72]. Кружок молодых
Городецкий прислал «Ярь» (может быть, величайшую из современных книг).
Письмо к матери 21 /XI—1906
О «Яри» исписано бумаги раз в десять больше, чем потребовала сама «Ярь», – следовательно, нечего говорить о ней опять сначала. Кто любит Городецкого, тот любит его, и, по-видимому, читателей у него много. И как им не быть, когда «Ярь» – такая яркая и талантливая книга! Она ничуть не потускнела, хотя пережила революцию, а это не шутка. Несколько хороших стихотворений прибавлено, и материал расположен лучше – уже нет прежнего, вынужденного обстоятельствами разделения на «Ярь» и «Перуна».
А. Блок. Противоречия
Литераторы «опростились» – обедают, шьют смокинги, делают визиты, отвечают на них и вычисляют свои родословные, у кого есть хоть плохенькая. Это, разумеется, касается символистов, а реалисты, по-прежнему, (кладут) засовывают пятерню в нос, корчатся у железных врат и хлещут водку.
Письмо к матери 23/ΧΙ-1909 г.
ПОЭТЫ
За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, – и каждый встречал Другого надменной улыбкой. Напрасно и день светозарный вставал Над этим печальным болотом: Его обитатель весь день посвящал Вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, Болтали цинично и пряно. Под утро их рвало. Потом, запершись, Работали тупо и рьяно. Потом вылезали из будок, как псы, Смотрели, как море горело. И золотом каждой прохожей косы Пленялись со знанием дела. Разнежась, мечтали о веке златом. Ругали издателей дружно, И плакали горько над малым цветком, Над маленькой тучкой жемчужной… Так жили поэты. Читатель и друг! Ты думаешь, может быть, – хуже Твоих ежедневных бессильных потуг, Твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой, По крайности, есть у поэта И косы, и тучки, и век золотой, Тебе-ж недоступно все это!.. Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцой, А вот у поэта – всемирный запой, И мало ему конституций! Пускай я умру под забором, как пес, Пусть жизнь меня в землю втоптала, — Я верю: то бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала!21 июля 1908 г.
И от литераторов и от «литературы» я очень отбился за эту зиму, а теперь, кроме того, очень устал от новых впечатлений и хочу их переварить в одиночестве.
Письмо к матери 21 /XII-1909 г.
Думать о России очень тяжело и беспокойно, я от нее не жду пока ничего, кроме всяческого хамства.
Подумаем, как устроиться. Я надеюсь все-таки остаться человеком и художником. Если освинеют все, я на всех плюну и от всех спрячусь. Но Андреевых, Шиповников, газетчиков, барышень и проч. осквернителей русского языка и русской литературы терпеть больше не хочу.
Письмо к матери 27/VI-1909 г.
Цикл итальянских стихов, написанных частью еще в Италии, чрезвычайно нравился всем, причастным к литературе. Цикл этот напечатан впервые в только что возникшем тогда «Аполлоне» («Весы» и «Золотое Руно» прекратили свое существование). За итальянские стихи Блок «удостоился» избрания в совет «Общества Ревнителей Художественного Слова», существовавший при «Аполлоне», где числились уже Брюсов, Кузьмин, Вяч. Иванов, Иннокентий Анненский… Совет собирался по понедельникам и называл себя «Академией». Здесь читались доклады, разбирались стихи.
М. А. Бекетова
– Помните ли, Александр Александрович, как читали Вы свои «Итальянские стихи» в редакции «Аполлона», в «Обществе Ревнителей Художественного Слова», глубокой осенью 1909 года, незадолго до смерти подлинно живой души этого Общества – Иннокентия Федоровича Анненского?
Здесь я увидел Вас впервые.
В средней комнате из трех, в которых собирались все мы, направо, ближе к окнам на темную Мойку, за столом – Анненский, ближе к двери – Вы.
Как всегда, Вы читали стоя.
Я до сих пор помню глухой Ваш голос. Вы читали «Равенну» и, быть может, и другое. Помню только это. Но не могу передать спокойно-бесстрастный Ваш тон, произносящий:
Profani, procul ite Hie amoris locus sacer est.Едва ли не первая, с легкой руки, дань всеобщему тогда увлечению Италией, первая и единственно-прекрасная дань в стихах. 8 апреля 1911 г. в «Аполлоне» читали Вы свой доклад. Для нового символизма нужен подвиг… Лиловые люди захлестнули многое в прошлом. Золотой миг предохраняет от кощунства. Народная душа прежде времени потребовала чуда и истреблена… Но есть нечто незапятнанное – душа младенца. Учиться у мира и у младенца. Идеал – приближение к народному. Путь к подвигу – духовная диета. Смешение искусства с жизнью – завет декадентства, а не символический.
И вспоминается мне сцена, быть может ненужная. Вяч. Иванов после доклада крепко и долго, глубоким напряженным поцелуем в губы привлекает к себе чтеца и жмет ему руку.
В. Н. Княжнин. Неопубликованная речь
Меня спасают от того состояния, в котором ты находишься, большое количество людей, отношений и сует. Все это опять завелось, так как итальянские стихи меня как бы вторично прославили. Я выбран в Совет «Общества Ревнителей Худож. Слова» (при «Аполлоне») в число 6-ти (Маковский, Вяч. Иванов, Ин. Ф. Анненский, Вал. Брюсов, Кузьмин и я). Приглашен в «Аполлон» (итал. стихи). Если можешь, советую подписаться, будет во всяком случае передовой худож. журнал в России («Весы» и «Руно» прекращаются), несмотря на пестроту сотрудников – в роде «Мира Искусства». Там встретишь все «имена».
Письмо к матери 24/Х-1909 г.
В нашем кругу, у ех-декадентов, великий раскол: борьба «кларнетов» с «мистиками». Кларисты – это «Аполлон», Кузьмин, Маковский и др. Мистики – это московский «Музагет», Белый, Вяч. Иванов, Соловьев и др. В сущности возобновлен дряхлый, предряхлый спор о свободном искусстве и тенденции. «Кларисты» защищают ясность, ясность мысли, слога, образов, но это только форма, а в сущности они защищают «поэзию, коей цель поэзия», так сказал старик Иван Сергеевич. Мистики проповедуют «обновленный символизм», «мифотворчество» и т. под., а в сущности хотят, чтобы поэзия служила их христианству, была бы ancilla theologiae. Недавно у нас в «Свободной Эстетике» была великая баталия по этому поводу. Результат, кажется, тот, что «Музагет» решительно отложился от «Скорпиона» в идейном отношении. Я, как Вы догадываетесь, всей душой с «кларнетами».
Письмо В. Брюсова к В. Перцову 23/III-1910
Запомнился очень А. А. в «Мусагете», на серо-синем диване, в косоугольной уютнейшей комнате с палевыми стенами; вот «Димитрий» служитель нам подает с Блоком очень огромные чашки с чаем (огромные чашки заведены были для посетителей: их опаивали); А. А., широкоплечий, сидит развалясь, положив нога на ногу и уронив руку в ручку дивана, поглядывая на меня очень близкими и большими глазами, поблескивающими из-под вспухших мешков; я рассказываю ему о наших редакционных работах, о маленьких суетах, переполняющих нас в эти дни, сам его наблюдаю; да, да – изменился: окреп и подсох; стал коряжистый; таким прежде он не был; исчезла в нем скованность, прямость движения, которая характеризовала его; да, в движениях появилась широкая зигзагообразная линия; прежде сидел прямо он; теперь он разваливается, сидит выгнувшись, положивши руки свои на колено; и опять (субъективное восприятие) вижу лицо я не в профиль, как в 1907 году, a en face; да, исчез и налет красоты, преображавший лицо его в наших последних свиданьях; исчезло то именно, что отдаленно сближало с портретом Уайльда лицо его; губы – подсохли, поблекли; и складывались в дугу горечи; а глаза были прежние: добрые, грустные; и начерталась более в них любовь к человеку… тогда именно мне впервые А. А. предложил издавать дневниковый журнал трех писателей-символистов (В. Иванова, его и меня) и впоследствии он не раз возвращался к идее; внимательно слушал я, как он мне развивал все подробности издания такого журнала, где каждый из трех мог бы высказать, что угодно и как угодно. В ближайшее время дневник состояться не мог: уезжал за границу я; но в будущем мы порешили журнал вызвать к жизни…
А. Белый
1 № «Аполлона» плох. Посмотрим, что будет дальше.
Письмо к матери 28/Х-1909 г.
Какая дрянь – «Аполлон»! Очень жалею, что заставил тебя подписаться.
Письмо к матери 26/XII-1909 г.
1910 год – это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек – но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный Адам».
«Возмездие»
Глава тринадцатая Страшный мир (1906–1910)
В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты, право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине. А. БлокВесной 1906 года А. А. оканчивает университет, переселяясь с женой из прежнего материнского дома в свой дом.
А. Белый
Жизнь Блоков была у всех на виду. Они жили открыто и не только ничего не скрывали, но даже афишировали то, что принято замалчивать. Чудовищные сплетни были в то время в нравах литературного и художественного мира Петербурга. Невероятные легенды о жизни Блоков далеко превосходили действительность. Но они оба во всю свою жизнь умели игнорировать всяческие толки, и можно было только удивляться, в какой мере они оставались к ним равнодушны.
М. А. Бекетова
У себя дома он, вместо обычного черного сюртука, в котором его привыкли видеть всегда, носит изящную суконную блузу без пояса с белым кружевным воротником.
Он напоминает в этом виде английских художников школы прерафаэлитов.
О. Норвежский
И обличье у него было барское: чинный, истовый, немного надменный. Даже в последние годы – без воротника и в картузе – он казался переодетым патрицием. Произношение слов у него было тоже дворянское, – слишком изящное, книжное, причем слова, которые обрусели недавно, он произносил на иностранный манер: не мебель, но мэбль (meuble), не тротуар, но trottoir (последние две гласные сливал он в одну). Слово крокодил произносил он тоже как иностранное слово, строго сохраняя два о. Теперь уж так никто не говорит. Однажды я сказал ему, что в знаменитом стихотворении «Пора смириться, сэр» слово сэр написано неверно, что нельзя рифмовать это слово со словом ковёр. Он ответил после долгого молчания:
– Вы правы, но для меня это слово звучало тургеневским звуком, вот как бы мой дед произнес его – с французским оттенком – по старо-дворянски.
К. Чуковский
Я хочу, чтобы ты всегда определенно знала, что я ни на минуту не перестаю тебя любить по-настоящему. Также, не знаю, по-настоящему ли, но наверно, я люблю Францика[73] и тетю. Относительно Любы я наверно знаю, что она тебя любит, она об этом говорит мне иногда просто. Я хочу, чтобы эти простые истины всегда сохранились и подразумевались, иначе – наружное будет мешать.
Кроме того, я теперь окончательно чувствую, что, когда начинаются родственники всех остальных калибров, а также всякие знакомые, и офицеры вообще, – то моя душа всех их выбрасывает из себя органически, без всяких либеральных настроений. Для меня
это внутренняя азбука, так что даже когда я любезен с ними, то потом тошнит, если у души оказывается на это свободное время. Это – мой хам, т. е. не во мне, а в них – для меня. Никого из них я ни за что «не приму»; тем самым, что они родственники, они стали для меня нулем, навсегда выброшены. Они не могут ничем заслужить человеческое достоинство в моих глазах не потому, что тут какие-нибудь теории, а по какому-то инстинкту проклятия. Все они не только не могут, но и не смеют знать, кто я.
Письмо к матери 1 /Х-1906
К. Сомов. Портрет Ал. Блока. 1907 г.
Чересчур снисходительным назвать его было нельзя. Помню еще в 1907 году совместное выступление поэтов летом в Териоках. В числе участвовавших был некто Р. Блок отозвал нас остальных в сторону и предупредил, чтобы мы были осторожны и не компрометировались якшанием с этим Р., которое тот несомненно будет нам навязывать.
– Он, – сказал Блок, – таскает из карманов носовые платки. Вы понимаете?
«Чужие жены» составляли главный предмет этого Р. Отношение Блока к этому вопросу было чисто британским.
Вл. Пяст
В числе немногих, посещал Блок в то время милого и гостеприимного, благодушного не без лукавства А. А. Кондратьева[74]. Вечера, на которые хозяин собирал гостей, не стесняясь различием школ и вкусов, проходили шумно и не без обильных излияний. А. А. не отстранялся от участия в общем весельи. Помню вечер, затянувшийся до утра, когда выпито было все, что нашлось в доме, вплоть до только что заготовленной впрок наливки. Среди гостей, расположившихся в вольных позах на диване и по коврам, благодушно и доброжелательно улыбающийся А. А., уже прочитавший множество стихов и слушающий не вполне членораздельные вдохновения присутствующих. Кто-то в порыве одушевления предложил, за невозможностью продолжать веселье у хозяина или где-либо в ресторане, посетить «приют любви». Мысль встретила решительное сочувствие: взоры некоторых обратились на А. А. Не желая, по-видимому, выделяться, он просто и скромно согласился принять участие, но выразил надежду, что предполагаемая поездка «ни к чему не обязывает» каждого участника в отдельности. Через несколько минут, впрочем, предложение было забыто.
В. А. Зоргенфрей[75]. А. А. Блок
Мне жить нестерпимо трудно. Особенно тосковал я перед новым годом и в праздничные дни. Такое холодное одиночество – шляешься по кабакам и пьешь. Правда, пью только редкими периодами, а все остальное время – холоден и трезв, злюсь и оскаливаюсь направо и налево – печатно и устно.
Чем холоднее и злее эта неудающаяся «личная жизнь» (но ведь она никому не удается теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намерения.
Письмо к матери 8/1-1908 г.
Какая-то огромная и пустая квартира, и в моей комнате от постоянных посторонних лиц – что-то официально холодное. Да и печки не особенно топятся.
Письмо к матери 8/1-1908 г.
Отчего же не напиться иногда, когда жизнь так сложилась: бывают минуты приближения трагического и страшного, ветер в душе еще свежий; а бывает – «легкая, такая легкая жизнь» (Сологуб).
Может быть, ты и не сможешь этого понять, – но неужели ты не можешь согласовать это со мной? Ведь путь мой прям, как все русские пути, и, если идти от одного кабака до другого зигзагами, то все же идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому шоссейному пути – куда? И куда? И потом —
Друзья! Не все-ль одно и то же Забыться вольною мечтой В нарядном зале, в модной ложе, Или в кибитке кочевой?Письмо к матери 28/IV-1908 г.
Он пережил личную трагедию, его душа была мрачна, он все более уединялся от людей, он говорил обычно мало. На его прекрасном лице легли следы бессонных ночей. Телефон в его квартире работал только четверть часа в сутки. Он без пощады жег себя на огне страстей и тоски.
А. Н. Толстой
Моя жизнь катится своим чередом, мимо порочных и забавных сновидений, грузными волнами. Я работаю, брожу, думаю. Надоело жить одному.
Письмо к матери 28/TV-1908 г.
Ты права, мама: не пить, конечно, лучше. Но иногда находит такая тоска, что от нее пьешь.
Письмо к матери 20/1-1908 г.
Вот – пустынные помещения ресторана; и вот мы у стойки; пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку обнаруживается «привычка», какой прежде не было; я смотрю на него, на мешки под глазами и вспоминаю о слухах (как много он пьет).
А. Белый
Пью много, живу скверно. Тоскливо, тревожно, не по-людски
Письмо к матери 25/1-1907 г.
– А Христа я никогда не знал.
Это было сказано совершенно неожиданно, без всякого подготовления; о Христе во всем предыдущем разговоре не было произнесено ни слова. И когда я, не удивившись совершенно такому переходу, признался со своей стороны, что тоже не ощущал Христа, – только разве один раз, и то поверхностно, в один благоуханный летний вечер, на поляне у всходов к «горе Пик», – Блок продолжал:
– Ну, и я, может быть, только раз. И тоже, кажется, очень поверхностно. Чуть-чуть… Ни Христа, ни Антихриста.
Вл. Пяст
Все опостылело, смертная тоска. К этому еще жара неперестающая, днем обливаюсь потом. Пью мало, с Чулковым вижусь реже. Написал несколько хороших стихотворений. Ужасное одиночество и безнадежность; вероятно, и эта полоса пройдет, как все.
Письмо к матери 18/VII-1908 г.
Получаю часто какие-то влюбленные письма от неизвестных лиц, и на улицах меня рассматривают.
Письмо к матери 5/III-1908 г.
Телеграмму я сейчас послал тебе. А я действительно всю ночь не спал, оттого и почерк такой. Я провел необычайную ночь с очень красивой женщиной.
Письмо к матери 18/IV-1908 г.
После многих перипетий очутился часа в четыре ночи в какой-то гостинице с этой женщиной, а домой вернулся в девятом. Так и не лягу. Весело.
Письмо к матери 18/IV-1908 г.
Напиваюсь ежевечерне, чувствую потребность уехать и прервать на некоторое время городской образ жизни.
Письмо к матери 4/VIII-1908 г.
Теперь – баста. Я больше не пьяная забулдыга, каковою был еще вчера и третьего дня! Сейчас умоюсь в ванне, а в 6-м часу ко мне придет обедать Женя. Я со второго раза почти научился ездить на велосипеде. Это – очень завлекательное занятие, быстро пожирает пространство эта легкая машина и очень развивает руки и ноги.
Письмо к матери 4/VIII-1908 г.
Я чувствую себя опять здоровым и бодрым. А тоска и усталость была, по выражению Сологуба, – «выше гор».
Письмо к матери 4/VIII-1908 г.
21-го днем был у Мережк., а вечером у Сологуба, а ночью – у Чулковых. Я развеселился и стал тискать Чулкова и Городецкого. Они страшно слабые оба, нельзя их тронуть пальцем. Городецкий очень мил.
Письмо к матери 23/ΧΙΙ-1908 г.
В эту зиму Ал. Ал. увлекался французской борьбой, на которую ходил в соседний цирк. Все нравы и обычаи этого спорта он изучил. Вид борьбы не только занимал, но и бодрил его. По его словам, борьба поднимала его дух, побуждала его к творчеству.
М. А. Бекетова
Я очень не прочь не только от восстановления кровообращения (пойду сегодня уговариваться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни: довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) – с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и… пошлейшие романы Брешко-Брешковского, который… ближе к Данту, чем… Валерий Брюсов.
Письмо к матери [1910]
А вот полоса года – я помню Блока простого, человечного, с небывало-светлым лицом. Вообще не помню его улыбки; если и была, то скользящая, незаметная. А в этот момент помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой – теплее. Это было, когда он ждал своего ребенка. После рождения ребенка Блок почти все последующие дни сидел у нас с этим светлым лицом. У нас в столовой Блок молчит, смотрит не по-своему, светло и рассеянно. – О чем вы думаете? – Да вот – как его, Митьку, воспитывать? – А после его смерти объяснял прилежно, почему он не мог жить. Просто очень рассказывал, но лицо у него было растерянное, потемневшее сразу. Через долгое время пришли прощаться с женой, у обоих лица погасшие, серые. Все казалось ненужным. Погасла какая-то надежда, захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь[76].
При всей значительности Блока, при его внутренней человеческой замечательности, при отнюдь нелегкой, но страдающей и тяжелой душе, я повторяю, он был безответственен. «Невзрослость» его – это нечто совсем другое, нежели естественная светлая юность. А это вечное хождение около жизни? А это безкрайное безвыходное одиночество? В ребенке Блок почувствовал возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской. Не в отцовстве тут было дело: именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло довершить его как человека. Сознавал ли это Блок? Конечно, нет: но весь просветлел от этой надежды. И, когда она погасла, погас и он. Вернулся в свою муку «ничегонепонимания»…
3. Н. Гиппиус
Ранней весною 1909 года встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимою судорогою в чертах прекрасного, гордого лица и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына; чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ.
В. А. Зоргенфрей
В душный июльский день, в кондитерской Эйнема на Петровке, куда я зашел с Борисом Зайцевым, я увидел Блока… Зайцев познакомил нас и осторожно спросил:
– А у вас, я слышал, несчастье?
Помнится, Блок не ответил на его вопрос и перевел разговор на что-то другое и занялся покупкой конфект.
– Вы мне дайте каких-нибудь позанятнее, – сказал он продавщице.
– Пастила, шоколад Миньон, – сказал Блок, выбрал какую-то коробку, заторопился и, простившись с нами, ушел.
Выходя вслед за ним, я спросил у Зайцева, о каком несчастьи его говорил он.
– У Блока умер ребенок!
Я был как будто разочарован, – до того все мое представление о нем было наджизненно и нереально…
Павел Сухотин. Памяти А. Блока[77]
Никогда еще не переживал я такой темной полосы, как в последний месяц – убийственного опустошения. Теперь, кажется, полегчало, и мы уедем, надеюсь, скоро – в Италию. Оба мы разладились почти одинаково. И страшно опостылели люди. Пил я мрачно один, но не так уж много, чтобы допиться до крайнего свинства; скучно пил.
Письмо к Г. Чулкову. Апрель – 1909 г.
Наконец-то нет русских газет, и я не слышу и не читаю неприличных имен союза рус. народа и Милюкова, но во всех витринах читаю имена Данта, Петрарки, Рескина и Беллини. Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую родину – Европу, и Италию особенно.
Письмо к матери 7/V-1909 г.
Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня – свои, как будто я здесь очень давно.
Письмо к матери 9/V-1909 г.
Едва ли Равенна изменилась с тех пор, как Вы были там. По-видимому, она давно и бесповоротно умерла и даже не пытается гальванизироваться автомобилями и трамваями, как Флоренция. Это очень украшает ее – откровенное отсутствие людей и деловой муравьиной атмосферы…
Совершенно понятно, почему Дант нашел пристанище в Равенне. Это город для отдыха и тихой смерти.
Письмо к В. Брюсову 2/Х-1909 г.
Флоренция – совсем столица после Равенны. Трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают. Я пишу из хорошего отеля, где мы уже взяли ванны. М. б. потом переселимся подешевле, но вообще – довольно дешево все. Во Флоренции надо засесть подольше, недели на две.
Письмо к матери 13/V-1909 г.
Я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь – ужасна. Европ. жизнь так же мерзка, как и русская, вообще – вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа.
Письмо к матери 19/VI-1909 г.
Мама, мы здесь живем уже пятый день, приехали прямо из Милана. Здесь необыкновенно хорошо, тихо и отдохновительно. Меня поразила красота и родственность Германии, ее понятные мне нравы и высокий лиризм, которым все проникнуто. Теперь совершенно ясно, что половина усталости и апатии происходила оттого, что в Италии нельзя жить. Это самая нелирическая страна – жизни нет, есть только искусство и древность. И потому, выйдя из церкви и музея, чувствуешь себя среди какого-то нелепого варварства. Итальянцы – не люди, а крикливые, неприятные зверушки.
Родина готики – только Германия, страна, наиболее близкая России, вечный упрек ей. О, если бы немцы взяли Россию под свою опеку! От этого только стало бы легче дышать, и не было бы больше позорной жизни. Здесь только есть настоящая религия жизни – готическая жизнь, умеющая освятить даже государственную службу. Здесь я не стыдился бы и не усумнился бы найти заработок и служить в любой конторе. Служить в Германии – значит стоять на посту.
Письмо к матери 25/VI-1909 г.
Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать – вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это – одна сплошная помойная яма.
Письмо к матери 19/VI-1909 г.
Мама, и вчера и сегодня я получаю все время известия об отце. Он безнадежно болен и, вероятно, умрет через несколько недель. У него чахотка и сердечная болезнь с отеком ног, так что ему трудно дышать. Лежит он в больнице в Варшаве. Об этом написал мне Спекторский сегодня, а вчера Мар. Тимоф. Блок, у которой я был и которая сегодня уедет в Варшаву.
Письмо к матери 19/ΧΙ-1909 г.
На выздоровление отца уже нет никакой надежды, и доктор считает свою помощь совершенно бесполезной.
Свой отъезд в Варшаву я как-то еще внутренно не решил и склонен его откладывать. М. б., ведь, это и вовсе неприятно ему? С другой стороны, если я приеду, он уж несомненно поймет, что умирает, а это по-видимому (по письму Спекторского) от него скрывают из-за «мнительности». Вяч. Иванов, который был у нас, советует непременно ехать, но я вдруг не совсем поверил ему в этом. Очень мож. быть, впрочем, что все это – напрасные сомнения. Однако, я сомневаюсь также и в том, писать тебе А. Л., или не писать.
Письмо к матери 23/XI-1909 г.
18 ноября 1909 года поэт получил первое известие об опасной болезни отца. Весть пришла из Варшавы от ученика Ал. Льв. Спекторского. Ал. Ал. тотчас отправился к жене своего отца, Марье Тимофеевне, жившей с дочкой Ангелиной в Петербурге. Ангелину видел он перед тем всего один раз, когда ей было десять лет. Теперь это была шестнадцатилетняя девушка, только что окончившая курс гимназии.
М. А. Бекетова
В Варшаве на похоронах Александра Львовича мой отец встретился с обоими его детьми. Александр Александрович сказал:
– Вот, знакомлюсь с сестрой.
Г. Блок
Он быстро ищет ворота (Уже больница заперта), Он за звонок берется смело И входит… Лестница скрипит. Усталый, грязный от дороги, Он по ступенькам вверх бежит Без жалости и без тревоги… Свеча мелькает… Господин Загородил ему дорогу И, всматриваясь, молвит строго: «Вы – сын профессора?» – «Да, сын», Тогда (уже с любезной миной): «Прошу Вас. В пять он умер. Там…» Отец в гробу был сух и прям. Был нос прямой – а стал орлиный… ………………………………… Да, сын любил тогда отца Впервой – и, может быть, в последний, Сквозь скуку панихид, обедней, Сквозь пошлость жизни без конца… «Возмездие»Сегодня были похороны, торжественные как и панихиды. Из всего, что я здесь вижу и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры.
Письмо к матери 4/XII-1909 г.
* * *
Но главным интересом этой весны, помимо всего, являлись планы перестройки Шахматовского дома… Дом решено было ремонтировать и внутри, и снаружи: перестилали полы, чинился фундамент, ставились новые печи, дом красили снаружи, переклеивали внутри, крыша из красной стала зеленой, как была при первоначальной покупке Шахматова. Окна, двери, все было перекрашено заново.
М. А. Бекетова
Мы условились с Блоком, что я приеду летом в Шахматово. Невеселый это был приезд. Блок жил с матерью в большом доме, Любовь Дмитриевна была где-то далеко на гастролях. Незадолго перед тем Блок получил наследство от отца, профессора Блока, умершего в Варшаве, и перестроил большой Шахматовский дом. Появились новые комфортабельные комнаты, и здесь все было чисто, аккуратно, деловито. Блок сам любил работать топором: он был очень силен.
– Хорошо, что ты приехал, – встретила меня Александра Андреевна. – Саша страшно скучает. Сегодня мы говорили: хоть бы страховой агент приехал!
В заново отделанном доме нависала тоска. Чувствовался конец старой жизни, ничего от прежнего уюта, Блок предавался Онегинскому сплину, говорил, что Пушкина всю жизнь «рвало от скуки», что Пушкин ему особенно близок своей мрачной хандрой.
С. Соловьев
Александр Александрович был измучен и переутомлен заботами о хозяйстве и стройке, а кроме того нервная болезнь его матери настолько усилилась, что пришлось отправить ее в санаторий. Она вернулась оттуда в начале июля, как только можно было въехать в обновленный дом, но мало поправилась, а новизна впечатлений и обстановки еще хуже подействовали на ее нервы. Болезненное состояние матери сильно влияло на Блока и раздражало Люб. Дмитр. Были и другие причины, создавшие ряд столкновений между женой и матерью Ал. Ал. Все это вместе создавало крайне тяжелую и тревожную атмосферу.
М. А. Бекетова. Юмор Блока
Дорогой Георгий Иванович. Пьянствую один, приехав на Сестрорецкий вокзал на лихаче. Если бы Вы сейчас были тут – мы бы покатались. Но вас нет. И потому я имею потребность сообщить об этом Вам.
Письмо Г. И. Чулкову 27-ое ночь [1911] г.
Дело в том, что Петербург – глухая провинция, а глухая провинция – «страшный мир». Вчера я взял билет в Парголово и ехал на семичасовом поезде. Вдруг увидал афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовав, что здесь судьба, и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно, – я остался в Озерках. И действительно: они пели бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой собственно и было все дело, дала мне поцеловать руку – смуглую, с длинными пальцами – всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице, приплелся мокрый в Аквариум, куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой. Вот и все – но сегодня все какое-то несколько другое и жутковатое. Ну, до свиданья.
Письмо к Вл. Пясту 3/VII-1911 г.
В субботу я поехал в Парголово, но не доехал, остался в Озерках на цыганском концерте, почувствовалось, что здесь – судьба. И, действительно, оказалось так. Цыганка, которая пела о множестве миров, потом говорила мне необыкновенные вещи, потом – под проливным дождем, в сумерках, ночью на платформе сверкнула длинными пальцами в броне из острых колец, а вчера обернулась кровавой зарей.
Письмо к матери 4/VII-1911 г.
Черный ворон в сумраке снежном, Черный бархат на смуглых плечах. Томный голос пением нежным Мне поет о южных ночах. В легком сердце – страсть и беспечность, Словно с моря мне подан знак. Над бездонным провалом в вечность, Задыхаясь, летит рысак. Снежный ветер, твое дыханье, Опьяненные губы мои… Валентина, звезда, мечтанье! Как поют твои соловьи… Страшный мир! Он для сердца тесен! В нем – твоих поцелуев бред, Темный морок цыганских песен, Торопливый полет комет!Февраль 1910
А. Платунова. Иллюстрациях стихотворению «Снежная дева».1919 г.
Евгении Федоровне Книпович Блок прямо говорил: «Цыганская венгерка мне так близка, будто я ее сам написал!»
Д. Благой. Ал. Блок и Аполлон Григорьев
Раз у Иванова невзначай сорвалось: «Блок же пьет – пьет отчаянно».
А. Белый
Припоминаю смутно – видел я его в угарный ночной час, в обстановке перворазрядного ресторана, в обществе приятеля-поэта, перед бутылкою шампанского; подносил ему розы и чувствовал на себе его нежную улыбку, его внимательный взор…
В. А. Зоргенфрей
Помню, например, долгий, внешне бессвязный, но внутренне-многозначительный разговор о любви, – об ее «изломах» и «муке» и «жертвенности» (выражения Блока), который возник у нас во время встречи в 1909 или в 1910 г.
А. Громов
Я не могу усвоить данных памяти, что этот период тянулся целых 8 лет – с 8-го по 16-й, когда я уехал на Кавказ, – настолько цельным и неизменным стоит передо мной Блок этих годов. Я помню его в разных позах и жестах, но кажется, что это прошел год, а не восемь. Где-то на Литейном, в каком-то доме пьянства, под утро, за коньяком, с Аничковым, в оцепенении, с остекляневшими глазами. Он и в пьянстве был прекрасен, мудр, молчалив, – весь в себе. На эстрадах каких-то огромных белых зал, восторженно встречавших его чтение, все тех же стихов, и посылавших ему в момент ухода с эстрады девушку с восторженными глазами, подававшую ему лилии и розы. У него, в его кабинетах, которые стали большими и мрачными, заставленными книгами, – но осталась прежняя тяга к окраинам, к реке (он умер на Пряжке). Мы оба стали уже литераторами, и беседы у нас были литературными, на текущие темы, причем каждой текущей теме Блок давал отпор. Он ненавидел всякие литературные комбинации, кружки, течения, моды, и от всего этого иронически отделывался уничтожающими фразами.
С. Городецкий
Через несколько дней после тихого, уединенного разговора с В. Пястом я получаю чрез Пяста (украдкою) небольшую записку, в которой А. А. приглашает меня на свидание в небольшом и глухом ресторанчике (где-то около Таврической улицы); я в условленные часы прихожу; ресторанчик убогий, но совершенно пустой, – располагал нас к уюту; я вижу, А. А. ждет меня: он – единственный посетитель – встает из-за столика: с очень приветственным жестом; одет он в просторный и скромный пиджак, пиджак был подобный тому же, в котором я видел его год назад. Он, осунувшийся, побледневший, но весь возбужденный какой-то (в Москве возбуждения этого не было в нем), ко мне обратился; что-то в облике его переменилось; остались вполне лишь «глаза» (усмиренные, ясные, добрые)…
Скоро мы перешли на его состоянье сознания; и я передал ему, что кругом говорили о том, как он мрачен и как удаляется он от людей.
– Это, Боря, и так, и не так… Тут ведь были другие причины. Я, видишь ли, болен был…
Стал мне рассказывать он, что в последнее время он вдруг занемог, и сперва все не мог осознать непонятного недомогания; даже подумал, что заразился одной неприятной болезнью; доктора подозревали сперва ту болезнь, ему сделали впрыскивание; лишь потом обнаружилось, что болезнь – совершенно иная (на почве нервов), и он успокоился.
– Видишь, это совсем ведь не то, что тебе обо мне говорили…
И он посмотрел на меня грустным взглядом; и улыбнулся, слегка отвернувшися, пустым столикам.
– Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду.
И опять посмотрел на меня вопросительно, грустно; тряхнув головой, протянулся к стакану вина.
– Да, я – пью… И да, – я увлекаюсь: многими…
И опять поворот головы: и улыбка – в гардины.
Тут он начал рассказывать мне о характере своей жизни и о причинах, которые его толкают периодами к тому образу жизни, могущему показаться беспутным; он говорил о «цыганщине», как одной из душевных стихий; и под всеми его словами, во всем столь не свойственном для него возбуждении, проступала глубокая грусть человека, терявшего внешнее равновесие вовсе и что-то увидевшего в областях «мира-духа», но вовсе не там, где ожидал он увидеть (не на заре), а в потемках растоптанной и в тень спрятанной жизни; из всего, о чем он говорил, вырывался подавленный окрик: «Можно ли себя очищать и блюсти, когда вот кругом – погибают: когда – вот какое кругом»…
И еще усмехнулся: и мы – замолчали; тут грянула в совершенно пустом ресторане некстати машина; какой-то отчаянный марш; и лакей, косоплечий (одно плечо свисло, другое привздернулось), подошел и осведомился, не нужно ли нам чего; кто-то там, в уголке, жевал мясо; газ тусклый мертвенно освещал бледножелтые плиты пола и серокоричневое одеяние стен; там, за стойкой, сидел беспредметный толстяк, надувал свои щеки; и вдруг выпускал струю воздуха из толстых, коричневых губ; делать нечего было ему; он – скучал: слушал марш; и мы – слушали тоже: молчали.
Вместе вышли на улицу мы; была слякоть; средь грязи и струек, пятен фонарных и пробегающих пешеходов с приподнятыми воротниками (шла изморозь) распрощались сердечно мы; в рукопожатии его, твердом, почувствовал я, что сидение в сереньком ресторанчике по особенному нас сплотило; я думал: «Когда теперь встретимся?» Знал я, что мы с Асею[78] вырвемся из России надолго.
Запомнился перекресток, где мы распрощались; запомнилась черная, широкополая шляпа А. А. (он ею мне помахал), отойдя в мглу тумана, и вдруг повернувшись; запомнилась почему-то рука, облеченная в коричневую, лайковую перчатку; и добрая эта улыбка в недобром, февральском тумане; смотрел ему вслед: удалялась прямая спина его; вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего; и – вместо Блока: из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец: с бородкою, в картузе, в глянцевитых калошах; бежали прохожие, проститутки стояли; я думал: «Быть может, вот эта подойдет к нему»…
А. Белый
Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, И об игре трагической страстей Повествовать еще нежившим. И, вглядываясь в свой ночной кошмар, Строй находить в нестройном вихре чувства, Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар!10 мая 1910
Глава четырнадцатая Страшный мир (1911–1913)
Уж не мечтать о нежности, о славе, Все миновалось, молодость прошла! А. БлокЭта зима 1910—11 года снова проходит на людях. Александр Александрович часто и охотно встречается с Вяч. Ивановым. Видится с профессором Аничковым и его семьей. Блоки вдвоем бывают у него в доме, где царит гостеприимство.
…Видался он и с сестрой Ангелиной, и со всеми понемногу. С Городецким устраиваются катанья на лыжах. Для этого отправляются в Лесной.
М. А. Бекетова
Заведя речь о поездках, припоминаю много разных. Зимнюю этого года в Юкки, в тамошний ресторан, – поездку, которая имела для Блока своего рода роковое значение. Дело в том, что там, впервые в жизни, он вкусил сладость замирания сердца при спуске с гор. В ту зиму там были устроены великолепно расчищенные снеговые скаты через лес, прямо на середину озера. Мальчишки с санками вертелись на гребне горы («Русская Швейцария»), предлагая свои услуги. Мы уселись и скатились благополучно раз. Блок захотел сейчас же другой. А потом так пристрастился к этому «сильному ощущению», что с открытием «американских гор» в Луна-Парке сделался их постоянным страстным посетителем. Ездил туда и один и с подружившимся с ним вскоре М. И. Терещенко (издателем «Сирин», а впоследствии министром финансов). В одно лето, за первую половину его, Блок спустился с гор, по собственному подсчету, восемьдесят раз.
Вл. Пяст
В апреле 1911 г. я навестил Блока в Петербурге. Его не было дома. Я сел подождать в кабинете и вникал в стиль его комнаты. Все было очень просто, аккуратно и чисто. Никакого style moderne, ничего изысканного. Небольшой шкап с книгами, на первом месте – многотомная «История России» Соловьева.
Пришел Блок. Из передней я услыхал его обрадованный голос: «Ах, пришел!»
Очень он был нежен.
С. Соловьев
17 октября 1911 г.
Варьетэ, акробатка – кровь гуляет. Много еще женщин, вина, Петербург – самый страшный, зовущий и молодящий кровь – из европейских городов.
Дневник А. Блока
Поздним вечером однажды, зимою, решили совершить экскурсию в одно из «злачных» мест, не особенно высокой марки.
Сели за столик невдалеке от эстрады, где горланили безголосые шансонетки. Подозвали робко проходившую мимо «барышню».
Для некоторых из нас это был первый случай общения с «тем миром». На одного произвело это такое сильное впечатление, что он после этого начал писать целую «петербургскую повесть» в гофмановом жанре, героиней которой хотел сделать эту женщину.
Угостили ее, конечно. Сколько помнится, Блок, недавно тогда получивший наследство и взявший часть денег из банка, платил за всех.
Барышня оказалась интеллигентной, окончившей гимназию, любящей чтение. Однако, от известной героини купринской «Ямы» значительно отличалась: скромностью – с одной стороны; непроходимой пошлостью обиходных своих понятий – с другой.
…Но более всего изумились мы шерлок-холмсовской проницательности барышни, когда, взглянув на Блока, она сказала:
– А вы, сдается, так живете, сами по себе, со своего капитала.
Ничтожный заработок Блока в это время был притчею во языцех, и об этом дебатировали рабочие в уголке, отведенном для них одной тогдашней либеральничающей газетой. Он именно тогда «систематически тратил капитал», как рассказывал мне.
Тщетно, однако, допрашивали мы барышню насчет двоих остальных писателей – В. и Ч. Наружность их не давала никаких указаний для нового Шерлока в юбке. Беспомощно помотала она головой и отказалась определить социальное их положение – наотрез. «А о вас, господа, ничего не могу сказать, не знаю, не понимаю. Никогда таких не видала».
Нам очень хотелось узнать, входит ли вообще в ее мозг понятие о писателях. Знает ли – освоилась ли с мыслью, что вообще существуют такие.
– А что нас всех объединяет, что между всеми нами общее? – допрашивали мы барышню. – Почему мы вместе?
Она отрицательно мотала головой.
Тогда один из нас сказал, что мы писатели. Она выслушала, похлопала глазами и как-то совсем скисла.
– Да, писатели? – машинально повторила она.
Видимо – нет, никогда не задумывалась над вопросом о существовании таких людей.
Впрочем, через минуту оживилась. Начала разговор о каком-то сочинении одного современного писателя, которое она недавно прочитала.
– А вот тот, которого вы приняли за рантье, – сказал Ч., – известный наш, знаменитый поэт Блок. Читали вы его стихи?
Оказалось, читала.
– Нравятся?
– Нравятся. Я помню: «Незнакомка».
Говорила она все-таки без энтузиазма. Это была Соня Мармеладова, но как-то, очевидно, без семьи на плечах, как-то без трагедии…
Однако, Александр Александрович Блок подал ей свою визитную карточку; примеру его последовали и некоторые другие. Блок это делал в ту пору при каждом своем знакомстве с «такими женщинами». Даже и настолько «мимолетном», как это, которое не сопровождалось ничем интимным.
Вл. Пяст
25 октября 1911 г.
Десны болят, зубы шатаются.
Разумеется, в конце такого дня – мучительный вихрь мыслей, сомнений во всем и в себе, в своих силах, наплывающие образы из невоплощающейся поэмы. Если бы уметь помолиться о форме. Там опять светит проклятая луна, и, только откроешь форточку, ветер врывается.
Отчаянья пока нет. Только бы сегодня спать получше, а сейчас – забыть все (и мнительность), чтобы стало тихо…
Люба вернулась. Ужасная луна – под ней мир становится голым, уродливым трупом.
Дневник А. Блока
30 октября 1911 г.
Вечером напали страхи. Ночью проснулся, пишу, слава богу, тихо, умиротворюсь, помолюсь. Мама говорит, что уже постоянно молится громко и что нет никакого спасения кроме молитвы.
Назад к душе, не только к «человеку», но и ко «всему человеку» – с духом, душой и телом, с житейским – трижды так.
Дневник А. Блока
10 ноября 1911 г.
Ночь глухая, около 12-ти я вышел. Ресторан и вино. Против меня жрет ***. Лихач. Варьетэ. Акробатка выходит, я умоляю ее ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Тот ли лихач – первый или уже второй, – не знаю, ни разу не видал лица, все голоса из ночи. Она закрывает рот рукой – всю ночь. Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках – какая-то сила и тайна. Часы с нею – мучительно, бесплодно. Я отвожу ее назад. Что-то священное, точно дочь, ребенок. Она скрывается в переулке – известном и неизвестном, глухая ночь, я расплачиваюсь с лихачом. Холодно, резко, все рукава Невы полные, всюду ночь, как в б часов вечера, так и в 6 часов утра, когда я возвращаюсь домой.
Сегодняшний день пропащий, разумеется. Прогулка, ванна, в груди что-то болит, стонать хочется оттого, что эта вечная ночь хранит и удесятеряет одно и то же чувство – до безумия. Почти хочется плакать.
Дневник А. Блока
В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне: «Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем – только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на Думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, – вдруг, на углу Итальянской меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, – тут, недалеко, по Караванной, 10, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он – молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга – не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня, так строго – ужасные глаза! Но мне – от стыда – даже не страшно было, только подумала: ах, боже мой, должно быть, музыкант! Он – кудрявый. Ах – извините, – говорю я, – сейчас разденусь.
А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: – «Ну, подремлите еще». – И представьте ж себе – я опять заснула, – скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но – не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем не спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. Послушайте – говорю – как же это? Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, – так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и – даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт, – смотри». И показал мне портрет в журнале, – вижу: верно, – это он самый. «Боже мой, думаю, как – глупо вышло».
И, действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.
Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения.
М. Горький. Заметки из дневника. Воспоминания. А. А. Блок
14 ноября 1911 г.
Выхожу из трамвая (пить на Царскосельском вокзале). У двери сидят – женщина, прячущая лицо в скунсовый воротник, два пожилых человека неизвестного сословия. Стоя у двери, слышу хохот, начинаю различать: «ишь… какой… верно… артис…». Зеленея от злости, оборачиваюсь и встречаю два наглых, пристальных и весело хохочущих взгляда. Пробормотав: «пьяны вы, что ли», выхожу, слышу за собой тот же беззаботных хохот. Пьянство, как отрезано, я возвращаюсь домой, по старой памяти перекрестясь на Введенскую церковь.
Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю – отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа – ты вот какой?.. Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?»
Такова вся толпа на Невском. Такова (совсем про себя) одна искорка во взгляде ***. Таков Гюнтер[79]. Такова морда Анатолия Каменского. Старики в трамвае были похожи и на Суворина, и на Меньшикова, и на Розанова. Таково все «Новое Время». Таковы – «хитровцы», «апраксинцы», Сенная площадь.
Дневник А. Блока
Никто, кажется, до сих пор не заметил, как мучился Блок всю жизнь оттого, что люди – не люди. Однажды, сидя со мною в трамвае, он сказал: «Я закрываю глаза, чтобы не видеть этих обезьян». Я спросил: «Разве они обезьяны?» Он сказал: «А вы разве не знаете этого?»
К. Чуковский
26 ноября 1911 г.
Я устал без конца. Что со мной происходит? Кто-то точно меня не держит, что-то происходило на этой неделе. Что?
1 декабря 1911 г.
Днем – клею картинки. Любы нет дома, и, как всегда, в ее отсутствие, из кухни голоса, тон которых, повторяемость тона, заставляет тихо проваливаться, подозревать все ценности в мире. Говорят дуры, наша кухарка и кухарки из соседних мещанских квартир, но так говорят, такие слова (редко доносящиеся), что кровь стынет от стыда и отчаяния. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение – только скит; барская квартира с плотными дверьми – еще хуже. Там – случайно услышишь и уж навек не забудешь.
13 января 1912 г.
Кстати, по поводу письма ***: пора разорвать все эти связи. Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Влюбляется, или даже полюбит – отсюда письма – груда писем, требовательность, застигание всегда не вовремя; она воображает (всякая, всякая), что я всегда хочу перестраивать свою душу на «ее лад». А после известного промежутка – брань. Бабье, какова бы ни была – шестнадцатилетняя девчонка или тридцатилетняя дама. Женоненавистничество бывает у меня периодически – теперь такой период.
19 января 1912 г.
*** «В одном письме Вы называете меня подлецом в ответ на мое первое несогласное с Вами письмо. В следующем Вы пишете, что «согласны помириться». В третьем Вы пишете, что я «ни в чем не ошибался» в том письме, за которое вы меня назвали подлецом. Только в Вашем сегодняшнем письме я читаю, наконец, человеческие слова. Но все предыдущие письма отдалили меня от Вас. Если бы Вы знали, как я стар и устал от женской ребячливости (а в Ваших последних письмах была только она), то Вы так не писали бы. Вы – ребенок, ужасно мало понимающий в жизни и несерьезно еще относитесь к ней, могу Вам сказать это совершенно так же, как говорят Вам близкие. Больше ничего не могу сказать сейчас, потому что болен и занят. Мог бы сказать, но Вы все равно не услышите или не так поймете, и, пока я не буду уверен, что Вы поймете, не скажу (сейчас переписываю и совершенно забыл, что имел в виду). Для того, чтобы иметь представление о том, как я сейчас (и очень часто) настроен (но не о моих житейских обстоятельствах и отношениях), прочтите трилогию Стриндберга («Исповедь глупца», «Сын служанки», «Ад»). Я не требую, а прошу у Вас чуткости».
28 февраля 1912 г.
Вечерние прогулки (возобновляющиеся, давно не испытанные) по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристает щенок, тусклые окна с занавесочками. Девочка идет, точно лошадь тяжело дышит: очевидно, чахотка: она давится от глухого кашля, через несколько шагов наклоняется…
Страшный мир.
19 марта 1912 г.
Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономической» культуры, чем ужас призраков – времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым перед неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас реальности. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете.
24 марта 1912 г. Страстная суббота.
Вчера около дома на Каменноостровском дворники издевались над раненой крысой. Крысу, должно быть, схватила за голову кошка или собака. Крыса то побежит и попробует зарыться под комочек снега, то упадет на бок. Немножко крови за ней остается. Уйти некуда. Воображаю ее глаза.
26 марта 1912 г.
Преобладающее чувство этих дней – все растущая злоба.
28 мая 1912 г.
Печальное, печальное возвращение домой. Маленький белый такс с красными глазками на столе грустит отчаянно. Боюсь жизни, улицы, всего, страшно остаться одному, а еще и мама уедет.
14 июня 1912 г.
Ночью (почти все время скверно сплю) ясно почувствовал, что, если бы на свете не было жены и матери, – мне бы нечего делать здесь.
19 июня 1912 г.
Ночь белеет, сейчас иду на вокзал встретить Любу. Вдруг вижу с балкона – оборванец идет, крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал, и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, выпил воды, утерся… и пошел осторожно дальше.
Человек…
4 октября 1912 г.
Вчера, ночью и утром – стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки.
22 ноября 1912 г.
Усталость. Днем пошел гулять, но, конечно, затащился к букинисту и накупил книг (много и дешево).
1 декабря 1912 г.
Нет, в теперешнем моем состоянии (жестокость, угловатость, взрослость, болезнь) я не умею и я не имею права говорить больше, чем о человеческом. Моя тема – совсем не «Крест и Роза» – этим я не овладею. Пусть будет – судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею «умалиться» перед искусством, может мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему – большее. Т. е.: моя строгость к самому себе и «скромность» изо всех сил могут помочь пьесе – стать произведением искусства, а произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп.
Черновик стихотворения «Как океан меняет цвет…»
Март 1914 г.
10 января 1913 г.
Жестко мне, тупо, холодно, тяжко (лютый мороз на дворе). С мамой говорю по телефону – своим кислым и недовольным голосом и не могу сделать его другим. Уехать что ли куда-нибудь? Куда?
23 декабря 1913 г.
Совесть как мучит!
Дневник А. Блока
Глава пятнадцатая Годы возмездия
Не может сердце жить покоем!
А. БлокНе могу писать. Может быть, не нужно. С прежним «романтизмом» (недоговариванием и т. д.) борется что-то, пробиться не может, а только ставит палки в колеса.
1909 г.
Из записных книжек А. Блока
Эта зима 1911—12 года прошла под глубоким и упорным впечатлением нового открытия: Ал. Ал. узнал Стриндберга, на которого указал ему Пяст, указал настойчиво, так что и потом Ал. Ал. неоднократно повторял: «Пяст научил меня Стриндбергу». Открытие Стриндберга он считал одним из событий в своей жизни. Стихийное начало, глубокий мистицизм, специальная склонность к глубокому изучению естественных наук, общая культурность европейского склада – такое сочетание оказывалось до крайности знаменательным для Блока, и в этом периоде всякий шаг его жизни был буквально связан со Стриндбергом.
М. А. Бекетова
Милый Владимир Алексеевич.
Так образовалось за эту зиму, что я имею постоянную потребность сообщать Вам о каждом повороте «колесиков моего мозга» (как говорит Стриндберг, к которому я Вас все более ревную: зачем Вы его открыли, а не я; положительно думаю, что в нем теперь нахожу то, что когда-то находил для себя в Шекспире).
Письмо к Вл. Пясту 29/V-1911 г.
Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, на которых впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики.
…Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.
Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время.
Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году.
«Возмездие». Предисловие
3 декабря 1911 г.
Мама дала мне совет – окончить поэму тем, что «сына» поднимают на штыки на баррикаде.
Дневник А. Блока
Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом «возмездия»; этот лейтмотив есть мазурка, танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры – глухие 70-ые годы; во второй главе танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пене шампанского fin de siPcle, знаменитой veuve Clicquot; еще более глухие – цыганские, апухтинские годы; наконец, в третьей главе мазурка разгулялась, она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос возмездия.
«Возмездие». Предисловие
Я помню первое чтение «Возмездия», в присутствии немногих, у Вячеслава Иванова. Поэма произвела ошеломляющее впечатление.
…Меня она поразила свежестью зрения, богатством быта, предметностью, – всеми этими запретными для всякого символиста вещами. Но наш учитель глядел грозой и метал громы. Он видел разложение, распад, как результат богоотступничества, номинализм, как говорили мы немного позднее, преступление и гибель в этой поэме. Блок сидел подавленный. Он не умел защищаться. Он спорить мог только музыкально. И когда Вячеслав пошел в атаку, развернув все знамена символизма, неофит реализма сдался почти без сопротивления. Поэма легла в стол, где пробыла до последних лет, когда Блок сделал попытку, если не докончить, то привести ее в порядок.
С. Городецкий
К 1911 г. относится, по крайней мере на мой личный взгляд, некое неожиданное увлечение А. А. общественностью. Частью этот интерес к «государственным преступлениям в России» (так назывались три тома и четыре приложения к ним, изд. журналом «Русская Историческая Библиотека» alter ego изд-ва «Донская Речь» Парамонова), вызван был необходимостью подготовки к более достоверному освещению политического фона событий, совершающихся в 1-й главе «Возмездия». Но был и какой-то другой, самостоятельный интерес к этой стороне русской жизни. А. А. скупил целую серию революционных книжек, выпущенных в предшествующие годы, попрятавшихся в глубь прилавков букинистов за время активного напора реакции 1907–1909 гг. и снова вынырнувших на свет к 1911 г. Ко мне, любителю книг, он неоднократно обращался и устно, и письменно, прося, если увижу, купить для него то или другое недостающее. У меня до сих пор хранится листок каталога этой «Русской Ист. Библ.» с пометками Ал. Ал., что есть и чего не хватает.
В. Н. Княжнин
Милый Владимир Алексеевич.
Я бродил по лесам и полям и почувствовал себя вправе дать Вам один большой совет и одно маленькое предостережение.
За Вами публицистические долги в большом количестве (и вовсе не «трамваи» или «действ, ст. советники»). Так как Ваша воля, темперамент и интересы зовут Вас к изучению социологии и к публицистической деятельности, то Вы обязаны перед самим собой узнать русскую деревню, хотя бы отдельные места…
Я все чаще верю, что ошибки хотя бы с.-д. в недавние годы происходили от незнания и нежелания знать деревню; даже не знать, может быть (говорю так потому, что нам ее, может быть, и нельзя уже узнать, и начавшееся при Петре и Екатерине разделение на враждебные станы должно когда-нибудь естественно окончиться страшным побоищем) – даже не знать, а только видеть своими глазами и любить, хотя бы ненавидя.
19 декабря 1912 г.
День начался значительнее многих. Мы тут болтаем и углубляемся в «дела». А рядом – у глухой прачки Дуни болит голова, болят живот и почки. Воспользовавшись отсутствием «видной» прислуги, она рассказала мне об этом. Я мог только прокричать ей в ухо, что, «когда барыня приедет, мы ее отпустим отдохнуть и полечиться». Надо, чтобы такое напоминало о месте, на котором стоишь, и надо, чтобы иногда открывались глаза на «жизнь» в этом ее, настоящем смысле такой хлыст нам, богатым, необходим.
Дневник А. Блока
В этом году, решительно, одним из больших его интересов был интерес к общественной жизни: «С остервением читаю газеты, – пишет он матери, – «Речь» стала очень живой и захватывающе интересной. Милюков расцвел и окреп, стал до неузнаваемости умен и широк… Ненавижу русское правительство («Новое время»), моя поэма этим пропитана».
Дело дошло до того, что Александр Александрович пошел на лекцию Милюкова «Вооруженный мир и ограничение вооружений». Остался доволен этой лекцией, нашел ее блестящей, умной: «Лекция Милюкова была мне очень нужна».
Тогда же смягчилось его отношение к Мережковским и к Философову, их неизменному единомышленнику. Уже в начале января он пишет в Ревель: «Читаю новую повесть 3. Н. Гиппиус в «Русской Мысли». Видел ее во сне и решил написать примирительное письмо Мережковскому».
А в конце января уже и ответ получил, о чем опять-таки сообщает в Ревель: «Получил очень хорошие и милые письма от Мережковских из Cannes. Они оба очень рады тому, что я исчерпал инцидент». В одном из последующих писем: «С Философовым я расцеловался».
М. А. Бекетова
17 октября 1911 г.
К/люе/в – большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изнуренный приставаньем***, пьяными наглыми московскими мордами «народа» (в Шахматове – было, по обыкновению, под конец невыносимо – лучше забыть, забыть), спутанный – я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова – темномордое. Входит – без лица, без голоса – не то старик, не то средних лет (а ему 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит… Только в следующий раз Клюев один, часы нудно, я измучен – и вдруг бесконечный отдых, его нежность, его «благословение», рассказы о том, что меня поют в О(лонецкой) г(убернии), и как (понимаю я) из «Нечаянной радости» те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полусказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в «Нечаянной Радости»), а они позволили мне: говори. – И так ясно и просто в первый раз в жизни – что такое жизнь Л. Д. Семенова и даже – А. М. Добролюбова[80]. Первый – Ряз. губ., 15 верст от именья родных, в семье, крест, работы, никто не спросит ни о чем и не дразнит (хлысты, но он – не). «Есть люди», которые должны избрать этот «древний путь» – «иначе не могут». Но это – не лучшее, деньги, житье – ничего, лучше оставаться в мире, больше «влияния» (если станешь в мире «таким»). «И одежду вашу люблю и голос ваш люблю». – Тут многое не записано, запамятовано, я был все-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: «когда вспомните обо мне (не внешне), – значит я о вас думаю».
Дневник А. Блока
О хлыстах[81] Александр Александрович говорил много. Он (с другими) ездил к хлыстам за Московскую заставу. Хлысты держались весьма независимо, но им все же льстило, что писатели ими интересуются. Уважение к писательству уже входило в массы.
Александра Александровича влекла тамошняя «богородица». Она была замечательная женщина, готовая перевоплотиться в поэтический образ, так был силен ее лиризм.
Читая дневники Блока, мы наталкиваемся на очень любопытное явление. Хотя почти ежедневно он записывает бесконечные разговоры с Мережковскими, Терещенкой, Вяч. Ивановым, с бесконечными звездочками, за которыми скрываются другие большие и малые литераторы, – подлинного общения не получается. В заседаниях – «некрология» и «морфология стиха»; в разговорах – трудное, напряженное желание усвоить чужие мысли, внутренне связаться с теми, кого Блок все-таки считает за «своих».
Пока дело идет о вопросах «вкуса» – об установлении художественной ценности того или иного произведения, – договориться можно; как только дело переходит к тому, что «больше вкуса», – взаимное понимание утрачивается совершенно… Блок ищет выхода из этого одиночества, но оно настолько мучительно, что он теряет критерий подлинности, жизненности представляющегося выхода – только этим можно объяснить увлечение Блока письмами Клюева. Письма эти сохранились в архиве Блока – и сейчас, читая их, трудно, почти невозможно понять, как эта высокопарная болтовня об «обручении раба божья Александра рабе божьей России» могла казаться Блоку чем-то серьезным, каким-то выходом из его действительно безысходного одиночества. Правда, Блоку казалось, что за Клюевым стоит какая-то масса и притом, что очень важно, масса неопределенная, народ – с большой буквы, не тот, который в Шахматове, и не тот, который был на улицах в 1905 г., – а другой, таинственный, с неопределенным стремлением к неопределенной свободе, к царствию божьему на земле.
Евгения Книпович[82]. Александр Блок в его дневниках
6 декабря 1911 г.
Я над Клюевским письмом. Знаю все, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу.
Стишок дописал – «В черных сучьях дерев».
9 декабря 1911 г.
Послание Клюева все эти дни – поет в душе. Нет, – рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира.
Дневник А. Блока
Многоуважаемый И. П.[83]
Я не враг Вам, но и не Ваш. Весь мир наш разделен на клетки толстыми переборками: сидя в одной, не знаешь, что делается в соседней. Голоса доносятся смутно. Иногда по звуку голоса кажется, что сосед – близкий друг; проверить это не всегда можешь.
Пробиться сквозь толщу переборки невозможно…
Все это говорю я совсем не с отчаянием; хочу показать только, почему мне кажется невозможным делать общее дело с Вами, с кем бы то ни было.
Не говорю даже и «навсегда», – но теперь так. Правда в том для меня (может быть, даже жестокая, но я не чувствую жестокости), что чем лучше я буду делать свое одинокое дело, тем больший принесет оно плод (как, где, когда, – все это другое, сейчас не о том говорю). Это не значит, что в России, например, нет такого четвертого сердца, которое бы слышало биение трех сердец (скажем: Клюевского, Вашего и моего), как одно биение.
…Вы, Клюев, я, кто-нибудь четвертый с Волги, из Архангельска, с Волыни, – все равно, – все разделены, все говорят на разных языках, хотя, может быть, иногда понимают друг друга. Все живут по-своему.
Может быть, я говорю так потому, что соединение и связь, мыслю такими несказанными и громадными, какие редко воплощаются в мире.
…Говорю к тому, чтобы показать, почему, любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему (читателю «Нового Вина») нечто от этой моей любви, притом передали бы так, чтобы делали единым его, Клюева и меня. Все остаемся разными.
Теперь я, насколько умел, показал Вам «тенденцию» своей души. Все более укрепляясь в этих мыслях, я все более стремлюсь к укреплению формы художественной, ибо для меня (для моего – я) она – единственная защита.
Делаю вывод: на художническом пути, как мне и до сих пор думается, могу я сделать больше всего. Голоса проповедника у меня нет. Потому я один. Так же не с гордостью, как и не с отчаянием, говорю это, поверьте мне.
Душевно Вас уважающий
Александр Блок
26 августа 1912 г.
Неизданное письмо к И. П.
1 мая 1912 г.
Мысли печальные, все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны, хуже времени нет.
25 января 1912 г.
Мой сегодняшний ответ Боре:
«Милый Боря… мое письмо разошлось с Тобой, это мне более чем досадно. Если бы я и был здоров, я сейчас не владею собой, мог бы видеть Тебя только совсем отдельно и, особенно, без Вячеслава Иванова, которого я люблю, но от которого далек.
Вы сейчас обсуждаете журнал. Я менее, чем когда-либо, подготовлен к журналу. Быть сотрудником, прислать статью я могу, но я один, измучен, и особенно боюсь трио (с В. И.). Впрочем, я многого боюсь, я – о д и н.
В письме в Москву я Тебе писал, почему мне страшно увидеться даже с тобой одним, если бы я был здоров. Кроме того, писал, что нахожусь под знаком Стриндберга.
… Потом будет виднее. Главное, что я могу сказать Тебе сейчас – неравнодушно – это о том, что Пяст, по-моему, нужнейшее лицо в этом журнале. Пишу тебе сухо поневоле, потому что Ты будешь читать письмо вне моего круга – в доме В. Иванова. Прошу Тебя, оставь для меня твой след в Петербурге: это еще причина, по которой я хотел бы, чтобы ты увиделся с Пястом; через него ты коснешься моего друга, что важно нам обоим. Атмосфера В. Иванова для меня сейчас немыслима.
Любящий тебя
А. Б.
Дневник А. Блока
Помню… когда мы собирались издавать журнал «Символист» или «Путник» или еще «Стрелец» (на названии не остановились): «Только знаете что» – говорил он: «ни вы, ни я отнюдь не должны брать на себя в этом журнале руководящие, направляющие роли».
Вл. Пяст. Памяти А. Блока
И даже тогда, когда глубокое отвращение и злоба заставляют Блока понять, что изысканный эстетизм «Аполлона», «маршировка лицеистов в Петропавловский собор» и открытие французского института есть «круговая порука, одна путаница, в которой сам чорт ногу сломит» (т. I, стр. 22), он все-таки мысли своей до конца не доводит. Блок идет жаловаться к Мережковским на то, что «Аполлон», М. Ковалевский, Милюков, «который только что лез со свечкой на панихиде по Столыпине», – связаны круговой порукой с прекрасным французским языком Кассо. Блок еще не понимает, что в той же круговой поруке находится и христианская общественность Мережковских… и тот меценат – миллионер Терещенко – жрец искусства для искусства, который через год закажет Блоку «Розу и Крест».
Евг. Книпович
Зимою, в начале 12-го года Блок сообщил мне, что его часто навещает, – приезжая, конечно, на автомобиле, – представитель крупной газеты – человек, всем в Петербурге известный, некто N [Руманов]. Из-за его визитов к Блоку нам пришлось даже отменить два-три свидания друг с другом. Целью посещения N было привлечение А. А. Блока в газету. Но не просто так вообще: а вместе с привлечением обрабатывание будущего сотрудника в известном духе, препарирование его. – Газета эта, – рассказывал мне Блок, – обладает средствами и влиянием громадными: вся Русь на восток и на юг от Москвы получает ее, кормится ею, а никак не «Новым Временем»…
Кстати, последнее Блок очень не любил (за исключением Розанова да Буренина[84], в чьих выходках по адресу себя Блок видел объективное мерило литературной собственной ценности; не злили они его, а забавляли и даже радовали).
Вл. Пяст
В это лето Саша часто виделся с представителем «Русского Слова» в Петербурге Румановым. Руманову хотелось сделать из Блока грандиозного публициста. На эту мысль навели его статьи и заметки Блока. Они часто встречались. В одном из писем к матери есть и об этом:
«Мы с Румановым завтракали на крыше Европейской гостиницы. Он меня угощал. Там занятно: дорожки, цветники, вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем, так что одну минуту я ясно представил себе Gare du Nord, как она видна с Монмартра влево».
Из грандиозных замыслов Руманова, как известно, не вышло того, чего он желал, но Саша относился к нему с симпатией.
М. А. Бекетова
Не стихов ждала от Блока эта газета. Задалась она целью приобрести в его лице страстного публициста. Отчасти на место одного писателя, которого к тому времени пришлось, по настоянию либералов, из числа сотрудников газеты исключить (в течение года по удалении выплачивая ему все-таки жалование). Но в Блоке провидел N публицистическую силу еще более крупного калибра. – «Катковское наследие», буркал впоследствии сблизившийся со мной журналист – «вы понимаете?».
– Но мы все-таки тогда совсем не понимали всей правоты заданий почтенного редактора! – Более года не отказывался от них N и наконец махнул рукой. В газете стали появляться Блоковские стихи. Поэту это было невыгодно, конечно: но когда же поэт держится за свою выгоду?
Вл. Пяст
4 июня 1912 г.
Устраиваю (стараясь…) дела А. М. Ремизова, которому нужны эти несчастные 600 рублей на леченье и отдых, притом заработанные, начинаю злиться.
Руманов – я уже записываю это – систематически надувает: и Женю [Иванова], и Пяста, теперь – Ремизова. Когда доходит до денег, – он, кажется, нестерпим. Или он ничего не может, а только хвастается? Купчина Сытин, отваливающий 50.000 в год бездарному мерзавцу Дорошевичу, систематически задерживает сотни, а то и десятки рублей подлинным людям, которые работают и которым нужно жить– просто. Такова картина.
24 ноября 1912 г.
С 11 часов вечера – у Ар. Вл. Тырковой[85] – редакционное заседание «Русской Молвы», которая начнет выходить с 7 декабря. Присутствуют А. В. Т(ыркова); англичанин[86], проф. Адрианов, мы с Ремизовым и приглашенные нами – Е. П. Иванов, Вл. Н. Княжнин, Вл. А. Пяст, Η. П. Ге и Б. А. Садовской[87]. Я читаю свою докладную записку об отношении искусства к газете и превращаюсь в какого-то лидера. Следующее собрание – через неделю. Мою статью хотят сделать определяющей в отношении газеты к искусству.
Дневник А. Блока
…К работе в этой газете хотели привлечь и Блока, который предложение принял и для первого номера написал статью и пришел ко мне ее читать. К великому нашему смущению, она оказалась смесью литературы и политики, да еще, выражаясь шаблонно, политики старой, пропитанной страстным воинственным национализмом. Он кончил. Мы сидели молча… Потом сказали, что так нельзя, что наш национализм приемлет все народы, живущие в России, признавшие ее родиной. Мы никого не отвергаем, никого не изгоняем.
Блок защищался парадоксально, но метко. Потом уступил. Согласился выбросить всю политическую часть и дать только литературную половину. Но все-таки в разговоре со мной с горькой яростью доказывал, что у русских нет инстинкта самосохранения, что надо с мечем в руках защищать национальные ценности и прежде всего русский язык.
А. Тыркова
18 декабря 1911 г.
Страшная, тягостная вещь – талант, может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, легка – «легкое бремя».
Правду, исчезнувшую из русской жизни, – возвращать наше дело.
Дневник А. Блока
Во мне есть «шестидесятническая» кровь и «интеллигентская» кровь и озлобление, и – мало ли еще что. Только все это в нас – какие-то осколки и половинки, и не этими половинками мы сможем что-нибудь для чего-нибудь сделать, принести чему-нибудь пользу, – а только цельным, тем, что у каждого – свое, а будет когда-нибудь – общее.
Письмо к В. Н. Княжнину 9 XI 1912 г.
24 декабря 1911 г.
Городские человеческие отношения, добрые ли, или не добрые, – люты, ложны, гадки, почти без исключений. Долго, долго бы не вести «глубоких разговоров»!
2 января 1912 г.
Когда люди долго пребывают в одиночестве, например, имеют дело только с тем, что недоступно пониманию «толпы» (в кавычках – и не одни, а десяток), как «декаденты» 90-х годов, тогда – потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными и часто (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со многими из нас.
13 января 1912 г.
Пришла «Русская Мысль» (январь). Печальная, холодная, верная – и всем этим трогательная – заметка Брюсова обо мне. Между строками можно прочесть: «Скучно, приятель? Хотел сразу поймать птицу за хвост?» Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется – в чтении, писании, отделываньи, получении писем и отвечании на них? – Но – лучше ли «гулять с кистенем в дремучем лесу».
Дневник А. Блока
Еретиками оказывались сами символисты; ересь заводилась в центре. Ничьи вассалы не вступали в такие бесконечные комбинации ссор и мира – в сфере теорий, как вассалы символа. И удивительно ли, что символисты одного из благороднейших своих деятелей проглядели: Иннокентий Анненский был увенчан не ими. К основным порокам символизма в круге разрушивших его причин нельзя не отнести также и ряды частных противоречий, живших в отдельных деятелях. Героическая деятельность Валерия Брюсова может быть определена, как опыт сочетания принципов французского Парнаса с мечтами русского символизма. Это – типичная драма воли и среды, личности и момента. Сладостная пытка, на которую обрек себя наследник одного из образов Владимира Соловьева, Александр Блок, желая своим сначала резко-импрессионистическим, позднее лиро-магическим приемом дать этому образу символическое обоснование, еще до сих пор длится, разрешаясь частично то отпадами Блока в реализм, то мертвыми паузами. Творчество Бальмонта оттого похоже на протуберанцы Солнца, что ему вечно надо вырываться из ссыхающейся коры символизма. Федор Сологуб никогда не скрывал непримиримого противоречия между идеологией символистов, которую он полуисповедывал, и своей собственной – солипсической.
Катастрофа символизма совершилась в тишине – хотя при поднятом занавесе. Ослепительные «венки сонетов» засыпали сцену. Одна за другой кончали самоубийством мечты о мифе, о трагедии, о великом эпосе, о великой в простоте своей лирике. Из «слепительного да» обратно выявлялось «непримиримое нет».
Сергей Городецкий. Некоторые течения в современной русской поэзии
4 марта 1912 г.
Спасибо Горькому и даже – «Звезде»[88]. После эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов – запахло настоящим. Так или иначе, при всей нашей слабости и безмолвии подкрадыванье к событиям двенадцатого года отмечается опять-таки в литературе.
Дневник А. Блока
Д. Бисти. Иллюстрация к поэме «Возмездие». 1978 г.
Многоуважаемый Павел Елисеевич!
Извините, пожалуйста: сегодня я Вам послал листок с моим мнением о лучших романах этого года и, уже после того, как опустил в ящик, сообразил, что все это написано каким-то суконным нерусским языком. Объясняется это тем, что я весь день сегодня писал стихами, а потому в прозе окончательно охромел. Пожалуйста, бросьте тот листок, вот Вам другой вместо него.
Преданный Вам Александр Блок
Важнейшими литературными произведениями этого года я считаю два романа: «Петербург» Андрея Белого и «Туннель» Бернгарда Келлермана. А. Белый говорит о судьбах России, Келлерман – о судьбах Америки и Европы; А. Белого вдохновляет близкое прошлое, Келлермана – близкое будущее; у писателей этих, принадлежащих к различным расам, нет ни одной общей точки зрения, ни одного общего приема: даже недостатки их (поражающие – у А. Белого) совершенно различны. Тем не менее, оба произведения, отмеченные печатью необычайной значительности, говорят о величии нашего времени[89].
Неизданное письмо к Π. Е. Щеголеву 19/ΧΙΙ-1913 г.
* * *
17 апреля 1912 г.
Когда мы («Новый Путь», «Весы») боролись с умирающим плоско-либеральным псевдореализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения.
Дневник А. Блока
Символическое движение в России можно к настоящему времени счесть, в главном его русле, завершенным. Выросшее из декадентства, оно достигло усилиями целой плеяды талантов того, что по ходу развития должно было оказаться апофеозом и что оказалось катастрофой. Причины этой катастрофы коренились глубоко, в самом движении.
Новый век влил новую кровь в поэзию русскую. Начало второго десятилетия – как раз та фаза века, когда впервые намечаются черты его будущего лика. Некоторые черты новейшей поэзии уже определились, особенно в противоположении предыдущему периоду. Между многочисленными книгами этой новой поэзии было несколько интересных; среди немалого количества кружков выделился Цех Поэтов. Газетные критики уже в самом названии этом подметили противопоставление прямых поэтических задач – оракульским, жреческим и иным. Но не заметила критика, что эта скромность, прежде всего, обусловлена тем, что Цех, принимая на себя культуру стиха, вместе с тем принял все бремя, всю тяжесть неисполненных задач предыдущего поколения поэтов. Непреклонно отвергая все, что наросло на поэзии от методологических увлечений, Цех полностью признал высоко поставленный именно символистами идеал поэта. Цех приступил к работе без всяких предвзятых теорий. К концу первого года выкристаллизовались уже выразимые точно тезы. Резко очерченные индивидуальности представляются Цеху большой ценностью, – в этом смысле традиция не прервана. Тем глубже кажется единство некоторых основных линий мироощущения. Эти линии приблизительно названы двумя словами: акмеизм и адамизм. Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм, в конце концов, заполнив мир «соответствиями», обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще.
С. Городецкий
21 ноября 1912 г.
Весь день просидел Городецкий и слушал очень внимательно все, что я говорил ему о его стихах, о Гумилеве, о Цехе, о тысяче мелочей. А я говорил откровенно, бранясь и не принимая всерьез то, что ему кажется серьезным и важным делом.
Дневник А. Блока
В журнале «Аполлон» в 1913 году появились статьи Н. Гумилева и С. Городецкого о новом течении поэзии; в обеих статьях говорилось о том, что символизм умер и на смену ему идет новое направление, которое должно явиться достойным преемником своего достойного отца… Н. Гумилев пренебрег всем тем, что для русского – дважды два – четыре. В частности он не осведомился и о том, что литературное направление, которое по случайному совпадению носило тоже греческое имя «символизм», что и французское литературное направление, было неразрывно связано с вопросами религии, философии и общественности; к тому времени оно, действительно, «закончило круг своего развития», но по причинам отнюдь не таким, какие рисовал себе Н. Гумилев. Причины эти заключались в том, что писатели, соединявшиеся под знаком «символизма», в то время разошлись между собою во взглядах и миросозерцаниях; они были окружены толпой эпигонов, пытавшихся спустить на рынке драгоценную утварь и разменять ее на мелкую монету; с одной стороны, виднейшие деятели символизма, как Брюсов и его сотрудники, пытались вдвинуть философское и религиозное течение в какие-то школьные рамки (это-то и было доступно по мнению Н. Гумилева); с другой – все назойливее врывалась улица; словом, шел обычный русский «спор славян между собою» – «вопрос не разрешенный» для Гумилева; спор по существу был уже закончен, храм символизма опустел, сокровища его (отнюдь не «чисто литературные») бережно унесли с собой немногие; они и разошлись молчаливо и печально по своим одиноким путям. Тут-то и появились Гумилев и Городецкий, которые «на смену» (?!) символизму принесли с собой новое направление, «акмеизм» (от слова acme – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм («мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь»). Почему такой взгляд называется «адамизмом», я не совсем понимаю, но, во всяком случае, его можно приветствовать; только, к сожалению, эта единственная, по-моему, дельная мысль в статье Гумилева была заимствована им у меня: более чем за два года до статей Гумилева и Городецкого мы с Вяч. Ивановым годами гадали о ближайшем будущем нашей литературы на страницах того же «Аполлона», тогда я эту мысль и высказал.
А. Блок. Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)
Конечно, я знаю: русская литература разбита на партии и направления, друг друга отрицающие, друг друга поедающие; все несвязно, все разрозненно, как в рассыпавшейся храмине. Вот в одном углу почтенные ветераны от литературы, вроде П. Боборыкина, неустанно изливают скорбь свою о падении современной беллетристики, о пагубном направлении вкусов молодежи, о том, что «ничего понять невозможно».
Но это только один уголок нашей литературной храмины.
…В третьем углу собрались обломки старого «декадентства», уразумевшие всю тщету былого чистого эстетизма и схватившиеся кто за что: кто за православие, кто за теософию, кто за иные формы религии… Вопрос о современной литературе для них ясен: литература – это они и только они; они цель всего предшествующего и зерно всего будущего. Они группируются в религиозно-философских обществах Москвы и Петербурга, в теософических кружках и собраниях.
Этих групп, кружков и «углов» современной литературы так много, что еще долго можно перечислять их и описывать. Их десятки, и все они ведут между собой bellum omnium contra omnes. Здесь твердокаменные «реалисты» пытаются оградить себя (и неудачно) от влияния и вторжения ненавистного «модернизма»; тут былые «модернисты» обращаются к «реализму» и спорят о словах, не определив их смысла; там наследники «декадентов» ищут новых путей в религии, в народе, в общественности. И все в жестокой борьбе со всеми, все воюют друг с другом, – и инде реалист гнет модерниста, а инде мистик гнет реалиста… Сюжет, достойный кисти Карамзина. Это ли не рассыпанная храмина русской литературы?
Иванов-Разумник. Литература и общественность
12 января 1913 г.
Впечатления последних дней.
Ненависть к акмеистам, недоверие к Мейерхольду, подозрение относительно Кульбина.
10 февраля 1913 г.
Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше – один отвечаю за себя, один – и могу еще быть моложе молодых поэтов «среднего» возраста, обремененных потомством и акмеизмом.
11 февраля 1913 г.
А. Белый. Не нравятся мне наши отношения и переписка. В его письмах все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе это вечное наше «Ты» (с большой буквы).
11 февраля 1913 г.
День значительный. – Чем дальше, тем тверже я «утверждаюсь» «как художник». Во мне есть инструмент, хороший рояль, струны натянуты. Днем пришла особа, принесла «почетный билет» на завтрашний соловьевский вечер. Села и говорит: «А «Белая Лилия», говорят, пьеска в декадентском роде?» – В это время к маме уже ехала подобная же особа, приехала и навизжала, но мама осталась в живых.
Мой рояль вздрогнул и отозвался, разумеется. На то нервы и струновидны – у художника. Пусть будет так: дело в том, что очень хороший инструмент (художник) вынослив, и некоторые удары каблуком только укрепляют струны. Тем отличается внутренний рояль от рояля «Шредера».
После того я долго по телефону нашептывал Поликсене Сергеевне [Соловьевой] аргументы против завтрашнего чтения. В 12 часов ночи – звонок и усталый голос: «Я решила не читать». – Мне удается убеждать редко, это большая ответственность, но и радость.
11 марта 1913 г.
Это все делают не люди, а с ними делается: отчаяние и бодрость, пессимизм и «акмеизм», «омертвление» и «оживление», реакция и революция. Людские воли действуют но иному кругу, а на этот круг большинство людей не попадает, потому что он слишком велик, мирообъемлющ. Это – поприще «великих» людей, а в круге «жизни» (так называемой) – как вечно – сумбур; это – маленьких, сплетников. То, что называют «жизнью» самые «здоровые» из нас, есть не более, чем сплетня о жизни.
11 марта 1913 г.
Все, кажется, благородно и бодро, а скоро придется смертельно затосковать о предреволюционной «развратности» эпохи «Мира Искусства». Пройдет еще пять лет, и «нравственность» и «бодрость» подготовят новую «революцию» (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от какого отчаяния, ни от какой тоски).
22 марта 1913 г.
По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения – полное равнодушие. Но – слава богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше…
Вечером, чтобы разогнать тоску, пошел к Мейерхольду.
Дневник А. Блока
Глава шестнадцатая «Роза и Крест»
Актеры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло. А. БлокНа пасхе завязалось новое знакомство, имевшее важные последствия; Михаил Иванович Терещенко, очень богатый человек, знаток и любитель искусства, затевал в Петербурге большое театральное дело и хотел поставить в своем будущем театре какую-нибудь новую, значительную вещь. Он знал и исключительно любил стихи Блока и пожелал познакомиться с поэтом. Знакомство состоялось через посредство Ремизова. Но желанию Терещенки Блок взялся написать сценарий к балету. Балет из провансальской жизни. Музыку будет сочинять Глазунов. Александр Александрович тотчас же стал работать над балетом. Скоро выяснилось, что будет не балет, а либретто к новой опере, но и эта мысль вскоре была оставлена, и на свет явилась драма – «Роза и Крест».
…Всю первую половину сезона 1912—13 года Александр Александрович был занят писанием драмы «Роза и Крест». Когда пьеса была закончена, он собрал у себя на дому небольшой кружок, которому прочел свою новую драму. В числе присутствующих был Мейерхольд и Евгений Павлович Иванов, слушали, разумеется, и мы с Александрой Андреевной. Драма произвела очень сильное впечатление. Мейерхольд был поражен, между прочим, стройностью развития действия и законченностью отделки. «Вы никогда еще так не работали», – сказал он автору. «Роза и Крест» появилась в печати в том же году во вновь возникшем издательстве «Сирин», основанном Терещенко.
М. А. Бекетова
Вдали от большой дороги четыре серьезных писателя издали альманах «Сирин». Судя по объявлению, приложенному к книге, не замедлят выйти и следующие сборники.
Таким образом, перед нами новое литературное явление.
В первом сборнике помещены вещи Блока, Белого, Сологуба и Ремизова.
В этих именах заключена уже целая программа.
Как у всех необычных и талантливых людей, у вышеназванных писателей есть друзья и враги.
И можно даже сказать, что друзей, как будто, больше, чем врагов.
Если Андрей Белый почти не вхож в «толстые журналы», то остальные сотрудники нового альманаха попали даже на страницы «Заветов». Редакция почтенного журнала, по-видимому, признает, что серьезные таланты, по существу своему, не могут противоречить заветам русской интеллигенции.
Д. Философов. Поэт и критики
Осенью «Сирин», с «Сирином» – «Роза и Крест», лучшая ваша драма, по отзывам всех, хоть я всегда любил, а Вы не любили и даже готовы были выбросить из томика «Театр» «Короля на площади».
О «Сирине» Вы мне говорили:
– Я очень многим обязан Терещенко. Он заставил меня кончить «Розу и Крест».
– Заставил?
Улыбка (кивок головы).
– Заставил. Я ходил к нему читать каждый акт снова и снова, пока все стало хорошо.
Помолчав, наивно и скромно:
– А то бы не закончить…
В. Н. Княжнин
«Долгие споры» начались у нас [у Иванова-Разумника с Блоком] только около этого времени (т. е. скорее всего к концу 1912 года), в уютном кабинете «Сирина». Издательство это родилось осенью 1912 года, и основатель его, впоследствии известный на политической арене М. И. Терещенко, предложил мне быть редактором новорожденного издательства. М. И. Терещенко был тогда близко знаком с А. А. Блоком – и быть может сама мысль об устройстве издательства возникла у него после бесед с Блоком и А. Ремизовым, тоже его знакомым.
Вспоминаю «учредительные собрания» нового издательства на квартире Ремизова: вспоминаю «Пушкинскую 10», где все мы встречались в «Сирине» почти ежедневно; вспоминаю без огорчения издательские деяния «Сирина», собрания сочинений Валерия Брюсова, Алексея Ремизова, Федора Сологуба; вспоминаю с удовлетворением о трех сборниках «Сирина», в которых появились такие вещи, как «Петербург» Андрея Белого и «Роза и Крест» А. Блока. Но прежде всего вспоминаю – две небольшие комнаты, обитые красным сукном, с широкими оттоманками и глубокими креслами: в этих комнатах почти каждый вечер велись «долгие споры», читались новые вещи, собирались вообще все мы уютно посидеть за стаканом чая.
Никогда не бывало много народа; но почти каждый вечер, часов с пяти, заезжали и заходили в «Сирин» все одни и те же постоянные посетители: А. А. Блок, А. М. Ремизов, Ф. К. Сологуб (реже), М. И. Терещенко с двумя сестрами, Μ. М. Пришвин, во время частых своих наездов в Петербург; также, но изредка, В. Я. Брюсов и К. Д. Бальмонт; совсем редко – проезжавший из-за границы и за границу Андрей Белый. Не называю десятков имен литературной молодежи, которую перевидали эти сиринские комнаты; повторяю только, что постоянным посетителем в течение почти трех лет был А. А. Блок.
Слишком долго было бы рассказывать здесь, как в комнатах этих отразились и прошли в беседах с Александром Александровичем – «племен минувших договоры» (помню долгие беседы о мировой империи, о Наполеоне, о власти – в связи с мировой войной 1914 года), «плоды наук» (многое часто говорил тогда Александр Александрович об авиации и ее судьбах), «добро и зло» (первый наш «долгий разговор» – о гнозисе времен первохристианства, в связи с идеей символизма) «и предрассудки вековые» (шумным эхом отозвался в наших тихих комнатах пресловутый «процесс Бейлиса») «и гроба тайны роковые, судьба и жизнь».
Иванов-Разумник. Вершины
7 ноября 1912 г.
Вчера вечером позвонил ко мне М. И. Терещенко и приехал. Сидели, говорили, милый. Говорили о разговоре с Л. Андреевым – отказался окончательно субсидировать его журнал («Шиповник»). Андреев поминал обо мне с каким-то особым волнением, говорил, что я стою для него – совершенно отдельно, говорил наизусть мои стихи «Матроса», «Незнакомку», говорил о нелепых отношениях, которые создались с летней встречи (которая для меня совпала, как всегда, с одним из ужаснейших вечеров моей жизни: Сапунов, месяц, Аквариум).
Что меня отваживает от Андреева: 1) боюсь его, потому что он не человек, не личность, а сплав очень мне близких ужасов мистического порядка, 2) эта связь нечеловеческая (через «Жизнь человека»-не человека) ничем внешним не оправдывается, никакая духовная культура не роднит, не поднимает. Андреев – один («одно»), аневсоборе культуры.
1 декабря 1912 г.
Мейерхольд: он говорил много, сказал много значительного, но все сидит в нем этот «применяющийся» человек, как говорит *** – Мейерхольд говорил: я полюбил быт, но иначе подойду к нему, чем Станиславский; я ближе Станиславскому, чем был в период театра Комиссаржевской (до этого я его договорил). – Развил длинную теорию о том, что его мировоззрение, в котором есть много от Гофмана, от «Балаганчика», от Метерлинка – смешали с его техническими приемами режиссера (кукольность), доказывая, что он ближе к Пушкину, т. е. человечности, чем я и многие думают. Это смешение вызвано тем, что в период театра Комиссаржевской ему пришлось поставить целый ряд пьес, в которых подчеркивается кукольность. Театр, – говорит Мейерхольд, – есть игра масок; «игра лиц», как возразил я, или «переживание», как назвал то же самое он – есть по существу то же самое, это только – спор о словах.
Утверждая последнее, Мейерхольд еще раз подтвердил, что ему не важны слова. Я понимаю это, он во многом прав… Таким образом, для меня остается неразрешимым вопрос о двух правдах – Станиславского и Мейерхольда («я – ученик Станиславского», – сказал Мейерхольд, между прочим).
Дневник А. Блока
* * *
Часто бывало: зимняя ночь подходит к середине, все давно разошлись из «Сирина», мы вдвоем с Александром Александровичем за стаканами остывающего чая, дымя трубкой и папиросами, заканчивали давно начатый, внешне спутанный, а внутренне цельный клубок долгого спора.
Иванов-Разумник
2 января 1913 г.
Сегодня – оскомина после вчерашних лжей и омута на сердце. Днем – в «Сирине», Ремизов, Разумник, все смута. А. М. Ремизов бранит Брюсова, говорит, что романы его – «просто ничто», хочет хлопотать о том, чтобы издал «Сирин» полное собрание Гиппиус («если уж Брюсова»). Вернулся – письмо от Бори – двенадцать страниц писчей бумаги, все – за Штейнера; красные чернила; все смута.
Дневник А. Блока
1913 год. Издательство «Сирин» – М. И. Терещенко и его сестры – канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, ведь я отдал его последний! – как вы смеялись и после, еще недавно, вспоминая, смеялись.
А. М. Ремизов
С Блоком в эти зимы установились очень близкие отношения.
Он приходил, и мы часто рылись в старых бумагах и если находили стихи, которые приходилось переписывать, Блок отверженно садился и переписывал до конца. Блок уже написал тогда «Розу и Крест». Но вещь обманула мои ожидания. Он мне подробно рассказывал о ней, когда ее задумал. В ней могло быть много пленительности и глубины. Но написанная она оказалась слабее. Блок это знал и со мной о пьесе не заговаривал.
Часто разговаривали по телефону, и речь Блока была еще тогда медлительнее, говорил он долго, с паузами. Мы спорили порою, забывая о разделяющем пространстве, о том, что не видим друг друга. И расставались, – как после свидания.
3. Н. Гиппиус
31 января 1913 г.
Вчера… вечером у А. М. Ремизова читал «Розу и Крест» (Терещенки, Серафима Павловна[90], Зонов. Потому, как относятся, что выражается на лицах, как замечания касаются только мелочей, вижу, что я написал, наконец, настоящее. Все остальное – тяжело, трудно, нервно. Что будет с пьесой дальше, – не знаю.
23 февраля 1913 г.
Вот эсотерическое, чего нельзя говорить людям (одни – заклюют, другие используют для своих позорных публицистических целей). Искусство связано с нравственностью. Это и есть «фраза», проникающая произведение («Роза и Крест», так думаю иногда я).
Дневник А. Блока
Первое, что я хочу подчеркнуть, это то, что «Роза и Крест» не историческая драма. Дело не в том, что действие происходит в южной и северной провинции Франции в начале XIII столетия, а в том, что помещичья жизнь и помещичьи нравы любого века и любого народа ничем не отличаются один от другого. Первые планы, чертежи драмы, в тот период творчества, когда художник собирается в один нервный клубок, не позволяет себе разбрасываться, – все это было, так сказать, внеисторично. История и эпоха пришли на помощь только во второй период, когда художник позволяет себе осматриваться, вспоминать, замечать, когда «распускает» себя.
А. Блок. Роза и Крест (К постановке в Художественном театре)
20 апреля 1913 г.
Посыльный принес необыкновенно милый ответ от К. С. Станиславского. Может быть, он придет завтра слушать «Розу и Крест».
Все утро прождал я К. С. Станиславского. В 1-м часу позвонил он – жар, боится, послал за градусником – будет сидеть дома, может быть, завтра. В 1 час пришел А. М. Ремизов, дал я ему цветной капусты и ветчины.
Поразил меня голос Станиславского (давно не слышанный) даже в телефон. Что-то огромное, густое, «нездешнее», трубный звук.
М. Добужинский. Иллюстрация к драме «Роза и Крест».
1919 г.
Как всегда, вокруг центрального: пока ждал Станиславского, звонок от Зверевой, которая хорошо знает одного из режиссеров студии Художественного театра – Вахтангова. Хочет познакомиться, хочет ставить «Розу и Крест» с «любым художником – Бенуа, Рерих (!!??)». Это через третьи руки, и этот «бабий» голос. Нервный и путает. Нет, решаю так:
Пока не поговорю с Станиславским, ничего не предпринимаю. Если Станиславскому пьеса понравится и он найдет ее театральной, хочу сказать ему твердо, что довольно насмотрелся я на актеров и режиссеров, не даром высидел последние годы в своей мурье, никому не верю, кроме него одного. Если захочет – ставил бы и играл бы сам – Бертрама.
Если коснется пьесы его гений, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как и его положительные дела. Если не хочет сам он, – я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо. Тогда пьесу печатать. А Вахтангов – самая фамилия приводит в ужас.
Буду писать до времени – про себя, хотя бы и пьесы. Современный театр болен параличом – и казенный (Мейерхольд; ведь «Электра» прежде всего – бездарная шумиха). Боюсь всех Мейерхольдов, Гайдебуровых (не видал), Обводных каналов (Зонов не в счет), Немировичей, Бенуа…
Дневник А. Блока
В конце мая Александр Александрович узнал, что «Роза и Крест» пропущена цензурой без всяких ограничений. Около этого времени он сообщал матери, что написал краткие сведения о «Розе и Кресте» для композитора Базилевского, который написал музыку на его драму и собирался исполнять ее в Москве. Сведения нужны были для концертной программы. Тут же Александр Александрович прибавляет: Базилевский пишет, что Свободный театр думает о постановке «Розы и Креста». А. Н. Чеботаревская[91] сообщила, что Немирович-Данченко тоже «думает» и сказал кому-то об этом.
…В этом сезоне Александру Александровичу пришлось съездить в Москву. Слухи о том, что Немирович-Данченко «думает» ставить «Розу и Крест», оказались верными. Художественный театр известил об этом Александра Александровича и пригласил его в Москву для первых работ по постановке пьесы.
М. А. Бекетова
И действительно, в марте 1913 года Блок получил от Немировича-Данченко телеграмму, приглашавшую его в Москву для переговоров о постановке «Розы и Креста» в МХТ. Блок договаривается о постановке, которая в общих чертах уже выяснена театром, и присутствует на ряде бесед руководителей постановки с исполнителями. Так, дневник занятий театра отмечает беседы В. И. Немировича-Данченко, К. С. Станиславского и В. В. Лужского в присутствии А. А. Блока…
Работа над драмой увлекла на первых порах весь театр.
Ю. Соболев[92]. Театральный путь А. Блока
В Московском Художественном театре начинал обозначаться в репертуарных устремлениях некоторый новый уклон.
Любопытно, что в эту новую сторону подталкивал театр и сам же Леонид Андреев. Это он указывал Художественному театру на «Розу и Крест» Блока, как на ценный ему репертуарный материал. «Прочел на днях «Розу и Крест» Блока, – пишет он руководителю театра, – и показалось мне, что эта пьеса могла бы пойти в Художественном театре: есть в ней душа». – «Я снова напоминаю Вам о трагедии Блока «Роза и Крест», о которой писал еще осенью, и всей душою моею заклинаю вас поставить ее вместо Сургучевской – ремесленной драмы». «Трагедия Блока «Роза и Крест» – вещь поистине замечательная, что могу говорить с особенно спокойною уверенностью, не состоя с оным символистом ни в дружбе, ни в свойстве. И если можно было до сих пор, хотя с некоторою натяжкою, обходить Сологуба и Блока и остальных, то теперь, когда в наличности имеется такая вещь, – упорство театра переходит в односторонность и несправедливость». И очень любопытная прибавка: «Ставя ее (трагедию Блока), театр нисколько не отойдет от заветов правды и простоты: лишь в новых и прекрасных формах даст эту правду и простоту». (Письмо Андреева руководителю театра [Станиславскому?] от 20/V—1914 г.).
Может быть, именно от того, что театр, как думал Андреев, «не отошел от заветов правды и простоты», от того, что попробовал сценически воплотить тончайшую и иной художественной структуры поэзию «Розы и Креста» только своими прежними сценическими методами, когда-то давшими ему максимальное торжество, в спектакле Достоевского, – пьеса Блока и не стала спектаклем Художественного Театра. В репертуарном его облике не прибавилась эта прекрасная черта – Александр Блок, хотя театр искреннейше этого хотел. Его сценизм оказался к тому неприспособленным. При первом знакомстве с пьесой, еще до того, как на нее указал театру Леонид Андреев, она Станиславскому не понравилась, как будто не заинтересовала. Во время весенних гастролей театра в Петербурге в 1913 году (приблизительно тогда пьеса была окончена) Блок пригласил к себе Станиславского, прочел ему «Розу и Крест», – вопрос о включении ее в репертуар даже не был поднят. И только в 1915 г. – может быть, и под влиянием приводившихся выше настояний Андреева, об этом зашла речь.
…Первые беседы о «Розе и Кресте» в Художественном театре происходили в середине декабря. Первая беседа с участием А. А. Блока [происходила], как занесено в «Дневник репетиций», ведущийся в театре, – 29 марта 1916 г. Блок присутствовал на этих беседах, предваряющих начало репетиций на сцене, восемь раз. Весною же затем, в марте 1916 г., театр известил об этом Блока и пригласил приехать в
Москву для первой работы по постановке пьесы. Блок тотчас же откликнулся на приглашение, приехал, как будто работа закипала.
Н. Эфрос[93]. Московский Художественный театр (1896–1923)
Блок уже в апреле, т. е. после первых проб, пишет матери, что «все, за исключением частностей, совершенно верно и все волнуются: хороший признак».
Ю. Соболев
Мама, я так занят, что только теперь собрался написать. Несмотря на то, что к вечеру устаю до неприличия, чувствую себя в своей тарелке. Каждый день в половине второго хожу на репетицию, расходимся в шестом часу. Пока говорю, главным образом, я; читаю пьесу и объясняю. Еще говорит Станиславский, Немирович и Лужский, а остальные делают замечания и задают вопросы. Роли несколько изменены. Качалов захотел играть Бертрана, а Гаэтана будет играть актер, которого я видел Мефистофелем в Гетевском «Фаусте» (у Незлобина) – хороший актер. Графа – вероятно Массалитинов. За Качалова мало боюсь, он делает очень тонкие замечания, немного боюсь за Алису – слишком молодая и тонкая, может быть, переменим (Вишневский справедливо заметил, что для нее нужны «формочки»). Алискан-Берсенев, думаю, будет хороший. У Станиславского какие-то сложные планы постановки, которые будем пробовать… Волнует меня вопрос, по-видимому уже решенный: о Гзовской и Германовой. Гзовская очень хорошо слушает, хочет играть, но она любит Игоря Северянина и боится делать себя смуглой, чтобы сохранить дрожание собственных ресниц. Германову же я вчера смотрел в пьесе Мережковского и стал уже влюбляться по своему обычаю, в антракте столкнулся с ней около уборной, она жалеет, что не играет Изору, сказала: «Говорят, я состарилась». После этого я, разумеется, еще немного больше влюбился в нее. При этом говор у нее для Изоры невозможный (мне, впрочем, нравится), но зато наружность и движения удивительны.
А. Блок
Первоначально режиссером был Немирович-Данченко при ближайшем участии Лужского. Большая часть пьесы была срепетирована, налажена. Затем «Роза и Крест» перешла к Станиславскому. У него был свой план постановки, отличный от первоначального. «У Станиславского какие-то сложные планы постановки, которые будем пробовать», – писал Блок. Спектакль стал делаться заново.
Н. Эфрос
Темп работы над «Розой и Крестом» замедлился. В театре произошли колебания, собиралась уходить, и ушла Гзовская. Огорченный Блок в одном из писем говорит, что хотя «Станиславский действительно любит искусство и сам искусство, но «Роза и Крест» совершенно ему непонятна и не нужна: по-моему, он притворяется, хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя».
Ю. Соболев
По-видимому, что-то не ладилось. Оттого энергия падала… Блока известили, что работа откладывается на осень. Весною следующего года Блок писал: «уверенности в том, что пьеса пойдет на будущий год, у меня нет». Впрочем, работа не прекращалась.
Н. Эфрос
Но вот наступает новый подъем интереса к постановке. Вместо ушедшей Гзовской должна была получить роль Изоры или Коренева или Тиме, о поступлении которой в Художественный театр говорилось тогда, как о деле решенном. Усердно работал над декоративным воплощением постановки и Добужинский. Блок видел у него эскизы: «очень красивы, но боюсь, что четвертое действие слишком пышно». (Из письма поэта к матери).
И все-таки постановка не была осуществлена.
Ю. Соболев
Было ясно, – метод психологический и реалистический, который применялся Станиславским, не давал того результата, был непримирим с характером произведения, с его романтизмом и символизмом.
Н. Эфрос
Его романтизм всегда был предчувствием катастрофы, признанием несостоятельности всякого мечтательства. Его «Роза и Крест» – это мистицизм, обнаживший свои язвы.
П. С. Коган[94]. Литература этих лет
Глава семнадцатая Последние годы перед революцией
Но счастья не было – и нет. Хоть в этом больше нет сомнений. А. БлокВ мае Блоки стали готовиться к отъезду за границу. 12-го июня они выехали из Петербурга по направлению к Парижу.
М. А. Бекетова
Лето 1913 года мы с Александрой Андреевной проводили в Шахматове вдвоем.
М. А. Бекетова
Я очень рад, что вернулся… по Германии я ехал ночью и великолепно спал один в купе первого класса, дав пруссаку три марки. В России зато весь день и часть ночи принимал участие в интересных и страшно тяжелых разговорах, каких за границей никто не ведет. Сразу родина показала свое и свиное и божественное лицо…
Письмо к матери (1913?)
Грешить бесстыдно, непробудно, Счот потерять ночам и дням, И, с головой от хмеля трудной, Пройти сторонкой в божий храм. Три раза преклониться долу, Семь осенить себя крестом, Тайком к заплеванному полу Горячим прикоснуться лбом. Кладя в тарелку грошик медный, Три, да еще семь раз подряд Поцеловать столетний, бедный И зацелованный оклад. А, воротясь домой, обмерить На тот же грош кого-нибудь, И пса голодного от двери, Икнув, ногою отпихнуть. И под лампадой у иконы Пить чай, отщелкивая счот. Потом переслюнить купоны, Пузатый отворив комод, И на перины пуховые В тяжелом завалиться сне… — Да, и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне.26 августа 1914
Осенью 1913 года произошла знаменательная встреча Александра Александровича с певицей Любовью Александровной Андреевой-Дельмас.
М. А. Бекетова
Сердитый взор бесцветных глаз. Их гордый вызов, их презренье. Всех линий – таянье и пенье. Так я Вас встретил в первый раз. В партере – ночь. Нельзя дышать. Нагрудник черный близко, близко… И бледное лицо… и прядь Волос, спадающая низко… О, не впервые странных встреч Я испытал немую жуткость! Но этих нервных рук и плеч Почти пугающая чуткость… В движеньях гордой головы Прямые признаки досады… (Так на людей из-за ограды Угрюмо взглядывают львы). А там, под круглой лампой, там Уже замолкла сегедилья, И злость, и ревность, что не к Вам Идет влюбленный Эскамильо. Не Вы возьметесь за тесьму, Чтобы убавить свет ненужный, И не блеснет уж ряд жемчужный Зубов – несчастному тому… О, не глядеть, молчать – нет мочи, Сказать – не надо и нельзя, И Вы уже (звездой средь ночи), Скользящей поступью скользя, Идете – в поступи истома, И песня Ваших нежных плеч Уже до ужаса знакома, И сердцу суждено беречь, Как память об иной отчизне, — Ваш образ дорогой навек… А там: Уйдем, уйдем от жизни. Уйдем от этой грустной жизни Кричит погибший человек… И март наносит мокрый снег.25 марта 1914
В «Музыкальной Драме» он увидел в роли Кармен известную артистку Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответствием всего ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашел его полное воплощение в огненно-страстной игре, обаятельном облике и увлекательном пении Дельмас.
Александр Александрович много раз слышал «Кармен» в том же пленительном исполнении. В марте произошло его первое знакомство с Л. А. Дельмас в Театре «Музыкальной Драмы». И в жизни артистка не обманула предчувствия поэта. В ней он нашел ту стихийную страстность, которая влекла его со сцены. Образ ее, неразрывно связанный с обликом Кармен, отразился в цикле стихов, посвященных ей.
М. А. Бекетова
Все – музыка и свет: нет счастья, нет измен… Мелодией одной звучат печаль и радость… Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.31 марта 1914 г.
Да, велика притягательная сила этой женщины. Прекрасные линии ее высокого, гибкого стана, пышно золотое руно ее рыжих волос, обаятельно неправильное переменчивое лицо, неотразимо-влекущее кокетство. И при этом талант, огненный артистический темперамент и голос, так глубоко звучащий на низких нотах, В этом пленительном облике нет ничего мрачного и тяжелого. Напротив – весь он солнечный, легкий, праздничный. От него веет душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же трудно, как с той настоящей из новеллы Меримэ, на которую написал Бизе свою неувядаемую оперу. Это увлечение, отливы и приливы которого можно проследить в стихах Блока, не только цикла «Кармен», но и цикла «Арфы и скрипки», длилось несколько лет. Отношения между поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его дней.
М. А. Бекетова
На Пасхе 1914 г. безобразная постановка «Балаганчика», и в полутьме Тенишевского амфитеатра сочувственно жму Вашу руку.
В. Н. Княжнин
В постановке, давшей образчик работы студии, было много праздничного и остроумного. Скучный Тенишевский зал расцветился пестрыми бумажными фонарями и другими украшениями, слуги просцениума в оригинальных костюмах на глазах у зрителей разбирали и ставили декорации, причем сам Мейерхольд работал наравне с ними. В антракте в публику бросали апельсины, под знаком которых давались спектакли. Сначала шла «Незнакомка». Два первых видения игрались внизу перед мостками. На месте кабачка был воздвигнут мост, на котором встречались все действующие лица последующего видения. Третье – в гостиной – происходило на подмостках и было поставлено в духе «гротеска». У действующих лиц были наклеены носы, и все они двигались автоматически, почти как куклы. Посетители кабачка были тоже с наклеенными носами. В «Балаганчике» первая картина шла на подмостках, вторая – внизу. Играли в общем слабо, были только отдельные удачные моменты. Но на спектакль этот не следовало смотреть как на театральное достижение, это была дружная и серьезная студийная работа, вполне бескорыстная. Все участники спектакля работали даром, горя желанием служить искусству, и с благоговением относились к замыслу автора.
Любовь Дмитриевна принимала живое участие в постановке пьес. Она шила костюмы и играла даму-хозяйку из третьего видения «Незнакомки». Жаль было видеть ее в этой неприятной роли, еще подчеркнутой трактовкой Мейерхольда. Александр Александрович отнесся к этому представлению как к интересной попытке, он был в тот вечер в хорошем настроении и все принимал благодушно. Кроме того, ему было все-таки приятно видеть свою пьесу на сцене: судьба не баловала его в этом отношении.
М. А. Бекетова
* * *
Летом 1914 года книгоиздательство К. Ф. Некрасова предписало А. А. Блоку взять на себя редактирование стихотворений Ап. Григорьева, маленькая книжечка которого, изданная в 1846 г., давно была библиографическою редкостью.
Издание стихов Ап. Григорьева не было для Блока только обычной работой редактора. Оно было его жизненным, творческим делом.
Н. Ашукин. А. А. Блок – ред. Ап. Григорьева (по неизд. письмам)
Вскоре по приезде из Шахматова он начал работать над собранием стихов Аполлона Григорьева, которое должно было выйти с его примечаниями и вступительной статьей. Для этого он ходил в библиотеку Академии Наук и в Публичную библиотеку, где разыскивал стихи Ап. Григорьева и собирал материалы для статьи и примечаний. Работа эта ему очень нравилась: «я каждый день занимаюсь подолгу в Академии Наук, а иногда еще и дома, – пишет он матери, – потому чувствую себя гораздо уравновешеннее». За работой проводил он часов пять в день.
М. А. Бекетова
В конце августа 1914 г. Вы показали мне, вынув из старинного заветного шкафа, маленькую in 16 «книжку стихотворений Аполлона Григорьева. Санкт-Петербург. 1846. Печатано в типографии К. Краич».
– А так вот откуда некоторые Ваши поэтические настроения! Не очень-то вы любили подобную резвость и, переводя разговор, стали расхваливать Григорьева. Эта маленькая книжка была у Вас давно, одно время Вы не расставались с нею. Книжка имела свою генеалогию – к Вам она перешла по наследству.
– Он замечательный поэт, – сказали Вы и тут же наизусть, откинув голову, прочли одно стихотворение («К Лавинии»), такое Ваше, хотя и было оно написано в декабре 1843 года в Москве:
Для себя мы не просим покоя И не ждем ничего от судьбы, И к небесному своду мы двое Не пошлем бесполезной мольбы…Невидимые нити потянулись из прошлого и через Фета, Вл. Соловьева и немногих других соединили Вас с этим прошлым.
А слово «поэт», как и все другие слова, где неударяемое «о» звучит диалектологически «а», Вы всегда произносите, вкладывая старательно в артикуляцию «о».
В. Н. Княжнин
Несомненно, что тот элемент цыганщины, гитарного звона, дикого русского разгула, который есть в лирике Блока, возник в ней под прямым воздействием стихов Ап. Григорьева.
Н. Ашукин[95]
Длинная статья Б(лока), напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила меня, что показалось невозможным молчать. Статья была принципиальная, затрагивала вопрос очень современный и важный: о безответственности поэта, писателя как человека. На примере Григорьева и Розанова Б(лок) старался утвердить эту безответственность и с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Григорьева (зачем осуждала бесшабашность и перекидничество его), так и на нетерпимость (?) новой по отношению Розанова. Кстати восхвалялось «Новое Время» и Суворин старик, не смотревший ни на гражданскую, ни на человеческую мораль Розанова.
3. Н. Гиппиус
Саша оставался в Петербурге весь май и июнь. В Шахматове никакой большой литературной работы у него не было. Он много гулял и работал в саду, делая новые вырубки и посадки и наблюдая за работой земляника, который делал в саду перед домом насыпь, предназначавшуюся для новых цветников.
В конце лета приезжала на неделю Л. А. Дельмас, она пела нам, аккомпанируя себе на нашем старом piano саггё, напоминавшем клавесин, – и из «Кармен», и из «Хованщины», и просто цыганские и другие романсы. Между прочим, и «Стеньку Разина»: «Из-за острова на стрежню». Необыкновенно хорошо выходил у нее великолепный романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Такого проникновенного исполнения этой вещи я никогда не слыхала. Саша особенно любил и эти стихи Пушкина, и музыку Бородина. Во время пребывания Дельмас погода была все время хорошая. Они с Сашей много гуляли, разводили костер под шахматовским садом (одно из любимейших занятий Саши).
М. А. Бекетова
Петроградская сторона была в то время излюбленным местом прогулок Блока. Часто встречал я его в саду Народного Дома; на широкой утоптанной площадке, в толпе, видится мне его крупная фигура, с крепкими плечами, с откинутой головой, с рукою, заложенной из-под отстегнутого летнего пальто в карман пиджака. Ясно улыбаясь, смотрит он мне в глаза и передает какое-либо последнее впечатление – что-нибудь из виденного тут же в саду. Ходим между «аттракционами»; Александр Александрович прислушивается к разговорам. «А вы можете заговорить на улице, в толпе, с незнакомыми, соседями по очереди?» – спросил он меня однажды и не без гордости добавил, что ему это в последнее время удается.
Тут, в Народном Доме, убедился я как-то, что физическая сила Александра Александровича соответствует его внешности. Подойдя к пружинным автоматам, стали мы пробовать силу. Когда-то я не мало упражнялся с тяжестями и был уверен в своем превосходстве; но Александр Александрович свободно, без всякого напряжения, вытянул двумя руками груз значительно больше моего. Тут же поведал он мне о своем интересе к спорту и, в частности, о пристрастии к американским горам. Физической силой и физическим здоровьем наделен он был в избытке и жаловался как-то на чрезмерность этих благ, его тяготящую.
В. Зоргенфрей
Обложка издания стихотворений А. Блока. 1919 г.
Среди литературной улицы я никогда не видел А. А. Блока. Я слышал от лиц, знавших его, что он живет замкнуто, что ему противны личные выступления на всякого рода зрелищах, и он всегда почти отказывается участвовать в них.
А. Д. Сумароков. Моя встреча с А. Блоком
Во многие лечения, особенно – природные, как: солнце, электричество, покой, морские воды, я очень верю; знаю, что если захотеть, эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать хотеть излечиться; я бывал на этой границе, но пока что выходила как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо полагать, что я втайне даже от себя страстно ждал этой счастливой карты…
Письмо к В. Зоргенфрею 1914 г., июнь
Заходя по вечерам в кафе Филиппова на углу Большого проси, и Ропшинской ул., нередко встречал я там за столиком Александра Александровича. Незатейливая обстановка этого уголка привлекала его почему-то, и он, вглядываясь в публику и прислушиваясь к разговорам, подолгу просиживал за стаканом морса. «Я ведь знаю по имени каждую из прислуживающих девиц и о каждой могу рассказать много подробностей», – сказал он мне однажды. «Интересно». Посидев в кафе, ходили мы вместе по Петроградской стороне и, случалось, до поздней ночи. Запомнился мне тихий летний вечер, длинная аллея Петровского острова, бесшумно пронесшийся мотор. «Вот из такого, промелькнувшего когда-то мотора, вышли «Шаги командора», – сказал Александр Александрович. И два варианта – «С мирной жизнью покончены счеты» и «Седые сумерки легли». И прибавил, помолчав: «Только слово «мотор» нехорошо – так, ведь, говорить неправильно».
В. Зоргенфрей
Еще в 1915 году, среди разговоров со мной, он однажды неожиданно и не в связи с темой сказал: «А знаете, Александр Иванович, теперь все как-то не то… Не те зори, не такие закаты, какие были в 1905 году». Это было сказано с таким глубоким чувством, с такой убежденностью, что я невольно в ту минуту согласился с ним.
А. Типяков[96]. Памяти А. А. Блока
Жизнь моя, по тысяче причин, так сложилась, что мне очень трудно быть с людьми, за исключением немногих, что я смотрю на жизнь, что называется, мрачно (хотя я сам не считаю своего взгляда мрачным), что я не чувствую связей родственных; я знаю при этом, что дело мое, которое я делаю (худо ли, хорошо ли – я сам, как ты уже знаешь, вовсе не доволен собой), требует, чтобы я был именно таким, а не другим…
Вот ты говоришь «брат», а я не умею ответить тебе так же горячо и искренне, потому что не чувствую этого слова. Также со многими другими словами. Я знаю и верю, что все вы – Качаловы – милые, добрые и хорошие, и что ко мне вы относитесь более, чем хорошо, но я не умею ценить этого, несмотря на то, что мне приходилось сталкиваться с людьми просто очень дурными и злобными. Не умею ценить потому, что требую от жизни – или безмерного, чего она не даст, или уже ничего не требую. Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки – ужас, надолго непоправимый.
Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина может быть на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.
Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы хороши они ни были; иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кощунственным диссонансом, потому что слишком черна, а в черноте своей величава окружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена, между прочим, в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия), где чорт говорит, что стыдно быть хорошим.
Письмо к С. Н. Тутолминой, урожд. Качаловой
В конце 1916 года вернулся я в Петербург ненадолго в отпуск и нашел очень милое письмо, которым Леонид Николаевич звал меня принять участие в газете «Русская Воля», где он редактировал литературный и театральный отдел. В письме этом были слова о том, что газету «зовут банковской, германофильской, министерской – и все это ложь». Мне все уши прожужжали о том, что это – газета протопоповская, и я отказался. Леонид Николаевич очень обиделся, прислал обиженное письмо. Отпуск мой кончился, и я уехал, не ответив. На том и кончилось наше личное знакомство – навсегда уже!
А. Блок. Памяти Леонида Андреева
* * *
Мне было бы страшно, если бы у меня были дети. Теперь особенно, после того, как я узнал (из Вашего письма), что сын Пяста умер: он – мой крестник. Пусть уж мной кончается одна из блоковских линий – хорошего в них мало.
Письмо к В. Н. Княжнину 6/ΙΧ-1915 г.
Одичание – вот слово; и нашел его – книжный, трусливый Мережковский. Нашел – почему? Потому, что он, единственный, работал, а Андреев и ему подобные – тру-ля-ля, гордились.
Горький работал, но растерялся. Почему? Потому что – «культуры» нет.
Итак, одичание.
Черная, непроглядная слякоть на улицах. Фонари – через два. Пьяного солдата сажают на извозчика (повесят?).
Озлобленные лица у «простых людей».
Слякоть вдруг пробороздит луч прожектора, и автомобиль пронесется с ревом…
Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгарностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и проч. Языка нет. Любви нет. Победы не хотят, мира – тоже.
Когда же и откуда будет ответ?
10 ноября 1915 г.
Из записных книжек А. Блока
Глава восемнадцатая Война и революция
Того, кто побыл на воине, Порой пронизывает холод — То роковое все равно, Которое подготовляет Чреду событий мировых Лишь тем одним, что не мешает… «Возмездие» Товарищи! Мы станем – братья! А. БлокДело в том, что при вспышке национальных чувств, которою сопровождалась «планетарная война», такое чувство вдруг сильно заговорило и в А. А. Блоке. Именно – голос отцов. Как известно, только дед (и прадеды с отцовской стороны) Блока были лютеранами; мать отца его – русская. Следовательно, немецкой крови в нем не более четверти. Тем не менее, эта четверть вдруг сильно сказалась в поэте.
Он не то чтобы «стоял за немцев» или «не принимал войны», – нет, он был убежден в необходимости для России начатую войну честно закончить. Но он был против союзников. Он не любил ни французов, ни англичан, ни как людей, ни национальные идеи этих народов. Бельгия ему сравнительно была дороже; он путешествовал по ней и по Голландии, и много отрадного вынес оттуда; сильнейшее впечатление оставил на нем праотец нидерландской школы – Квентин Массейс. Но я помню, как в жар и в холод одновременно бросила меня одна фраза А. Блока в начале войны: «Ваши игрушечные Бельгия и Швеция…»
Вл. Пяст
Первое свидание после объявления войны было по телефону. Меня удивил его возбужденный голос, одна его фраза «Ведь война —
это прежде всего весело». Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно. Страшило скорее, что он увлечется войной. Однако, этого с Блоком не случилось. Друга в нем, однако, и непримиримые не нашли. Ведь если наклеить на него ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти нельзя было. Это одно уже заставляло его «принимать войну».
Но от упоения войной спасала его «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность, рыцарское обожание, ведь она для него была тогда Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама».
3. Н. Гиппиус
В начале войны он ходил провожать эшелоны, с одним из которых, между прочим, уехал его отчим. В начале войны ему «казалось» минуту, что она очистит воздух – казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным.
В. Н. Княжнин
Александр Александрович усиленно хлопотал о том, чтобы освободить от призыва Княжнина, пристроив его на заводе. В конце концов это ему не удалось, помнится, он устроил это дело как-то иначе. Поговорив с неким вольноопределяющимся и узнав все условия службы, Саша пишет: «Из подробных его рассказов я увидел, что я туда не пойду. Таким образом, это отпадает, что предпринять, я не знаю; знаю одно, что переменить штатское состояние на военное едва ли в моих силах… Сегодня пойду к В. А. Зоргенфрею, который может что-то мне посоветовать. Писать (поэму), по-видимому, больше не удастся».
М. А. Бекетова
Мы в ночном притоне за кособоким столиком, на скатерти которого, по выражению Щедрина, «не то ели яичницу, не то сидело малое дитятко». И перед нами чайник с «запрещенной водкой». Улицы, по которым мы шли сюда, были все в мелком дожде. Продавцы газет на Невском кричали «о фронте», «о больших потерях германцев», «о подвигах казацкого атамана». И все это газетно, неверно, преувеличено ради тиража. На улицах холодно, сыро и мрачно. И мы – мрачны.
– Придется мне ехать на войну, – сказал Блок.
– А нельзя ли как-нибудь, – начал я, распытывая его взглядом.
– Об этой подлости и я подумывал, да решил, что не нужно. Ведь вот вы занимаетесь какими-то колесами военного образца, так почему же и мне не надо ехать что-нибудь делать на фронте. А, по-моему, писатель должен идти прямо в рядовые, не ради патриотизма, а ради самого себя.
И тут же – глоток водки из грязной чашки.
А рядом навзрыд плакал опьяненный деревенский парень. И Блок его утешал ласково и любовно, а потом, обернувшись ко мне, сказал:
– Вот видите, плачет, а придет домой и жену станет бить.
Мы расстались. Но как-то именно в эту встречу Блок сказал мне:
– А кончится эта страшная кутерьма и кончится чем-то хорошим…
П. Сухотин
Жизнь, неотступная, предъявила свои требования и к Блоку. Уже за несколько дней до призыва сверстников – ратников ополчения, родившихся в 1880 году, Александр Александрович начал волноваться и строить планы, ничего, впрочем, не предпринимая. Со мной он делился опасениями, и я, с жестокостью и требовательностью человека, поклоняющегося, в лице Блока, воплощенному величию, предлагал ему единственное, что казалось мне его достойным: идти в строй и отнюдь не «устраиваться». Возражения Александра Александровича были детски-беспомощны и необоснованы, как у других, принципиально… «Ведь можно заразиться, лежа вповалку, питаясь из общего котла… ведь грязь, условия ужасные… Я мог бы устроиться в *** дивизии, где у меня родственник, но… не знаю, стоит ли». Так длилось несколько дней, и настал срок решиться.
«Мне легче было бы телом своим защитить вас от пуль, чем помогать вам устраиваться», – полушутя, полусерьезно говорил я Александру Александровичу.
– Видно, так нужно, – возражал он. – Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была «в нетях».
Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит.
В. А. Зоргенфрей
Вчера я зачислен в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины и скоро уеду. Пока только кратко сообщаю Вам об этом и благодарю Вас. Что дальше – не различаю: «жизнь на Офицерской» – только кажется простой, она сплетена хитро.
Письмо к В. А. Зоргенфрею 8/VII-1916 г.
Мама, пишу кратко пока, потому что сегодня очень устал от массы сделанных дел. Сегодня я, как ты знаешь, призван. Вместе с тем я уже сегодня зачислен в организацию Земских и Городских Союзов: звание мое – «табельщик 13-й строительной дружины», которая устраивает укрепления, обязанности – приблизительно – учет работ чернорабочих: форма – почти офицерская с кортиком, на днях надену ее. От призыва я тем самым освобожден; буду на офицерском положении и вблизи фронта, то и другое мне пока приятно. Устроил Зоргенфрей. Начальник дружины меня знает. Сам он – архитектор. Получу бесплатный проезд во втором классе, жалованье – около 50 рублей в месяц. Здесь – жара страшная, но я пока в деятельном настроении. Дела очень много, так что забываешь многое, что было бы при других условиях трудно.
Письмо к матери 7/VII-1916 г.
Когда летом 1916 г. начался призыв в войска ратников ополчения 2-го разряда более ранних годов, Александр Александрович был зачислен табельщиком в одну из инженерно-строительных дружин Союза Земств и Городов и, не дожидаясь самого момента призыва, отложенного до 25 августа, в июле еще уехал на фронт.
В. Н. Княжнин
Я озверел, пол дня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом выпиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем этом много хорошего, но, когда это прекратится, все покажется сном.
Письмо к матери 4/ΙΧ-1916 г.
Что такое война?
Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе – унылый немецкий прожектор – шарит – из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки; белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы – нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда – на кладбище, иногда – на стадо скотов, иногда – на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это – тысячи народных рублей в болоте.
Люди глазеют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели перетащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.
Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».
А. Блок. Россия и интеллигенция
Мама, жить здесь стало гораздо хуже, чем было летом, и гораздо более одиноко, потому что все окружающие ссорятся, а по вечерам слишком часто происходят ужины «старших чинов штаба» и бессмысленное сидение их (и мое в том числе) в гостиной. От этого все «низшие чины» начинают коситься на нас и образуются партии. Положительные стороны для меня: довольно много работы в последние дни, тревожные газеты, которые я теперь всегда читаю, сильный ветер.
Письмо к матери 2 7/XI 1916 г.
«Война – глупость, дрянь…» – заявлял он устно.
В. Н. Княжнин
В январе 1917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ западного фронта Земского Союза, вылез из вагона маленькой станции в лесах и снегах и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о каких-то башкирах, которые работали в дружинах.
Меня привели в светлый, жарко натопленный фанерный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут вошел заведующий, худой, рослый, красивый человек с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий – Александр Блок.
Он весело поздоровался и сейчас же открыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы с Блоком пошли гулять. Он рассказал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего работами, сколько времени он проводит верхом; говорили о войне, о прекрасной зиме. Когда я спросил, пишет ли он что-нибудь сейчас, он ответил равнодушно: «Нет, ничего не делаю». В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном коридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину; она посмотрела на Блока мрачным, глубоким взором и гордо кивнула, проходя.
Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал:
– По-моему, в этом доме будет преступление…
А. Н. Толстой. Падший ангел
В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда, сидел Блок у меня за столом весною 1917 года; в Петербург он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война – глупость, дрянь…» формулировал он, в конце концов, свои впечатления. На вопрос, трудно ли ему приходилось, по должности табельщика, с рабочими дружины, отвечал, что с рабочими имел дело и раньше, когда перестраивал дом у себя в имении, и что ругаться он умеет. (Едва ли, конечно, нужно это понимать в буквальном смысле. Помню, по его словам, «ругался» он в 1920 году по телефону, когда, дав согласие на участие в вечере и подготовившись к выступлению, так и не дождался обещанного автомобиля: брань его состояла в попытке втолковать устроителям вечера, что такое обращение с художником «возмутительно».)
В. А. Зоргенфрей
Встретили пасху с Пришвиным.
На второй и третий день было у нас большое сборище, как всегда…
Прокофьев играл свое «Мимолетное», – так назвал он новые свои пьесы – музыку.
Приходил и Александр Александрович Блок – и это в последний раз был он в моей серебряной игрушечной комнате – в обезвелволпале (в обезьяньей великой и вольной палате)[97].
Блок, для меня необычно, в защитном френче, отяжелелый, рассказывал о войне – какая это бестолочь идиотская – война!
И за несколько месяцев – был он в каком-то земском отряде – навидался, знать, и наслышался вдосталь.
И была в нем такая устремленность ко всему и на все готового человека, и что бы, казалось, ни случилось, не удивишь, и не потужит, что вот еще и еще придет что-то…
А что-то шло – это чувствовалось – какой-то новый взвих.
А. Ремизов. Временник
Поздравляю тебя с праздником, который в первый раз будет без жандармов.
Письмо к матери ЗО/Ш-1917 г.
Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты.
А. Блок
Ехать так, как я сейчас еду – в первый день Интернационала, в год близкого голода, через полтора месяца после падения самодержавия – да я бы на их месте выгнал всех нас и повесил.
Международный вагон первого класса, в купэ четверо (французский инженер, русский инженер, кто-то и я!) Я провалялся до 11-го часа. Солнце, снег временами.
С французом мы много говорили; беспощадная европейская логика: Ленин подкуплен, воевать четвертую зиму, французские социалисты сговариваются с нашими и довольны ими.
Одно преимущество: тоже понимает, что-то тонкое гибнет: придется издать более мягкие законы для тех, кто вернется с фронтов. Друзья, пробывшие два года на войне, говорят ему: Ма vie est brisee… Ага, одичали!
Война внутренне кончена. Когда же внешне?
18 апр. (1 мая) 1917 г.
Из записных книжек Блока
1917–1921 гг. вывели Блока, как поэта, из его творческого уединения, и тысячи людей пересмотрели и прослушали его с высоты эстрады. Впервые после революции выступил он в Тенишевском зале весною 1917 года, а затем неоднократно появлялся на эстраде перед публикой, вплоть до последнего своего в Петербурге выступления – в Малом театре. Готовясь к чтению, незадолго до выхода, начинал он проявлять признаки волнения, сосредоточивался, не вступал в разговоры и ходил по комнате; потом быстро выходил на эстраду, неизменно суровый и насторожившийся. Не я один поражен был, на вечере в Тенишевском зале, подбором стихов, исключительно зловещих, и тоном голоса, сумрачным до гневности. – «О России, о России!» – кричали ему из публики, после стихов из цикла «Пляски смерти». – «Это все – о России», – почти гневно отвечал он.
В. А. Зоргенфрей
В начале мая 1917 года Александр Блок был приглашен занять место одного из редакторов стенографических отчетов Чрезвычайной Следственной Комиссии, учрежденной Временным Правительством «для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц». По должности Ал. Блок получил право доступа в Петроградскую (Петропавловскую) крепость (удостоверение от 12 мая 1917 года за № 1174) и часто там присутствовал на допросах.
Дневник А. Блока (примечание)
Я пойду к Идельсону[98], который сегодня звонил мне и вторично предлагал занять место редактора сырого (стенографического) материала Чрезвычайной Следственной Комиссии, т. е. обрабатывать в литературной форме показания подсудимых. Так как за это платят большие деньги, работать можно, кажется, и дома (хотя работы много) я, м о ж е т б ы т ь, и пойду на компромисс, хотя времени (и главное должного состояния) для моего дела у меня, очевидно, не будет.
Письмо к матери 6/V-1917 г.
8 мая. Сегодня дважды был в Зимнем дворце и сделался редактором.
Письмо к матери 8/V-1917 г.
Блок стал подробно объяснять, по каким мотивам он взял на себя работу в Следственной Комиссии: он никак не мог убедить себя, что весь старый уклад – один сплошной мираж, и ему хотелось проверить это на непосредственном опыте. Но опыт этот привел его к результату еще более крайнему: что все это было не только миражем, но какою-то тенью от тени, каким-то голым и пустым местом.
– У этих людей ничего не было за душою. Они не только других обманывали, но и самих себя, и главное продолжали настойчиво себя обманывать и после того, как все уже раскрылось с полной очевидностью. Единственный человек, быть может, у которого душа не совсем была мертва, – это была Вырубова. Да и вообще среди них распутницы были гораздо человечнее. Но общая картина – страшная.
А. 3. Штейнберг. Памяти Александра Блока
Мама, в этом году Пасха проходит так безболезненно как никогда. Оказывается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать.
Письмо к матери 2/IV-1917 г.
Впервые Муравьев[99] взял меня, под предлогом секретарствования, в камеры. Пошли в гости сначала к Воейкову [100] (я сейчас буду работать над ним), это – ничтожное довольно существо, не похож на бывшего командира гусарского полка, но показания его крайне интересны; потом зашли к князю Андронникову[101], это – мерзость, сальная морда, пухлый животик, новый пиджачок (все они говорят одинаково: ох, этот Андронников, который ко всем приставал [102]. Князь угодливо подпрыгнул – затворить форточку; но до форточки каземата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского.
Пришли к Вырубовой (я только что сделал ее допрос), эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. Ей 32 года, она могла бы быть даже красивой, но есть что-то ужасное. Пришли к Макарову (мин. вн. дел) – умный человек. – Потом к Каффафову (дир. деп. полиции); этот несчастный восточный человек с бараньим профилем дрожит и плачет, что сойдет с ума; глупо и жалко. – Потом к Климовичу (дир. деп. полиции); очень умный, пронзительный жандармский молодой генерал, очень смелый, глубочайший скептик. Все это вместе производит сильное впечатление.
Письмо к матери 18/V-1917 г
Вчера во дворце после мрачных лиц «бывших людей», истерических сцен в камерах, приятно было слушать Чхеидзе, которого допрашивали в качестве свидетеля… Во время допроса вошел Керенский: в толстой военной куртке без погон, быстрой походкой, желто-бледный, но гораздо более крепкий, чем я думал. Главное – глаза, как будто не смотрящие, но зоркие и – ореол славы. Он посидел пять минут, поболтал, поздоровался, простился и ушел.
Письмо к матери 30/V-1917 г
3 июня 1917 г.
Утром приехала Люба, спит на моем диване. Очевидно, я сегодня мало буду делать. Письмо маме.
Да, я ничего не делал. Приезд Любы так всполошил меня, «выбил из колеи».
Вечером мы были с ней в каком-то идиотском «Луна-Парке», в оперетке, но она все-таки была довольна, я был этому рад.
Ночью – на улице – бледная от злой ревности ***. А от m-me *** лежит письмо. «Оне» правы все, потому что во мне есть притягательная сила, хотя, может быть, я догораю.
Н. Гончарова. Иллюстрация к стихотворению «Скифы».1920 г.
4 июня 1917 г.
Громовое ура на Неве. Разговор с Любой о «Новой жизни». Вихрь мыслей и чувств – до слез, до этой постоянной боли в спине.
Придумали еще мы, «простые люди», прощать или не прощать старому графу (Фредериксу) его ногти, то, что он «ни в чем не виноват». Это так просто не прощается. «Эй ты, граф, ходи только до сих пор». «Только четыре шага».
Все-таки я сделал сегодня свои 20 страниц Белецкого. В перерывах был с моей Любой, которая никуда не уходила. Вечером я отвез Любу на вокзал, посадил в вагон; даже подробностей не забуду. Как хорошо.
Ночью бледная Дельмас дала мне на улице три розы, взятые ею с концерта (черноморского флота), где она пела и продавала цветы…
10 июня 1917 г.
А спину с утра опять колет и ломит. Сладостная старость близка.
18 июня 1917 г.
В отчете комиссии следует обойтись без анекдотов; но использовать тот богатый литературный материал, который дают, именно стенограммы и письменные показания, можно. Такова моя мысль.
Дневник А. Блока
После революции, в неспокойные дни, Блок приезжал из Царского, где все еще было тихо, обалдевал от выстрелов, и волокся к нам пешком часов 5, заваливаясь под заборы, в снег, от выстрелов. Опять вижу его танцующую походку, изумленно-скошенные глаза, гомерические речи и вскрики: «Да, да, да, теперь русский флаг будет красный флаг. Правда, надо, чтобы был красный?» Блок в защитке шагает взволнованно по комнате. Помнится, как он ходит непривычно быстро по моему ковру и повторяет взволнованно: «Как же ему теперь русскому народу лучше послужить?» Лицо у него было непросветленное, мгновениями потерянное и недоуменное. Почему-то вдруг вспомнилось взволнованное лицо Блока, только более молодое и светлое, говорящего: «Как же его Митьку воспитывать?» Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды?
3. Н. Гиппиус
19 июня 1917 г.
«Нервы» оправдались отчасти. Когда я вечером вышел на улицу, оказалось, что началось наступление, наши прорвали фронт и взяли 9000 пленных, а «Новое Время», рот которого до сих пор не зажат (страшное русское добродушие!), обливает в своей вечерке русские войска грязью своих похвал. Обливает Керенского помоями своего восхищения. Утица возбуждена немного. В первый раз за время революции появились какие-то верховые солдаты, с красными шнурками, осаживающие кучки людей крупом лошади.
Дневник А. Блока
Раз, летом, встречаемся на Петербургской стороне. Быстро расходимся. Слышу из уст его фразу: «Мир, мир, только бы мир! теперь готов я был бы на всякий мир, на самый похабный»…
Вл. Пяст
23 июня 1917 г.
В нашей редакционной комиссии революционный дух не присутствовал. Революция там не ночевала. С другой стороны, в городе откровенно поднимают голову юнкера-ударники, империалисты, буржуа, биржевики, «Вечернее Время». Неужели? Опять в ночь, в ужас, в отчаянье? У меня есть только взгляд, а голоса (души) нет.
Побеждая все чувства и мысли, я все-таки проработал до обеда, сделал больше половины Фредерикса[103] и кончил проверку Воейкова.
24 июня 1917 г.
Вдруг – несколько минут – почти сумасшествие (какая-то совесть, припадок, как было в конце 1913 года, но острее), почти невыносимо. Потом – обратное, и до ночи – меня нет. Все это – к «самонаблюдению» (господи, господи, когда наконец отпустит меня государство?)… К делу, к делу…
26 июня 1917 г.
Какие странные бывают иногда состояния. Иногда мне кажется, что я все-таки могу сойти с ума. Это – когда наплывают тучи дум, прорываться начинают сквозь них какие-то особые лучи, озаряя эти тучи особым откровением каким-то. И, вместе с тем, подавленное и усталое тело, не теряя усталости, как-то молодеет и начинает нести, окрыляет. Это описано немного литературно, но то, что я хотел бы описать, бывает после больших работ, беспокойных ночей, когда несколько ночей подряд терзают неперестающие сны.
В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх? Иногда я думаю, что я труслив, но, кажется, нет, я не трус. Этот страх пошел давно из двух источников – отрицательного и положительного: из того, где я себя испортил, и из того, что я в себе открыл.
4 июля 1917 г.
Как я устал от государства, от его бедных перспектив, от этого отбывания воинской повинности в разных видах. Неужели долго или никогда уже не вернуться к искусству?
Дневник А. Блока
Благодаря сидению между двух стульев я лишен всякой политической активности. Что же делать? Надо полагать, что этой власти у меня никогда не будет.
Письмо к матери 8/VII-1917 г.
12 июля 1917 г.
Я по-прежнему «не могу выбрать». Для выбора нужно действие воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо – сейчас пустое для меня (вся моя жизнь под этим углом, и как это случилось). Т. е., утвердив себя, как художника, я поплатился тем, что узаконил, констатировал середину жизни – «пустую» (естественно), потому что слишком полную содержанием преходящим. Это – еще не «мастер» (Мастер).
13 июля 1917 г.
Я никогда не возьму в руки власть, я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю.
16 июля 1917 г.
Как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания напряженного в одной полосе, я притупился, перестал расчленять, события пестрят в глазах, противоречивы; т. е. это утрата некоторая пафоса, в данном случае революционного. Я уже не могу бунтовать против кадет и почитываю прежде непонятное в «Русской Свободе». Это временно, надеюсь. Я ведь люблю кадет по крови, я ниже их во многом (в морали, прежде всего, в культурности потом), но мне стыдно было бы быть с ними.
Дневник А. Блока
Мама, я сижу между двух стульев (как кажется, все русские…) От основной работы отстал, а к новой не подступаю. Деятельность моя сводится к тому, чтобы злиться на заседаниях и осиливать языком и нервами, в союзе со многими русскими и евреями, ничтожную кучку жидков, облепивших председателя и не брезгающих средствами для того, чтобы залучить к себе «новых» (пока Тарле)… Опять подумываю о «серьезном деле», каким неизменно представляется мне искусство и связанная с ним, принесенная ему в жертву, опустившаяся «личная жизнь», поросшая бурьяном.
Письмо к матери 28/VII-1917 г
1 августа.
Люба приехала утром.
2 августа.
Как Люба изменилась, но не могу еще определить, в чем.
3 августа.
Душно, гарь, в газетах что-то беспокойное. Я же не умею потешить Любу, она хочет быть со мной, но ей со мной трудно: трудно слушать мои разговоры. Я сам чувствую тяжесть и нудность колес, вращающихся в моем мозгу и на языке у меня. «Старый холостяк».
…Все полно Любой. И тяжесть и ответственность жизни суровой, и за ней – слабая возможность розовой улыбки, единственный путь в розовое, почти невероятный, невозможный.
В газетах на меня произвело впечатление известие о переезде синода в Москву и о возможности закрытия всех театров в Петербурге. Теперь уж (на четвертый год) всему этому веришь. Мы с Идельсоном переговариваемся о том, как потащимся назад в дружину. Тоска. Но все-таки я кончаю день не этим словом, а противоположным: Люба.
…Еще темнее мрак жизни вседневной, как после яркой…
«Трудно дышать тому, кто раз вздохнул воздухом свободы». А гарь такая, что, по-видимому, вокруг всего города горит торф, кусты, деревья. И никто не тушит. Потушит дождь и зима.
Люба.
29 августа 1917 г.
Безделье и гулянье по Невскому – настроение улиц, кронштадтцы.
Если бы исторические события не были так крупны, было бы очень заметно событие сегодняшнего дня, которое заставляет меня решительно видеть будущее во Временном Правительстве и мрачное прошлое – в генерале Корнилове и прочих. Событие это – закрытие газеты «Новое Время». Если бы не все, надо бы устроить праздник по этому поводу. Я бы выслал еще всех Сувориных, разобрал бы типографию, а здание в Эртелевом переулке опечатал и приставил к нему комиссара: это – второй департамент полиции, и я боюсь, что им удастся стибрить бумаги, имеющие большое значение.
Во всяком случае, уничтожено место, где несколько десятков лет развращалась русская молодежь и русская государственная мысль.
…Л. А. Дельмас прислала Любе письмо и муку по случаю моих завтрашних именин.
Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно унижение, и это заметно, как только прерывается работа.
30 августа 1917 г.
Я измучен, как давно не был. Мне кажется, что я ничего не успею, комиссия висит на шее, успеть все почти невозможно.
19 сентября 1917 г.
Вчера – в Совете Р. и С. Депутатов произошел крупный раскол среди большевиков. Зиновьев, Троцкий и пр. считали, что выступление 20-го нужно, каковы бы ни были его результаты, и смотрели на эти результаты пессимистически. Один только Ленин верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране.
Дневник А. Блока
Как-то в начале сентября почти все видные писатели согласились участвовать в журнале, издаваемом Савинковым. Я звоню Блоку и по телефону объясняю, в чем дело, и прошу прийти на первое собрание. Пауза, – потом: «Нет, я должно быть не приду». – «Отчего? Вы заняты?» – «Нет, у вас Савинков, я в газете не могу участвовать». – «Что вы говорите? Потому что Савинков, вы с ним не согласны, да в чем же дело?» Предположения в голове. А Блок говорит: «Вот война», – и его голос чуть-чуть более быстрый, немного рассеянный. – «Война не может длиться. Нужен мир». – «Как мир – сепаратный? Теперь, с немцами мир?» – «Ну, да. Я очень люблю Германию. Нужно с нею заключить мир». – «И вы не хотите идти с Савинковым, хотите заключить мир? Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?» – Вопрос мне показался абсурдным, а Блок, который никогда не врал, отвечает: «Да, если хотите – я скорее с большевиками, они требуют мира». – Трудно было выдержать: «А Россия? Россия? Вы с большевиками и забыли Россию, а Россия страдает». – «Ну, она не очень-то страдает…» У меня дух перехватило. От Блока много чего можно ждать. Говорю спокойно: – «Александр Александрович, я понимаю, что Боря может – он потерянное дитя… Но вы, я не могу поверить, что вы…» Молчание. Потом вдруг, точно другой голос, такой измененный: – «Да ведь и я, может быть, и я тоже потерянное дитя?» – Так и звучали эти слова: «Россия не очень страдает», «Скорее с большевиками», «А если и я потерянное дитя?» Сомнений не было, Блок с большевиками. О Блоке думалось как-то тоскливо.
Блок как-то написал мне в то время стихотворение, такое пошлое, как никогда. Было как-то, что каждому своя судьба. «Вам зеленоглазой наядой плескаться у Ирландских скал, а мне петь Интернационал…»[104]
3. Н. Гиппиус
Глава девятнадцатая «Двенадцать» и «Скифы»
…Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию. А. БлокСтены разрушились, гроза разразилась – но снова душно, хотя и по-иному: душно потому, что пытаются стиснуть, оковать стихию революции, которая ворвалась в жизнь, но еще не весь сор смела с лица земли. И мы поняли, что незачем нам говорить о партиях, о направлениях, но лишь о тоне и ощущении подлинной революции; где она, там и Блок. В «керенщине» он задыхался.
Иванов-Разумник. Памяти Александра Блока
Русской интеллигенции точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?
А. Блок
Произошла великая русская революция, восторженно прошедшая по всем сердцам от интеллигента до последнего рабочего.
Затем постепенно началась классовая расслойка русского общества на два основных лагеря: левых и правых. В числе левых идеологов революции был Блок. В то время он как-то оживился, стал выступать в печати с публицистическими статьями об интеллигенции и народе и принимать широкое участие в строительстве новой жизни.
А. Д. Сумароков
26 января 1918 г.
Впечатление от моей статьи («Интеллигенция и революция»): Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот… Сологуб (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, «которого мы любили», печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру (!).
Дневник А. Блока
Я зашел к А. А. Блоку вскоре после первой встречи и принес ему недавно вышедший первый том сборника «Скифы». Вспоминаю об этом потому, что идея этого сборника связана не только с позднейшими «Скифами» Блока, но и с Вольной Философской Ассоциацией, зародившейся еще годом позднее. Идея духовного максимализма, катастрофизма – была для Блока тождественна со стихийностью мирового процесса; только случайным отсутствием Александра Александровича из Петербурга и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в «Скифах». Первый сборник, посвященный войне, вышел в середине 1917 года, второй, посвященный революции, тогда уже печатался; я сказал Александру Александровичу, что не представляю себе третьего (предполагавшегося) сборника «Скифов» без его ближайшего участия. Он был уже знаком со «Скифами» и тотчас же ответил согласием. В «Скифах» тогда принимали то или иное участие почти все те, кто позднее так или иначе вошли в Вольную Философскую Ассоциацию.
Иванов-Разумник
«Двенадцать» появились впервые в газете «Знамя Труда», «Скифы» – в журнале «Наш Путь». Затем «Двенадцать» и «Скифы» были напечатаны в московском издательстве «Революционный социализм» со статьей Ив. – Разумника. Поэма произвела целую бурю: два течения, одно – восторженно-сочувственное, другое – враждебно-злобствующее – боролись вокруг этого произведения. Во враждебном лагере были такие писатели, как Мережковский, Гиппиус и Сологуб. Одни принимали «Двенадцать» за большевистское credo, другие видели в нем сатиру на большевизм, более правые группы возмущались насмешками над обывателями и т. д.
М. А. Бекетова
Наша «скифская» группа соединилась не на политической платформе, не на этом пути сошлись все мы с А. А. Блоком, и только те, которые именовали всех нас «прихвостнями правительства», говорили, что мы, дружно работавшие вместе и в газете «Знамя Труда», и в журнале «Наш Путь», состоим на иждивении партии левых социалистов-революционеров. Нет, «Скифы» не партийцы, но они и не аполитичны.
Жизнь, после Октября, кипела и бурлила, неслась бешеным темпом. Все силы наших сборников были перенесены с весны 1918 года в ежемесячный журнал «Наш Путь», а еще ранее того, с осени 1917 года, в литературный отдел газеты «Знамя Труда», где и были напечатаны, через немного дней после написания, и «Двенадцать» и «Скифы». Помню, как торопил меня с печатанием Блок, – «а то поздно будет»: ожидали наступления германцев и занятия ими Петербурга.
Иванов-Разумник
Всю поэму «Двенадцать» он написал в два дня. Он начал писать ее с середины, со слов:
Уж я ножичком Полосну, полосну!– потому что, как рассказывал он, эти два «ж» в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, до того места, где сказано:
Упокой, господи, душу рабы твоея. Скучно!К. И. Чуковский
Помню первые месяцы после октябрьского переворота, темную по вечерам Офицерскую, звуки выстрелов под окнами квартиры Александра Александровича и отрывочные его объяснения, что это – каждый день, что тут близко громят погреба. Помню холодное зимнее утро, когда, придя к нему, услышал, что он «прочувствовал до конца» и что все совершившееся надо «принять». Помню, как, склонившись над столом, составлял он наскоро открытое письмо М. Пришвину, обозвавшему его в одной из газет «земгусаром», что почему-то больно задело Александра Александровича. И, наконец, вспоминаю холодный и солнечный январский день, когда прочел я в рукописи только что написанные «Двенадцать».
В. А. Зоргенфрей
Блок слышал музыку.
И это не ту музыку – инструментальную, – под которую на музыкальных вечерах любители, люди серьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, нет музыку…
Помню, в 1917 году после убийства Шингарева и Кокошкина[105]говорили мы с Блоком по телефону – еще можно было – и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он – музыку, и писать пробовал.
А это он «Двенадцать» писал.
И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом, дыхом своим звездным, вывела Блока на улицу с красным флагом – это было в 1905 г.
А. Ремизов
Как-то в начале января 1918 года он был у знакомых и в шумном споре защищал революцию октябрьских дней. Его друзья никогда не видели его таким возбужденным. Прежде спорил он спокойно, истово, а здесь жестикулировал и даже кричал. В споре он сказал между прочим:
– А я у каждого красногвардейца вижу ангельские крылья за плечами.
К. И. Чуковский
В чем же «дело»? Для Блока – в безграничной ненависти к «старому миру», к тому положительному и покойному, что несли с собою барыня в каракуле и писатель – вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, как последнюю надежду на обновление, принял он «страшное» и осветил его именем Христа.
Помню, в дни переворота в Киеве и кошмарного по обстановке убийства митрополита, когда я высказал свой ужас, Александр Александрович, с необычайною для него страстностью в голосе почти воскликнул: «И хорошо, что убили… и если бы даже не его убили, было бы хорошо».
В. А. Зоргенфрей
Звонил Есенин, рассказывая о вчерашнем «Утре России» в Тенишевском зале. *** и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему – «изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья («Россия и интеллигенция») – «искренняя, но нельзя простить».
Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили.
Правда глаза колет.
Из записных книжек А. Блока
Поэт большевизма Ал. Блок задумал воспеть кровь и грязь революции. В своей поэме «12» он не удалился от правды, но кощунственно приплел к «керенкам», проституции, убийствам и нелепому жаргону – Христа. Скифская богородица – Иванов-Разумник по этому поводу разразился неистовым словоблудием.
…Бедный Блок, попавший в обезьяньи лапы критики, рассчитывающей на невежество и глупость. Пусть исходит Иванов-Разумник пошленькой и бессодержательной риторикой. Пусть мнит себя Блок бардом народа.
Н. Абрамович. Об одном проклятом слове
Среди неожиданностей нашей революции есть не только трагические, но и вызывающие улыбку, хотя бы и горькую. Таково, например, скоропостижное обращение в большевистскую веру иных поэтов – Александра Блока, Андрея Белого.
Ю. Айхенвальд[106]. Псевдореволюция
14 января 1918 г.
Происходит совершенно необыкновенная вещь (как все): «Интеллигенты», люди, проповедовавшие революцию, «пророки революции», оказались ее предателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи.
Дневник А. Блока
Кто видел стихотворение Блока «Двенадцать», изданное отдельной книгой? Кто видел – тот заметил, что в книге большая часть текста принадлежит г-ну Иванову-Разумнику, а меньшая – Блоку. Как бы г Разумник – с послесловием Блока. Но не в этом дело. И не в Иванове-Разумнике, разбором произведений которого я, конечно, не буду себя утруждать: слишком известна эта разновидность писательской импотенции, этот специалист по «предисловиям» ко всяким «знаменитостям», как злополучный фон-Зон Достоевского, он все присосеживается «на приступочку» только чтобы «и я тоже, и я тоже».
Нет, дело в Блоке. Могли ли мы когда-нибудь себе представить, что русский большой писатель (тут я это подчеркиваю) выпустит книгу – с пространным рекомендательным предисловием фон-Зона? Да с каким! фон-Зон (пусть даже это был и не фон-Зон) восхваляет Блока не просто, он наскакивает на читателя, он его чуть не шантажирует: если, мол, ты, такой-сякой, не признаешь сейчас на месте, что Блок равен, именно равен Пушкину, а издаваемые и предисловируемые мною «Двенадцать», – «Медному Всаднику», – то будь ты анафема – проклята и «поэзия не про тебя писана».
Опять повторю, никакие извивания и наскоки с пристрастием Разумников меня не трогают: пусть при них и остаются. Но как русский писатель осмеливается выходить к людям под сенью подобных рекомендаций? А если он при том большой писатель, то его неприличный жест – сугубо неприличен, – он совершенно не нужен, ничем необъясним.
…Если в связи с общим, литературное наше одичание будет продолжаться – русская литература и не до того еще дойдет.
Антон Крайний[106]. Неприличия
Поэтесса Гиппиус примыкает к правым, а поэт Блок к левым политическим группам. Превосходно! Но какое дело до этого нам, потребителям их стихов? Что дало им право заводить с нами политические разговоры; с нами, благоговейно пришедшими к ним за стихами? И разве не оскорбительно такое неуместное политиканство и для поэта, и для поэзии, и для нас, которым стихи – хлеб насущный.
Значит ли это, что мы требуем вообще отказа от политических тем? Отнюдь нет.
Сборник стихов – не дневник, а трудовая дань поэта обществу.
О. Брик. Неуместное политиканство
Если бы не Христос, – говорил мне по этому поводу в августе 1918 года В. Г. Короленко, – то ведь картина такая верная и такая [107] страшная. Но Христос говорит о большевистских симпатиях автора.
Потресов (Яблоновский)[108]. Роза и Крест
Блок как-то зашел ко мне, веселый и оживленный. Среди новых книг, лежавших у меня на столе, он увидел альбом рисунков Бориса Григорьева «Расея», в котором, кроме рисунков, были статьи Н. Э. Радлова и Π. Е. Щеголева. На одну из страниц этой последней статьи я и указал Блоку – здесь как раз шла речь о нем как авторе «Двенадцати». «Под бременем непобежденной художником действительности, – говорилось в статье П. Щеголева, – пал наш поэт прекрасной дамы, и что бы ни писал Иванов-Разумник, как бы ни славил он А. А. Блока, как трибуна и Тиртея, приобщившегося к новым скифским далям – современное творчество Блока несозвучно действительности, и художественные восприятия его дробны и односторонни… И лево-эсеровское обретение А. А. Блока можно объяснить только недомыслием Иванова-Разумника: российская ирония отомстила почтенному критику, наслав на него Блока и его «Двенадцать»; дальше говорится о том, что поэма Блока легко могла бы появиться и в органе Пуришкевича – «с какого только конца посмотреть». Правда, важно, что Блок «один из первых почувствовал всю давящую необходимость ответа на все, что произошло с Россией», но задачи этой он не разрешил, согнулся под ее тяжестью и был раздавлен «за то, что не почувствовал прелести прекрасной дамы – революции…» И наконец – «как скучно и пошло все наблюденное им о победителе-народе и рассказанное в статье о двенадцати!» В заключение, поэме Блока, этой пошлой и скучной статье о двенадцати, восторженно противопоставляется «Расея» Бориса Григорьева.
Иванов-Разумник
Политические разногласия не мешали ему любить своих старых друзей. В 1918 году, когда за свою поэму «Двенадцать» он подвергся бойкоту Мережковского и Гиппиус, он говорил о них по-прежнему любовно. Вот отрывок из его письма ко мне 18 декабря 1919 года:
«Если зайдет речь, скажите 3. Н. (Гиппиус), что я не думаю, чтобы она сделала верные выводы из моих этих стихов; что я ее люблю по-прежнему, а иногда – и больше прежнего».
Проезжая со мной в трамвае (по дороге из Смольного), неподалеку от квартиры Мережковского, Блок сказал:
– Зайти бы к ним, я люблю их по-прежнему.
К. И. Чуковский
Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы – мне, больше, чем лирическое.
Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы – меня: я не обращаюсь поэтому к той «мертвой невинности», которой в Вас не меньше, чем во мне.
«Роковая пустота» есть и во мне и в Вас. Это – или нечто очень большое и – тогда нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы: или очень малое, наше, частное, «декадентское», – тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.
Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделили не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самый глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваш а), но только рядом с второстепенным проснулось главное.
В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то; узел этого замалчивания завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго – оставалось только рубить.
Великий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.
Не знаю (или – знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало – могло быть во много раз больше.
Неужели Вы не знаете, что «России не будет», так же, как не стало Рима не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Так же не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?
Письмо к 3. Н. Гиппиус 31 /V-1918 г.
Как-то в трамвае. Кто-то встал в проходе и говорит: «Здравствуйте». Этот голос ни с чьим не смешаешь. Подымаю глаза: Блок. Лицо под фуражкой какое-то длинное, сухое, желтое, темное. «Подадите ли мне руку?» Медленные слова, так же с усилием произносимые, такие же тяжелые. Я протягиваю ему руку и говорю: «Лично да, только лично – не общественно». Он целует руку и, помолчав: «Благодарю вас». Еще помолчав: «Вы, говорят, уезжаете?» На что я отвечаю: «Что ж, – тут или умирать или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении»… Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо: «Умереть во всяком положении можно». Прибавляет вдруг: «Я ведь вас очень люблю». На что я: «Вы знаете – что и я вас люблю».
Вагон давно прислушивается к странной сцене. Мы не стесняемся, говорим громко, при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так несомненно трагично (в это время его коренная трагичность сделалась видимой для всех, должно быть) – что и сцена кажется им трагичной. Я встаю – мне нужно выходить. «Прощайте», – говорит Блок, – «Благодарю вас, что вы подали мне руку».
Я: «Общественно между нами взорваны мосты, вы знаете. Но лично – как мы были прежде». Я опять протягиваю ему руку, стоя перед ним; опять он наклоняет желтое, больное лицо свое, медленно целует руку… «Благодарю вас», и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо и еще вижу на площадку вышедшего Блока; различаю темную на нем, да, темно-синюю рубашку. И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле.
3. Н. Гиппиус
А. Блок. 1921 г.
Вокруг «Двенадцати» вращаются воспоминания П. Пильского[109]; последний руководил в то время «I Всероссийской школой журнализма», одним из лекторов которой был Блок. Появление «Двенадцати» произвело впечатление разрыва бомбы, Ф. Ф. Зелинский заявлял, что Блок «кончен», и требовал удаления имени Блока из списка лекторов школы, угрожая в противном случае своим уходом. Пильскому кое-как все же удалось уговорить и умирить Зелинского, но Блок об этой и многих подобных историях знал, и это на него тяжело действовало. По словам Пильского, Блок ему печаловался:
– Меня все невзлюбили. Как-то сразу возненавидели[110].
В те дни Блок казался утомленным, угнетенным. Осунувшийся, бледный, усталый, полубольной, голос – тихий. Тон вялый. Взгляд – будто после долгой бессонницы. Тяжелая походка. И это Блок!
«Новая русская книга»
Пройдем мимо этого и мелкого, и гнусного, и острого, мимо той травли, которой подвергся из всей группы больше всех именно Блок за свои «Двенадцать». Именитые поэты наши, травившие тогда Блока, печатью сообщавшие, что отказываются выступать на одних с ним вечерах и не подававшие ему руки – уже наказаны в полной мере: их имена перейдут потомству в этой связи с именем Блока.
Иванов-Разумник
Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой. – Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни. – Сатира? – спросил Блок и задумался. – Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю.
Он и в самом деле не знал, его лирика была мудрее его. Простодушные люди часто обращались к нему за объяснениями, что он хотел сказать в своих «Двенадцати», и он, при всем желании, не мог им ответить. Он всегда говорил о своих стихах так, словно в них сказалась чья-то посторонняя воля, которой он не мог не подчиниться.
К. И. Чуковский
В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией… Например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, – будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую, пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря – легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! – Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена.
Из предсмертных заметок А. Блока (Ср. Русск. Совр. 1924, кн. 3)
Помню, как-то в июне 1919 года Гумилев, в присутствии Блока, читал в Институте Истории Искусств лекцию о его поэзии и, между прочим, сказал, что конец поэмы «Двенадцать» (то место, где является Христос) кажется ему искусственно-приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто-литературный эффект.
Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:
– Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос.
К. И. Чуковский
Он принял потоки крови и голод во имя универсального романтизма, но не мог принять практики и делячества, не мог оценить высоты этого добровольного погружения в «заботы суетного света». Разрушение – средство. Строительство – цель. А строительство нового мира приходится начинать с тем кирпичом и цементом, которые остались от прошлого. Вечная драма революции – при помощи власти создать безвластие, посредством насилия – свободу, путем войны – братство.
Черной и скучной работы не принял поэт, вдохновленный мечтой о гармонии, отвернувшийся от тернистых путей, к ней ведущих.
П. С. Коган. А. Блок и революция
Конечно, Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма «Двенадцать» останется навсегда.
Л. Троцкий. Литература и революция
Глава двадцатая Годы военного коммунизма
Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда! А. БлокЕду в Зимний дворец. Там заседание комиссии литературно-издательского Отдела Наркомпроса, правительственным комиссаром которого я тогда был назначен.
…По узкой лестнице поднимаюсь в небольшую изящную комнату. Уже собрались, хотя и не все. Ал. Бенуа, П. Морозов[111], несколько художников, кажется Штернберг, Альтман и Пунин, Л. Рейснер, еще кто-то и А. Блок.
Он был не таким, как я представлял его по портретам, по стихам о Прекрасной Даме. Защитного цвета костюм, русые волосы стушевывали выражение его лица. Он стоял у перил лестницы, с кем-то тихо разговаривая. И на фоне белой блестящей стены казался каким-то неподвижным и тусклым пятном.
Назначенный час заседания уже прошел, но А. Луначарского все еще не было. Ждем и беседуем.
Времена для государственной литературно-издательской работы были тяжелые. Интеллигенция саботажничала и сотрудничать с рабоче-крестьянской властью демонстративно не хотела. Из приглашенных к сотрудничеству в великом культурном деле откликнулись немногие, но и эти были для нас загадочным сфинксом. Сумеем ли сговориться, найдем ли общий язык – вот вопрос, с которым я подходил к каждому.
Я внимательно следил за Блоком.
Он стоял недвижный. Прямой, в твердой позе с еле склоненной на бок головой, с рукой за бортом плотно застегнутого костюма. Собеседник что-то возражал, жестикулируя и берясь за голову, а он стоял, невозмутимый, как изваянье, с устремленными глазами, с величавым спокойствием, и только было заметно, как двигались его губы.
Затем он резко повернулся и подошел прямо к нам.
– Кажется, товарищ Лебедев-Полянский? Ваше письмо я получил. Дело интересное. Посмотрим, как сговоримся. Все мы люди разные, по разному расцениваем происходящее. Во всяком случае попытаемся что-нибудь сделать. Вы не из Смольного? Есть тревожные новости?
– Да. Есть какие-то неприятности на фронте.
– Как вы смотрите на все происходящее? – спросил его я.
Нехотя, растягивая слова, как бы выдавливая их из себя, он начал:
– Я… я думаю, что будущее будет хорошо. Но хватит ли у вас, у нас, у всего народа сил для такого большого дела?
Я начал было развивать мысль о ходе революции и ее силах.
– Я говорю о моральных, о духовных силах, – перебил он меня, – культуры нет у нас. Беспомощны мы во многом. От жизни оторваны.
Минут пять говорил на эту тему. Но без увлечения, пожалуй по-профессорски.
Временами он приподнимался в кресле, наклонялся вперед, и свет освещал одну половину его лица. Вперив взор прямо в мои глаза, он порывисто произнес:
– Вас интересует политика, интересы партии; я, мы, поэты, ищем душу революции. Она прекрасна. И тут мы все с вами.
Мне очень хотелось выяснить это «мы», но шумно вошел Луначарский.
– Никак не мог. Никак… Здравствуйте! Рвут на части! Сейчас только кончилось собрание.
Разговор прервался. Публика встала, задвигалась. Вскоре сели за длинный стол, и заседание открылось.
В. Полянский[112]. Из встреч с А. Блоком
26 января 1918 г.
В Зимнем дворце (я опоздал). Заседание очень стройное и дельное (в противоположность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, охотно на все отвечает, часто говорит хорошо.
Луначарский, прощаясь, говорит: «Позвольте пожать вашу руку, товарищ Блок».
Дневник А. Блока
Когда при Временном Правительстве упразднили театрально-литературный комитет Александрийского театра и взамен его организовали литературно-театральную комиссию Государственных театров – Блок был приглашен туда в качестве члена. Вместе с Блоком там были – А. Г. Горнфельд, Е. П. Султанова[113], П. О. Морозов.
Главная задача вновь образованной комиссии состояла в подготовке репертуара для бывших императорских театров, и с этой целью членами ее производился просмотр поступающих от авторов пьес. За недолгое существование комиссии (всего лишь – осень 1917 года) Блок прорецензировал 8 пьес.
Н. Волков
В начале 1918 года, уже при новой власти, Александр Александрович был приглашен в члены Репертуарной Комиссии Театрального Отдела. Это было большое дело. В Комиссии насчитывалось множество членов, в том числе профессора: Ф. Ф. Зелинский и Н. А. Котляревский, П. О. Морозов и мн. др. Ал. Ал. был выбран председателем Репертуарной Комиссии и принялся за дело с жаром и большими надеждами. В его обязанности входило частое посещение драматических театров и рассмотрение старых и новых пьес. Под руководством Ал. Ал. работали в библиотеке Александрийского театра молодые и интеллигентные люди, любящие искусство. Они пересматривали пьесы, не пропущенные цензурой и накопившиеся с давних лет. В этом обширном материале было много не только забытых, но и незнакомых пьес, никогда никем не прочитанных. У себя на дому Ал. Ал. рассматривал новые пьесы. Одобряемые им и Комиссией, должны были печататься в издательстве Театрального отдела. В 1919 году в издательстве ТЕО вышел целый ряд пьес классического репертуара, как русских, так и иностранных, а также пьесы новых писателей. Ал. Ал. много занимался составлением списка пьес для народного театра. В числе желательных, кроме классических пьес и старинных водевилей, он считал также мелодрамы.
М. А. Бекетова
Октябрь 17-го года по-новому подошел и к вопросам театра, сделав его одной из задач государственной деятельности. Для этого советская власть учредила специальное ведомство, которое должно было руководить театральной политикой во всероссийском масштабе. Так возник Театральный Отдел Народного Комиссариата по Просвещению, сокращенно наименовавшийся ТЕО.
Н. Волков
Совместная работа наша возобновилась осенью 1917 года в совершенно другой области – в Научно-Теоретической и Репертуарной Секциях, в последней из которых Блок был председателем, и в которую я вошел по его настоянию.
Иванов-Разумник
1918 год. Наша служба в ТЕО – О. Д. Каменева[114] – бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО – Μ. Ф. Андреева[115] – ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира».
А. Ремизов
Театральный отдел Н. К. П. Работники интеллигенты, еще не пришедшие в себя от пережитых ужасов революции, но уже верящие в грядущее. Голодные дни, дни подлинного подвига, дни поста…
В кабинете секретаря ТЕО суета и шум. Только что кончилось заседание репертуарной комиссии под председательством В. Н. Всеволожского.
В комнате, кроме секретаря ТЕО, вечно занятого, вечно волнующегося В. Я. Степанова, еще несколько человек, среди них писатели А. Ремизов и А. А. Блок.
И. Цшохер. Из восп. об А. А. Блоке
Одно из первых заседаний – в величественном кожаном кабинете Театрального Отдела (ПТО).
Блок читал свой сценарий исторической пьесы – не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековье Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.
Евг. Замятин. Из воспоминаний об А. Блоке
Александр Александрович написал по заказу Горького своего «Рамзеса», изданного впоследствии «Алконостом».
М. А. Бекетова
Он стал думать о пьесе.
– Вот еще не знаю: взять ли Куликовскую битву – мне это очень близко – или другое: Тристан и Изольду.
Говорил, что уже сделал какие-то наброски для «Тристана», и вдруг, неожиданно – из египетской жизни: «Рамзее» – едва ли не последняя, написанная им вещь.
Прочитали, делали какие-то замечания о «Рамзесе», Блок отшучивался.
– Да ведь это я только переложил Масперо[116]. Я тут ни при чем.
Секции был обещан свой театр. Но нечем топить – нет дров; наши пьесы передали в Народный Дом, из Народного Дома – в Василеостровский театр. «Рамзее» – в Василеостровском театре…
Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся не очень весело.
– Пусть лучше не ставят.
И секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская наша башня развалилась.
Евг. Замятин
– С 1916 года, – говорил Александр Александрович (он отчетливо помнил все даты), – мне все время приходится делать то, чего не умею. Теперь я все председательствую в разных театральных заседаниях. А я не умею председательствовать.
Г. Блок
Блок с 1919 года был одним из директоров Большого театра, председателем его управления. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что для Блока в ту страшную пору этот театр был как бы спасительной гаванью. Всей душой он прилепился к театру, радостно работал для него: объяснял исполнителям их роли, истолковывал готовящиеся к постановкам пьесы, произносил вступительные речи перед началом спектаклей, неизменно возвышал и облагораживал работу актеров, призывал их не тратить себя на неврастенические «искания» и пустозвонные «новшества», а учиться у Шекспира и Шиллера.
К. Чуковский
Большой Драматический Театр есть, по замыслу своему, театр высокой драмы: высокой трагедии и высокой комедии. Вследствие этого он ни в коем случае не должен быть театром опытов или театром исканий. Здесь мы находимся в атмосфере служения искусству театра большого стиля. В этом театре авторов, по преимуществу, мы должны показать народу лучшие образцы европейской драмы в ее проявлениях не бытовых, не исторических, а, прежде всего, художественных. Здесь мы будем служить искусству прежде всего.
А. Блок. Большой драматический театр
Летом 1920 года мне пришлось вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре.
…– Александр Александрович – наша совесть, – сказал мне однажды, кажется, режиссер Лаврентьев. И ту же фразу – как утвержденную формулу – я слышал потом не раз от кого-то в театре.
Последние – обстановочные и костюмные – репетиции кончались часа в 2, в 3 ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже – тем, кажется, больше оживал он, больше говорил: ночная птица.
– Не утомляет вас это? – спросил я.
Ответ:
– Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал – я люблю, я ведь очень театральный человек.
На одной из таких последних ночных репетиций – вдруг стало невмочь и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:
– Наше время – тот же самый XVI век… Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи…
Евг. Замятин
13 декабря 1920 г.
Большой старый театр, в котором я служу, полный грязи, интриг, мишуры, скуки и блеска, собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сцене – это место не умерло, оно не перестало быть школою жизни, пока жизнь вокруг стараются убить. Разные невоплощенные Мейерхольды и многие весьма воплощенные уголовные элементы еще все сосут, как пауки, обильную русскую кровь; они лишены творчества, которое ведь требует крови («здоровая кровь – хорошая вещь»), поэтому они, если бы и хотели обратного, запутывают, стараются опутать жизнь сетью бледной, аскетической, немощной доктрины. Жизнь рвет эту паутину весьма успешно, у русских дураков еще много здоровой крови. Когда жизнь возьмет верх, тогда только перестанет влечь это жирное, злое, веселое и не очень здоровое гнездо, которому имя – старый театр.
Дневник А. Блока
В апреле 1918 года возникло новое большое дело – издательство «Всемирная Литература» под ведением Горького, которому правительство дало на это большие средства. Были приглашены литераторы для заведывания многочисленными отделами литературы, в числе их оказался и Александр Александрович, который взял на себя редактирование собрания сочинений Гейне. «Всем. Лит.» открыла свои действия летом, в обширном помещении на
Невском. Издательство принимало и печатало как новые, так и старые переводы со всех европейских языков, исключая славянских. Кроме собрания сочинений иностранных авторов, начиная с раннего периода и кончая новейшими, издавалась еще особая библиотека для народа, куда входили отдельные сочинения с подходящим содержанием. Александру Александровичу часто приходилось писать по заказу Горького вступительные статьи о различных авторах для народной библиотеки. Заседания литературной коллегии «Всем. Лит.» происходили в помещении редакции два раза в неделю. На них решались вопросы общего и частного характера, читались доклады и происходили прения.
М. А. Бекетова
Ю. Анненков. Иллюстрация к гл. 5 поэмы «двенадцать». Катька.
1918 г.
Сначала жужжащая густая приемная «Всемирной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь, и как-то особенно, раздельно, твердо – берет руку – и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» – «Федор Дмитриевич!» – «Алексей Максимович!»[117]
Горький тогда был влюблен в Блока – он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: «Вот – это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блока слушал Горький на заседаниях «Всемирной Литературы» так, как никого.
Евг. Замятин
А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной Литературе», писал что-то карандашом на полях книги, и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке, и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть, удивленными глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:
– Я опоздал?
М. Горький
Помню, в солнечный мартовский день в гостях у Горького.
Улыбался хозяин добрыми углами лица своего, поливая меня теплым светом синих глаз. Говорил о тех, чей голос должен я – молодой – слушать. Лепил слова меткие, точные, от которых становились люди на постах своих, словно получив пароль разводящего.
Но когда дошли до Блока – остановился, не подыскал слова. Нахмурился, пошевелил пальцами, точно нащупывая. Выпрямился потом, высокий, большой, поднял голову, провел рукой широко от лица к ногам: – Он такой…
И потом, когда уходил я и заговорили опять о Блоке, повторил широкий жест свой, и неотделимыми от жеста казались два слова:
– Он такой…
И, сжимая широкой, бодрящей рукой мою руку, говорил:
– Познакомьтесь, непременно познакомьтесь с ним.
Но не выпало мне это счастье. Я только видел Блока. Разве это мало?
К. Федин. Алекс. Блок
Звонил Блок.
Говорили о «Новой Жизни», о Горьком.
– Горький – правильно, только путанно, – сказал Блок.
А. Ремизов
Выступление Блока во «Всемирной Литературе» на чествовании Горького (30-го марта 1919 года). Было много пышных речей, много шумных поздравлений и потоки лести. Против героя праздника сидел А. А. Блок, как всегда тихий, в себя ушедший, молчаливый, ни улыбкой, ни движением не реагируя на громкое славословие, звучавшее кругом. Настроение было напряженное.
Неожиданно поднялся Блок, ни на кого не глядя, с опущенной головой, и заговорил…
О величии художественного слова, о самодовлеющей его ценности, о внутренней свободе художника, которую он страстно оберегал на своем крестном пути сомнений и колебаний между твердынями «да» и «нет» – достоянием нищих духом.
Говорил недолго, медленно, тихо. Это было не оправдание, не ответ на критику и нападки, на которые он бессилен был гласно отвечать… Только в муке выношенная, до последней глубины продуманная искренняя мысль.
Напряженное настроение разрешилось. Стало легче. Торжество получило свое оправдание.
А. Даманская. Памяти А. А. Блока[118]
Вступив в литературную коллегию «Всем. Лит.», Александр Александрович тоже пережил период надежд, увлечения и разочарования. Он чувствовал большую симпатию к Горькому и надеялся много сделать при его содействии. Сначала дело как будто пошло на лад. Отношения с Горьким завязались хорошие, и никаких разногласий с ним не было. Но с течением времени начало обнаруживаться расхождение по многим вопросам не только с Горьким, но и с другими литераторами, в особенности с Гумилевым. При выборе избранных сочинений авторов Горький руководствовался соображениями, не имевшими никакого отношения к искусству, а, кроме того, часто менял свои решения и поступал очень деспотично. Это особенно ярко выступало при выборе сочинений для народной библиотеки. Таким образом и здесь Александр Александрович был обманут в своих лучших чувствах, ему не удавалось воплощать своих взглядов, всюду встречал он противодействие, а между тем работа была утомительная и ответственная.
М. А. Бекетова
Говорить с ним – трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир – непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной Литературы» и нередко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения русского языка. Это – не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.
М. Горький
4 января 1921 г.
Все, что я слышу от людей о Горьком, все, что я вижу в *** – меня бесит. Изозлился я так, что согрешил: маленького мальчишку, который, по обыкновению, катил навстречу по скользкой панели (а с Моховой путь не близкий, мороз и ветер большой), толкнул так, что тот свалился. Мне стыдно, прости мне, господи.
Дневник А. Блока
В последнее время он очень тяготился заседаниями, так как те, с кем он заседал (особенно двое из них), возбуждали в нем чувство вражды. Началось это с весны 1920 года, когда он редактировал сочинения Лермонтова.
Он исполнил эту работу по-своему и написал такое предисловие, какое мог написать только Блок: о вещих снах у Лермонтова, о Лермонтове-боговидце.
Помню, он был очень доволен, что привелось поработать над любимым поэтом, и вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был «деятель прогресса», «большая культурная сила», и предложили написать по-другому, в более популярном, «культурно-просветительном» тоне. Блок не сказал ничего, но я видел, что он оскорблен. Если нужен «культурно-просветительный» тон, зачем же было обращаться к Блоку? Разве у нас недостаточно литературных ремесленников?
Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе (дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что написал на смерть Пушкина), тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо.
С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло.
К. Чуковский
С начала 1919 года в Петербурге среди кружка писателей и философов возникла мысль основать Академию Исканий в области вопросов, подымаемых живой современностью, для уяснения и углубления их в свете философских идей. Идеалом «Академии» служил тип Флорентийской Академии, не завершавшей период, но открывавшей его. Этим взглядом в будущее «Академия» по замыслу должна была отличаться от обычного типа философских и религиозно-философских обществ, связанных с традицией и часто оторванных от жизни.
«Академия» по ряду причин не могла состояться. Вместо нее в 1919 году возникла «Вольная Философская Ассоциация», объединившая разные течения мысли… То общее, что группировало вокруг нее писателей, мыслителей и художников, оказалось не догматическим исповеданием той или иной школы, а стремлением нащупать то целое, что, являясь культурною связью людей, оформляется ими по-разному. Единству многоразличий здесь противопоставили многоразличие единства, морфологическому взгляду на системы философии был противопоставлен взгляд физиологический, историко-философский обзор системы был заменен взглядом на мысль, как на живую растущую культуру.
К организационному ядру «Вольной Философской Ассоциации» примкнули: покойный А. А. Блок, Иванов-Разумник, Андрей Белый, А. 3. Штейнберг, Эрберг, А. А. Мейер[119], К. С. Петров-Водкин, впоследствии также проф. Васильев и др.
А. Белый. Вольная философская ассоциация
10 января 1919 г.
Из «Проекта положения о Вольной Философской Академии» (взял у Эрберга).
1. Назначение В. Ф. А. § 1. В. Ф. А. учреждается с целью исследования и разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам.
2. Сообразно с этой двойной целью деятельность Вольной Философской Академии подразделяется на: 1) научно-академическую и 2) учебно-просветительную…
IV. Личный состав в В. Ф. А. § 6. Личный состав академии распадается на: а) действительных членов; б) членов-сотрудников и в) слушателей.
Дневник А. Блока
Газета и журнал, в которых работала наша «скифская» группа, перестали существовать: о третьем сборнике нельзя было и мечтать ввиду развала типографского дела и других условий. Дорога печатному слову была закрыта – оставалось обратиться к слову живому. Так зародилась в конце 1918 года идея Вольной Философской Академии, впоследствии переименованной в Ассоциацию. В ноябре была опубликована во «Временнике Театрального Отдела» записка об этой Академии, подписанная Блоком и еще тремя учредителями; в большой напечатанной, но не увидавшей света афише открытие назначалось в феврале 1919 года докладом Блока «Каталина – эпизод из истории мировой революции» (позднее работа эта вышла отдельной книжкой). В январе состоялось собрание учредителей Академии, среди которых, кроме Блока, присутствовали: Андрей Белый, Петров-Водкин, Конст. Эрберг, А. Штейнберг и др., но официальное запрещение названия «Академии» (якобы конкурирующей по заглавию с «Социалистической Академией» в Москве) и февральский арест ряда участников – отсрочили рождение Ассоциации до ноября 1919 года, когда состоялось ее открытие. Первым докладом был доклад Блока «Крушение гуманизма».
Иванов-Разумник
Предрождественские дни девятнадцатого года.
Впервые увидел я его тогда на Литейном.
Чужой в Петербурге, еще пугавшийся его красоты, благоговел я перед Литейным. Пергаментный стоит там дом, и черно за старомодным переплетом его рам, и поблек мрамор строгой доски: здесь жил и умер Некрасов…
…Там, в этом доме, читал Блок…
О крушении гуманизма говорил он, о цивилизации, павшей жертвой культуры.
И казалось, сами слова – крушение, жертвы – должны бы были вселить в нас ужас, как набат во время пожара. Казалось, в панике должны мы были броситься вон из каморки, в слякоть уличного страха, бежать, цепляться за трамваи, волочить по грязи свои мешки.
Но никто не ушел, пока читал он.
Был он высокий, и страх не окутал его, а кружился вихрем вокруг ступней его и под ним.
И хорошо было, что он не снял с себя шубу и что пальцы его ровно перебирали листки рукописи, что был он, как всегда, медлителен и прям: ведь стоял он над всеми, кто одержим страстью спастись в эти грозные дни…
К. Федин
Он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?
Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто в роде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу; он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет навстречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит ли его факт падения гуманизма, или радует. В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но – это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого: слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека, вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».
М. Горький
В Петербург приехала из Москвы и явилась к нему поэтесса Н. А. Павлович. Она задалась мыслью основать в Петербурге Союз Поэтов по примеру московского и просила Ал. Ал. взять на себя инициативу этого дела. Ал. Ал. не особенно верил в успех ее проекта, но не отказался работать для его осуществления.
М. А. Бекетова
С марта 1920 г., приняв участие в организации Петроградского отделения Всероссийского Союза Поэтов, Блок избирается его председателем.
В. Н. Княжнин
Отвлекаемый разнообразными обязанностями и делами общественного и литературного характера, он все же немало времени уделял, поначалу, новой художественно-профессиональной организации; дав Союзу свое имя, как председатель, он добросовестнейшим образом пытался выполнять председательские обязанности: посещал заседания, измышлял способы материального обеспечения членов Союза, организовывал вечера и, в качестве рядового члена, выступал как на этих вечерах, так и в частных собраниях Союза.
В. А. Зоргенфрей
Работа Союза поэтов налаживалась очень медленно. Мы – поэты, люди берложные и не умели общаться. Я помню, как Чуковский с великим изумлением говорил про самого Блока: «Я поражен. В первый раз я слышу от Александра Александровича «я» – «мы», как он близко принял к сердцу Союз!» Председатель наш был необыкновенно добросовестен. (Впрочем, если Блок брался за какое-нибудь дело, он всегда делал его честно до конца.) Он не пропускал ни одного заседания, он входил во все мелочи. Так, у нас при Союзе служил матрос. И вот однажды Александр Александрович приходит ко мне и достает из кармана какую-то бумажку: – вот, чтоб не забыть.
Матросу нужно: 1) Дать бумагу, чтоб его отпускали с корабля. 2) Прописать в Домкоме. Матрос был очень мил и работящ, но однажды – с кем беды не бывает! – украл у хозяина квартиры, где помещался союз, соусник… и хозяин в 9 ч. утра звонит Блоку, требуя расследования.
Но Блок передал это дело тов. председателя. Потом он со смехом рассказывал о своих новых обязанностях. Но все же ему приходилось входить в разные мелочи и заботиться о дровах для Союза, и хотя бы единовременных пайках в помощь нуждающимся членам и посещать собрания. А на собраниях поэтов тоже иногда тяжко бывало. В Петербурге люди нелюдимые, здесь даже и споров разных почти не бывает.
Сидим мы вокруг стола. Мучительно молчим – Лозинский[120]предлагает читать стихи. Начинаем по кругу. По одному стихотворению. После каждого – мертвое молчание: и вот круг кончен. Делать больше нечего. Блок упорно и привычно молчит, но спасительный голос Лозинского предлагает начать круг снова. Почти с облегчением уходим домой.
Все это, в конце концов, Блоку надоело. Он стал отказываться от председательствования. Но тогда весь союз в полном составе явился к нему на квартиру просить остаться. Стояли на лестнице, на дворе. И он остался, но от дел отстраняясь, а в январе при новых выборах председателем Союза был выбран Гумилев.
Я помню I литературный вечер Союза в зале Городской Думы. Лариса Рейснер делала доклад, Городецкий, только что приехавший с юга, читал стихи, а Блок сказал вступительное слово о значении и целях Союза.
Он говорил там о возможности общения и звал эти новые силы.
Надежда Павлович. Из воспоминаний о Блоке
Союз Поэтов устроил два вечера. На первом из них в Городской Думе произнес вступительное слово Ал. Ал., затем он писал отзывы обо многих лицах, желавших вступить в Союз. На втором вечере в Доме Искусств выступали молодые поэты и поэтессы, в том числе Павлович, Шкапская, Оцуп и мн. др. Ал. Ал. не выступал.
М. А. Бекетова
Он (неизвестный молодой человек) пошел провожать меня с тем, чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее:
– Все мы – дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии.
Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.
Он продолжал равнодушно:
– Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но, если осуществится социализм, нам остается только умереть; пока мы не имеем понятия о деньгах; мы все обеспечены и совершенно неприспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы – наркоманы, опиисты; женщины наши – нимфоманки. Нас меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть – Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, но все это уже пресно; все это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга.
– Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? – почти непроизвольно, наконец, спросил я.
Молодой человек откликнулся как эхо.
– Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы пустые, совершенно пустые.
Я мог бы ответить ему, что если все они пусты, то не все стихи пусты; но я не мог так ответить, потому что за его словами была несомненная искренность и какая-то своя правда.
Я испугался того, что слишком загляжусь в этот узкий и страшный колодезь… дендизма…
Молодой человек как бы сразу откликнулся на мою отчужденность:
– Вы же виноваты в том, что мы – такие.
– Кто – мы?
– Вы – современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень.
Я не сумел защититься; и не хотел; и… не мог. Мы простились – чужие, как встретились.
Так вот он – русский дендизм XX века!
А. Блок. Русские денди
22 октября 1920 г.
Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, – первый после того, как выперли Павлович, Шкапскую, Оцупа, Сюннерберга и Рождественского и просили меня остаться.
Мое сочувствие совершенно другое. Никто не пристает с бумагами и властью.
Верховодит Гумилев – довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.
Гвоздь вечера – О. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь… виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь – от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его «Венеция». По Гумилеву – рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже не похожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словами – все исчезает, останется одно Оно.)
Дневник А. Блока
Мы с Александром Александровичем отметили, что Венеция поразила обоих (и Блока и Мандельштама) своим стеклярусом и чернотой; разговор перешел на Итальянские стихи Александра Александровича, и я сказала, что больше всего люблю его «Успение» и «Благовещение».
– А что, «Благовещение» по-вашему высокое стихотворение или нет?
– Высокое… – ответила я.
– А на самом деле нет. Оно раньше, в первом варианте, было хорошим, бытовым таким… – с жалостью в голосе сказал он.
«Бытовым»… Быт не случаен в творчестве Блока. Блок умел ходить по земле («Если б я задумал бежать, я, вероятно, сумел бы незаметно пройти по лесу, притаиться за камнем»), и Блок чувствовал связь человека с землей. В минуты надежды на возврат творчества он мечтал кончить «Возмездие». Ему хотелось увидеть в русской поэзии возрождение поэмы с бытом и фабулой. Там, где Блок ощущал быт, там он ощущал культуру или зачатки культуры и возможность для художника чувствовать себя мастером. Правда, сказавшаяся ему в зорях «Прекрасной Дамы», действенно могла и должна была выявить себя в новых формах жизни, значит и быта.
Надежда Павлович. Из восп. об А. Блоке
У меня есть книга Блока. На ней написано: «В дни новых надежд», август 1920 г.
Об этих днях хочется мне вспомнить, п. ч. это были дни, может быть, «последних надежд» в жизни Блока. В те дни я встречалась с ним часто, потому что была секретарем президиума Петербургского Отд. Всероссийского Союза Поэтов, а он председателем.
От тех дней остался у меня памятный протокол заседания. Вот выписка оттуда:
«Тов. Блок настоятельно указывает на необходимость работы в районах».
Что это значит?
Когда основалось отделение Союза поэтов, стала вырабатываться программа деятельности, Блок мучительно чувствовал оторванность интеллигенции, в частности писателей, от народа, и вот ему начинает казаться, что Союз даст возможность и поэтам объединиться и затем непосредственно идти в народные массы. Сам он раз пробовал читать, кажется в «экспедиции заготовления госуд. знаков», но без успеха, и все-таки настаивал на этих попытках.
Надеялся он, что и свежие силы из народа войдут в Союз.
Н. Павлович
Вижу его в зале, у окна – вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяное, холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо в окно:
– Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?
Евг. Замятин
22 октября 1920 г.
Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому – по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии – двух правдах. Оба (северо)восточные.
Дневник А. Блока
А. Гончаров. Фронтиспис к поэме «двенадцать». 1924 г.
К поэзии Гумилева относился он отрицательно до конца и даже, когда, по настоянию моему, ознакомился с необычайным «У цыган», сказал мне, правдиво глядя в глаза: «Нет, все-таки совсем не нравится».
В. А. Зоргенфрей
Гумилев говорил мне о Блоке: «Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но – он ничего не понимает в стихах, поверьте мне».
Д. Голлербах. Из восп. о Н. С. Гумилеве
Ни имя Блока, ни труды его не сообщили Союзу единства, не спаяли в одно целое разнообразного состава членов; невозможность творческой работы, обусловленная рядом сложных причин, чувствовалась слишком явно, и к концу года Александр Александрович, тяготясь доставшейся ему задачей, высказывался за ненужность Союза и пытался отказаться от председательской должности. Торжественная депутация, в составе почти всех членов Союза, во главе с покойным Н. С. Гумилевым, прибыла на квартиру Александра Александровича и почти силою вынудила у него согласие на дальнейшую деятельность. А месяца через 2–3 случайное, наскоро собранное собрание поэтов, большинством 5 голосов против 4, переизбрало президиум и забаллотировало Блока, – факт, ни в малой степени, конечно, необидный для памяти Александра Александровича. Александр Александрович принял известие о низложении своем «безлично», хотя отнюдь не равнодушно. «Так лучше», – сказал он. Близкие ему люди из состава Союза не сочли нужным, из уважения к Александру Александровичу, добиваться отмены импровизированных выборов, а Союз, освободившись от нравственного воздействия возглавлявшего его имени, покатился по уклону и в недавнем времени ликвидировал свои дела, породив жизнеспособное кафе.
В. А. Зоргенфрей
25 мая 1921 г.
«Службы» стали почти невыносимы. В Союзе Писателей, который бессилен вообще, было либеральничанье о свободе печати, болтовня о «пайках» и «ставках». В феврале меня выгнали из Союза Поэтов и выбрали председателя Гумилева.
Дневник А. Блока
В одном и том же помещении на Моховой мы заседали иногда весь день сплошь: сперва – в качестве правления Союза Писателей, потом – в качестве коллегии «Всемирной Литературы», потом – в качестве Секции Исторических Картин и т. д. Чаще всего Блок говорил с Гумилевым. У обоих поэтов шел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:
– Символисты – просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирю и так и сяк, а она – пустая.
Блок однотонно отвечал:
– Но ведь это делают все последователи и подражатели – во всяком течении. Символизм здесь ни при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы – слишком литератор, и притом французский.
Эти откровенные споры завершились статьею Блока об акмеизме, где было сказано много язвительного о теориях Н. Гумилева. Статье не суждено было увидеть свет, так как «Литературная Газета» не вышла.
Спорщики не докончили спора. Россия не разбирала, кто из них – акмеист, кто символист…
К. Чуковский
Помните, Чуковские вечера в «Доме Искусств», чествование М. А. Кузьмина «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и наш последний вечер в «Доме Литераторов» – я читал «Панельную сворь», а вы стихи про «французский каблук», домой мы шли вместе – Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами – по пустынному Литейному зверски светила луна.
Февральские поминки Пушкина – это ваш апофеоз.
А. Ремизов
«Дому Искусств» я отдал 2 года работы. Из недели в неделю я устраивал там публичные лекции Кони, Горького, Гумилева, Блока, Белого, Ремизова, Замятина и многих других. В то бескнижное время «Дом искусств» был чуть ли не единственным местом, где писатели общались друг с другом и со своими читателями. В студии «Дома Искусств» я пытался сплотить талантливую молодежь Петербурга, распыленную по разным канцеляриям.
К. Чуковский. Письмо в редакцию
Для меня особенно памятно торжественное празднование, памяти Пушкина в Доме Литераторов 11 февраля 1921 г. Вспоминаю прямую статную фигуру Блока, стоящего на кафедре, читающего по тетрадке свою речь «О назначении поэта». В каждом слове его, в каждом звуке холодного, бесстрастного голоса была безмерная усталость, надлом, ущерб. Он читал при напряженном внимании слушателей. В зале был весь литературный Петербург, вернее не весь, а избранная часть его, потому что доступ на вечер, за недостатком места, был очень затруднен. Едва закончил Блок последнюю фразу – раздались бурные аплодисменты, одобрительный гул голосов. Блок сложил тетрадку, по которой читал, и сел за зеленый стол, рядом с другими членами президиума. Лицо его было несколько краснее обычного, он казался немного взволнованным. Но все та же усталость, все то же равнодушие к окружающему были в его взоре, безучастно скользившем по головам слушателей. Иногда его светло-голубые глаза принимали неприятное выражение отчужденности. Овации не утихали. Блок встал, белея снежным свитером над зеленым сукном стола, с головой, слегка закинутой назад, как всегда. Встал, постоял полминуты. Аплодисменты стали еще оглушительнее. Хлопали все, – только А. Ф. Кони сомнительно покачал головой, что-то шепча Н. А. Котляревскому, и, угрюмо насупясь, неподвижно сидел Μ. П. Кристи.
Блок смотрел куда-то в глубину зала пристально холодно, не кланяясь, ничем не отвечая на шумные знаки одобрения. Потом сел. Казалось, вся обстановка чествования ему претила. Недаром он так долго колебался, выступать ли ему с речью о Пушкине или нет…
Э. Голлербах. Образ Блока
(Пушкинский вечер 11 /II – 1921. Блок читал «О назначении поэта»).
Один из избранных, кто чествовал память гения, когда толпились, собираясь укутаться в шубу, сокрушенно качал головой, пожимая руку Блока:
– Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!..
Помню, – я стоял рядом – чуть дрогнули его веки и ровным голосом ответил он:
– Никакого. Сейчас я думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».
К. Федин
Встретил я его в редакции «Всемирной Литературы» – в последний раз в жизни. На вопрос одной из служащих редакции – почему он так мало читал, Александр Александрович хмуро и как-то не по обычному рассеянно проговорил: «Что ж… довольно…» и ушел в другую комнату.
В. А. Зоргенфрей
Глава двадцать первая Последние годы жизни
Такой любви И ненависти люди не выносят, Какую я в себе ношу. А. БлокСезон 1917—18 года был самым тяжелым для Петербурга, да вероятно и всей остальной России – в смысле условий существования. Вздорожание и скудость припасов заставили голодать большинство петербургских жителей. Александр Александрович не избег общей участи. Он питался довольно-таки плохо, так как заработок его был невелик, и они с Любовью Дмитриевной не успели еще примениться к новым условиям жизни. Но Александр Александрович переносил голодовку очень легко. Главной причиной этого было, конечно, его приподнятое настроение, кроме того он накопил большой запас здоровья во время службы на Пинских болотах.
М. А. Бекетова
[1918 год]. В это лето условия жизни Блоков изменились к лучшему. Этому способствовали и новые заработки, и связанные с театром удобные случаи: во-первых, там можно было часто покупать хлеб, что тогда было трудно, а во-вторых, Люб. Дм. выхлопотала, как актриса, две карточки в столовую «Музыкальной Драмы», которая помещалась против дома, где жили Блоки, и была очень хорошая и дешевая. Осенью 1918 года Люб. Дм. получила приглашение в артистический клуб «Привал комедиантов», где за определенное жалованье каждый вечер читала «Двенадцать». Заработок этот послужил новым подспорьем в хозяйстве. К этому времени Блоки вообще применились к новым условиям жизни. Они кое-что начали продавать. Голодать больше не приходилось, дрова на зиму тоже были запасены, а их нужно было немало, так как зимой, даже при хорошей топке, Александр Александрович всегда страдал от холода. Это была зябкость, свойственная нервным людям.
М. А. Бекетова
Он был один из первых беспартийных интеллигентов, кто пошел добровольно на советскую культурную работу.
А. Цинговатов
1918 год. Маленькая редакционная комната – какая-то пустая, торопливая, временная – два-три стула, в углу связки – только что из типографий – книг. Еще непривычно, что в комнате – в шляпах и пальто. И непривычный, дружески-вражеский разговор с одним из редакторов лево-эсеровского журнала.
Стук в дверь – и в комнате Блок.
Евг. Замятин
Участие в лево-эсеровской прессе не прошло бесследно. Когда в феврале 1919 года был арестован в Москве центральный комитет партии, произошли аресты и в Петрограде. Вечером 15 февраля (н. ст.?) Александр Александрович был также арестован и просидел на Гороховой до утра 17 февраля. С лево-эсеровской группой его связывали чисто литературные отношения, а вовсе не их идеология, и потому материала для следственной работы не оказалось.
В. Н. Княжнин
Следует заметить, что Александр Александрович и я попали сюда по одному и тому же делу или, правильнее сказать, по одному и тому же поводу, так как дела, как это очень скоро и выяснилось, в сущности никакого и не было.
А. 3. Штейнберг
Александра Александровича предупреждали об аресте, и он имел полную возможность от него уклониться, но не пожелал этого сделать и по обыкновению своему пошел вечером гулять. В его отсутствие явился комиссар, который был принят Любовью Дмитриевной. Как только Александр Александрович вернулся с прогулки, он был арестован.
М. А. Бекетова
Только что я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у изголовья, как мне бросилась в глаза высокая фигура входившего Блока.
…Вот, что я узнал от него: в приемную к следователю внизу он попал уже около полуночи, очевидно, очень скоро после того, как меня оттуда препроводили наверх. При личном обыске, производившемся при первой регистрации до водворения в приемную, у него из вещей, бывших при нем, забрали только записную книжку. В приемной у следователя он провел целую ночь, так как до поздней ночи следователь был занят, а затем прервал свою работу до утра. Приемная была полна народу, не перестававшего прибывать всю ночь. Всю ночь он провел поэтому почти без сна, и только какой-нибудь час поспал, растянувшись не то на скамье, не то на полу. Лишь сейчас утром его допросили, и в результате – вот он здесь.
…К нам подошел правый эс-эр.
– Блок, не правда ли? И Вы среди заговорщиков?
Блок улыбнулся.
– Я старый заговорщик.
– А я не левый, я правый эс-эр.
Блок ответил, как бы возражая:
– А я совсем не эс-эр.
– Однако, заговорщик?
– Да, старый заговорщик, – с прежней улыбкой ответил Александр Александрович.
К нам присоединился новый собеседник, всего только недавно попавший в нашу обитель, с которым я успел познакомиться за шахматной доской. Это был молодой помещик Ж. из лицеистов, кажется сын адмирала, уже не только с хорошими, но даже с изысканными манерами.
– Я слышал, что Вы революционер. Но Вы, кажется, меньшевик?
В глазах Блока блеснул веселый огонек.
– Нет, – сказал он, – я не меньшевик, да и вообще ни к какой партии не принадлежу.
– А я никогда не слышал, чтобы были беспартийные революционеры.
Александр Александрович рассмеялся:
– По-вашему бывают только беспартийные контрреволюционеры?
…Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла своим обычным порядком, уже начали готовиться к очередной отправке на Шпалерную, когда снова появился особый агент и, подойдя к Блоку, сказал:
– Вы – товарищ Блок? Собирайте вещи… На освобождение!
…Он ушел.
А. 3. Штейнберг
26 (13) февраля 1918 г.
Ночь.
Я живу в квартире[121]; за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа[122] с семейством (называть его по имени, занятия и прочее – лишнее).
Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе, у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он. Господи, боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я, он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.
Отойди от меня, Сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, Сатана.
Дневник А. Блока
Зиму 1918–1919 года он переживал как «страшные дни» (так надписал он одну подаренную свою книгу в декабре 1918 года). Он вспыхнул было в последний раз при известии о новой волне революции – в Германии; но скоро погас. «Страшные дни» обступили его. Он видел их в прошлом, он провидел их в грядущем.
Иванов-Разумник
Как-то ранней весною 1919 года возвращались мы с ним ночью по грязи и снежной слякоти с одного литературного вечера, проходили пустынным Невским, где ветер свистел в разбитые стекла былых ресторанов и кафе. Идя мимо этих разбитых окон и заколоченных дверей, Александр Александрович вдруг приостановился и, продолжая разговор, сказал: «да, много темного, много черного, – но знаете что? Как хорошо все же, что мы не слышим сейчас румынского оркестра, а, пожалуй, и впредь не услышим».
Иванов-Разумник
В озябшем, голодном, тифозном Петербурге – была культурно-просветительная эпидемия. Литература – это не просвещение, и потому поэты и писатели – все стали лекторами. И была странная денежная единица: паек, – приобретаемая путем обмена стихов и романов – на лекции.
Блоку в это время жилось трудно – он неспособен был на этот обмен. Помню, он говорил:
– Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.
Евг. Замятин
Не испытывая, по неоднократным его заверениям, холода, он, однако, сократил свои потребности до минимума; трогательно тосковал по временам о «настоящем» чае, отравлял себя популярным ядом наших дней – сахарином, выносил свои книги на продажу и в феврале этого года, с мучительною тревогою в глазах, высчитывал, что ему понадобится, чтобы прожить месяц с семьей, один миллион! «Все бы ничего, но иногда очень хочется вина», говорил он, улыбаясь скромно – и только перед смертью попробовал этого, невероятным трудом добытого вина.
В. А. Зоргенфрей
Александру Александровичу пришлось, между прочим, носить дрова из подвала. Это продолжалось всего два-три месяца, так как, пока не запретил доктор, Любовь Дмитриевна делала это сама, но Саша, как всегда, не берег своих сил и вместо того, чтобы делать эту работу постепенно и понемногу, таскал большие вязанки, чтобы скорее отделаться от неприятной обязанности. Он не жаловался на нездоровье, раз только в течение этой зимы сделалась у него как-то подозрительная боль в области сердца, которую он принял за что-то другое и не подумал обратиться к доктору. А между тем болезнь наверно уже подкрадывалась к нему. Его нервы были в очень плохом состоянии, по большей части он был в самом мрачном настроении, но и тут иногда случалось ему вдруг неизвестно с чего развеселиться. В такие минуты он смешил жену, мать и какого-нибудь гостя, изображая комический митинг, рисовал карикатуры, раздавал всем какие-то ордена с мудреными названиями вроде «Рев. Мама», «Рев. Люба» и т. д.
М. А. Бекетова
Первое, что он мне сказал, когда мы обнялись летом 20-го года после долгой разлуки, это то, что колет и таскает дрова и каждый день купается в Пряжке. Он был загорелый, красный, похожий на финна. Про дрова сказал не с дамски-интеллигент-ской кокетливостью, как все, а как здоровяк. Глаза у него были упорно-веселые, – те глаза, которые создали трагическую гримасу, связавшись с морщинами страдания, на последнем его портрете. Встреча эта была чудесная, незабвенная. «Милому с нежным поцелуем», написал он мне на «Двенадцати». Опять сидели за столом, как в юности, все, Любовь Дмитриевна и Александра Андреевна. Он больше требовал рассказов, особенно про деревню, откуда я приехал, чем сам рассказывал. Никакого нытья я в нем не заметил. Весь быт его был цел. На полках в порядке, как всегда, лежали новые его книги, он с молодой ловкостью доставал их с верхних полок. Я был счастлив, что встретил его живым и здоровым. И показался он мне живым, нашим, по эту сторону огненной реки, расколовшей всех на два лагеря.
С. Городецкий
Был, кажется, март. Я стоял в очереди в «Доме Ученых», в достопамятном «селедочном» коридоре с окнами на унылый фонтан. В темных дверях показался Александр Александрович. Он кого-то торопливо искал. Был в длинном пальто и в маленьком, натянутом до ушей картузике. Он увидел меня, приветливо улыбнулся, подошел и заговорил:
– Ищу жену. Сейчас иду наверх. Там заседание о золотом займе за границей. Хочу послушать. Это очень интересно.
Я спросил:
– Ну, что же, теперь – лучше?
Он подумал и, снова улыбаясь, пристально глядя мне в глаза, ответил очень решительно:
– Лучше.
Мы расстались. Я смотрел ему вслед. Он опять торопливо пошел по коридору, на ходу (холодно – как мне показалось) поздоровался с Виктором Шкловским и исчез. Больше я его не видел.
Г. Блок
С величайшим интересом и вниманием и почти весело слушал он мои рассказы о том, что делается в глухой русской деревне, в Тульском медвежьем углу, из которого я попал в уплотненную квартиру Блока, за маленький стол с самоваром, черным хлебом, маслом и большой грудой папирос, которыми особенно старательно угощал меня Александр Александрович, говоря:
– Курите, курите, у меня их очень много, теперь я продаю книги, и вот, видите, и масло, и папиросы. Я утешаюсь тем, что многое в наших библиотеках было лишнее и заводилось так себе – по традиции.
И сказал он это без всякого раздражения или злобы, а также почти весело.
Выслушав мой рассказ о том, как мне пришлось по долгу моей службы, чтобы сохранить для детей молоко в детских домах, спасать скот и менять ситец на сено и овес, Блок совершенно оживился и сказал:
– Это удивительно интересно! Вот где делается что-то настоящее, а не у нас на каком-нибудь литературном собрании. Удивителен, удивителен наш народ!..
П. Сухотин
Уже весной 21-го года – одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему – вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня – нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе – читается пьеса – и он заражает своим смехом.
Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока – молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.
Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.
– Очень хочется писать, – говорил Блок. – Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну, и сяду…
На Садовой ждали трамвая, – все не было. Туча поползла, закрыла солнце, и сверху – как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.
Над головою – туча, плита. Опять – знакомая, еле заметная, тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.
Евг. Замятин
В середине апреля начались первые симптомы болезни. Александр Александрович чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время было ужасное, и всякое неприятное впечатление усиливало боль. Когда его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать.
…Для выяснения положения вещей мне придется указать еще на один факт, игравший важную роль в жизни Александра Александровича. Между его матерью и женой не было согласия. Разность их натур и устремлений, борьба противоположных влияний, которые обе они на него оказывали, создавала вечный конфликт между ними… Конфликт между ними был сложный и мучительно отзывался на поэте, который, любя обеих, страдал от невозможности примирить противоречия их натур. Любовь Дмитриевна не всегда умела сдерживать порывы своей враждебности. И эти несогласия между наиболее близкими ему существами жестоко мучили Александра Александровича.
М. А. Бекетова
18 апреля 1921 г.
Опять разговоры о том, что нужно жить врозь, т. е. маме отдельно – неотступные, смутные, незабываемые для меня навсегда, оставляющие преступление, от сознания которого никогда не освободиться, т. е. никогда не помолодеть. И в погоде, и на улице, и в Е. Ф. Книпович, и в m-me Marie и в Европе – все то же. Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не nuova), вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в д р у г у ю сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы.
Дневник А. Блока
Конечно, его жизнь была тяжела: у него даже не было отдельной комнаты для занятий; в квартире не было прислуги; часто из-за отсутствия света он по неделям не прикасался к перу. И едва ли ему было полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль – с самого конца Офицерской на Моховую, во «Всемирную Литературу». Но не это тяготило его. Этого он даже не заметил бы, если бы не та тишина, которую он вдруг ощутил.
Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:
– Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?
Однажды он написал мне письмо об этом беззвучии. – «Новых звуков давно не слышно», – писал он. – «Все они притушены для меня, как вероятно для всех нас… Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».
К. Чуковский
25 мая 1921 г.
Наша скудная и мрачная жизнь в первые 5 месяцев: отношения Любы и мамы.
Дневник А. Блока
Идем по Бассейной, – куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем несвязанный, обломок – его слова:
– Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.
И, может быть, в тот же – может быть, в другой день – долгий разговор, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.
А потом, нахмурившийся, упрямо – может быть, самому себе, а не мне:
– И все-таки золотник правды – очень настоящей – во всем этом есть. Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.
Евг. Замятин
На этом окровавленном небесном жемчуговом небе все те же подъемные краны рабочего города. Мы оба смотрим в даль, стоя после длинного разговора о «Двенадцати», о «Скифах». И беседа снова закипает.
– Слушайте музыку революции! так говорите вы. Будет совершенно новый мир, совсем иная жизнь…
Завидная тогда была у вас вера, завидная нетерпимость:
Все старое к чорту.
– Россия?
России не будет.
– Зачем же вы писали стихи о России?
– Я прощался в них с Россией.
В. Н. Княжнин
В августе месяце 1920 г. я получил возможность побывать в Москве и в Петербурге и 20 августа, не без тревоги, подходил к квартире Блока. «Кто знает, – думал я, – как отнесется Блок к моему перевороту?..»
Но прием со стороны Александра Александровича ждал меня самый радушный, и вновь моя встреча с ним закончилась глубоким, задушевным, непередаваемым разговором.
…Когда мы с ним перешли в кабинет и заговорили о революции, то сразу стало ясно, что переживания его мучительны и тяжки.
Он и тогда не отрицал, что революция – явление огромное, но он уже не считал ее явлением безусловно положительным и склонен был признать ошибкой ту свою веру в нее, какая веяла на страницах «Двенадцати» и книги об интеллигенции.
Александр Типяков. Памяти А. А. Блока
Трагедия Блока… – это трагедия человека на переломе, порывающего со своим классом, переходящего на иную, исторически передовую позицию.
И. Машбиц-Веров
Помните, в Отделе Управления мы толкались в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт – это было вскоре после похорон Ф. Д. Батюшкова[123] – и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острова без воды и дров – помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы то с вами, —
– Мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас…
И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда.
Бедный Александр Александрович, – вы дали мне папиросу настоящую! пальцы у вас были перевязаны.
И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.
– В таком гнете невозможно писать.
А, знаете, это я теперь тут узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тягче, и писать не то, что невозможно, а просто ничего; ведь только в России и совершается что-то, а тут – для русского – пустыня.
А. Ремизов
К тем писателям, которые, убежав из России, клевещут на оставшихся в ней, он относился с несвойственным ему раздражением и говорил о них так горячо, как, кажется, не говорил ни о ком.
Когда в феврале 1921 года Всероссийский Союз Писателей рассматривал в особом заседании те небылицы и вздоры, которые в заграничных газетах распространяли обо мне мои друзья, Блок, вместе с покойным Гумилевым, принял это дело до странности близко к сердцу, и только тогда я увидел, как измучила его самого трехлетняя травля, которую вели против него соотечественники. И думалось:
– Должно быть, у России много Блоков, если этого она так весело топчет ногами.
И становилась понятна та жестокая злоба, с которой он говорил об этих заграничных ругателях.
К. Чуковский
«Что бы вам выехать за границу месяца на два, на три, отдохнуть, пожить другою жизнью? – сказал я однажды Александру Александровичу. – Ведь вас бы отпустили…» – «Отпустили бы… я могу уехать, и деньги там есть для меня… в Германии должен получить 80.000 марок, но нет… совсем не хочется», – ответил он. – А это были трудные дни, когда уходила и вера, и надежда, и оставалась одна любовь.
В. Зоргенфрей
Он ни за что не хотел уезжать из России, как бы тяжело ему ни было в ней, и только перед смертью, по внушению врачей, стал мечтать о заграничной больнице. Покинуть Россию теперь – казалось ему изменой России.
Он заучил наизусть недавно изданное стихотворение Анны Ахматовой и с большим сочувствием читал его мне и Алянскому[124] в вагоне, по дороге в Москву:
Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, Оставь свой край, глухой и грешный, Оставь Россию навсегда… Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух.– Ахматова права, – говорил он. – Это недостойная речь. Убежать от русской революции – позор.
К. Чуковский
При последнем свиданьи, весной 21 года, пред последней московской поездкой Александра Александровича, столь несчастно оконченной, Александр Александрович был у меня с Р. В.[125] и с Алянским; Александр Александрович, улыбаясь, показывал мне в «Русской Мысли» гнуснейшие выходки Гиппиус против сенатора Кони и некоторых из писательской братии; он с некоторым высокомерным добродушием развертывал предо мною за «прелестью» «прелесть», и мы узнавали впервые, что мы – коммунисты, что Кони – продался: не за муку, или сахар, иль чай, или спички, а – именно: за крупу он продался; узнали еще, как кокетливо примеряет ботинки одна комиссарша; но нового в сплетнях для нас вовсе не было: в ряде годин упражнялась 3. Н. бескорыстным сплетением мифов; интересовал лишь цвет сплетен: доносный.
А. Белый
Он всегда говорил медлительно, металлически, холодновато. И только два-три раза я слышал в металле острие, жало – и видел: он натягивает вожжи, чтобы удержать себя.
Один раз он так говорил о марксизме. Другой раз – он только что прочитал заграничную «Русскую Мысль» Струве – и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова.
– Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи.
И написал об этом очень резкую статью для невышедшей «Литературной Газеты» Союза Писателей.
Это было в апреле 1921 года – перед последней его поездкой в Москву.
Евг. Замятин
25 мая 1921 г.
Чтобы выцарапать деньги из Берлина, я писал Лундбергу, сочинял проект командирования Алянского за границу. Ответов нет.
Дневник А. Блока
Времена пришли иные… Обычно сдержанный, Александр Александрович еще более замкнулся в себе. И разговоры наши, иногда продолжая быть «долгими», уже никогда больше не бывали «спорами» – спорить было не о чем.
Иванов-Разумник
В мае 1921 года я получил от него страшное письмо, – о том, что она победила:
«Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит… Итак, здравствуем и посейчас – сказать уже нельзя: слопала таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».
К. Чуковский
И то, что Блок написал «Двенадцать», и то, что он замолчал после «Двенадцати», перестав слышать музыку, вполне вытекает как из характера Блока, так и из той не очень обычной «музыки», какую он уловил в 18-м году. Судорожный и патетический разрыв со всем прошлым стал для поэта фатальным надрывом. Поддержать Блока, – если отвлечься от происходивших в его организме разрушительных процессов, – могло бы, может быть, только непрерывно нарастающее развитие событий революции, могущественная спираль потрясений, охватывающая весь мир. Но ход истории не приспособлен к психическим потребностям пронзенного революцией романтика. Чтобы держаться на временных отмелях, нужен был иной закал, иная вера в революцию – понимание ее закономерных ритмов, а не только хаотической музыки ее прилива. У Блока ничего этого не было и быть не могло. Руководителями революции выступали сплошь люди, ему чуждые по психическому складу и даже по обиходу своему. И оттого, после «Двенадцати» он свернулся и замолчал.
Л. Троцкий
Глава двадцать вторая Смерть
Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным притворяться. Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры лязг костей… А. БлокЧасто он находил в них (стихах) пророчества. Перелистывая со мною третью книгу своих стихов, он указал на стихи: «Как тяжко мертвецу среди людей» и сказал: «Оказывается, это я писал о себе. Когда я писал это, я и не думал, что это – пророчество». То же говорил он и про книгу «Седое Утро»: – «Я писал ее давно, но только теперь понимаю ее. Оказывается – она вся – о теперешнем».
…Он умер сейчас же после написания «Двенадцати» и «Скифов», потому что именно тогда с ним случилось такое, что в сущности равносильно смерти. Он онемел и оглох. То есть он слышал и говорил, как обыкновенные люди, но тот изумительный слух и тот серафический голос, которыми обладал он один, покинули его навсегда. Все для него вдруг стало беззвучно, как в могиле. Он рассказывал, что, написав «Двенадцать», несколько дней подряд слышал непрекращающийся не то шум, не то гул, но после замолкло и это. Самую, казалось бы, шумную, крикливую и громкую Эпоху он вдруг ощутил как беззвучие.
…Мы проходили с ним по Дворцовой площади и слушали, как громыхают орудия.
– Для меня и это – тишина, – сказал он. – Меня клонит в сон под этот грохот… Вообще, в последние годы мне дремлется.
К. Чуковский
Силы душевные постепенно изменяли Александру Александровичу, но лишь в марте этого года, после краткого подъема, увидел я его человечески-грустным и расстроенным. Необычайное физическое здоровье надломилось; заговорили, впервые внятным для окружающих языком, «старинные болезни».
В. А. Зоргенфрей
Впервые я был приглашен к Александру Александровичу весной 1920 г. по поводу лихорадочного недомогания. Нашел я тогда у него инфлуэнцу с легкими катаральными явлениями, причем тогда же отметил невроз сердца в средней степени (легкая аритмия, незначительное увеличение поперечника). Процесс закончился, но еще некоторое время продолжались немотивированные колебания температуры по вечерам (так называемый «послегриппозный хвост»). Это было в апреле 1920 года.
Доктор медицины Пекелис. Отчет врача
Посмертная маска А. Блока
Последний его печальный триумф – был в Петербурге, в белую апрельскую ночь.
Помню, он с усмешкой рассказывал – вечер его не разрешают: спекуляция, цены выше каких-то тарифов. Наконец – разрешили. И вот доверху полон огромный Драматический театр (Большой) – и в полумраке шелест, женские лица – множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского – речь о Блоке – и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок – с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где встать – и становится где-то сбоку столика. И в тишине – стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека – на одной ноте. И только под конец, после оваций – на одну минуту выше и тверже – последний взлет.
Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню, сзади голос из публики:
– Это поминки какие-то!
Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Петербурга – прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока в последний раз.
Евг. Замятин
Перед Пасхой, в апреле 1921 года, жаловался он на боль в ногах, подозревал подагру, «чувствовал» сердце; поднявшись во 2-й этаж «Всемирной Литературы», садился на стул, утомленный.
В. А. Зоргенфрей
Последним словом, которое я услышал от Блока, сказанным при последней встрече, с последним рукопожатием, у подъезда «Всемирной Литературы», накануне последней поездки Блока в Москву, – было слово: – Устал.
Впрочем, здесь не было жалобы: Блок никогда не жаловался…
Юр. Анненков
Как-то, в разговоре, он сказал мне с печальной усмешкой, что стены его дома отравлены ядом, и я подумал, что, может быть, поездка в Москву отвлечет его от домашних печалей. Ехать ему очень не хотелось, но я настаивал, надеясь, что московские триумфы подействуют на него благотворно. В вагоне, когда мы ехали туда, он был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи, угощал куличом и только иногда вставал с места, расправлял больную ногу и, улыбаясь, говорил: болит! (Он думал, что у него подагра.)
К. Чуковский
В начале двадцать первого года в нем завершился процесс, который должен был начаться в нем и который, действительно, начался и, по-видимому, мучил три года.
Это было вполне законное и со всех точек зрения понятное и естественное тяготение художника к новому читателю – если от него ушли многие из старых.
…Он попал в Москву как раз в тот период, когда взбудораженная революцией литературная накипь лихорадочно искала чего-то нового и, не умея найти его, бешено и неразборчиво сокрушала «старое».
Е. Зозуля. Трагедия Блока
В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. – «Какого чорта я поехал?» – было постоянным рефреном всех его московских разговоров.
…В присутствии людей, которых он не любил, он был мучеником, потому что всем телом своим ощущал их присутствие: оно причиняло ему физическую боль. Стоило войти такому нелюбимому в комнату, и на лицо Блока ложились смертные тени. Казалось, что от каждого предмета, от каждого человека к нему идут невидимые руки, которые царапают его.
Когда весною этого года мы были в Москве, и он должен был выступать перед публикой со своими стихами, он вдруг заметил в толпе одного неприятного слушателя, который стоял в большой шапке неподалеку от кафедры. Блок, через силу прочитав два-три стихотворения, ушел из залы и сказал мне, что больше не будет читать. Я умолял его вернуться на эстраду, я говорил, что этот в шапке – один, что из-за этого в шапке нельзя же наказывать всех, но глянул на лицо Блока и замолчал. Все лицо дрожало мелкой дрожью, глаза выцвели, морщины углубились.
– И совсем он не один, – говорил Блок. – Там все до одного в таких же шапках!
Однажды в Москве – в мае 1921 года – мы сидели с ним за кулисами Дома Печати и слушали, как на подмостках какой-то «вития», которых так много в Москве, весело доказывал толпе, что Блок, как поэт, уже умер: «Я вас спрашиваю, товарищи, где здесь динамика? Эти стихи – мертвечина и написал их мертвец». – Блок наклонился ко мне и сказал:
– Это правда.
И хотя я не видел его, я всею спиною почувствовал, что он улыбается.
– Он говорит правду: я умер.
К. Чуковский
Блок стал жертвой обыкновенного всесокрушающего московского диспута. Этот диспут и встреча его в Москве – были для него последним ударом…
Помимо безответственного литературного диспута, характерного для тогдашней Москвы, Блока обидело еще и то, что революция вообще почти никак не откликнулась на «Двенадцать».
Если он еще мог не посчитаться со случайной бранью диспута, то сурового молчания революции он вообще не перенес.
Блок не знал, что революция вообще никого не превозносит и никого не награждает особенно продолжительными аплодисментами.
Развенчанный своим старым обществом, он не видел признания и со стороны общества нового.
Эта обычная, в конце концов, трагедия художника в переходное время оказалась для Блока роковой.
Е. Зозуля
Помню первый приезд Блока в Москву в мае прошлого года. Еще цветущий и бодрый, читающий свои стихи перед аудиторией, переполнившей залу Политехнического музея. И второй приезд в мае нынешнего года. Худой, измученный, озлобленный, без веры и надежды, с опустошенной душой.
П. С. Коган. А. Блок
Когда из Дома Печати, где ему сказали, что он уже умер, он ушел в Итальянское Общество, в Мерзляковский переулок, часть публики пошла вслед за ним. Была пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой. Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло читать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать… В Итальянском Обществе Блока встретили с необычайным радушием, и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосом. На следующий день произошло одно печальное событие, которое и показало мне, что болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил (к проф. П. С. Когану), сели пить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал:
– Как странно! До чего у меня все перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе Писателей, и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не мог прийти.
Это испугало меня: в Союзе Писателей он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут назад, – как же мог он забыть об этом – он, такой точный и памятливый! А на следующий день произошло нечто, еще больше испугавшее меня. Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: предо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно непохожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.
– Вы ли это, Александр Александрович? – крикнул я, но он даже не посмотрел на меня.
Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет.
Я взял шляпу и тихо ушел. Это было мое последнее свидание с ним.
К. Чуковский
В Москве его настроение было особенно безотрадное. Все яснее в нем обозначалась воля к смерти, все слабее становилась воля к жизни. Он избегал говорить о своих настроениях, но иногда они прорывались наружу помимо его воли.
Так было однажды, в разговоре с Г. И. Чулковым, который рассказывал Блоку о своих литературных планах и начинаниях. Блок слушал внимательно, но без интереса, и вдруг прервал рассказчика вопросом: «Георгий Иванович, вы хотели бы умереть?» Чулков ответил не то «нет», не то «не знаю». Блок сказал: «А я очень хочу». Это «хочу» было в нем так сильно, что люди, близко наблюдавшие поэта в последние месяцы его жизни, утверждают, что Блок умер оттого, что хотел умереть.
Э. Голлербах
В последний раз, когда Александр Александрович был в Москве, мы успели поговорить, и он был откровенен, как прежде, как в те годы, когда мы были друг другу нечужды. Я сказал, между прочим: «Не верится в то, что в наше катастрофическое время могут какие-то люди чувствовать привязанность к земле, к земной любви… Вы в это верите?.. И он мне ответил, даже не улыбаясь: «Credo, quia absurdum». Это был последний мистический каламбур, который я услышал из его уст.
Г. Чулков
Он советовался в Москве с доктором, который не нашел у него ничего, кроме истощения, малокровия и глубокой неврастении.
М. А. Бекетова
11 мая 1921 г.
Люба встретила меня на вокзале с лошадью Билицкого[126], мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства).
Дневник А. Блока
Она почти не бывала дома, что очень удручало Ал. Ал. Вообще надо сказать, что чем дальше, тем больше нуждался он в постоянном общении с женой. Тут была причиной не только его нежнейшая и глубокая любовь к ней, но также ее здоровье, жизненность, детская беспечность и уменье отвлечь его от печальных мыслей своеобразной шуткой и неизменной, светлой веселостью. Если бы она знала, что это последний год его жизни, она, конечно, и не подумала бы поступать в «Народную Комедию». В прежние годы Ал. Ал. тоже не любил, когда она уезжала или часто отлучалась из дому, но он переносил это все сравнительно легко. Теперь же он без нее тосковал, падал духом, не хотел приниматься за еду, пока она не вернется…
Вскоре после приезда из Москвы у Ал. Ал. был первый припадок сердечной болезни, начавшийся с повышения температуры. Позванный по этому случаю доктор Пекелис, ныне уже покойный… нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил, как психастению, т. е. психическое расстройство, еще не дошедшее до степени клинической болезни. Доктор этот был человек очень знающий, умный и в высшей степени культурный и просвещенный. Он недолго блуждал впотьмах.
М. А. Бекетова
Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения, цинги, нервов – такой сердечный припадок, что не сплю уже две ночи.
Письмо к В. Зоргенфрею от 29/V-1921 г.
Энергичное лечение Пекелиса принесло некоторый результат. Ал. Ал. стало значительно лучше, так что он ободрился и говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце.
В периоды улучшения Ал. Ал. развлекался работой. Так как Пекелис с самого начала настаивал на санатории в Финляндии, потому что условия русских санаторий были в то время неудовлетворительны, – Ал. Ал. стал готовиться к отъезду за границу.
М. А. Бекетова
Принятые меры не дали, однако, улучшения, процесс заметно прогрессировал; помимо этого, стали обнаруживаться еще и тягостные симптомы значительного угнетения нервно-психической сферы. По моей инициативе была созвана консультация при участии проф. П. В. Троицкого и д-ра Э. А. Гизе, признавших у больного наличие острого эндокардита, а также и психастении. Назначено строгое постельное содержание впредь до общего улучшения.
Доктор медицины Пекелис
Троицкий вполне согласился с Пекелисом в постановке общего диагноза, он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: «Мы потеряли Блока».
…Но лежание в постели так ужасно действовало больному на нервы, что вместо пользы приносило вред. Через две недели доктор разрешил ему вставать, и он уже больше не ложился: бродил по комнатам, сидел в кресле или в постели. В начале болезни к нему еще кой-кого пускали. У него побывал Е. П. Иванов, Л. А. Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один
С. М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Ал. Ал. успокоительно, и потому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье Ал. Ал.
Последняя болезнь его длилась почти три месяца. Она выражалась главным образом в одышке и болях в области сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться.
…Во все время болезни Ал. Ал. за ним ухаживала только жена. Узнав о болезни сына, мать, разумеется, захотела сократить свой отдых в Луге и вернуться в Петербург, но Любовь Дмитриевна и доктор Пекелис уговаривали ее в письмах повременить с приездом, боясь, что свидание с нею вызовет волнение и ухудшит положение больного.
М. А. Бекетова
Последние месяцы его жизни были сплошной мукой. Жизнь стала жестокой, а для мечтателей беспощадной. Всем наносило удары наше испепеляющее время. Для того, кто не умеет приспособляться, бороться, эти удары должны были стать смертельными.
П. С. Коган
Блок уже не писал стихов после 1918 года. И для тех немногих, кому действительно дорого и нужно искусство, имя Блока стало уже отзвуком прошлого. Незачем скрывать, что одновременно с растущей модой на Блока росла и укреплялась вражда к нему – вражда не мелкая, не случайная, а неизбежная, органическая. Вражда к «властителю чувств» целого поколения – чувств, уже потерявших свою гипнотическую силу, свое поэтическое действие. Вражда к созданному им и уже застывшему в своей неподвижности поэтическому канону. И это нисколько неоскорбительно: только вражда и ненависть могут спасти искусство, когда оно становится модой.
Последние сборники Блока – «За гранью прошлых дней» и «Седое утро» – имели уже вид посмертных. Они встречены были недоумением. В них не было ничего такого, чего многие, быть может, ожидали после «Двенадцати». Никакого нового пути. Старые изжитые стихи 1898–1916 г., не включенные в прежние сборники. Самые их названия казались анахронизмом. Точно Блока уже нет.
Стали раздаваться голоса о «падении» Блока.
Б. М. Эйхенбаум. Судьба Блока
На первый взгляд все в этой книге обстоит благополучно: кто-то нарисовал обложку, кто-то где-то достал приличную бумагу и все такое, но – небо и его громы – чем наполнена эта бедная книга! Символизм утонул тому назад год, что ли, не то полтора: преисподняя, с которой он так мило заигрывал, съела его в ежеминутие. Любители Блока, «вы – девушки», кандидатки на должность зубных врачей, дамы завов, секретари, помощники секретарей… и так далее, и так далее, и так далее, как бы вы ни назывались сегодня и как бы вы ни назывались завтра, – Блока больше нет.
Что же в этой книге? Смертной тоской, невыразительным ужасом и нечленораздельными мольбами в пустое пространство заняты страницы. Разложению нет пределов.
Зачем Блок напечатал эту книгу: верно, не мог не напечатать, а этим он подписал свой собственный приговор: отныне его больше нет.
Сергей Бобров[127]. Рецензия на «Седое утро»
На заседаниях – у каждого было уже какое-то свое, привычное, место. И вот стул Блока – с краю, у самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой – с месяц стоял пустым этот стул. Но, отлежав месяц, Блок вернулся, как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм от промерзлых домов – у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим не особенным, обыкновенным – уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его можно только одним – тотчас же увезти в санаторию за границу.
Никто из нас не видал его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить – хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистной и любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндскую санаторию, пока не понял: остаться здесь для него – умереть. Но и тут не хотел ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза Писателей.
В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпустят скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.
Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький… в Москве ходил по инстанциям.
И, наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать.
Евг. Замятин
А, между тем, процесс роковым образом шел к концу. Отеки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения; иногда, правда, бывали редкие светлые промежутки, когда больному становилось лучше, он мог даже работать, но они длились очень короткое время (несколько дней). Все чаще овладевали больным апатия, равнодушие к окружающему. У меня оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, так сказать, сдвига с «мертвой точки», на которой остановилась мыслительная деятельность больного, что могло бы произойти в случае перемещения его в совершенно новые условия существования, резко отличные от обычных. Такой встряской могла быть только заграничная поездка в санаторию… Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал.
Доктор медицины Пекелис
Последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томления, от боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза страшно его утомляла. Дни он проводил часто в полудремоте, сидя на постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько бодрее. Люб. Дмитр. пользовалась этими моментами, чтобы приготовить ему какое-нибудь скороспелое блюдо, и давала ему поесть.
За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученно-апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее. Доктор Пекелис приписывал эти явления, между прочим, отеку мозга, связанному с болезнью сердца. Психастения усилилась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления шел безостановочно и быстро. Слабость достигла крайних пределов.
Но ни доктор, ни Любовь Дмитриевна все еще не теряли надежды на выздоровление. За четыре дня до смерти сына мать, вызванная доктором, наконец приехала в Петербург. Ал. Ал. жестоко страдал до последней минуты.
М. А. Бекетова
Умирал он мучительно. Вскоре после его кончины одна девушка, бывшая близким другом Блока и его семьи, прислала мне в деревню описание последних дней; заимствую из этого письма отрывки:
«Болезнь развивалась как-то скачками, бывали периоды улучшения, в начале июня стало казаться, что он поправляется. Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался. Числа с двадцать пятого наступило резкое ухудшение; думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало. Все-таки мы думали, что надо сделать последнюю попытку и увезти его в Финляндию. Отпуск был подписан, но 5-го августа выяснилось, что какой-то Московский Отдел потерял анкеты, и поэтому нельзя было выписать паспортов… 7 августа я с доверенностями должна была ехать в Москву…
На другое утро, в семь часов, я побежала на Николаевский вокзал, оттуда на Конюшенную, потом опять на вокзал, потом опять на Конюшенную, где заявила, что все равно поеду, хоть на буфере… Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую… В первую минуту я не узнала его (Ал. Блока). Волосы черные, короткие, седые виски; усы, маленькая бородка; нос орлиный. Александра Андреевна (мать Блока) сидела у постели и гладила его руки… Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: «Пойдите к Сашеньке», и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть… Место на кладбище я выбрала сама – на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом… Гроб несли на руках, открытый, цветов было очень много».
К. Чуковский
Ветреное, дождливое утро 7-го августа, – одиннадцать часов, воскресение. Телефонный звонок – «Алконост» (Алянский): скончался Александр Александрович.
Помню: ужас, боль, гнев – на все, на всех, на себя. Это мы виноваты – все. Мы писали, говорили – надо было орать, надо было бить кулаками – чтобы спасти Блока.
Помню, не выдержал и позвонил Горькому:
– Блок умер. Этого нельзя нам всем простить.
Евг. Замятин
* * *
Блок был похоронен на Смоленском кладбище в день праздника иконы Смоленской Божьей Матери. В 1944 г. прах поэта был перенесен на мостки Волковского кладбища.
Приложения
I
В газете «Кавказское слово» [1917] Городецкий опубликовал статью о «Двенадцати». Городецкий писал:
«Нам доставлен корректурный оттиск новой книги Александра Блока «Двенадцать», в которую вошла эта новая поэма, или точнее, цикл стихотворений, и кроме того, большое стихотворение «Скифы»… Если бы даже эта поэма и не была посвящена изображению современной России, все равно она возбуждала бы большой интерес как произведение одного из сильнейших наших лириков, долго притом молчавшего и давно уже ставшего любимцем читателей…
Но интерес удваивается оттого, что, по доходящим сюда сведениям, Александр Блок примкнул к большевикам, и, таким образом, в его поэме соединяется интуиция свободного поэта с пристрастием партийного человека.
Многим казалось странным, как мог романтик, певец Прекрасной Дамы, трубадур стать большевиком. Но при ближайшем рассмотрении дело становится совершенно ясным. С одной стороны, в большевизме очень много свободной романтики. С другой стороны, известно, что Блок во время первой революции ходил с красным флагом впереди демонстрантов, что им написаны стихи о рыцаре Зимнего дворца, опустившем меч; а те, кто ближе знаком с его лирикой, знают, что максимализм вообще в природе Блока… в Блоке всегда было любопытство к народной, в частности, фабричной, среде; в результате его близость к большевикам вполне объяснима именно из его коренных качеств и свойств».
«Но, – пишет Городецкий, – по-видимому в привычную маску арлекинады не укладывается сложная картина современной России. И вот Блок переходит к другому сюжету, как фуги бегут картины снега, ветра, марша красноармейцев, и вдруг новый образ:
…В белом венчике из роз — Впереди – Иисус Христос.Этим образом – Христа, идущего впереди красногвардейцев, поэма кончается.
И ее конец – удачней всего в ней. Только тут голос поэта приобретает полноту и силу. Только тут найдена художественная мера между жизнью и поэзией, и только тут создана картина, убедительная и величавая… Блок, идя в ногу со второй революцией, не изменил себе самому ни в чем. Это большая победа. И если он, все видевший и переживший, мог сказать, что Христос идет впереди «двенадцати», он исполнил свой долг поэта – и в самом страшном находит прекрасное.
И он исполнили свой долг гражданина – всем ослепшим от бед показать выход и дать исцеление…»
II
Валентин Иннокентьевич Анненский-Кривич (1880–1936) – сын И. Ф. Анненского – вошел в историю русской литературы не столько как поэт, сколько как автор воспоминаний о своем отце.
Кривичу принадлежит оригинальная характеристика блоковской манеры чтения стихов как нового этапа декламационной традиции:
«Традиция старо-актерской декламации – всегда по строгим линейкам непогрешимого декламаторского транспаранта, с наигранным пафосом, замираниями и частыми «световыми эффектами» давно уже, конечно, отжила свой век; отжила его честно, и – почтим ее вставанием.
Прямой противоположностью ей явилась «белая» читка Блока. Да, именно – «белая». По-особенному прекрасная, по-особенному завораживающая и только ему, исключительно ему одному присущая. Я никогда не слышал, чтобы покойный поэт утверждал эту манеру как принцип, как особую школу. Он произносил свои стихи так, как говорил и вообще в жизни: бесстрастно, медленно, – я бы сказал, не совсем свободно, роняя слова. Когда я слушал Блока, мне всегда казалось, что поэт просто раскрывает перед нами одну из прекрасных страниц своих, предоставляя слушателям уже самим – буде им угодно – творить здесь «декламацию». И вместе с этим каждое мало-мальски чуткое ухо не могло не чувствовать, что в этой как бы намеренной бесстрастности глуховатого голоса, не освещавшего и не оттенявшего ни одного слова, таяться тончайшие модуляции.
Но – читка Блока и могла быть, повторюсь, только у Блока. И была она частью одного прекрасного и органичного целого, которое составляло и наружность поэта, и самые стихи, и его незабываемый голос.
Читка же «под Блока» будет, конечно, явной нелепостью».
* * *
«Кто слышал Блока, тому нельзя слушать его стихи в другом чтении» (С.М. Городецкий).
Примечания
1
В книге сохранены оригинальная орфография и пунктуация. – Ред.
(обратно)2
В. Н. Княжнин (1883–1942) – поэт, критик, библиограф, автор одного из первых биографических очерков о Блоке «А. А. Блок» (П., 1922).
(обратно)3
По свидетельству М. А. Бекетовой отец А. А. в «Возмездии» несколько идеализирован. Относительно Достоевского известно только, что он встречался с А. Л. Блоком у О. Философовой и хотел изобразить его в романе.
(обратно)4
М. А. Бекетова – тетка Блока, сестра его матери.
(обратно)5
Г. П. Блок (1888–1962) – писатель, двоюродный брат А. А. Блока.
(обратно)6
А. И. Менделеева (1860–1942) – вторая жена Д. И. Менделеева, художница.
(обратно)7
Воспоминания об Александре Блоке. «Рижский Вестник» 1921, № 208. Вечерн. изд. Среда, 7 сент., стр. 1, столб. 1–2.
(обратно)8
Н. А. Павлович (1895–1980) – поэтесса, училась на Высших женских курсах в Москве, автор воспоминаний о Блоке.
(обратно)9
А. Я. Цинговатов – литературовед.
(обратно)10
С. М. Соловьев (1885–1941) – поэт-символист, племянник Вл. Соловьева, троюродный брат Блока.
(обратно)11
Ксения Михайловна Садовская – артистка.
(обратно)12
Бравич – сценический псевдоним драматического актера К. В. Барановича (1861–1912).
(обратно)13
М. А. Рыбникова (1885–1942) – педагог-филолог, труды по поэтике и стилистике. «А. Блок-Гамлет» – 1923 г.
(обратно)14
Пяст – литературный псевдоним В. А. Пестовского – поэта-символиста (1886–1940).
(обратно)15
А. В. Гиппиус – университетский товарищ А. Блока, юрист.
(обратно)16
Об инциденте, связанном с выступлением князя Вяземского в защиту студентов.
(обратно)17
Второй год А. Блок «сидел» не на 1-м, а на 2-м курсе.
(обратно)18
Воспоминание о виденных в Дубровской роще облаках, похожих на средневековый город.
(обратно)19
«И. А. Шляпкин умер в 1918 г. Будущий историк б. Имп. Спб. Университета так же, как историк русской литературы и русской общественности, внимательно остановится на этой своеобразной и сказочной фигуре. Сын крестьянина, до конца дней сидевший на своем «наделе» в Белоострове, среди изумительных книжных сокровищ, окруженный предметами искусства, редкостями и просто вещами, каждая из которых имела свою «историю», – Шляпкин пользовался неизменной симпатией молодежи, несмотря на свое «черносотенство», как многие называли его лукаво-загадочную анархо-монархическую идеологию».
А. Громов. В студенческие годы. Памяти А. Блока.
(обратно)20
А. М. Громов (1888–1937) – прозаик, журналист, художник-график. Расстрелян в 1937 г.
(обратно)21
В. В. Гольцев (1901–1955) – критик, работы о творчестве Блока.
(обратно)22
Брат Влад. Соловьева.
(обратно)23
Фамилия Андрея Белого.
(обратно)24
А. А. Измайлов [псевдоним – Смоленский] (1873–1921) – критик, поэт, прозаик.
(обратно)25
К. Чуковский не упомянул о тетке Блока, М. А. Бекетовой, всегда высоко ценившей творчество Блока.
(обратно)26
Г. И. Чулков (1879–1939) – поэт, писатель, мемуарист.
Н. Я. Абрамович (1881–1922) – критик, прозаки, поэт, публицист.
(обратно)27
А. С. Петровский – филолог, друг Белого.
(обратно)28
Произнося, наир., Дмитриевна как Деметровна и производя отчество Л. Д., так. обр. от Деметры, богини матери-земли.
(обратно)29
А. Унковская и Рачинский – близкие друзья Соловьевых; А. Г. Коваленская – родственница Бекетовых по матери, Л. Л. и С. Л. Кобылинские – ранние символисты; В. О. Ключевский – историк; С. Л. Трубецкой – философ.
(обратно)30
Псевдоним Поликсены Соловьевой, сестры Вл. Соловьева.
(обратно)31
С. А. Соколов – Сергей Кречетов – московский адвокат, поэт, владелец изд. «Гриф».
(обратно)32
Издатель «Мира искусства».
(обратно)33
«В 1903 году в Москве возникло к-во «Гриф», за это время успевшее выпустить три Альманаха и «Только любовь», «Литургия красоты» и «Горные вершины» К. Бальмонта, ряд произведений Оскара Уайльда, А. Белого, Блока, Ф. Сологуба, А. Миропольского, А. Курсинского, Л. Вилькиной-Минской.
…Заслуги «Скорпиона» для культурной читающей публики громадны. Это к-во перевело на русский язык безукоризненно и художественно многие произведения лучших писателей Запада. В переводах С. Полякова, К. Д. Бальмонта, М. Семенова, Е. Троповского, А. Курсинского русские узнали Ст. Пшибышевского, Эдгара По, Кнута Гамсуна, 3. Красинского и др. «Скорпион» привил публике любовь к изящной внешности изданий, к хорошей бумаге, красивым виньеткам, отсутствию опечаток. При «Скорпионе» уже третий год издается журнал «Весы», с этого года расширивший программу беллетристикой».
(Ник. Поярков. Поэты наших дней. М. 1907, стр. 116, 117).
(обратно)34
Η. П. Рябушинский – крупный меценат, издатель «Золотого Руна», выходившего с 1906 по 1909 год.
(обратно)35
Салон В. А. Морозовой объединял представителей л-ры и искусств разных направлений. Ср. Кара-Мурза «Московская m-me Жофрей» газ. «Понедельник Власти Народа» 1918 № 2.
(обратно)36
Ю. К. Балтрушайтис (1873–1944), переводчик и поэт, близкий символизму.
(обратно)37
Под этим псевдонимом выступало в начале века не менее трех авторов.
(обратно)38
А. Басаргин (Алексей Иванович Введенский) – журналист.
(обратно)39
Дневник 1891–1910. Μ., «М. и С. Сабашниковы», 1927, с. 134.
(обратно)40
Е. П. Иванов – друг Блока, член религиозно-философских собраний, впоследствии участник «Вольной философской ассоциации», детский писатель.
(обратно)41
Философы-идеалисты.
(обратно)42
А. С. Волжский – литературный критик.
(обратно)43
Э. Ф. Голлербах (1895–1942) – литературовед, искусствовед. Погиб в ленинградской блокаде.
(обратно)44
И. М. Машбиц-Веров – критик, литературовед («Наша газета» и др.), печатался с 1924 г.
(обратно)45
Е. В. Аничков (1866–1937) – литературовед, участник сред на «башне» Вяч. Иванова. После Октябрьской революции эмигрировал.
(обратно)46
М. И. Ростовцев – историк-эллинист.
(обратно)47
Б. Г. Столпнер – философ-марксист.
(обратно)48
Впоследствии известный пушкинист.
(обратно)49
С. М. Маковский – поэт и теоретик искусства, редактор журнала «Аполлон».
(обратно)50
В. А. Чудовский – теоретик стиха, сотрудник «Аполлона».
(обратно)51
В. Г. Каратыгин – композитор и музыковед.
(обратно)52
Кузьмин-Караваев – профессор уголовного права.
(обратно)53
Сюннерберг – Константин Эрберг, друг Блока, философ и поэт.
(обратно)54
Η. Ф. Монахов (1875–1936) – актер Большого драматического театра в Петербурге.
(обратно)55
А. Кугель – известный в то время фельетонист.
(обратно)56
Сб. памяти Комиссаржевской. Пб. «Алконост». Изд. Передвижн. театра.
(обратно)57
Артистка театра В. Ф. Комиссаржевской.
(обратно)58
Песню Судьбы».
(обратно)59
Е. Иванов.
(обратно)60
О Баронове см. в статье А. Блока «Народ и интеллигенция».
(обратно)61
П. Карпов (1887–1963) – поэт-крестянин, самоучка, автор автобиографических повестей «Верхом на солнце» (1933) и «Из глубины» (1956).
(обратно)62
А. Скалдин (1885–1943). Выступал со стихами в журналах «Аполлон» и «Сатирикон».
(обратно)63
С. В. Штейн – поэт и переводчик.
(обратно)64
Η. Е. Поярков – поэт, прозаик, критик.
(обратно)65
Л. Е. Галич – сотрудник «Речи», философ, поэт и публицист.
(обратно)66
Μ. Ф. Ликиардопуло – переводчик Уайльда и ряда английских авторов.
(обратно)67
Е. Семенов в статье «Мистический анархизм» в «Русских письмах» (Mercure de France 1907, № 242, стр. 361) делит новую русскую поэзию на три группы: 1) декадентов (парнасцев – В. Брюсов, С. Соловьев, М. Волошин и др.) и чистых декадентов (Бальмонт, Сологуб, Кузьмин); 2) неохристианских романтиков – собственно символистов – (Мережковский, Гиппиус, Белый) и 3) мистических анархистов: Вяч. Иванов, Чулков, Городецкий и Блок.
(обратно)68
М. И. Пантюхов (1880–1910) – писатель, обративший на себя внимание повестью «Тишина и старик». Скончался в психиатрической больнице от острого душевного расстройства.
(обратно)69
Сестра 3. Н. Гиппиус.
(обратно)70
Изд. «Посев», 1909.
(обратно)71
Персонаж «Яри» С. Городецкого.
(обратно)72
Л. Герасимов – псевдоним Филиппа Герасимовича Сиротского (1883–1913), публициста.
(обратно)73
Франц Феликсович – отчим Блока.
(обратно)74
А. А. Кондратьев – поэт, дилетант-эллинист.
(обратно)75
В. А. Зоргенфрей (1882–1938) – поэт, оставил воспоминания о Блоке, погиб во время сталинских репрессий.
(обратно)76
Справедливость приведенного рассказа 3. Н. Гиппиус сомнительна, т. к. ребенок Блока был рожден больным, и его недолговечность была предопределена с самого начала. Кроме того, Люб. Дм. после родов была настолько тяжело больна, что вряд ли Ал. Ал. мог ездить каждый вечер к Мережковским.
(обратно)77
Красная нива», 1924, № 32.
(обратно)78
А. А. Тургенева, жена Андрея Белого.
(обратно)79
Йоханнес Фердинанд фон Гюнтер (1886–1973) – немецкий писатель. В 1908–1914 жил в Петербурге. Переводил русских символистов и акмеистов на немецкий язык.
(обратно)80
А. М. Добролюбов (1876–1945) – поэт. Начав с крайнего декадентства, он в 90-х годах впадает в такой же крайний религиозный аскетизм, а затем принимает монашество. Впоследствии создал особую секту «добролюбовцев»
(обратно)81
Секта духовных христиан, возникла в России в конце XVII – начале XVIII вв.
(обратно)82
Е. Ф. Книпович – литературовед, критик.
(обратно)83
И. П. – редактор журнала «Новое Вино»
(обратно)84
В. П. Буренин (1841–1926) – фельетонист, критик и публицист «Нового Времени». Отличался нестерпимым злоязычием.
(обратно)85
А. В. Тыркова – писательница и журналистка (иногда писала под псевдонимами Вортежская и Борман). Воспоминания о Блоке («Беглые встречи») поместила в газете «Руль» в 1921 г. (№ 256).
(обратно)86
Вильямс – журналист.
(обратно)87
Б. А. Садовской (1881–1952) – писатель, критик.
(обратно)88
Большевистская газета.
(обратно)89
Первая редакция письма, забракованная Блоком, в письме к Щеголеву:
19. XII.1913.
Самыми важными литературными явлениями этого года я считаю: роман Андрея Белого «Петербург» и роман Бернгарда Келлермана «Туннель». Первое из этих произведений говорит о судьбах России, исходя из ее ближайшего прошлого, второе – о судьбах Европы и Америки, исходя из их ближайшего будущего. Оба произведения как бы взаимно враждебны: у авторов, принадлежащих к разным расам, нет одного общего приема, ни одной общей точки зрения; и, однако, оба произведения не лишены крупных недостатков (особенно – первое), связаны друг с другом присутствием в обоих некоторого научного элемента, а главное, тем, что отмечены печатью исключительной значительности и рисуют нам величие нашего времени.
(обратно)90
Жена А. М. Ремизова.
(обратно)91
А. Н. Чеботаревская – известная переводчица.
(обратно)92
Ю. В. Соболев – театральный критик.
(обратно)93
Η. Е. Эфрос (1867–1923) – театральный критик и театровед.
(обратно)94
П. С. Коган (1872–1932) – историк литературы.
(обратно)95
Н. С. Ашукин – поэт, литературовед. Составил синхронистические таблицы жизни и творчества А. Блока.
(обратно)96
А. И. Тиняков – поэт-циник:
Пышны юбки, алы губки, Тихо тренькает рояль… Проституточки-голубки, Ничего для вас не жаль… (обратно)97
Выдумка А. Ремизова, который всех своих друзей сделал кавалерами «обезьяньей великой и вольной палаты» и распределил между ними ордена 1-й и 2-й степени.
(обратно)98
Н. И. Идельсон – зав. рабочей партией инж. – строительной дружины, где служил Блок.
(обратно)99
Н. К. Муравьев – председатель Чрезвычайной следств. комиссии.
(обратно)100
В. Н. Воейков – дворцовый комендант.
(обратно)101
Кн. Μ. М. Андронников (1875–1919) – был близок к дворцовым кругам, известен своими мелкими дворцовыми интригами.
(обратно)102
Между прочим, большую Библию на столе я заметил только у Андронникова. – Прим. Блока.
(обратно)103
В. Б. Фредерикс (1838–1927) – генерал от кавалерии, министр имп. двора, после 1917 г. в эмиграции.
(обратно)104
Стихотворение «Женщина, безумная гордячка!» 1–6 июня 1918 г.:
…Вам – зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал. Высоко – над нами – над волнами, — Как скала над черными скалами — Веет знамя – Интернацьонал! (обратно)105
А. И. Шингарев – земский деятель, один из лидеров кадетов; Ф.Ф. Кокошкин – публицист, лидер партии кадетов, гос. контролер Временного правительства.
(обратно)106
Ю. И. Айхенвальд (1872–1928, Берлин) – лит. критик. Октябрьскую революцию не принял. См. его книгу «Наша революция» (М., 1918).
(обратно)107
Антон Крайний (А. Крайний) – псевдоним 3. Н. Гиппиус.
(обратно)108
С. В. Потресов (А. А. Яблоновский) – фельетонист.
(обратно)109
Π. М. Пильский (1879–1941, Рига), в 1918 г. основал в Петербурге «Первую Всероссийскую школу журнализма». Написал воспоминания «Александр Блок» – «Сегодня» (Рига) № от 7 августа 1922 года.
(обратно)110
По словам Влад. Б. Шкловского (который тоже был в то время лектором в «школе журнализма» П. Пильского), Блок читал там лекции по истории римского журнализма. Блок, по его свидетельству, в те дни имел вид озлобленный, неврастенический и худой. Текст лекции его, примерно, был таков: «Цицерон, окруженный аристократической сволочью»… etc. Светские и буржуазные дамы специально ходили слушать «предавшегося большевикам» большого поэта.
Из этих занятий римским журнализмом, надо полагать, вырос его «Катилина».
(обратно)111
П. О. Морозов – историк литературы и театра.
(обратно)112
Валериан Полянский (П. И. Лебедев-Полянский) (1881–1948) – критик, литературовед, в 1917—19 гг. был правительственным комиссаром Наркомпроса.
(обратно)113
Е. П. Султанова-Леткова – писательница-общественница.
(обратно)114
Сестра Л. Д. Троцкого и жена Л. Б. Каменева.
(обратно)115
Артистка, жена М. Горького.
(обратно)116
Имеется в виду популярная книга Масперо «Египет».
(обратно)117
Ник. Степ. Гумилев, Федор Дм. Батюшков, Алексей Макс. Пешков (М. Горький).
(обратно)118
Новая Русская Книга», 1923, № 5–6. Берлин.
(обратно)119
А. А. Мейер – философ-мистик, принимавший участие в «Факелах».
(обратно)120
М. Л. Лозинский – поэт и переводчик.
(обратно)121
Бывшая Офицерская ул., д. 57, кв. 21.
(обратно)122
В рукописи это слово заключено в круг.
(обратно)123
Ф. Д. Батюшков (1857–1920) – историк литературы и критик.
(обратно)124
С. М. Алянский – друг Блока, стоявший во главе из-ва «Алконост».
(обратно)125
Разумник Васильевич Иванов (Иванов-Разумник).
(обратно)126
Е. Я. Билицкий служил тогда в отделе управления Петросовета. См. Дневник А. Блока.
(обратно)127
С. П. Бобров – писатель, переводчик, автор статей по стиховедению.
(обратно)


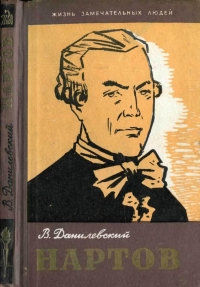

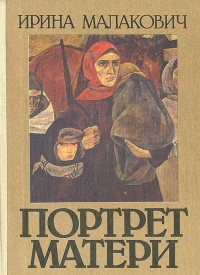
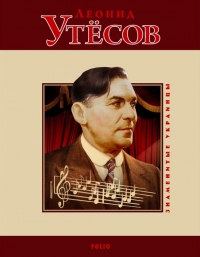
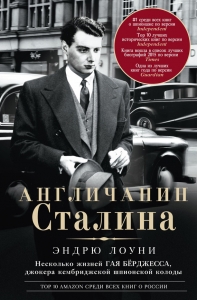



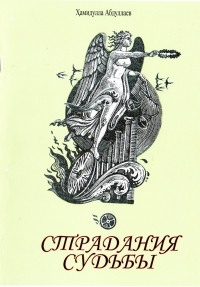
Комментарии к книге «Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам», Цезарь Самойлович Вольпе
Всего 0 комментариев