Барон фон Хармель В Москве у Харитонья
Моей маме посвящается
История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно… когда она написана без тщеславного желания возбудить участие или удивление.
М. Ю. ЛермонтовЖенская логика
История эта случилась несколько лет назад, и в известном смысле она характерна и показательна. Я только-только вышел из жгучего страстного романа, который мог бы закончиться женитьбой, если бы не одиннадцатилетняя дочь моей подруги. Девочка ну никак не желала, чтобы мама выходила замуж, и ей хватило воли и хитрости маму из отношений со мной вывести. Как обычно это случается с одинокими мужчинами, я решил найти себе женщину и прибегнул к услугам Интернет-сайта знакомств. Будучи по классификации академика Ландау типичным фигуристом, в анкете я смотрел не на фото, а на соотношение роста и веса. Как только соотношение параметров казалось мне подходящим, я отправлял сообщение. Через несколько дней начались встречи. Одна из них, с неким существом по имени Надя, оказалась вполне продуктивной.
Девушке было двадцать восемь лет, была она из одной из братских республик, которая стала независимой страной. По-русски говорила без акцента и вела себя вполне пристойно, а именно: в основном помалкивала и говорила «спасибо». К достоинствам её надо отнести, что никакими глупостями вроде трамвая, который она ждёт, Надя не занималась. В первый же вечер после ужина отправилась пить ликёр ко мне домой. Единственное, на чём она стояла твёрдо, это на том, что при несовместной жизни секс должен быть в скафандре. На моё заявление, что я это дело не очень люблю, Надя улыбнулась и заявила, что всё будет хорошо. И было, и столько раз, сколько встречались – не прибегая ни к каким особым ухищрениям и не выдумывая никаких немыслимых поз и прочего в таком духе, Надя прекрасно справлялась со своими обязанностями. И вела она себя очень хорошо, не мешала мне заниматься своим делом и всегда находила себе занятие и место в огромной квартире в центре Москвы, где я проживал тогда с племянником.
Шло время. Мы с племянником настолько привыкли к Наде, что перестали её замечать. Она готовила нам вкусные ужины, ходила в магазин, убирала квартиру. Главным её достоинством было то, что она всегда пребывала в хорошем настроении и всегда была готова заниматься сексом. Нет, она не жила у нас постоянно, но когда хотела, оставалась ночевать. Разумеется, я делал ей подарки. Часто она сама говорила, что она хочет, и ей немедленно это покупалось. Её потребности и интересы никогда не выходили за пределы моих возможностей. Будучи профессиональным бухгалтером, она имела какое-то утробное чувство денег и их применения.
В один прекрасный вечер, дело было теплой осенью, Надя как обычно позвонила сказать, что она выезжает с работы, и я пошёл её встречать к метро. Она вышла какая-то не такая, сама не своя. Глаза горели, обычно аккуратно причесанная, она была взъерошена, неопрятна, в помятой кофте, и мне показалось, что от неё пахнет алкоголем. Мои попытки разобраться, в чем дело, к успеху не привели. Шла она быстро и молча. Дома по своему обыкновению махнула ноги в тапки и отбыла в душ. Через пятнадцать минут явилась на кухню, села в кресло-качалку и закурила. Попросила налить ей виски безо льда и начала говорить. Говорила очень быстро и связно, что привело нас с племянником в состояние грогги. Мы считали ее слегка пришибленной и в речевом отношении довольно убогой. Но что она говорила! Мы жалели, что не включили магнитофон и не записали эту тираду. Смысл сводился к тому, что она всю себя отдала нам, дому и заботе о нас, сирых и убогих, а мы такие-сякие, водим баб, когда её нет дома. Смотрела она в основном на племянника и говорила всё это ему. Бедный Фил въехал с ногами и руками всем своим утлым телом в стул. И периодически прерывал её словами: «А чего ты мне-то говоришь? А что я-то?» Потом поворачивался ко мне и стрелял в меня фразой: «Я с ней не спал, я её не трогал, ни разу», – потом опять ей: «А чего ты мне-то, а я-то что?»
Надя закончила, встала во весь рост, халат распахнулся и съехал с её очень красивого, стройного тела. Бедный Фил совсем ушёл в стул, а Надя, не запахивая халата и продемонстрировав нам багровую томность своих сосков и узкую полоску неба между ног, продефилировала в спальню и закрыла за собой дверь. Мы оба решили, что она навеселе, утром протрезвеет и всё пойдёт своим чередом. Сели за свои лап-топы и продолжили ковыряться в Интернете. Вдруг дверь из спальни распахнулась, оттуда вышла одетая и причесанная Надя и со словами: «Я НЕ ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ВРАТЬ», вышла из квартиры, громко хлопнув дверью. Стоит ли говорить, что её больше никто никогда не видел и не слышал. Свою сим-карту она закрыла, а где она работает, я не знал. Ехать к ней домой и дожидаться, когда она выйдет утром на работу или придёт с неё вечером, охоты не было, мне показалось это унизительным.
Прошло время. Я ужинал с друзьями в «Гудмане» на Тверской. Как всегда было вкусно и уютно. Звонок на мобильный. «Привет, это я, Надя. Выйди из ресторана, я стою у входа». Я вышел. Она очень хорошо выглядела. Немного поправилась, но ей это даже шло. Округлились грудь и бедра. Она улыбалась. «У меня всё хорошо, я замужем, родила дочку Дашеньку. Если хочешь, можем продолжать». «В скафандре? – спросил я. «Разумеется!» – ответила Надя. «Большое спасибо» – сказал я и вернулся в ресторан.
Вот такая вот женская логика. Хочу заметить, что я не ангел и не святой, но в период отношений с Надей других женщин у меня не было. Она была прекрасной любовницей. Ласковой и горячей одновременно, она умела получать наслаждение и давать его партнеру.
Обед у народного артиста
Вспоминается случай из зрелой переделкинской юности. Обед у известного советского артиста, Народного артиста СССР с очень нерусскими фамилией, именем и отчеством. Глава семейства на очередных гастролях за границей. Вот-вот должен вернуться, и в благородном семействе беспокойство: на все подарки денег явно у папы будет недостаточно. За столом несколько нервно. Присутствуют: жена Народного артиста, настоящая русская красавица, к тому же певица, слегка располнела, но по-прежнему хороша собой, улыбчива и всегда очень приветлива, особенно за воротами переделкинской дачи. Она дружит с Элиной Быстрицкой (Анисья из «Тихого Дона» и Лушка Нагульнова из «Поднятой целины») и с Ириной Скобцевой (Элен Безухова в «Войне и мире», и она же жена Сергея Фёдоровича Бондарчука), которые частенько наезжают к Народному артисту на дачу пообщаться с его женой и выпить по маленькой французского зелёного ликера «Шартрез». Кроме жены Народного артиста за столом её матушка, в прошлом малоизвестная провинциальная драматическая актриса, которая в кино не снималась, и два сына Народного артиста, из которых старший, бодро пойдя по стопам отца, еще раз подтвердил мысль о том, что во втором поколении талант отдыхает, а младший – очень худой и очень-очень некрасивый, но веселый и остроумный парень лет пятнадцати. В этой кампании пребывает и ваш покорный слуга. Причина тому, разумеется, не в моей дружбе с сыновьями Народного артиста, а в положении, которое занимал мой отец.
Скучное однообразие обеда нарушает возглас младшего сына Народного артиста, обращенный к бабушке: «Бабушка, бабушка, а ты, правда, в молодости в театре шлюху играла? Правда?» За столом возникает известное напряжение, потому что в доме усилиями жены Народного артиста наводится бомонд, и Букингемский дворец с богемским хрусталем и прочими антиквариатами, картинами, столиками и «фабержами». И вдруг такие слова. Бабку прорывает фальцетом, и с жутким визгом она кричит на внука: «Как ты смеешь, как можно! Сколько раз я тебе говорила, не проститутку, а девушку лёгкого поведения. Нахал малолетний!» Тут младший сын Народного артиста, видя, как мы со старшим давимся от смеха, почти падая под стол, добавляет: «Бабушка, ну что ты сердишься, какая разница, каким словом назвать, если папа, поскорее бы он приехал, мои джинсы уже по всем швам разъезжаются, папа не раз и не два нам с братом говорил, что ВСЭ БАБИ БЛАДЫ и НЫКОМУ ВЭРЫТ НЭЛЗА», – произносит младший сын Народного артиста, вполне натурально изображая ужасающий акцент, который Народному артисту не удавалось скрыть даже во время публичных выступлений на сцене.
Понятно, что за столом начинается грандиозный скандал с киданием на пол тарелок и угрозами. Бабка, вспомнив революционное прошлое репрессированного мужа, комдива О…ва, орёт: «Вот, я догадывалась, откуда всё это идёт. Какое воспитание получают дети, что им внушают? А эти бесконечные джинсы, пояса с железками, майки с надписями! В мое время мы зачитывались «Капиталом» Маркса, а что читает нынешняя молодёжь? Булгакова, Солженицына и Пастернака – это же сплошная антисоветчина. Клевета на нашу Родину и наш строй. А эти журналы с обнаженными гениталиями! Нет, так жить нельзя, я завтра же уеду к своей сестре в Куйбышев. Если бы Виктор знал, что с этим со всем будет (руки театральным жестом вздымаются вверх)». «То, возможно, наш дед выступил бы за белых и мы бы жили сейчас в Париже или Сан-Франциско и не ждали бы, пока отец привезет джинсы оттуда», – вставил младший сын Народного артиста пару слов в бабкину революционную тираду «Твои джинсы, дорогой мой, а также пояс и всё, что привезёт отец, я отправлю твоим друзьям», – заявляет мать, ласково глядя в мою сторону.
Обед закончен, мы выходим на крыльцо, и я угощаю всех хорошими гаванскими сигарами. «Не дрейфь, Арчи, – говорю я. – «Отдам я тебе все шмотки, если они попадут ко мне, и, уверен, так поступят все ребята, а в театральный надо идти тебе а не А…ку, талант-то, похоже, у тебя». «Нет, моего таланта мало. Посмотри на мою внешность, на моё лицо. Кого я буду играть – Квазимодо?» – отвечает Арчи, и мы вкусно тянем гаванские сигары. Что правда, то правда, пластическая хирургия тогда еще не была так развита как сейчас, а Народный артист называл своего младшего сына с оттенком отцовской теплоты и ласки не иначе как «ТИ МЁЙ АБЭЗЪЯНЫН ДЁРЁГЁЙ».
День Победы
С праздником Вас, уважаемые! С настоящим праздником, С ДНЁМ ПОБЕДЫ, с 9-м МАЯ. Хочу рассказать тем, кто читает меня, такую историю.
Сопливое и благополучное детство моё и юность помнят время, когда 9-е Мая было рабочим днём. Нет, это, конечно, не мешало несчастному нашему, битому-перебитому и чужими, и своими народу выпить от всей души, от всего сердца за Победу. В ту пору ветераны еще были живы вовсю, отец мой еще служил в армии и был полковником бронетанковых войск и командиром отдельной механизированной бригады под Москвой. Но на праздники мы всегда приезжали в Москву к бабушке с дедушкой, и отец ходил со мной гулять на улицу, на Чистые пруды.
Это был особенный день, когда отца вдруг останавливали на бульваре чужие люди, а в этот день все были на ты, и говорили: «Полковник, ты войну прошёл, значит давай с нами фронтовые сто грамм». И отец мой, который пить не умел и не любил, эти фронтовые граммы из граненого чужого стакана безропотно глотал. Военные в этот день друг другу честь не отдавали. Много было отставников, форма у них была не по размеру и не по уставу. В общем, отдыхал город. Гармошки, фронтовые песни, люди плясали. Милиция никого не трогала. И вдруг – умирать буду эпизод этот не забуду – мой прихрамывавший отец (военная травма, бронетранспортер задел ему бедро, и плохо залечили) и не только он, весь бульвар встал во фрунт. Какой-то маленький невзрачный человечек, в поношенном костюме, не очень опрятный и очень пьяненький, подошел ко мне, взял меня на руки и громко крикнул на весь бульвар: «Вольно, товарищи командиры и бойцы!» «Спасибо тебе, солдат, за всё спасибо!» – сказал отец, забирая меня у маленького, пьяненького человечка. «Всё путём, полковник, всё нормально. Ты смотри там, служи хорошо, чтобы вражьи американы на нашу Родину не напали, мать их».
Когда я очутился рукой в руке отца, мне было сказано: «Сынок, ты побывал на руках у полного кавалера всех солдатских орденов Славы. Постарайся не забыть это». Я не забыл. Я пытаюсь объяснить своему сыну, который живет в Торонто, что войну выиграли не англичане с американцами и не товарищ Сталин и маршалы Советского Союза, а вот этот русский солдат, который держал меня на руках.
Крюк дяди Вани Пушкова
Синий лед… В жарких схватках раскаленный лед… Парни в шлемах, словно пять ракет Летят вперед, чтоб у чужих ворот Зажечь победы свет! Вьется над нами Ветер как флаг, ветер как флаг! Мы пишем коньками Песни атак! С. Гребенников, Н. Добронравов Как это было! Как совпало — Война, беда, мечта и юность! И это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось!.. Давид Самойлов60-е годы XX века. В памяти старшего поколения немедленно всплывает Политехнический музей, совсем молодые Евтушенко и Вознесенский. Окуджава с гитарой и протяжным голосом. А для нас, мальчишек тех лет, 60-е – это хоккей. Ещё не приехали к нам канадцы и наша сборная не побывала там. Ещё нет Харламова, Петрова и Михайлова, Александра Якушева, Шадрина и Мальцева. Это время Тарасова, Чернышева и Боброва. Локтев, Альметов, Александров, Старшинов, братья Майровы, Коноваленко, Зингер, Виктор Блинов, Виктор Якушев. Это время, когда хоккей наш вставал на ноги, когда формировалась наша хоккейная школа, наша манера игры. Это было время, когда живя в центре Москвы, будучи мальчишкой из московского двора, нельзя было не уметь кататься на коньках и играть в хоккей. Наверное, так же, как до войны нельзя было не уметь играть в футбол. В футбол мы тоже играли, но игрой № 1 тогда в Москве несомненно был хоккей с шайбой. Даже детские дворовые чемпионаты начали разыгрывать, и назывались они «Золотой шайбой».
Это было время открытых катков, дворовых хоккейных коробочек и дворового снаряжения, потому что в магазинах «Спорт» нельзя было купить ничего. Шаром покати. А тренеры не брали в секции нулевых. Они ходили по дворам и брали мальчишек, которые уже неплохо стояли на коньках, умели бросать шайбу, держать зону. И было, поверьте мне, было из кого выбрать. В каждом дворе, в каждой школе, в каждом классе были свои звёзды, свои будущие Мальцевы, Якушевы и Харламовы. У нас во дворе был Володька Хряпов по кличке Хряп, который играл так, что, думаю, и Тарасов и Скотти Боуман, увидев такого мальчика на льду, очень бы посоветовали детскому тренеру взять его в клуб и хорошо кормить и оберегать, потому что из таких вот дворовых мальчиков потом и вырастают Грецки, Лемье, Фёдоровы и Третьяки.
Ну что говорить, конечно, хоккей начинается и заканчивается коньками. Боже праведный, хоккейные коньки, да чтобы ботинок был высоким, как зимние ботинки – мы называли их «сапогами». Однажды на Сретенке, в магазине «Спорт» – а каждый день после школы я делал обход – Сретенка, Кировская («Динамо»), Покровка – о великое счастье, венгерские хоккейные ботинки, черные, с красной каймой, плотный задник щитков, мощный, жесткий нос! Нет, это, конечно, не Канада, не Швеция и не Финляндия и даже не чешский «Ботес», но всё равно это большое счастье, это значит начало положено. Сегодня я приду на дворовую коробочку как человек, а не в своём убогом старье.
Бегу в мастерскую «Металлоремонт». Дядя Артур без проблем подбирает мне лезвия, отечественные, но очень хорошие. Точит их под желобок, как положено у хоккеистов и фигуристов, и я, полный гордости и счастья, вхожу в квартиру на Чистых прудах. Взлетаю, как метеор, на наш высокий первый этаж, а живём мы как Хлестаков («Ах я и забыл, я же в бельэтаже живу»), и вдруг слышу характерный цок протеза и окрик: «Дверь не захлопни!» – сосед, дядя Ваня Пушков – идёт с работы. И тут в голову мне приходит отчаянная мысль: «А крюку– то на клюшке жить осталось на одну игру, а то и на половинку». И я встречаю дядю Ваню, стоя в коридоре на коленях. «Дядь Вань, дядь Вань, а я себе наконец коньки купил». «Сколько отдал?» – строго спрашивает дядя Ваня. «Тридцатку с лезвиями», – выпаливаю я. «Понятное дело, – говорит дядя Ваня, – опять, наверное, Фаина Львовна деньги тебе сняла с книжки покойного Якова Александровича. А если ей не дадут пенсию как иждивенке мужа, что она кушать будет, может, ты её накормишь?» – Лицо дяди Вани сделалось суровым и строгим, но глаз светился охальным блеском. «Дядь Вань, мне бабушка только десятку дала, а остальное я марками выменял и на завтраках сэкономил», – выпалил я в отчаянии. – А ты почини мне крюк, пожалуйста. Он у меня почти совсем отвалился. Отец сказал, только ты можешь сделать, у тебя руки золотые».
В этот момент из квартиры Кузиных выпорхнула Вера Дмитриевна и, проносясь мимо, успела ввернуть: «Ты что, паразит, ребенка травишь, тебе какое дело, откуда у него деньги на коньки!» На что Ваня запустил ей вслед: «У меня к тебе, Вера Дмитриевна, тоже вопрос имеется. Ты, сучка белогвардейская, скажи мне, куда делся во время войны сын твой старший, Зайцев Дмитрий Ляксеич, сын белогвардейского офицера? И вот с мужа твоего, Андрияна Тимофееча, мать его растак, мы строго спросим, по-партейному, как это он, гад ползучий, вагонами добра привёз из Польши, пока люди ноги на войне оставляли, как я, к примеру». Вихрем раздалось из длинного коридора, ведущего на кухню, со слезой и стоном в голосе: «Ты же знаешь, что Димочку еще до школы усыновил Андриан Тимофеевич и был он не Зайцев, а Кузин Дмитрий Андрианович, а не Алексеевич, что никуда Димочка во время войны не делся, а пал смертью храбрых в боях под Сталинградом». Тут дядя Ваня стал без водки красный как помидор и заорал на всю квартиру благим матом и не без мата: «Врешь, паскуда, мне особисты смершевцы, когда допрос учиняли в сорок шестом годе, бумажку в нос совали, что сын твой без вести пропал под Сталинградом, а не пал смертью храбрых. Ух они меня чистили на допросе, а уверен ли я, что Дмитрий Кузин, урожденный Зайцев не предал Родину и товарища Сталина и не переметнулся к врагу Грозилися, если узнають чево, если я не полную правду сказал, то и второй ноги меня лишат за укрывательство врагов народа и предателей дела партии и товарища Сталина». Ну всё, пронеслось в моей голове, сейчас скандал будет на всю квартиру, а мне клюшку починить надо и кроме Вани это сделать некому.
Не успел я зайти к нам в комнату и раздеться, как влетела тетя Шура со сковородкой и закричала что есть мочи: «Фанни Львовна, из дома ни ногой и мальчишку не пускайте. Сейчас Ваня пойдёт Кузиных убивать. Он уже стакан принял, протез снял и двустволку зарядил охотничью. Рыжка милицию вызвала, а участковый сказал, что у них и так дел полно, окромя как чтобы пьяных ветеранов по квартирам разнимать».
Бабушка моя, при всей своей ненависти к Кузиным в целом и к Рыжке, в частности, выяснив у меня, что косвенной причиной скандала явились мои коньки, немедленно отбыла к Пушковым, и через пять минут у нас за столом сидел освежённый водкой Ваня без ноги, дядя Жорж (Георгий Абрамович Липскеров – о нём разговор отдельно) и моя бабуля. При этом обсуждался не скандал с Кузиными, а моё хоккейное будущее. Все трое были настроены крайне серьёзно. На столе немедленно появилась принесенная Жоржем четвертинка водки, которая была разлита по рюмкам, а Шура накрыла закуску.
Бабушка моя и в распитии, и в разговоре принимала деятельное участие. Начал Жорж, как самый большой в квартире спортсмен. А в зачете у Жоржа был первый лыжный переход Москва – Петербург еще до революции, когда он был слушателем Пажеского корпуса Его Императорского Величества. Был он также чемпионом СССР на байдарке-восьмерке и, как я понимаю теперь, для лет своих великолепно выглядел и был в отличной форме. «Фанни Львовна, – начал Жорж. – Фанечка, мы все знаем, мальчик на музыку ходить не хочет. Ни фортепьяно, ни скрипка, ни виолончель, ничего его не интересует». «Не хочет, не хочет, – заорал я что есть мочи. – И не буду ходить!». – «К сожалению, не хочет, – заявил спокойно расстроенным голосом Ваня, – А слух-то есть, мне Ефим Зиновьевич сказал».
Все повернулись в сторону Вани, потому что никто из присутствующих не мог даже и предположить такой его осведомленности в вопросах детского музыкального образования и существования живого контакта между слесарем Ваней и пианистом Ефимом Зиновьевичем. «Не буду! – повторил я в отчаянии, оглядывая всю честную компанию. – Не заставите!» – в голосе моём появилась стальная твердость, которая никому ничего хорошего не предвещала. Ваня своим сыновьям в такой ситуации немедленно снимал штаны и со мной проделал бы то же, но бабушка не позволила бы меня и пальцем тронуть, а авторитет ее был в квартире на высочайшем уровне.
Жорж продолжил: «Мальчик очень хорошо и с огромным увлечением играет в хоккей. Я показывал его Аркадию Ивановичу из окна своей квартиры, и Чернышев сказал, что может быть толк». Тут я почувствовал, что завтра будет в школе, когда я передам ребятам слова великого Чернышева о моей персоне. Дальнейшее я слушал без особого внимания, но смысл сводился к тому, что меня отдадут в «Динамо», в детскую спортивную школу, разумеется, в том случае, если меня туда возьмут. Но так как отбор и приём происходят в конце лета, то сейчас я буду играть во дворе и на Чистаках. Жорж будет брать меня на стадион, когда он сам ходит на хоккей, а Ване поручается шефство над моей формой, потому что никаких связей Жоржа не хватит, чтобы мне достать настоящую амуницию. О, нищее моё хоккейное детство, юность и молодость! Ничего не было, ни щитков, ни краг, ни коньков, ни клюшек. В ассортименте по всей стране были только шайбы и подарочные клюшки с подписями хоккеистов сборной СССР размером с авторучку или карандаш.
Допив свою рюмку, Ваня встал на одну ногу и, воззрившись на Жоржа, заявил: «Ты давай, фотокор (Жорж был профессиональным фотокорреспондентом в газете «Советский спорт»), мне на один вечер принеси по одному всё, чего надо. Я так исполню, что у пацана за деньги будут торговать инвентарь. А ты, Фаина Львовна, не боись, по полной программе укомплектуемся, в сборной такого инвентаря нету, как мы на Михельсоне с работягами учиним».
До Отечественной войны был наш Ваня на заводе Михельсона слесарем самого высокого разряда, и хоть и сделал он себе специальный стул, чтобы работать, но не вышло из этого ничего. Не мог калека без ноги день за днём отстаивать смену слесаря. И стал наш Ваня учётчиком, и всё равно завод любил его, и на руках носили и работяги, и мастера, и инженеры, и начальство, потому что, когда надо было сделать что-то уникальное, вставал наш Ваня к станку и исполнял такую работу, что ни один с двумя ногами такого сделать не мог. Был наш дядя Ваня Пушков мастером Левшой. Что и говорить, когда я уже занимался в хоккейной школе и мог себе выбирать инвентарь на складе, я продолжал носить форму сделанную, дядей Ваней Пушковым вручную, потому что всё моё было удобнее, прочнее и, главное, легче не то что отечественного, а даже шведского или финского инвентаря. Скажу больше, когда сейчас в Торонто я захожу в специальные магазины или рассматриваю с интересом инвентарь и амуницию знаменитостей и звёзд в музее хоккейной славы «Торонто Мейпл Лифе», я понимаю, что сделанное в 60-е годы нашим русским мастером Левшой, нашим Пушковым Иваном Захаровичем, одноногим солдатом Отечественной войны, недоступно никаким фирмам, выпускающим хоккейную амуницию. И загнутый кривой хоккейный крюк на клюшку первым предложил никакой не Бобби Халл, а наш дядя Ваня Пушков, который отдал задачу на расчёт, как он это называл, математику Исааку Айзиковичу, моему родному дяде, младшему брату отца, и получил в ответ гнутый крюк в виде эпюры, который и изготовил. Только мне не дали играть такой клюшкой. Тренер взял её в руки, покрутил, пару раз бросил ей по воротам и заявил: «С такой клюшкой тебя ни один судья к игре не допустит, она не по правилам, крюк-то кривой».
Прошло время. Шёл 70-й год, год нашего переезда с Чистых прудов в Измайлово. Вся квартира уже была с ордерами в карманах, все разъезжались. Старшие Кузины, Андриан Тимофеевич и Вера Дмитриевна, получили квартиру и съехали. В квартире доживали до отъезда их сын Вовка Кузин с женой и сыновьями, старший из которых – мой друг детства Димка, Пушковы с младшим сыном Вовкой, старший давно женился и ушёл жить к жене, а также Жорж, но уже без Кати, которая к тому времени скончалась, а он еще не женился второй раз, мы и тётя Шура. Приближалось 9-е Мая, День Победы, и бабушка моя попросила маму собрать у нас весь мамин класс, который выпустился перед самой войной. Всех, кто остался жив, а они встречались каждый год на 9-е мая, пока их ноги носили. И они все пришли: и Бамик Фрумкин, профессор экономики, Юра Павлов, ракетчик, членкорр, директор института в системе Королева, дядя Лёня Котик, полковник, доктор технических наук, Лёва Жиц, военный прокурор, Нина Варакина, жена Юры Павлова, Юра Нагибин, к тому времени уже знаменитый на всю страну советский писатель, в школе он был Юрка Лилиенталь, и многие другие, имена которых стерлись в моей памяти. Все они сели за стол, и вдруг бабушка говорит маме: «Ирочка, надо позвать соседей, это же последний раз День Победы здесь, в этой квартире, вместе со всеми».
Загалдел весь мамин класс, все же всех знали, и Бамик Фрумкин с Юрой Нагибиным пошли звать Жоржа, Пушковых и Кузиных. Только Шура за стол как обычно не села, а встала у притолоки, держа в руках платок, и периодически подносила его к глазам и подплакивала, причитая: «Юра, Юра Нагибин, какой стал толстый, а был совсем сморчок, плевком перешибёшь, а Юра Павлов облысел совсем, а был блондин кучерявый, облучился, наверно, а Нина-то Варакина, откуда чего взялось, была-το ни сиськи, ни письки и жопа с кулачок».
Дверь в комнату открыта, и вдруг звонок. Шура бежит открывать. Через минуту возвращается и говорит маме: «Ира, там Мила пришла Фёдорова, просит чтобы ты вышла в коридор с сыном». Мы выходим с мамой из комнаты в коридор, я успеваю спросить: «Мама, эта та самая Фёдорова?» «Та самая, другой никакой нет, академик Академии меднаук, профессор, директор института эндокринологии, учёный с мировым именем, дочь растрелянного в 37-м и реабилитированного в 55-м комкора Фёдорова, моя единственная в жизни подруга». В коридоре стоит высокая, очень стройная и очень красивая моложавая и шикарно одетая дама, которая всматривается в меня и говорит: «Как же ты похож на Якова Александровича, просто вылитый». «Да, я знаю, мне бабуля говорила, но только она говорит, что дедушка был интеллигентный человек, а я хам Чистопрудный!» – отвечаю я с задорной улыбкой на лице. «Я твоему покойному деду всем обязана, это он тогда не пустил в школу Иру, и она единственная не проголосовала за моё исключение из комсомола, в тот день, когда арестовали папу. А потом твой дедушка пришёл к нам домой, хотя это было уже смертельно опасно, и уговорил мою маму отправить меня к тётке в Куйбышев, где я закончила школу и мединститут, вышла замуж и вообще… спаслась».
Мать и дама тихо плачут, прислонившись к кузинскому шкафу. И вдруг мама говорит: «Мила, дорогая моя, сегодня такой день, 25 лет победы, все за столом, весь класс, все, кто остались живы, мама, соседи, мы скоро переезжаем в отдельную квартиру, Мила, ну прости ты нас, ну сколько же можно, 30 лет прошло.» Мгновенно высыхают слёзы на глазах академика, опять передо мной светская дама, красавица. Она поворачивается и достаёт из-за спины сверток, бумага летит в сторону, коробка, фирма «КОНО», настоящие хоккейные краги, хоккейные перчатки, чёрные с белыми вставками. У меня перехватило дыхание, я даже не в силах сказать «спасибо». Выручает мама: «Мила, зачем ты, это же стоит сумасшедших денег, да еще в валюте». Дама вглядывается в меня и говорит маме: «Ирка, посмотри, как горят у него глаза, почти как у Мишки Фелинбогина, когда он забивал гол в ворота Юрки Павлова во дворе Дворца пионеров на Стопани. Не жалко денег, а вдруг он станет новым Фирсовым или Славкой Старшиновым? «У меня перехватывает дыхание: «А вы знаете Старшинова?» – выпаливаю я что есть силы и скорости. «Нет, мой милый, это Старшинов знает меня, и ему в этом смысле здорово повезло, потому что я его вылечила после травмы, которая ему задела эндокринную железу. Всё, мои дорогие, я спешу, поклон тетечке Фанечке, дяде Жоржу и Шуре. И запомни, я ничего никому не простила и никогда не прощу. А тебе, Ирка, тиреоидин на пользу. Ты очень похудела и прилично выглядишь. Не вздумай бросить пить лекарство. И никого не слушай, раку нас с тобой еще не известно, будет или нет, а щитовидка у тебя уже есть. И ей надо помогать». После чего за Милой Фёдоровой закрылась входная дверь.
«Мам, мам, а что она так, что она должна простить и не прощает?» – затараторил я, пока мы шли по коридору в нашу комнату. «А то, – ответила мама, – что пока она была дочерью комкора, все ребята в классе дрались за то, кто будет нести её портфель и кто будет сидеть с ней за одной партой. А когда её отца, честнейшего и порядочнейшего человека, арестовали, то на комсомольском собрании её единогласно исключили из комсомола, потому что она не захотела отказаться от своего отца». Мне стало душно, и я спросил: «Ты тоже голосовала?» «Нет, меня твой дед запер дома и не пустил в школу, понимая, что я могу двинуться мозгами, если меня заставят поднять руку».
Мы вошли в комнату, я, гордо держа финские краги, мама, слегка понурившись. «Мама, тебе, дяде Жоржу и Шуре от Милы поклон и поздравления с Днём Победы». «Ира, мы знаем, что мы не заслужили, что Мила нас никогда не сможет простить, и она права«, – дядя Лёня Котик, добрая душа под кителем полковника ракетных войск.
Все расселись, и тут, чего никогда не бывало, встал первым мой отец и заявил: «Пусть Ваня скажет, Ваня Пушков – солдатский солдат войны, давай Ваня». И дядя Ваня встал, обвёл стол ясным еще взором и заявил, глядя на Вовку Кузина. «Я вот чего давно тебе хочу сказать, Вова. Всё как-то не получалось у меня, а дальше нельзя, некогда будет. Я твоих отца с матерью терпеть ненавижу, и они знають оба за что. И я про это сегодня, в светлый этот день, говорить не хочу. А хочу я, Вова, сказать тебе вот чего, вот они сидять сейчас здеся за столом у Фаины Львовны, весь Иркин клас, все, которые осталися. И твой брат, Дима, он тоже в ихнем классе же учился и с ими школу закончил и с ими воевать вместе пошёл. И они, Вова, ею ты должен знать, потому что, может, чего и забылося тебе, они все пошли, и в очках и с болезнями всякими, все как один. И ты знаешь, Вова, что брат твой не погиб по бумагам, а пропал без вести, и знаешь, что и отца твоего, и меня, и Жоржа, и Иру, и всех нас тута, всю квартиру трясли. Так вот, я скажу тебе, Вова, что брат твой геройски погиб за Родину, потому что не могло быть в этом классе, в этой квартире предателей, а если я чего когда не так кому сказал, так простите мене, я безграмотный, одноногий слесарь».
За столом стояла абсолютная тишина, которая прерывалась праздничными криками из окна и всхлипыванием тёти Шуры у притолоки.
Ваня, милый ты мой, дорогой Пушков Иван Захарович, спасибо тебе за всё! Святой ты был человек и проживаешь ты, конечно, в раю с ангельским твоим характером и золотыми руками. Пусть земля тебе будет пухом!
Мишка
История эта случилась в Переделкино, давно и, возможно, в моём воображении. Дама, другого слова в русском языке нельзя найти, для того чтобы назвать это очень старое и ветхое создание женского пола, которое во времена доисторические окончило немецкую гимназию в городе Риге. Далее – революционная деятельность, Коминтерн, «товарищи» Зиновьев и Троцкий, 27 лет в советских лагерях как врагиня народа. Вильгельмина Людвиговна, фамилии нет, она стёрлась в памяти прошедших лет, партийная кличка «Мишка».
Мишка знала всех, ну просто всех – от Льва Давидовича Бронштейна (Троцкого) до Фиделя и Рауля Кастро. Ленин для неё был – «Да, мы говорили Ульянову, что всё это слишком рано, что Россия не готова!». Никто не знал, сколько ей лет, не по паспорту, а на самом деле. По паспорту было 95. В общем, с Лилей Брик она дружила и была на «ты». Командора, ах простите, Владимира Владимировича Маяковского она называла Володей: «Володя сказал, Володя привез Лиле машину из Берлина в подарок, Володя был такой смешной, такой высокий, нескладный и неуклюжий, и у него вечно что-нибудь падало из рук». Иногда она переходила на немецкий или на французский и, видя уныло безразличные непонимающие лица, спохватывалась и по-русски одергивала себя сама: «Ах да, как я могла забыть? Теперь же все ужасные англоманы. Как вы можете наслаждаться этими унылыми английскими балладами?» – удивлялась Мишка, намекая на нашу любовь к «Битлс».
Представьте себе, что перед вами сидит живая история и при этом не в маразме, с прекрасным слухом и зрением, одета из «Березки», с наслаждением пьет водку и закусывает икрой, красной и белой рыбой и маленькими пирожками из дрожжевого теста, в самый раз на один жевок и один заглот после рюмки. Выпив по первой, по второй и наливая нам и себе по третьей, революционная старуха изрекает: «Что-то, мальчики, Родина совсем измельчала. Помню, до отсидки меня везде называли гражданка или товарищ. В этом обращении есть что-то грубо революционное, что-то от Робеспьера и Сен-Жюста. А вчера я ехала в троллейбусе, как обычно стояла как все, и мне передали деньги за билет со словами: «Женщина, передайте за проезд». Мальчики (младшему из нас тогда было около тридцати), вы не находите, что в словах «мужчина» и «женщина» есть что-то анатомичсекое?».
Она никогда не улыбалась лицом, на нём было слишком много морщин. Но её глаза, они горели и хохотали одновременно. Я смеялся до слёз после этого мишкиного рассказа о её путешествии в общественном транспорте.
Цветы в Иерусалиме
Это было после того, как мы разошлись с женой. Всё далось тяжело. Была депрессия, было чувство вины перед сыном, что не получится вырастить его. Было чувство вины перед памятью отца, что не удастся вырастить его внука, как хотел бы отец, как надо было бы. Совсем не была безразлична жена, с которой прожито двадцать полных и, в общем, вполне счастливых лет. Почему счастливых? Да потому что пролетели они как один день, и если кто-нибудь спросит вас, что такое счастье, то вот и ответ на вопрос: счастье, это когда живёшь с родным, близким, дорогим человеком и самую жизнь не замечаешь. И когда это кончается, то не можешь ответить сам себе ни на один вопрос. Почему, зачем, когда это случилось? Когда тебя разлюбили, а может, и не любили никогда, а ты прятал голову в песок и ничего не хотел видеть и понимать. И вдруг, однажды ночью в полузабытье, тебя осеняет, а какая, собственно, разница, что и как было и почему. Зачем искать ответы на все эти вопросы, когда ничего нельзя уже сделать. Да и нельзя было бы ничего сделать, даже если знать, почему и зачем.
И тогда ты встаёшь, закуриваешь сигарету, выходишь на балкон и вдруг понимаешь, что жизнь продолжается, что надо взять себя в руки и жить, как можешь, как умеешь, а может быть, и так, как хочешь. Жить так, как получится, просто жить, потому что иного не заповедано Всевышним, и кто бы ты ни был и как бы ни был ты силён или слаб, а вероятнее всего и силён и слаб одновременно, ты должен жить. И тогда ты начинаешь чувствовать запахи, видеть небо и солнце, а потом смотреть ночью на звёзды и восхищаться ими как в детстве. Жизнь продолжается, и ты в ней продолжаешься. Перестаёт быть беспробудно тошно на душе, а потом хочется чего-то вкусного, например, киви или кислых грузинских мандаринов, а потом французского лукового супа, сваренного в хлебной лепёшке. И вот однажды, совершенно для себя неожиданно, ты вдруг замечаешь остановившийся на тебе женский взгляд. Он ещё не нужен, и женщина не нужна ещё, пока не нужна, но взгляд этот, после того как женщина уходит, остается с тобой, ты идешь с ним домой. С ним ужинаешь, смотришь новости и футбол, с ним читаешь перед сном книжку и с ним засыпаешь. Первый раз за долгие ночи наконец засыпаешь по-настоящему и просыпаешься утром с этим взглядом в душе. И ты понимаешь, что ты мужчина, что на тебя смотрят, что ты можешь вызывать желание и всё, что происходит с тобой – в реальной жизни, а не в книге, не в театре и не в фильме, что ты чуть-чуть не потерял себя в этом водовороте событий, которые от тебя не зависели, что значит, так было надо, что надо принять это и жить так, как живут люди, переболев тяжёлой болезнью и излечившись от неё. Как жил отец, хромая на одну ногу, как жил сосед дядя Ваня Пушков, который с войны пришел вообще без ноги. Как жили ребята из твоего двора и твои одноклассники, у которых вообще не было отцов, потому что отцы моего поколения остались на полях войны.
Это было в Иерусалиме, в две тысячи каком-то году. Я уже не жил постоянно в Израиле, а было время, когда я там прожил восемь долгих лет. И чувства, которые связывают меня с этой страной, вероятно, можно сравнить только с глубоко родственными чувствами, с чувствами кровного, поколенями выношенного родства, когда никому во всем свете ты никогда не позволишь плохо говорить о своей матери или своем отце. И сколько бы тысяч раз ни был человек объективен и прав, ты, как разъяренный зверь, бросишься защищать своё от врага, даже если и враг-то по большому счету никакой не враг, а, например, галутский еврей, который позволит себе даже не оскорбительное, а просто критическое замечание в адрес Израиля. А вот нельзя, и всё, нельзя ругать и хаять. Только с израильтянами или людьми, которые, как и я, приехали в Израиль больше двадцати лет назад, я могу позволить себе критически говорить о стране, которая стала для меня второй Родиной, приняла меня, как мать принимает своего сына, даже если он пришел из тюрьмы, даже если сын этот заблудшая овца, Иван, не помнящий родства.
Были ли у меня в Израиле проблемы? Да сколько угодно! Говорили мне в голос: ты русский, уезжай в свою Россию? Неоднократно. Было ли горько и обидно? Не раз и не два и до слёз, а то и до кулаков, которые были сжаты до боли и ещё полсекунды, и они пошли бы в ход. И ходили, не стану врать. Что же тогда? А это нельзя ни объяснить словами, ни показать. Это голос крови, и голос души, и бой сердца, когда ты первый раз подлетаешь к берегу Средиземного моря и видишь Эрец Исраэль, когда ты вдруг понимаешь, что когда-то, вероятно, много сотен, а вероятнее даже тысяч лет назад кто-то из твоих далёких предков со своей семьёй и жалким скарбом был изгнан отсюда и на утлом судне уплывал в неизвестность, в Европу или Азию, или потом на перекладных в Америку или Африку или даже Австралию. В общем, этого словами не передать.
Я никогда не забуду, как первый раз подлетал к Тель-Авиву и как перехватило дыхание, и как я услышал в самолете всхлипывания и голоса: «Мама не дожила, как она была бы счастлива!» Это не для слабых нервов, доложу я вам. Но это никогда не пройдёт и никогда не забудется. Это как полёт в космос Гагарина, как Фидель Кастро, молодой, бородатый красавец в открытой машине, а мы с отцом едем на нашей «Победе», и вдруг отец тормозит и останавливается у тротуара, мы выходим из машины, стоит чёрный окрытый «ЗиС», а в нём в полный рост Фидель, и он кричит: «Вива КУБА! Вива команданте Че Гевара. Это как чемпионат мира по футболу в 66-м году, если бы Беккенбауэр с Овератом не били Игоря Численко по ногам и не довели его до откровенной грубости, за которую он был немедленно удалён с поля, еще не известно, кто бы выиграл в финале. Попотели бы англичане с той советской сборной, где в воротах стоял Лев Яшин, в защите играл Альберт Шестернёв, а в полузащите блистал Валерий Воронин, который переигрывал всех.
Яркое воспоминание о школьных годах, оттепель кончилась, Хрущева сняли, и началось совсем другое время. Нам прислали новую классную, и она на первом занятии по истории нам заявила, что при поступлении на истфак МГУ она в сочинении в общей сложности на четыре страницы процитировала товарища Сталина. Класс сидел, не проронив ни полслова. Всем стало ясно, больше политические анекдоты в школе рассказывать нельзя. А потом эпоха Солженицына и Сахарова. А потом Солженицын был выслан из страны, а Сахаров сослан в Горький. Потом война в Афганистане, потом Олимпиада. И вечный вопрос о триединстве существования в СССР: говоришь одно, делаешь второе, а думаешь третье. А может, тут ни при чем СССР, если внимательно перечитать «Философические письма» Чаадаева, то так было и при государях императорах. Интересно, зачем русским правителям нужно, чтобы вокруг них все делали вид, что довольны жизнью. Впрочем, это к слову, к тому, что ругать Родину можно позволять только тем, кто в ней живёт и видит её каждый день изнутри. Никогда за всю свою жизнь, находясь вне России, я не проронил ни одного недоброго слова о стране, где родился и вырос и которую любил и люблю всем сердцем, всей душой. Не важно, где ты живёшь, важно, с каким сердцем, с какой душой ты живёшь, и критика твоя должна быть критикой боли, а не злорадства и злопыхательства. Как можно не любить город, в котором ты вырос, людей, которые окружали тебя и как могли заботились о тебе, как можно не любить свою школу, класс, в котором ты учился, дом в котором родился и вырос. Не понимаю и никогда не пойму.
Но вернёмся в Ерушалаим начала XXI века, когда в результате моей деятельности на благо израильского общественного транспорта я был приглашён на подкомиссию Кнессета по проблемам транспортного обслуживания. Израиль страна жаркая, восточная и демократичная. Все и всюду одеваются как попало, но даже и там есть места, где принято соблюдать правила игры по международному стандарту. Я нагладился, начистился, надел костюм и галстук и, как обычно это со мной бывает, приехал на час с лишним раньше положеного. Поставив машину на стоянку возле входа в Кнессет, я бодрым шагом направился в проходную. Не тут-то было. Офицер безопасности мне объяснил, что пропуск мне заказан, но войти я смогу строго в соответствии с указанным в нём временем. Тут следует заметить, что весь израильский бардак и разгильдяйство, о котором слагаются легенды и который ясен, как только выезжаешь на автомобильную дорогу Тель-Авив – Иерусалим, заканчивается там, где службу несут израильские пограничники, мишмерет гвуль. Спорить с этими головорезами всё равно, что спорить с женщиной, даже если ты стопроцентно прав, никогда ничего не докажешь и будет всё равно так, как решила противоположная сторона. В общем, я понял, что час мне гулять где хочу и, усевшись в свой уникальный по тем временам для Израиля спортивный «Сааб», я отбыл на территорию Иерусалимского музея, благо это рядом с Кнессетом. И там пошёл в кафе.
Был конец осени, жара спала, и можно было пить горячий арабский крепкий кофе, запивая его холодной водой и приятно затягиваясь любимым «Данхиллом». Рай! И вдруг меня охватило удивительное, кружащее голову и дурманящее ощущение. Мимо меня прошла молодая женщина, девушка, которая пахла цветами. Нет, не духами с цветочным ароматом, не туалетной водой и не душистым туалетным мылом или спреем, а именно цветами, причём не одним каким-то ароматом, не одним оттенком запаха, а целой гаммой цветочных ароматов. Я, конечно, не дегустатор и не косметолог, и вообще я курю, у меня бывает забит нос, в винах я вообще ничего не смыслю, и я точно не гурман. Но тут нельзя было ошибиться. Девушка несла с собой аромат цветов.
Времени на обдумывание было катастрофически мало. Надо было быстро принимать решение, потому что в Кнессет опаздывать неудобно и невежливо. На моё счастье, за столик она села одна, и официант быстро принял заказ. Я достал из кармана визитку, написал на ней на иврите одно слово – пра-хим, что означает «цветы». Отдал визитку девочке, которая стояла при входе в кафе, и попросил передать её моей визави.
До Кнессета я не доехал, раздался телефонный звонок, после небольшой паузы удивительный мягкий голос, назвав меня полным именем, поинтересовался, нельзя ли перейти на английский, потому что иврит у неё ещё очень плохой. Я немедленно согласился, к тому времени я уже почти десять лет прожил в Канаде, и мой чудовищный английский, оставшись чудовищным, стал тем не менее беглым. «А разве в этой стране мужчины носят костюмы и галстуки», – спросила она меня совершенно естественно, без насмешки и с выраженным незнакомым мне акцентом в английском языке. Я извинился, сказал, что не могу говорить, так как иду в Кнессет на совещание и что после него, с её разрешения, сразу перезвоню. Телефон разумеется определился. Она так же естественно сказала, что будет рада моему звонку и даже будет его ждать.
Стоит ли говорить, что месяцами подготовленный и выношенный доклад я скомкал так, что мой многолетний друг и заказчик, начальник управления в Министерстве транспорта Израиля, во время перерыва внимательно оглядев меня, заявил: «Мой дорогой, похоже, депрессия закончена. И кто она, эта нарушительница покоя, насколько она тебя моложе и что из этого всего теперь будет?» «Не знаю, Алик, я ничего пока не знаю», – смущенно ответил я. «Когда ты с ней познакомился?» – спросил Алик. «Только что, в кафе,» – ответил я. «Боюсь это всё серьёзно. Ты же влюбчив, об этом всем известно», – сказал Алик и отпустил меня со второй части заседания.
На территории Кнессета секретные службы просят не пользоваться мобильной связью без крайней нужды, но у меня-то нужда была крайняя, ничего для меня не было на свете важнее, чем услышать голос этой девочки. Я набрал номер, ответил мужской немолодой и совсем неприятный голос. Тут только я понял, что звонила она мне не с мобильного, а с городского телефона и что я понятия не имею, как её зовут. Но чувства взволнованного девушкой мужчины ломают все препятствия, и я голосом, полным израильской хамоватости и развязанности, попросил к телефону девушку, которая «там у вас работает и от неё пахнет цветами». Реакцией был открытый и радушный смех израильтянина, мгновенно оценившего ситуацию. «А ты, брат, звонишь в цветочный магазин, и здесь от всех пахнет цветами и даже от меня. А вот девушка тут работает только одна, сейчас я её позову, но ты не обижай её, она удивительная девушка, редкая, таких сейчас уже на свет не рожают». Я ответил, что благодарности моей нет предела, и через секунду услышал этот удивительно нежный, мягкий, южный голос со славянским, но незнакомым мне акцентом. По-английски она назначила мне встречу на девять вечера в очень уютном ресторане в самом центре Иерусалима.
До встречи оставалось три с лишним часа, я поехал в центр и зашёл в отель, где по случаю несезонья меня встретили с распростёртыми объятиями и по сходной цене выделили номер с видом на старый город. Я принял душ, включил новостную программу и впал в характерное полузабытьё, которое всегда посещает мужчину в момент ожидания первого свидания. Любовник был уже не очень молод, в районе пятидесяти, но ощущение было как будто в первый раз. И было явное понимание того, что всё будет, будет сегодня и будет удивительно, как, возможно, никогда еще в жизни не было.
Я позвонил в рецепцию и попросил, чтобы меня через два часа разбудили по телефону, если не отвечу, пусть кто-нибудь придет в номер и меня растолкает. Дверь будет открыта. И провалился в сон. Как обычно ничего не снилось, но проснулся я от того, что меня будят, пытаются растолкать. Надо мной стояла молодая консьержка, беленькая, очень симпатичная и статная и на ломаном иврите говорила, что мне надо вставать, что её прислали из рецепции разбудить меня. Я продрал глаза, успокоил девицу, сказав ей по-русски, что миссию она свою выполнила и что я проснулся. Девица хихикнула и глазами показала мне, что я лежу на кровати совершенно голый в состоянии полной боевой готовности. «Мне можно идти?» – спросила девица, ещё раз хихикнув. «Иди, иди, милая, ты свою работу выполнила», – ответил я, а девица так вильнула бедрами напоследок, что я подумал про себя – видно, знали, кого посылать будить, такая мёртвого разбудит и поднимет. Быстрый освежающий душ, полная амуниция: костюм, галстук, заколка, ботинки почищены, и я отправился в ресторан, который был в двух шагах от отеля.
Иерусалим вечерний встретил меня очумелыми взглядами прохожих – костюм, галстук, модельная обувь на ногах, так никто не ходит, тем более, вечером. В очередной раз пожалел я о том, что в машине нет дежурных кроссовок, пары потертых джинсов и майки. Но делать нечего, благо недалеко идти, и вот я уже в ресторане, снял пиджак и пью свой любимый арабский кофе с кардамоном, запивая его холодной водой и попыхивая «Данхиллом». Девушка опаздывает, что, в общем– то, норма жизни. Но я волнуюсь, а вдруг не придет, и её мобильного у меня нет. Нет, придёт, решаю я про себя, такие девушки либо сразу отказывают, либо приходят, когда обещают.
А вот и она, переоделась, сарафан, очень лёгкий, очень открытый, но на ней это не пошло и даже не сексуально. Тело девичье, формы не очень развиты, на вид лет двадцать – двадцать пять. Она подходит, я поднимаюсь, чтобы подвинуть ей стул, ухаживаю за ней, и тут она видит на столе купленный мной букет полевых ромашек и смеется вразлёт ресниц, губ, щёк. От неё по-прежнему пахнет цветами, я целую ей руку, чего в Израиле никогда и никто не далает. От рук тоже пахнет цветами. Я говорю ей это, она отвечает: такая работа, цветочный магазин. Она из Сербии, христианка, православная. Приехала в Израиль по студенческому обмену, денег не хватает, вот и подрабатывает в цветочном магазине. Заодно учит иврит, он ей нужен, она изучает раннее христианство в Белградском университете. Кстати, неплохо знает русский язык. «Вы же из России? – спрашивает она. – Хозяин магазина, в котором я работаю, сказал, что вы, судя по акценту, из России или из Польши. «Я из Москвы», – отвечаю я по-русски. Она опять смеётся и говорит, сербы из Белграда тоже всегда сообщают, что они из Белграда. Вероятно, это столичный снобизм. Границ государственных не имеет. А она из маленького сербского городка, там все друг друга знают, и когда девушка лишается девственности, у неё два пути: либо замуж, либо уехать. «Так ты уехала учиться?» «Нет, я вышла замуж».
Я обомлел. «Надо было консьержку задержать», – подумал я, понимая, что в таком состоянии не смогу удержаться в рамках просто светской беседы.
Девушка мгновенно всё поняла и улыбнулась лучезарной, светлой улыбкой. Ни тени пошлости, ни намёка на цинизм, она посмотрела на меня своими карими южными глазами и не сказала ни слова. Стало ясно: тема исчерпана, что дальше – не будет решаться словами за столом.
Заказали ужин, она пила белое вино, что пил я – не помню, вероятно, неразведённый скотч, как обычно пил весьма умеренно. Беседа на смеси английского и русского мирно текла в никуда. Южная ночь низкими звёздами села нам на плечи. И вдруг, о небо, женская интуиция! «А теперь честно расскажи мне, что с тобой, почему ты один, почему у тебя долго не было женщины, что с тобой случилось. Ты высокий сильный мужчина, у тебя ясный взгляд, ты не прячешь глаза, рассматриваешь женщину в своё удовольствие, не стесняешься себя, почему ты один?» – спросила она. У меня выпала из рук сигарета, упала в тарелку, и я понял, что у меня отнялись руки, ноги и язык. Передо мной сидела тоненькая, хрупкая южно-славянская девочка, загорелая, в свободном легком коротком сарафане, совсем открытом сверху Что она могла видеть во мне, как почувствовала мою неприкаянность, почему пришла и зачем говорит со мной? Да она еще и замужем к тому же, может, и ребенок есть. Что вообще происходит? Задержал бы я консьержку, может, хоть желание не прерывало б мне ход мыслей в голове. И тут я не выдержал, взорвался. А на кой, говорю, леший сдалась тебя моя грёбаная жизнь и рассказ о ней, при этом произнёс отчётливо несколько резких английских слов, и публика стала на нас оборачиваться. Ну, хорошо, сказала она, ужин закончен, ты говорить сейчас не в состоянии, надо прогуляться.
Мы вышли на улицу, вокруг бурлила вечерняя жизнь еврейского квартала. Время вечерних молитв давно закончилось, и город постепенно уходил спать. Я почувствовал, что Мария, так её звали, устала. «Хочешь, я остановлю такси и отвезу тебя домой или ты поедешь одна, а я заплачу водителю?» – поинтересовался я, понимая, что пауза затянулась. «А наш разговор еще не закончен, ты же не ответил на мой вопрос, – без всякого намека на усталость в голосе сказала она. – К тому же, почему ты решил, что я намерена сегодня ночевать дома?» Откровенно говоря, я растерялся. Мне было понятно, что я имею дело не то что не с проституткой, а что рядом со мной цельный и ясный человек, с характером, со светлым умом, непонятно было одно, зачем тут я со своими проблемами. «Хорошо, – сказал я, – пошли есть десерт, ужин без десерта – это не ужин». «Мороженое, мороженое», – заверещала она и захлопала в ладоши как маленький ребёнок. Я тоже люблю мороженое, а в горячем Иерусалиме даже осенью оно создаёт удивительный микроклимат на душе и в теле. Есть что-то особенное в гастрономии, что-то географическое – крем-брюле вкусно только в Париже, пино-колада пьётся исключительно на Карибах, а русскую водку надо пить в Москве с русской закуской и пирожками из дрожжевого теста.
Мороженое сделало своё дело, я расслабился и выложил ей всё, что знал и чего не знал и о чём даже не догадывался, в общем, всю свою подноготную. Никогда и ни с кем я не был так откровенен, как с этой девочкой. Она слушала, почти не задавала вопросов, не перебивала меня, но и не дремала безучастно. Я только не мог взять в толк тогда и сейчас не могу понять, зачем всё это было ей нужно. Я закончил свою тираду, она поднялась и почти упала от усталости мне в руки. На моё повторное предложение отвезти её туда, где она живёт, она ответила повторным отказом и только попросила меня дать ей возможность позвонить, воспользовавшись моим телефоном, и предупредить, что она не приедет. «И ты, пожалуйста, при мне сотри номер и не хитри, не записывай его себе и не спрашивай меня ни о чём. Это тебя не касается». «Вообще-то я не страдаю излишней любознательностью», – подумал я про себя.
Звонок был недолгим, через минуту с небольшим она вернулась, я при ней стёр номер, по которому она звонила, и мы отправились в мой отель, находившийся в десяти минутах ходьбы от места поедания десерта. В лифте отеля она меня обняла за шею и сказала: «А теперь ты вообще перестань что-либо говорить и доверься мне. Таких женщин, как я, не надо учить тому, что делать наедине с мужчиной. Тебе сейчас будет очень-очень хорошо и не сдерживай свои эмоции, ни о чём не думай, сегодня ночью будет только любовь и иногда сон, чтобы снять усталость». Я дал ей слово и не нарушу его никогда, я обещал, что никогда не буду ни рассказывать, ни описывать подробности этой ночи. Да они и не значат ничего, эти подробности, и слов не существует, которые могли бы это описать. За всю ночь я не проронил ни слова, говорила только она. Она рассказывала мне о своей жизни, о своих любовниках. Рассказывала вещи, которые в иной ситуации меня повергли бы в шок и сделали психическим инвалидом. Но у неё это звучало так естественно, так нормально, так красиво, в конце концов, что я совсем растерялся и под утро спросил у неё, а зачем мне всё это надо было узнать. «Тебе пора повзрослеть, хватит жить мальчишкой в твоём возрасте. Хотя это твоё мальчишество в сочетании с бархатным голосом и мужественным обликом страшно заводит. Своих женщин ты теперь будешь узнавать без труда. Если женщину парализует твой тембр голоса – знай, она твоя, и ты можешь брать её и делать с ней всё, что хочешь. Можешь брать в жёны, она не будет тебе изменять».
Настало утро. Она свернулась в клубок и сказала, что ей нужно поспать пару часов перед работой. «Если можно, не буди меня и не трогай больше. Тебе, я думаю, хватило», – сказала она, улыбнувшись своей светлой улыбкой. Глаза ее горели карим блеском, волосы спутались и облепили голову и тело. Через минуту она спала, мерно посапывая. Вся комната в отеле была наполнена запахом цветов, потому что всё её тело было пропитано насквозь этим запахом.
Завтрака не было, есть не хотелось, тело ныло, хотелось спать. В машине она досыпала, город был уже в пробках, и мы уныло продирались к кварталу Гило, в котором она работала. Магазин оказался малюсенькой цветочной лавчонкой. Она выпорхнула как птенец из моего «Сааба» и стремглав понеслась на работу.
Через несколько дней я уезжал. Мой звонок днём она восприняла спокойно, сказала, что мои координаты с электронной почтой и телефоном сохранит и мне обязательно напишет. Она действительно написала, хорошее письмо, с разъясненими, просила не искать её, потому что она намерена вернуться в Белград и жить с мужем. Да, они расходились, да, не жили вместе больше года, но поняли, что друг друга любят и хотят жить вместе и иметь детей. Она попросила меня сообщить ей день моего рождения.
Я вернулся в Израиль через десять дней. Стоит ли говорить о том, что в тот же день я был в цветочном магазине в Гило. Хозяин с интересом оглядел меня и заявил, что представлял себе меня совсем иначе. «Я думал, ты лет на десять помоложе, красавец, а ты какой-то вполне обычный, только что здоровый уж очень. А впрочем, шут их поймёт – женщин. Чем я хуже тебя, а меня она к себе на пушечный выстрел не подпускала. Уволилась она. Сам понимаешь. Студентка. Никаких координат. Жила вроде на кампусе университетском. Фамилии её я не знаю. Интересно, а она тебя сходу разгадала, сказала, что ты обязательно придёшь, и вот тебе записка от неё. Не хотел отдавать, но, видно, придется. Она сказала, чтобы я тебе записку отдал, а то ты таких дел натворишь, что всю её жизнь переломаешь и свою заодно».
Вот содержание этой записки: «Не ищи меня. Постарайся забыть. Думаю, тебе это будет не так трудно сделать. Я вернула тебя к жизни, и теперь, когда около тебя появится настоящая женщина и она полюбит тебя, ты сможешь это понять. Ты больше не ошибёшься. И пожалуйста, в день своего рождения будь в Израиле, по тому адресу, который указан в твоей визитке. Мария, да хранит тебя Бог».
Прошёл год, 13-го июля, в день своего рождения, я был в Израиле. Раздался звонок в дверь, на пороге стоял посыльный с огромной корзиной полевых цветов. В корзине лежала маленькая записочка, написанная от руки. «Вот видишь, я была права!» Я растерянно посмотрел на Инессу, а она на цветы и записку. «Понятно», – строго сказала красавица Инесса, не запахнув как обычно халат, который ну никак не мог сойтись на её прекрасной размерами и форме груди. «Корзины, значит, с цветами получаем, а в них записки любовные». Женщины красивее Инессы, сексуальнее, ярче свет не видывал, но это уже сюжет для совсем другого рассказа.
Крокодил
Было такое поколение в нашей стране, называлось оно фронтовики-холостяки. Сегодня, когда я и мои одноклассники уже точно прожили больше половины собственной жизни, когда все мы хорошо понимаем, что такое одиночество, что значит демографическая ситуация в городе и стране. Что значит попасть под пресс кризиса или развал экономической системы, а также что значит эмиграция и с чем её едят, сегодня, несмотря ни на что, нельзя ответить на вопрос, как эти лейтенанты и капитаны, которые пришли с войны в возрасте от двадцати до тридцати лет, умудрились прожить жизнь и не жениться ни разу. Оставим за скобками тех из них, кто вернулся с войны с ранениями, которые не позволили сохранить нормальную мужскую физиологию, оставим также без внимания тех, у кого произошли патологические психические нарушения. Тем не менее остается огромное количество фронтовиков, которые, не успев жениться перед войной, не вступили и не вступали в брак и после неё. Крокодил был одним из таких фронтовиков-холостяков.
310 школа, Харитоньевский перулок, Чистопрудный бульвар, конец 60-х годов. Полагаю, что имена своих учителей я могу называть смело, так как люди, как правило, не живут больше ста лет, а девочек и мальчиков среди наших учителей я что-то не припоминаю. Поэтому могу рассказать о своем любимом учителе, своем кумире детских лет Викторе Семёновиче Магнате. Почему «Крокодил»? Потому что огромный нос, и все черты лица, и узкая, стройная и очень пластичная фигура, и жестикуляция, и любовь к зеленому цвету болотного оттенка. И вообще, те, у кого в классе было принято давать прозвища, а в нашем классе это было принято, те поймут. Крокодил и всё тут.
Он любил свое дело. Очень! Не знаю, любил ли он детей, нравилось ли ему работать в школе или так сложилось, но он делал своё дело как надо. И при всём его нордическом темпераменте, спокойствии нрава, холодно-циничном безразличии ко всему его иногда прорывало. Нет, не на каждом занятии и не в виде театрального действа. Если вы смотрели «Доживём до понедельника» и помните образ, который создал Вячеслав Тихонов, то вот это наш Крокодил. И наш и нет. Тихонов хороший актёр, добротный. Ростоцкий хороший режиссёр, а Полонский написал удачный сценарий. Но наш Крокодил был намного ярче, он был значительнее, как-то основательнее и при этом он был живой, настоящий. Одним словом он мог так осадить, и ему было всё равно, отличника он осадил или двоечника. У него было что-то такое за душой, что было важнее, чем день, час и минута, в которой он находился, и находились мы рядом с ним. Наверное, это была война, которую он прошёл.
Никогда не забуду, как однажды, убирая учительскую, я невольно услышал его разговор с Зинкой (это наша классная – Зинаида Александровна Островская). Они вошли в учительскую, никого не видя и ни на что не обращая внимания. «Любезнейшая Зинаида Александровна, вы историк, и в предмете вашем ничего нет кроме дат, событий и людей, которые в этих событиях принимали участия. К великому нашему с вами сожалению, ваш предмет он знает лучше вас, потому что у него молодая и, видимо, блестящая ассоциативная память. Вы ему за ответы, конрольные и домашние ставите тройки, потому что он вас поправляет на уроках. Значит, он не станет историком, вы отобьете у него охоту изучать этот предмет. Я только рад, любезнейшая. У него есть шанс стать писателем. Это же настоящее творчество, это не история. Так что ставьте тройки дальше».
Шло время, Крокодил делал своё дело. А именно: он устроил в школе факультатив по литературе, на который приходили его студенты, а он преподавал и в МГУ, и Литературном институте, и в обоих Педах, он вообще всё время был занят и ехал с одной работы на другую. Всегда. Кроме того, он водил нас в театр. Совсем молоденькая Ахеджакова в московском ТЮЗе, Крокодил предсказал её карьеру – состарится, не сможет играть травести, уйдёт в «Современник» к Ефремову или на «Бронную» к Эфросу. Он разбирал с нами спектакли, он обожал немецкую литературу, поэтому Кафку, Брехта, Бёлля, Ремарка, братьев Манн, Фейхтвангера, Германа Гессе я прочитал еще в школе и очень хорошо знал.
Однажды он подошёл ко мне во время урока литературы и, глядя в весеннее окно, тихо и как бы невзначай спросил меня: «Как ты думаешь, какого цвета был флаг у нацистов?» Я с ходу не думая ответил: «Красный, наверное». «Ты в кино видел или прочитал где-то?» – сверкнул глазами Крокодил. «Ничего я не видел и не прочитал. Но они же хоть и национал, но социалисты, значит, и флаг у них должен быть красный». Крокодил остановился как вкопанный, внимательно глядя мне в глаза. Постоял, посмотрел и вдруг закончил урок, со словами, что ему нездоровится, и он пошёл домой. Ко мне повернулась Катька, которая была к Крокодилу неравнодушна, и заорала на меня: «Вечно ты, человеку плохо стало из-за тебя. Такому человеку!»
Придя домой, я немедленно полез к отцу: «Пап, а пап, ты немецкие флаги во время войны видел? Документальные кадры все чёрно-белые, там не видно цвета, какого у них цвета флаги были?» Всегда спокойно равнодушный к моему интересу к истории и литературе отец, глубоко и совершенно правильно убежденный в том, что у мужчины должна быть профессия, немедленно встал и закрыл дверь в комнату. «Ты что лезешь в то, во что тебя никто не зовёт. Тебе что нужно? Хочешь нас всех посадить?» Я понял, что-то не то, отец так просто бы не взъелся. «Пап, ты чего, какая тебя муха укусила, меня Крокодил спросил на уроке». «Что-что? Ирок, иди-ка сюда, послушай, что он несёт», – позвал отец маму из её комнаты. «А кто это Крокодил?» Я с восторгом рассказал всё, что знал о Крокодиле, о том, что войну он закончил командиром батареи и капитаном артиллерии, что он нас учит немецкой литературе на факультативах, что водит нас в театры. Думаю, отца успокоила фамилия учителя, он внимательно посмотрел на меня и на мать и сказал: «Сынок, у нацистов был красный флаг».
И вот однажды – этот день я, умирать буду, не забуду – Крокодил написал на доске три темы сочинений, и на трёх рядах бурно закипела работа. Он всегда разрешал пользоваться первоисточником, чтобы не делали ошибок в цитатах, и вообще, в этом ли дело. Мне не понравилась тема – «Андрей Болконский – передовой человек своего времени». Разумеется, в свои теперешние годы я многое переоценил, но тогда, в пятнадцать лет… Мне нравился Дол охов, Николай Ростов, Василий Денисов, местами Пьер, князь Багратион. Ну, в общем, не этот сухой Болконский. «Виктор Семёныч, можно я пересяду на первый ряд, и место есть свободное, Шалюхин болеет». Всегда лояльный и безразличный, Крокодил в этот раз был резок: «Нет! И никаких обсуждений!» Ну что тут сделаешь, я начал писать. И так мне было тошно и не хотелось, что на третьей примерно странице я вдруг понял, что пишу не в тему. Ну, прямо ни разу, как сказали бы мои студенты сейчас. Я твёрдой рукой вёл то, что в математике называется доказательством от противного. И не было времени ничего переписывать. «Ну и фиг с ним, – подумал я, – ну поставит двойку, ну не будет пятерки в полугодии, да плевать на всё. Класс еще пока 9-й, да и если бы и 10-й. Отец двадцать семь лет прослужил в армии, как нибудь и я два года отслужу».
Наступил следующий урок литературы. Входит Крокодил, лицо какое-то раздраженное. И вообще, негладко выбрит, обычно безупречный костюм и водолазка не смотрятся на твёрдую пятёрку. Кидает пачку тетрадей на стол и садится. Проходит несколько минут молчания, и вместо обычной переклички, Крокодил встает и, прохаживаясь по классу, изрекает следующее: «Моя карьера школьного учителя продолжается больше десяти лет, с того года, как я закончил ВУЗ и по распределению попал на работу в школу Все эти годы я – иногда успешно, а иногда не очень – занимаюсь тем, что учу вас литературе, пытаясь при этом, как могу, как умею навязывать вам своё мнение по поводу тех произведений, которые мы разбираем, и тех героев, которые в этих произведениях фигурируют. В известном смысле я достиг немалых успехов. А именно: мои ученики избрали себе профессии, так или иначе связанные с литературным поприщем. Есть такие, которые имеют учёные степени по филологии, однако ни один из моих учеников не попытался стать писателем. И вот впервые в моей карьере, в моей жизни я встретил ученика, у которого есть такой шанс. Впервые я прочитал сочинение, где изложено не мнение учебника, не точка зрения автора произведения, и не моё мнение, которое я тут вам пытаюсь внушать, а мнение автора сочинения, которое не имеет ничего общего ни с моим, ни с авторским, ни тем более с учебником. Я не стану называть имя автора сочинения, потому что это было бы непедагогично».
«А то мы не знаем, о ком идёт речь, и кто у нас в классе мог бы стать писателем. Только он не хочет. Он собрался в МАИ поступать, говорит, что раз с его фамилией на физфак МГУ не принимают и астрономом он не будет, как его любимый Нисон Давыдович Розенблюм (учитель астрономии в нашей школе), то хотя бы авиационный институт, всё, мол, ближе к звёздам», – это говорит Зяма, Женька Кулагин, его уже нет среди нас, пусть земля ему будет пухом. Самый способный из нас, самый острый ум, самое оригинальное мышление.
Бедный Крокодил, из него как будто воздух спустили, как из надувного. Тяжело он осел на учительский стул, грустно взглянул на меня исподлобья и закончил урок. На перемене он подошёл ко мне, отозвал в сторону и попробовал обсудить правильность моего выбора. «Виктор Семёныч, я же только девятый заканчиваю, – возразил я, – еще целый год впереди на размышления». Крокодил ссутулился, махнул рукой и уныло побрёл в сторону учительской.
В моём десятом классе никакого Крокодила в школе уже не было. В школу явилась Калерия Фёдоровна, прозванная классом Кавалерией, и она довела дело до логического завершения – устойчивая ненависть к изучению истории распространилась и на литературу. Однажды после урока меня остановил учитель математки Юрий Валентинович Паперно и сказал, что меня очень хочет видеть Виктор Семёнович, вручил мне телефон, и я позвонил. Разговор не получился. «Пройдет время, и ты поймёшь, что сделал ошибку», – сказал Крокодил напоследок.
Прошло время. Я не считаю, что сделал ошибку, но я пишу, и иногда мне местами нравится то, что у меня получается. Но не это важно. Спасибо тебе, Крокодил, спасибо за то, что не мешал думать и развиваться, свободно и независимо, как, собственно, и должен развиваться молодой ум, молодой интеллект. Виктор Семёнович Магнат, по прозвищу Крокодил, мой первый литературный друг и первый читатель и критик моих текстов.
Ужин с академиком
Когда пишешь о реальных людях и называешь реальные имена и фамилии, всегда есть верятность обидеть или даже оскорбить как живых, так и память о мёртвых. В самом деле, потомки доктора Геббельса, которым принадлежит контрольный пакет акций компании БМВ, несут ответственность за деяния нацистов в середине XX века или вопрос этот должен быть снят с повестки дня? Не знаю… Знаю, что не должен, права не имею оскорблять как живых, так и память об ушедших в мир иной. Поэтому не всегда я буду называть реальные имена и фамилии, но и вымышленными мне заниматься не хочется, как это сделал в одной из последних своих книг Юрий Маркович Нагибин, замаскировав известного математика и патологического антисемита под весьма узнаваемой и вместе с тем изменённой фамилией.
Господа читатели, я не пишу мемуаров и поэтому не обязан следовать хронологии событий, точности изображения происходившего и сказанного кем-либо, и нередко, что для литературы является совершенно нормальным, вымысел и реальность в моих рассказах переплетаются, и многим моим героям, которые жили в реальной жизни, я придумываю и приписываю качества, которых у них никогда не было и быть не могло по определению. Но делаю я это намеренно и буду так поступать и впредь, потому что моя литература, если таковая есть и её можно так назвать, это литература реальности, которая всегда во мне жила вместе с мечтой.
Итак, шёл конец 70-х годов прошлого века. В воздухе попахивало приближающейся Олимпиадой. Слово это не сходило с газетных заголовков, звучало по телевизору и по радио и светилось в весьма убогой, даже можно сказать, утлой советской неоновой рекламе тех лет. Я закончил свой первый ВУЗ – МАИ (Московский авиационный институт) и мало-помалу под влиянием своих старших двоюродных братьев Марка и Аркадия склонялся к тому, чтобы заняться программированием. Было совершенно очевидно, что инженер из меня просто никакой. Ни конструкторский отдел, ни технологический, ни практические разработки, ведущиеся в лабораториях закрытого института, в котором я работал по распределению, меня не привлекали. Впрочем, полагаю, что и я их тоже. Сейчас, когда прожито больше половины жизни и во многом произошла переоценка ценностей, должен заметить, что институт, в котором я работал, детище покойного уже тогда академика Акселя Ивановича Берга, продолжая поддерживать систему, вырабатанную Бергом еще во время войны, предоставлял возможность молодым специалистам в течение первых трех лет послевузовского обязательного распределения попробовать себя во всех ипостасях. В общем, я остановился на вычислительном центре института Берга, потому что из всего, что я перепробовал, только программирование не вызывало у меня резкого отторжения, даже, я бы сказал, идиосинкразии.
Надо заметить, что по тем временам работа в подобном заведении давала целый ряд известных преимуществ перед обычными советскими гражданами. Ну например, в институте был свой стол заказов, в котором колбаса, сыр, масло, творог и другие продукты первой необходимости были всегда, без очередей и очень приличного качества. У меня была пристойная по тем временам, особенно для вчерашнего выпускника ВУЗа, зарплата плюс квартальная премия, и в институте был свой небольшой распределитель, где можно было купить пальто, зимнюю шапку, костюм, брюки, рубашки весьма приличного качества и, конечно, всё импортное. Была своя очередь на получение квартир, машин, свои ведомственные санатории и дома отдыха и даже своя медсанчасть. Были, разумеется, свои учёные советы и кандидатские и даже докторский. И дома и среди моих друзей и родственников считалось, что я неплохо устроен, только вот очень жесткая дисциплина на работе. Но к дисциплине я привык ещё во время учёбы в МАИ, где за опоздание из проходной отправляли на учебный аэродром, где стояли МИГИ, СУХИЕ и разные прочие АНы, ТУ и ИЛы, которые никогда не взлетали, но зато их надо было мыть и счищать с них снег. Пару раз соскользнув с фюзеляжа самолета и со всей моей хоккейной тренированностью брякнувшись об асфальт, я навсегда потерял охоту опаздывать на занятия. А за пропуски без справки в МАИ снимали со стипендии. В общем, я был достаточно дисциплинирован, чтобы не бояться соблюдать порядок.
В моей жизни тогда, пожалуй, было всё, что нужно молодому человеку, вернее, было всё, что считалось тогда молодому человеку необходимым для нормальной жизни, кроме… У меня не было постоянной, устойчивой связи с девушкой, которая приносила бы взаимное удовлетворение обеим сторонам. Полагаю, связано это было с тем, что в свои 22–24 года я ни в коем случае не готов был к тому, чтобы после нескольких месяцев отношений с девушкой предложить ей пойти в ЗАГС. А атмосфера тогда в обществе была такой, что девушку еще пробовали осуждать за свободную сексуальную жизнь и сами девушки эту сторону жизни воспринимали как некий запретный плод. Кроме того, пресловутый вопрос «где?» Меня на протяжении многих лет спасала дача, на которую выезжала семья. А когда семья была в Москве, я частенько, несмотря на холод и даже выпавший снег, пользовался дачей как местом для любовных утех. Стоит ли говорить, что когда семья находилась на даче, я плотно стабилизировался в нашей московской квартире. А что было делать тем, у кого не было дач? Нет, конечно, в те времена отелей не было и никакие советские люди, как теперь говорит молодежь, не могли забукать себе рум в отеле. Это была совершенно иная жизнь и в ином стиле, почти ничего общего не имевшая с тем, что имеет место быть сейчас. А мы все были МОЛОДЫ!
И вот однажды еду я по нашему дачному поселку на велосипеде. Погода прекрасная, не жарко, не холодно, нет дождя, я в отличной спортивной форме, как в прямом, так и в переносном смысле, подо мной очень хорошая бордовая с металликом диамантовская рама, в руках я держу итальянский профессиональный руль и сижу на английском седле, переключатель у меня – оригинальная итальянская компаньёлла, а колёса от француского велосипеда «Кольнаго». Только покрышки у меня отечественные, но очень приличные, нейлон по японской лицензии фирмы «Данлоп». Я молод, строен, как три тополя на Плющихе, и у меня очень красивая немецкая велоформа. А на трико на самом весёлом месте еще и замшевая вставка. В общем, не понравиться я мог только абсолютной дуре, которая ничего не понимает ни в велосипедах, ни в молодых парнях, а стало быть, в жизни как таковой.
Навстречу мне идет, катя рядом с собой такой же микст-велосипед, как и тот, на котором еду я, мой закадычный друг Юра Богомолов, он же и мой тренер по велоспорту и учитель жизни, он старше меня на пятнадцать лет, что мы никогда не обсуждаем с ним вслух. Это вынесено за скобки, как сказали бы коллеги математики. Рядом с ним девушка, очень стройная миловидная шатенка, с классной причёской и огромными широко расставленными зелёными глазами. «Здорово, Манька», – следует громкий возглас Юры Богомолова, сопровождаемый усмешкой и прищуром правого глаза. «Прокатился уже, или икры разминаешь?» – этот вопрос понятен только нам двоим, потому что «прокатился» – это значит съездил в Жаворонки или в Дорохово, или Голицыно и вернулся. В общем, километров пятьдесят и больше. Потому что «неплохо прокатились» означало, что сто километров проехали с душой, проще говоря, этап командной велогонки. «Нет, – отвечаю, – Юрий Палыч, только выехал. Что-то во рту сухо, надо поехать флягу дома наполнить». «Давай, я вот Олечку Анатольевну до станции провожу, а ты давай к переходу на Минке подкатывай, и оттуда прокатимся вместе».
Я делаю круг и на излете поворота замечаю, что девушка внимательно смотрит на меня, на мой велосипед, на то, как я сижу в седле, а я также плотным взглядом охватываю её спину, ноги, плечи. Голова моя так и остаётся повёрнутой в сторону девушки, хотя еду я давно вперед, в сторону дома, а девушка остановилась и внимательно смотрит мне вслед. Через десять минут мы с Юрой плотно стоим на дороге руль в руль и, чуть пригнувшись от ветра и повернув головы друг к другу, ведём мужской разговор. «Ну что, старичок, запала чувиха в душу? Западло на скорости идти? Снюх пошёл?» – с характерным прищуром и подвывом спрашивает Юра. Здесь надо сделать небольшую ремарку. Юра к тому моменту уже давно кандидат и без пяти минут доктор экономических наук, совершенно свободно говорит, читает и пишет по-английски, в том числе стихи, Юра из очень интеллигентной, с корнями русской семьи и при том, как все советские люди рождения начала 40-х годов, для поступления в ВУЗ должен был два года отработать рабочим. МОСГАЗ – от подручного до слесаря высшего разряда, параллельно с этим, чтобы не пристраститься к выпивкам, занятия велоспортом, шоссейник, мастер спорта. Причудливо переплетясь, лексика слесаря-газовика и гонщика-шоссейника осталась на всю жизнь, и это в известном смысле было предметом гордости, потому что не все знали, что пиздехокс – это газовый ключ № 1, а гнать пиздехокс – это значит сорвать резьбу на муфте этим самым газовым ключом № 1. В МГУ и в МГИМО, где Юра получил экономическое образование и закончил аспирантуру и где он начал заниматься экономикой США и Канады, пиздехоксам не обучали.
В ответ на Юрину тираду я задумываюсь. Да, девушка очень понравилась. Очень. Прелестная фигура, не слишком громоздкая, но и не маленькая, очень стройна, но при этом есть и грудь и попа. Глаза, очень широко, не по-русски разведенные глаза, с изумрудно-зеленоватым оттенком. Лицо живое, выразительное. Она свободна – во взгляде, в манерах, во всём это не кухаркина дочь, которая думает только о том, как бы выйти замуж и свалить от мамани с папаней, куда угодно, хоть в омут, но только из дому. Смотрю на Юрку и молчу. Ничего не понимаю. Он ведь женат. Людка, его жена, моложе его лет на двадцать, и он Людку любит, и не изменяет ей.
«Юрка, а кто эта девушка?» – спрашиваю я в лоб. Правый глаз богомоловский превращается в щелочку, Юрка тормозит и уходит на обочину, разумеется, я за ним. «Ты чего? – спрашиваю удивленно. – Чего так резко с трассы, на ходу, по тормозам? Тебе колодки не жалко? Что случилось?’ Юрка молчит, лицо очень серьёзное. Задумался. Сел на обочину, велосипед положил. Смотрит куда-то в бок. «У меня с Олькой были отношения, – говорит он. – Давно закончились, и не потому, что я так решил. Решила она, она вообще давно и всё решает сама. Ты для неё мальчишка, на один зуб. Она тебя и старше на год. Она тебя сломать может. Понимаешь?»
Ничего я не понимал и не хотел понимать. Мне очень понравилась девушка, я видел, что и я ей понравился, и еще я заметил, что у Юрки в вилке руля лежит сложенный лист бумаги. У меня очень цепкий взгляд с раннего детства. Этого листка не было, когда я встретил его на дороге с девушкой. Юрка, заметив мой взгляд, махнул рукой, в жесте было что-то вроде отчаяния. «Она сказала, что если ты спросишь о ней, передать тебе её телефон и сказать, что она будет рада, если ты позвонишь. А теперь послушай меня очень внимательно. Я понимаю, что тебе сейчас всё нипочём и что у тебя х…й стоит до подбородка, но ты должен знать. Олечка из очень хорошей семьи. Вот были Арнты и Дали, лейб-медики государя императора, а были и ещё немцы В…ты. Так вот, отец у неё академик Академии меднаук, мать профессор и доктор наук, завотделением в институте Бурденко, а родной дядя крупнейший дизелист, проректор МВТУ. Ты понимаешь, куда ты лезешь? Она полслова скажет папе или дяде, и тебя в порошок сотрут и никакой твой папа, отставной полковник, тебе ничем помочь не сможет. Олечкин папа ближайший друг и консультант академика Чазова. Ты понимаешь, что это за люди и что они могут?»
Ничего я не понимал, полагаю, у меня тогда, в двадцать четыре года и органа-то не было, которым люди что-то могут понимать. Вело меня желание и интерес. Девушка была очень не похожа на всех тех, которых я видел раньше, да и на тех, которых видел потом. Однако я получил телефон, позвонил и думаю, что когда-нибудь я соберусь с мыслями и чувствами, чтобы рассказать о наших отношениях с Олей, Олечкой, Ольгой Анатольевной. Я не знаю, и не может знать мужчина – может надеяться, может предполагать, любила, не любила, как любила. Однажды, я уже спал, а она собиралась в командировку. Мне нездоровилось, вялость, небольшая температура. Олечка сложила чемодан, приняла ванну, пришла в постель. Она начала будить меня, но как! Через секунду я почувствовал, что никогда раньше не знал, что такое заниматься любовью. А мы к этому моменту с ней уже прожили больше года вместе.
Шло время. Она дописывыла диссертацию. Я создавал видимость занятия научной работой, сдал кандидатские экзамены и прикрепился соискателем в аспирантуру. Но я не знал, чем я хочу заниматься. Вернее, я знал, что меня не привлекает наука, та наука, которую я вижу вокруг себя. Моя душа была в застое и не искала себе приложения, молодость и либидо оставляли меня на плаву и давали мне тот необходимый заряд энергии, который нужен, чтобы создавать видимость активной жизни. Но интеллект мой совершенно бездействовал, поэтому меня легко можно было увлечь разборкой и сборкой автомобильной коробки или трансмиссии, занятием спортом, в силу возраста уже на любительском только уровне, и вообще любым видом занятий из любой сферы, кроме распивания спиртных напитков, к чему отвращение у меня, видимо, было и есть на генетическом уровне.
Мой отец, натура крайне деятельная и активная, видя моё пассивно-безразличное отношение ко всему вокруг, давно оставил меня в покое и не предлагал ничего, понимая к тому же, как он далёк от моих проблем и моей жизни. Можно сказать, что я получал от жизни удовольствие, читая хорошие книги, проводя время в «Иллюзионе», где я был вольным слушателем киноуниверситета, посещая недели разного кино, кинофестивали, выставки, концерты, спектакли, слушая музыку – от классики до тяжелого рока.
Нельзя сказать, чтобы Олечка была как-то активно настроена на то, чтобы мой праздно безразличный образ жизни попытаться сломать и убедить меня заняться делом. Олечка была человеком вполне самодостаточным, и со мной ей было совсем неплохо. Её поражала моя эрудиция, и ей очень импонировало то, как меня с удовольствием рассматривают дамы, от старух до девчонок, в общественных местах, потому что я всегда был импозантен, умел носить костюм и выбирать себе аксессуары, галстуки, носовые и шейные платки, носки, ботинки, всё было безупречно, а в те годы и подавно. Кроме того, мы были молоды, мой темперамент явно превосходил Олечкин, и она без особого труда, когда хотела, получала со мной то, что, я думаю, без дурацкого ханжества и глазок в кучку, хочет любая нормальная женщина, живя с мужчиной и деля с ним постель. Жизнь наша с Олечкой была спокойной и тихой, без скандалов и выяснений отношений, чему способствовало наличие у нее однокомнатной квартиры в селе Коптево, что рядом с родовым имением князей Михалковых, именно с ударением на букву а. Имеют ли Сергей Михалков и его сыновья к этой местности какое-либо отношение, я не знаю, но местечко это изрядно Богом забытое, с населением в основном происхождения рабоче-крестьянского, а посему пьющим горькую и озлобленным отсутствием денег на неё в трудовом кармане и очередями.
Разумеется, картину вывожу конца 70-х годов, то бишь заката правления товарища Брежнева, который уже давно ловил челюсть во время многочасовых выступлений на съездах и пленумах КПСС, но сам жил и другим, во всяком случае, некоторым, жить давал.
В нашей родной истории и историографии принято называть этот период эпохой застоя. Возможно. В моей памяти это время в большей степени зафиксировалось как время несоответствия бурным потребностям советского населения, особенно молодёжи, и возможностей отечественного производителя в сфере ширпотреба, легкой промышленности, то есть тому, что у нас принято было называть товарами народного потребления. Это самое народное потребление в ту эпоху требовало, причём весьма настоятельно и активно, чтобы молодое и стройное советское тело – будь то мужского или девичьего пола – было в нижней своей части одето в американские джинсы, и уж если и не оригинальные, на которых на молнии с внутренней стороны будет написано USA (мечта любой московской девчонки или парня), то хотя бы YKK, что, конечно, уже низводит тебя с пьедестала божественного Олимпа, но всё таки оставляет в кругу тех, кто мало-мальски заслуживал внимания. Ничего не было – ни джинсов, ни джинсовых курток, ни кроссовок. О дублёнках или стильных пальто, костюмах и прочем вообще говорить не приходилось. А если в магазине в любой части города появлялся какой-нибудь импорт, мгновенно возникала многочасовая очередь, которая могла измотать и довести до драки любого человека, даже с темпераментом товарища партайгеноссе Штирлица, как бы тот ни был лоялен и вежлив с товарищами по партии и как бы ни был беспощаден к врагам рейха.
Боже мой, какое же это было счастье, когда кому-нибудь кто-нибудь что-нибудь откуда-нибудь привозил или доставал. И всё покупалось впрок, потому что если у тебя развалятся ботинки «Саламандра», то нигде ты новые завтра не купишь. Хоть разорвись! Сегодня, сейчас, двадцать лет живя в условиях, когда нужны только деньги, в том числе и в Москве, невозможно ответить себе на вопрос, кому и зачем нужно было вот так доводить до нервного отчаяния народ, устраивая дефицит и очереди. Я не экономист, не специалист по торговле и не вращался никогда в высших кругах, но полагаю, что зачем-то и кому-то это было нужно. Возможно и то, что власть предержащие ненавидели Советскую власть не меньше, чем простые советские люди, которые были совершенно измучены и раздавлены этой бессмысленной и очень напряженной и нервной жизнью. Невозможно также понять, почему так называемая советская лёгкая промышленность выпускала в таком количестве товары, которые никогда нигде и никто не покупал.
И вот в этих условиях жизни и в этой атмосфере раздается днём звонок на работу и весьма оживлённый Олечкин голос мне объявляет: «У тебя сегодня «Иллюзион» отменяется, а я не еду к маме. У нас сегодня гость, к нам приедет папа. Он недавно вернулся из Америки, и у него для всех подарки. И тебе тоже он купил ливайсовские штаны и куртку». Это сегодня, уважаемые читатели, только сумасшедший повезет в Москву из Америки джинсы в подарок, да еще и бойфренду дочери. А тогда… Нет, я не был ни попрошайкой, ни завистником, не добывал я пресловутые чеки и сертификаты, чтобы одеваться в «Берёзке», и уж точно не ошивался ни в каких тусовках, чтобы одеваться по моде. И тем не менее. Читатель постарше сразу меня поймёт, а для молодёжи поясню: нет, не ключи, конечно, от машины я получил в подарок от отца моей подруги, но, скажем так, подарок на уровне дорогого фотоаппарата или ноутбука, да и вообще человек, находясь за границей, потратил на тебя валюту, которая в СССР эквивалента себе тогда не имела. В общем, я, естественно, тут же отбыл с работы домой и ехал с чувством смешанным. С какой стати он мне будет что-то дарить? У него Оля, есть Мишка, Олин брат, с Олиной мамой академик уже развёлся к тому времени, был женат или не был, не знаю, но жил с кем-то. Конечно, мне было неудобно.
Подхожу к двери, открывает Ольга, на кухню дверь закрыта, и слышно, как мужской голос говорит по телефону «Штаны и куртку будешь мерить?» – спрашивает Оля. «Нет, успеется, и вообще, откуда он знает мой размер, и лучше бы не подошло, отдай Мишке». «Тебя какая муха укусила? Он Мишке тоже привез, и мне, и даже маме прислал подарок с Мишкой. Ты что надутый-то такой, не вздумай обидеть его, он в кои-то веки раз захотел щедрым показаться, а ты ему хочешь весь кайф обломать». А я не умею на заказ улыбаться и устал я что-то, похоже начинается мигрень.
Захожу на кухню, здороваемся, академик сидя. «Ого, я и не думал, что такие…», – осекается он на полуслове. Меня несёт сразу: «Не думали, что такие евреи бывают?» – заканчиваю я фразу, начатую академиком с веселинкой в голосе, с которой с детства встречаю антисемитизм, – и откуда что берется, никогда никого не боялся и антисемитизм воспринимал как явление естественное. Возможно, это оттого, что я сам не бросался никогда евреям на шею и не выражал им любви просто потому, что они евреи. И отец всю жизнь себя вёл как-то так, это от него унаследовано, какая-то фига в кармане, в смысле того, что ты меня не любишь милый, так и я тебя терплю с трудом, а вот приходится, заставляет жизнь.
Академик внимательно, с прищуром, через затемнённые стёкла очков осматривает мою неслабую фигуру. И я заканчиваю фразу: «У меня дед, отец отца, кузнецом в деревне был, папа мой 180 и 56-й размер пиджака, ну и я годами через борт на коньках прыгал по всему периметру коробочки со штангой 20 кг на плечах. В моё время биостимуляторов не было, и мышечную массу нам упражнениями накатывали на кости». «И до чего же ты допрыгался, если не секрет? Ничего, что я на «ты», всё-таки ты мне в сыновья годишься?» Я продолжаю подхамливать: «Конечно, на «ты». У нас все члены партии на «ты» друг с другом. Так повелось. А докатался я до 1-го разряда мужского по хоккею с шайбой. И за команду МАИ играл, уже когда был студентом». Академик смотрит на меня с уважением: «Ну а теперь мне, как врачу, расскажи про травмы?» «А я, Анатолий Михайлович, от Ольги ничего не скрывал, она знает – сотрясений у меня не было, зрение неважное, оттого что шайба мне, слава Богу, плашмя попала, но подозрение было на перелом лицевой кости, еще левая рука сломана в запястье, ну и мышцы икроножные, сзади-το щитков нет, иначе нога бы не поворачивалась совсем на ходу». «Ясно, и кто же тебя диагностировал в челюстно-лицевом госпитале, окончательный диагноз там ведь ставили, не в травмпункте же?» «А меня сразу в институт Гельмгольца привезли на скорой, на Фурманный, потому что всё там рядом было. И меня профессор Аветисов осматривал, потому что моя сестра с его сыном Валерой в одном классе в школе училась». «Понятно, а Аветисов тебя отправил в челюстно-лицевой к профессору Никитину, и тот тебя там щупал пальцами и мял тебе лицо, потому что верит он только своим рукам, а не голландскому рентгену, который мы с Чазовым ему купили». «Именно так и было, Анатолий Михайлович, а еще Никитин когда-то у бабушки моей начинал, потому что она была ассистенткой Лукомского». «Так ты внук знаменитого доктора Беккер, о которой сын Лукомского Илья Генрихович, мой близкий товарищ и сокурсник по мединституту, а ныне академик реаниматолог мне рассказывал?» «Да, это моя бабушка, Фанни Львовна Беккер, которая войну закончила майором, но работать больше не смогла, потому что стала терять сознание и у стоматологического кресла и в операционной». «Ясно, друг мой, а почему же ты не стал врачом?» «Трупов боюсь, и от вида крови сознание теряю».
За время беседы мы успели поужинать и выпить пол-литра водки. Академик слегка захмелел и обмяк, чувствовалась усталость в голосе. «Дай как мне, Олечка, телефон, я позвоню, чтобы машина за мной выезжала, пора мне домой. А ты, молодой человек, я тут с Олечкой поговорил и что-то не понял, кто ты есть-то, инженер не инженер, наука не пойму какая. Может, ты мне внятно объяснишь, чем ты заниматься-то намерен, где работаешь. Ты же мужик всё-таки, вот мне Олечка сказала – ты предложение ей сделал. Так, Олечка? А она тебе отказала, замуж не хочет. А если она захочет, а ребенок родится, что кушать будете, а?»
Тут уже пришла моя очередь почувствовать усталость и вялость. Но запала на новый разговор у академика уже не было, и он объявил: «Ты не думай, тебя давным-давно проверили, я же за границу постоянно езжу и работаю с такими людьми. В общем, я знаю, кто твой отец, кто мама. Знаю, какие у отца твоего возможности. Но у меня-то больше возможностей, что хочешь, любой институт большой Академии или нашей, меднаук, любое направление, а если хочешь во Внешторг, могу устроить по твоим машинам вычислительным, выучишь английский, будешь ездить». «Да не надо ничего, Анатолий Михайлович, не нужно мне, спасибо вам, но я сам как-нибудь. Вы же сами стали академиком, мой отец всё в жизни сам делал, и я хочу сам». «Что ты несёшь? Причем здесь это? Мой отец умер, когда мне было девять лет, а брат у меня старший – инженер, дизелист. Ты что сравниваешь то время и теперешнее? Меня война человеком сделала, ты тоже войну будешь ждать, ядерную? А я думаю, её не будет никогда. Ладно, кончен разговор, прозреешь или Ольга тебе вправит мозги, позвонишь. Всё, я пошёл. А ты, может, на еврея обиделся? Так у меня все друзья евреи и меня за спиной жидом зовут, кто будет тут разбираться с моими немецкими кровями, нерусская фамилия – значит еврей». «Нет, Анатолий Михайлович, я не обиделся на еврея, я на это вообще не обижаюсь, и я благодарен вам за предложение, но я хочу себя благодарить за то, что у меня получится, если получится что-то».
Академик вышел в коридор, оделся, поцеловал дочь, крепко пожал мне руку и удалился. Через несколько дней позвонила Ольгина мать, попала на меня и заявила: «Голубчик вы мой, я вас всегда воспринимала как очень мягкого человека, рафинированного, интеллигентного, а вы академика-το как осадили. Он даже мне позвонил вчера, три года не разговаривали. Позвонил и запричитал: «Таня, Таня, что же это будет? Парень-то Олькин упрямый как осёл, и не сдвинешь никак. А кем же он будет-то? Им же жить на что-то надо будет». Я не знаю, кем вы, голубчик, будете, и не знаю, на что и как вы будете жить, но я знаю, что вы уже есть. Что вы личность, и вы состоялись, потому что академик на моих глазах такие сносил головы с плеч и таких ломал людей… Держитесь, голубчик, Бог вам в помощь».
Я есть, я держусь, как могу, я стараюсь. Я благодарен Богу, что была в моей жизни Олечка, её мама, доктор медицинских наук, профессор, Татьяна Михайловна, академик, с которым я один-единственный раз в жизни виделся и вместе ужинал и который, конечно, меня пожалел и не стал ломать, оставив мне право делать с собой и своей жизнью всё, что я сочту нужным.
Ленкина спина
Она пришла в нашу школу, мне кажется, в классе 6-м или 7-м, и память смыла, когда ушла, но 10-й она с нами не заканчивала. Её папа, известный скульптор, архитектор, художник, человек с мировым именем, для нас был дядя Лёня. Он жив, и даже работает. У него есть свой сайт в Интернете. Мне кажется, это какое-то роденовское долголетие. Оно бывает только у очень больших мастеров, и именно скульпторов, художников. Микельанджело тоже прожил какую-то огромную жизнь, Ренуар умер глубоким стариком, Пикассо, Писарро, Моне. Бог избирателен, он даруют длинную жизнь тем, кого наделяет большим талантом, и тем, кто этот талант умеет беречь и сохранять. Как Иван Семенович Козловский, например.
Но я отвлекся. Речь не о значительности отца, а о прелестях дочери. Ленка в пору нашего школьно-полового созревания была в нашем классе, нашей школе, округе наших дворов, Чистопрудного бульвара и Дворца пионеров имени Крупской без всяких оговорок королевой и девчонкой № 1. Она была высокая, для девочки очень высокая, а для девочки 60-х годов у неё был рост модели. Ленка не была худой. А тогда, в эпоху Мерилин Монро, Марины Влади, Брижжит Бордо, Элизабет Тейлор, Стефании Сандрелли и несравненной Софи Лорен, и не надо было быть худой. А вот нельзя было быть без груди и без бедер. У Ленки была такая грудь, таких размеров, такой формы и такой красоты, и она так её носила, так умела обращаться с нею и так легко позволяла к ней прижиматься во время танца! Ленка обращалась со своей грудью так, как знаменитая героиня Феллини из фильма «Амаркорд», прозвище которой было Градиска, что означает по-русски «угощайтесь». Наша Ленка, задолго до знаменитого фильма Феллини, предлагала всем желающим как минимум угощаться своей грудью.
Слава Всевышнему, я не был в нее влюблён, хотя какое-то время мы даже сидели с ней за одной партой. Но чаще она оказывалась на одну парту впереди меня, то есть я сидел за ней и поэтому имел счастье часами наслаждаться, глядя на её шею, плечи, спину. В черчении это называется вид сзади. А у Ленки все виды были прекрасны. И даже если и были у неё некоторые незначительные недостатки, ну, чуть у неё были полноваты сверху ноги, терлись они колготками друг о друга ляжками при быстрой ходьбе, но это были такие мелочи по сравнению с её гордо стоящей, колоколообразной, изумительной, горячей и вздымающейся при малейшем сбое дыхания грудью. Ленка была так прекрасна, так естественна и так хороша уже какой-то даже и не девичьёй, а вполне женской красотой, что ей всё и за всё можно и нужно было простить.
И вообще. Была Ленка еврейкой всем еврейкам. Мама у неё была из интеллигентной московской ашкеназийской еврейской семьи. Мама обладала исключительным чувством такта и понимания, в том числе и особенностей Ленкиного не очень обузданного темперамента. Дело в том, что отец Ленкин, тот самый упомянутый выше гениальный дядя Лёня, по происхождению, да и по фамилии, был грузинским евреем, поэтому Ленка наша была черна как смоль волосами, кучерява крупной волной и волосы у неё были такой жесткости и плотности, что когда она делала резкое движение головой и я оказывался позади неё или рядом в акватории её распущенных волос, то через минуту мне становилось совершенно нечем дышать, так как я попадал под водопад её тяжеленных чёрных волос. Была Ленка, особенно когда гневалась, похожа на гнедую породистую арабскую кобылицу, и не было, я думаю, в то время на свете наездника, который мог бы её взнуздать.
Мне было лет тринадцать-четырнадцать, и был я тогда изрядным тютей и вахлаком, на улице стоял конец 60-х и ни о каком, конечно, половом воспитании не могло быть и речи. По детским рукам во дворах ходили какие-то ужасающие черно-белые порнографические открытки, за великое благо почитались военных времен немецкие трофейные порножурналы. А меня во дворе и на Чистаках страшно уважали за то, что когда Димкиных родителей не было дома, то мы с Димкой отмычкой открывали сейф его отца и рассматривали подборку журналов «Плейбой». Так как Димка учился в английской спецшколе в Сивцевом вражке и там же и жил у своей бабушки, матери его мамы, а у нас появлялся на выходные, да мать его и не очень пускала в наш двор и на Чистаки, то я мог смело и во всех прикрасах рассказывать сюжеты увиденных в «Плейбое» картинок. Я думаю, молодой читатель уже понял, к чему я клоню, да-да, в юности моей и молодости в стране не было не только хоккейного снаряжения или джинсовой одежды. «Камасутра» считалась порнографической литературой, и за это дело можно было на пару лет загреметь в лагерь.
Я не могу ответить на вопрос, начала ли наша Ленка взрослую жизнь уже в школьные годы. Возможно, что и нет. Может быть, она умела владеть собой и своими эмоциями и знала ту грань, за которую лучше не переходить, а может быть, и не знала. Не это важно. Была наша Ленка вне всякого сомнения секс-символом всей нашей 310 школы, Чистопрудного бульвара и переулков, которые длинной вереницей бульвар наш окаймляли, а также окрестных дворов и акватории Дворца пионеров имени Надежды Константиновны. Знакомство с Ленкой и сидение с ней за одной партой были одновременно и почётны, и опасны, потому что немало всякой Чистопрудной шпаны на ней в той или иной степени было зациклено и считало своим долгом демонстрировать ей свою любовь и привязанность. Так что ссориться с Ленкой было опасно. Полслова – и слетелись бы сотни соколов заклевать одного вороненка.
Мы с ней дружили, но как-то очень ровно. Она, конечно, была ко мне совершенно равнодушна, потому что я был слишком мальчишка для её рано определившейся женской полноценности. Может, она и не спала еще ни с кем, но за талию во время танца её надо было брать твердой и властной рукой и в глазах должен был быть спокойный и уверенный интерес, а не страх и непонимание последовательности действий. Этого и замухрышки-то не прощают, а Ленка не была замухрышкой. Она была настоящей восточной еврейской красавицей. И никуда эту свою абсолютно созревшую красоту Ленка наша прятать не собиралась. Она всегда была изумительно красиво, ярко и совершенно свободно одета. Она была отвязана, как сказали бы теперь, и это в сочетании с её красотой, полными и значительными формами груди и бедер при удивительной её и несколько неожиданно легкой и быстрой походке создавало такой компот, что у любого мужчины, если он был мужчина, просто захватывало дух. Я помню эти жадные взгляды в школе (не только детей, но и учителей и родителей) и на улице, это выраженное желание на мужских лицах и неприкрытая радость и наслаждение успехом у мужчин на лице у Ленки.
Но главное, самое ценное и основное её качество – она была совершенно естественна. Никакого дешёвого кокетства, никаких специальных поз, даже когда у неё расстегивалась пряжка на поясе, который держал чулки, уж во всяком случае при мне она так свободно и неприхотливо задирала юбку и застегивала пряжку, что я не успевал смутиться, но зато получал ровно столько её голой ноги, бедра, куска трусов, пояса и чулок, что мне этого вполне было достаточно на несколько ночей предсонных размышлений о том, как, вероятно, здорово было бы оказаться совершенно голым с Ленкой где-то в укромном месте и, возможно, зачитанная до дыр «Камасутра» окажется совсем не таким уж плохим руководством к действию.
Это случилось, кажется, в восьмом классе. Я очень тяжело переболел корью, заразившись ею в хоккейной школе. После меня потом еще подкласса заболели. Недели две мне было совсем плохо, потом вдруг наступило улучшение, и бабушка разрешила мне выйти на улицу Я осунулся, очень похудел, не было аппетита, под глазами залегли темные круги. На мне болталась куртка, и походка стала какая-то не очень твердая. Мой обычный дурацкий оптимизм в сочетании с готовностью ёрничать и издеваться над всем белым светом куда-то делся. И я шёл совершенно один, впервые поняв, что в болезнях и оре мы всегда одиноки. Солнце светило, я щурился, повернул в Харитоньевский, еще были учебные часы. Нет, я не собирался в школу, да и зачем, я болею. Но вдруг мне почему-то захотелось подойти к Ленкиному дому. Я почти уже миновал швейцарское посольство, и тут меня окликнул сзади знакомый голос: «Ты же болеешь, я несколько раз приходила к тебе домой, но меня твоя бабушка даже в квартиру к вам не пустила. Сказала, что я могу заразиться. Подумаешь! А я хотела с тобой посидеть. Мне сказали, что ты лежишь, что у тебя опущены шторы и тебе не разрешают смотреть ТВ и читать. Как же ты без своего любимого хоккея?»
Я обернулся, Боже, как она была хороша! Короткая дубленая курточка, клетчатая зелёная юбка и замшевые сапоги с молнией спереди, растрепанная, она бежала за мной, хотела догнать побыстрее. «Ой, а что ты так осунулся? Совсем лица не стало, бритва прямо. Зато глаза стали большие и еще синее, чем были, и блестят. Ты выздоровел? А хочешь ко мне, у меня никого нет, я должна была в изостудию идти, но не пойду. Хочешь ко мне? А хочешь я тебя поцелую, в губы, по-настоящему, как Софи Лорен Марчело Мастроянни целовала в «Браке по-итальянски», хочешь? А ты знаешь, у меня грудь больше и красивее, чем у Брижжит Бордо и выше стоит, чем у Стефании Сандрелли. Пошли ко мне, я сниму лифчик и покажу тебе, будешь хвастаться всем мальчишкам, что видел меня голую до половины. Пошли?» «Не буду никому хвастаться и к тебе не пойду. И не разденешься ты до половины, и лифчик не снимешь, ты всё врёшь, у тебя твоя бабушка дома. И мне нельзя с тобой целоваться, ты можешь корью заразиться», – и я насупился как баран.
Ленка начала хохотать взахлеб, прямо кататься от смеха, сумка у неё упала на тротуар, и оттуда посыпались книжки и тетрадки. Я бросился всё это подбирать и вдруг почувствовал, что она обняла меня и прижалась ко мне всем своим горячим телом, и прижимается всё сильнее, и целует меня в голову и в шею, и я почувствовал, что теряю сознание, потому что – нет я и раньше целовался в губы и взасос, и «Камасутра» была зачитана до дыр и некоторые страницы перепечатаны, но это был настоящий влажный страстный поцелуй в губы. Ленка проникла языком ко мне в рот и делала что-то такое, чего я тогда вовсе не понимал…
Я очнулся, не сразу. Она стояла с сумкой в руках, поправив волосы, совершенно спокойная, и была готова отчалить. «Понравилось?» Я молчал. «Дурак ты или маленький еще совсем. Никогда не должен мужчина выражать сомнения по поводу того, что предлагает ему женщина. Следующий раз прямо сразу соглашайся и иди, куда позовут. Понял? Ну, вот и отлично. А сейчас иди домой. Во рту у тебя вкусно, сразу видно, не куришь. Пока».
Прошли годы. Мы с Володькой Сусаковым, моим бывшим одноклассником, приехали из Прибалтики, где отдыхали по случаю окончания первого курса. Лето. Я сразу на дачу. Сусак со мной. Не успели войти, мама передает мне маленькую записку. Андрей Сергутин приехал на побывку из армии. Через несколько дней ему возвращаться в часть. Мы с Сусаком сразу рванули в город. Позвонили по телефону со станции, Мария Семеновна сказала нам, что он в ванной. И знает, что мы должны приехать. Мы в электричку, вышли на Белорусском. Сусак набирает Андрюху. Через минуту кладет трубку: «Едем на Смоленскую, он уже оделся и выходит, ему надо отвезти письмо от сослуживца его девушке. Девушка живет на Смоленской».
Через двадцать минут мы все трое обнимались на Смоление. Вместе отправились к девушке отнести письмо от любимого. Дверь окрылась, и стоявший первым Сусак, не упев произнести и полслова, оказался носом и ушами у Ленки между грудей. Он и танцевал с ней всегда так, потому что роста они одинакового, но Ленку без каблука или высоченной платформы отродясь никто никогда не видел. Второй рукой она обнимала меня за плечо и тянула к своему лицу. Еще мнгновение, и мы все трое стояли как три грации, а Ленка при этом смачно целовала меня в губы. «Невкусно, куришь, наверное, а помнишь, как целовались около моего старого дома в Харитоньевском? Моя бабушка умерла, папа собирается от мамы уходить, а мама болеет». «Лен, это Андрей Сергутин, он тебе привез письмо от Коли Лаврентьева, твоего любимого, а ныне солдата».
Ленка очнулась, мы с Сусаком были отпущены на свободу. У Сусака вид был еще тот. Со времени окончания школы принципиально поменялась мода. И никаких лифчиков уже давно не носили даже дамы за тридцать. Ленка всегда была девицей эмансипированной и эпатажной и теперь не просто обходилась без лифчика, а была в расстегнутой рубашке-размахайке из совершенно прозрачной ткани. Так что побывал наш дорогой Сусак у Ленки просто между совершенно голых, очень больших и колоколообразно стоящих грудей, с большими, ровными и совершенно пурпурными сосками.
Бедный наш Андрюха после года с лишним службы, безбабья, постной жратвы и прочих радостей жизни после третьей рюмки закемарил. А у нас начался бурный словесный понос втроем, потому что выяснилось, что Ленка про нас с Сусаком изрядно осведомлена от бывших одноклассниц – Катьки и Юльки Дыховой, а вот мы не знаем о ней ничего. Ленка в красках рассказала нам о том, что никак не может поступить в Строгановку, потому что сумасшедший конкурс, но всё равно она поступит рано или поздно. И поступила, через пару лет. Потом пришел дядя Лёня, который всех узнал, всех вспомнил, и мы просидели всю ночь. Под утро растолкали Андрюшку, которому надо было домой и потом на поезд. Сусак поехал с ним, а я остался. Ленка попросила меня, если есть время, помочь ей, она укладывалась ехать на дачу на Николину гору. У неё был свой старенький «Москвичонок», который тем не менее как-то ездил, но, конечно, всем было спокойнее, что я поеду с ней. По дороге выяснилось, что никакого Лаврентьева никогда она не любила и не любит и не собирается никого ждать.
На Николиной горе я попал в объятия Ленкиной мамы, которая всегда ко мне очень хорошо и тепло относилась. Мы с Ленкой пошли купаться на дипломатический пляж. Ленка вошла в воду в своей размахайке, а вышла, держа её в руках. Что-то зафыркала какая-то тетка, но Ленка её быстро усмирила, посоветовав от зависти не изойти желочью. Хорошо было всё. Но не было чувств. У неё был любимый, я встречался с девушкой. Оба мы не испытали жгучей потребности к сближению, а может быть, не нагулялись еще, не знаю. Интерес не перешёл в устойчивую связь.
Прошло время. Мы перестали видеться. Ленка уже была увековечена. В знаменитых «Семнадцати мгновениях» с Тихоновым есть момент, когда полковник Исаев сидит в кафе. Кажется, тогда, когда его вниманием пытается овладеть пьяная математичка. Там в кадре Ленка, спиной, вполоборота. Волосы зачесаны наверх, завиток и её восхитительный затылок, шея, спина, платье открытое.
И последний раз я видел Ленку много лет назад, в театре. Я был с Таней Градовой, маленькой, аккуратненькой, пластичной, тихой и очень энергичной. Во время спектакля вдруг понял, что не смотрю на сцену, что передо мной сидит женщина, спину которой, шею, затылок я знаю как самого себя. Ленка, Боже мой, конечно, Ленка, но какая-то другая, как будто без стержня внутри. В антракте я оставил Таню в зале под предлогом срочной надобности и побежал в курилку. Нет. Вышел на улицу. Нет. Фойе. Ленка под руку с очень неприятного вида простецким человеком, существенно старше нас. Она меня увидела, узнала и показала глазами, чтобы не подходил. Я ушел в зал. Сел рядом с Таней и предложил ей пересесть, потому что есть места ближе, и я уже договорился с билетершей.
Через пару недель звонит Пимен. «Ты Ленку в театре видел?» «Видел, а что такое?» «А ничего, молодец, что не подошел. Там такое чмо муж, он её чуть ли не бьёт». Я поразился: «Миш, ты в своём уме? Ленку нашу кто-то бьёт?» «Слышь, Кабан (это моя хоккейная кличка, за габариты и свирепость), про тебя Зяма правильно говорит, что ты сдохнешь наивным придурком. Ты что, не понимаешь, что она любит его, как никогда никого в жизни не любила. С бабами такое бывает и тогда с ними можно делать всё что угодно!» «В книжках читал, в кино видел, в жизни никогда», – отвечаю я Пимену слегка разочарованно. «Ясно, Кабан, а ты давно «Двенадцать стульев» перечитывал? А то, если что не так, обратись в лигу сексуальных реформ, и там тебе объяснят, почему наша Ленка влюбилась в своего Хропа деревенского, а не в тебя, Ален Делон ты наш Чистопрудный. Между прочим, Катька мне сказала, что Ленка тебе минимум дважды предлагала перейти с ней к более близким отношениям, а ты, придурок, каждый раз чего-то выкаблучивал там. Ну, довыкаблучивался, у неё муж и ребенок. Можешь спокойно спать один».
Прошло много лет. Каждые пять лет ребята собираются и празднуют окончание школы. Я ни разу не был. Сначала долго не жил в Москве, потом не хотелось. Последний раз я не поехал, потому что нездоровилось. И мама себя неважно чувствовала. И вдруг звонит Мишка: «Кабан, с тобой хочет Леша поговорить». Поговорили, потом еще с кем-то, не помню. Потом кто-то из ребят сказал мне, что Зямы больше нет, и я не смог говорить дальше, слезами перебило дыхание, а плакать публично я не научился. И я положил трубку. А вечером, почти ночью зазвонил мобильный. «Это я», – что-то знакомое, неуловимое мелькнуло в интонации. «Ну – ну, ты не узнаешь мой голос? Кстати, а твой не изменился совсем. Звенишь как в юности». «Боже мой, Ленка, Ленка», – я почти закричал. «Ну что ты орешь-то так. Внука мне разбудишь. Я дважды мать от разных мужей, однажды бабка уже. Слушай, я хожу с короткой стрижкой, и говорят, очень еще недурно выгляжу. Ты бы приехал в гости. А что ты не был сегодня, мама нездорова? А моей уже давно нет. А папа, ты знаешь, папа жив, работает, и у него опять молодая натурщица, какой молодец, а!»
Я не приехал, нет сил. Мне скоро пятьдесят пять, но и Ленке тоже… Ленка, ты слышишь меня, ау? Такой груди, как у тебя, я никогда в жизни не видел и не увижу. ТАКОЙ ГРУДИ НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ!
Слабые руки моего отца
«Сороковые, роковые, Свинцовые, пороховые… Война гуляет по России, А мы такие молодые!» Давид СамойловПамять человеческая избирательна. Она оставляет себе то, что считает нужным и важным, а многое в ней стирается не хуже, чем на жёстком диске компьютера, и это нельзя восстановить никакими системными утилитами. Может быть, и хорошо, что это так. Один очень близкий приятель, который на протяжении тридцати с лишним первых лет моей жизни был и моим мэтром, сказал мне недавно, что детство, юность, молодость возвращаются именно теперь, потому что вокруг уже нет многих людей, нет голосов и моя память спасает меня от потери рассудка. Спасибо ей за это и хвала Всевышнему за то, что мне такая возможность предоставлена.
Мой отец был очень сильным физически человеком. Начнём с того, что родился он в многодетной семье, в местечке Родня под Климовичами в Белоруссии и жизнь свою начинал в ортодоксальной религиозной еврейской крестьянской среде. Мой дед был сельским инженером, самоучкой, и своих сыновей он учил трём необходимым, с его точки зрения, для жизни вещам: религиозному иудаизму, еврейскому образу жизни и традициям, а также ремонту и исполнению нового сельскохозяйственного инвентаря, включая оборудование для мельниц и крупорушек, не говоря о сеялках, боронах и прочем подобном, и ручной, мужской физической крестьянской работе. В представлении моего деда этих знаний и умений вполне достаточно было для того, чтобы прокормить себя самого и подрастающее потомство, сохраняя при этом принадлежность к своему древнему и битому-перебитому, но никогда и никем, слава Всевышнему, не покоренному еврейскому народу Всё остальное мой дед оставлял на откуп Всевышнему, который, управляя мирозданием, а именно сельскими раввинами и учителями, сам решит, кому из его сыновей, чем заниматься в этой жизни. Ни о какой иной форме жизни человеческой мой дед, я полагаю, не имел ясного понятия и, судя по тому, что рассказывал мне о нём мой отец, всю светскую жизнь, включая образование и разного рода вытекающую из этого образования деятельность, мой дед в глубокой своей принадлежности к ортодоксальному иудаизму и образу жизни полагал делами дьявольскими и от лукавого. Русского языка он не знал, и знать не хотел. Белорусский понимал и мог ответить, разумел по-польски и мог изъясниться по-немецки, потому что всю свою жизнь, от рождения до смерти, говорил на языке идиш, разговорном живом языке общения. Кроме того, отец говорил мне, что дед владел древнееврейским языком, читал Тору в оригинале и со старшими сыновьями, которые ходили учиться в иешибот, иногда переходил на иврит.
Предметом гордости моего деда было то, что девять зачатых им с бабушкой и рожденных ею детей не просто выжили, а отличались огромным физическим здоровьем, бодростью и колоссальным жизнелюбием и энергий. Кроме того, мои дедушка с бабушкой вырастили еще и четырех своих племянников, которые остались сиротами после смерти матери (сестры моего деда) и ухода их отца из дому на заработки. Отец их из Климовичей не вернулся, и ничего о нём больше никто никогда не слыхал. Тринадцать детей выросли и сформировались в семье родителей моего отца, и никогда их не делили на родных и племянников. Больше того, работали они всегда парой, и моему отцу частенько доставалось за то, что дядя Алтер, его двоюродный брат, филонил во время работы и философствовал. А виноватым оказывался мой отец, потому что мало было работать самому, надо было еще и заниматься перевоспитанием ленивцев.
В общем, после такого детства и юности мой отец был ростом 180, выше в семье был только дядя Гриша, один из его старших братьев, 187, касая сажень в плечах, морская пехота, Новороссийск, Малая Земля, медаль «За Отвагу» и Орден Славы 3-й степени. Речь свою дядя Гриша начинал всегда одинаково, но обычное бля он заменял на хвороба с немцами, а на вопрос, сколько фашистов он убил во время войны, ответ был: «Хвроба с немцами, а кто ж их считал, мы в основном ходили в ночные атаки, штык-нож в сапог, ленточки от бескозырки в зубы, и расползался отряд по немецким окопам. А назад с полным вещмешком, немецкая тушенка, шнапс и шоколад. У нас-то жрать было нечего. Мы же были десант». И все, уважаемые дамы и господа, на этом рассказы о героизме заканчивались. Еще он добавлял нехотя: «У меня взводный был человек. Он мне по субботам разрешал молиться».
Мой папа был пониже ростом дяди Гриши, но при этом еще шире в плечах, коренастый, широкогрудый, и задние мышцы спины у него были такие, что я в детстве очень любил положить его на кушетку и поставить ему на них стакан с водой. Шло время. Суд и увольнение из армии, когда вместо ожидаемых генеральских погон и ордена Ленина за двадцать семь лет безупречной службы и три войны – Халхин-Гол, Отечественная, Японская – отец был снят с должности комбрига и отдан под суд. Слава Всевышнему и заслуга мамы, которой никогда ничего не было нужно – ни машин, ни квартир, ни дач, ни побрякушек и шуб, он не сел, но сколько было переживаний. Чего стоили все эти обыски, дознания, следствия, допросы! Но мама была глубоко убеждена, что поседел отец и очень постарел, когда в результате несчастного случая погиб его любимый старший брат, дядя Борис. Нет, дядя Борис не был старшим в семье, но его образ мыслей и образ жизни были подчинены законам ортодоксального иудаизма, и авторитет его считался непререкаемым. Для моего отца дядя Борис был не просто старшим братом, не просто родным и близким человеком. Я не могу подобрать слова, чтобы охарактеризовать эти отношения. Потому что у еврея есть Бог и больше нет никого. В Торе сказано: не сотвори себе кумира, и не строй идолов, и не поклоняйся никому, кроме Бога твоего, и есть Бог наш, и он один. Ешь ляну алоим шеляну, элоим эхад. Всё.
Так должно быть, а в жизни? А в жизни так, что я никогда не забуду, как это было. Кто-то позвонил, маму позвали к телефону, и вдруг она начала плакать. Я выскочил в коридор. Мама вообще-то редко плакала. Мама наша была человеком нордической стойкости и железного порядка и внутри, и снаружи. Я закричал: «Что случилось?» Мама ответила: «Погиб Борис, попал под поезд, буть она проклята, эта дача, твой отец чуть не сел в тюрьму из-за неё, а Борис из-за неё погиб».
Слышим, в дверь два звонка, я бегу открывать, мама за мной. Отец как увидел мать заплаканной, начал как-то странно оседать в прихожей на кузинский сундук. Он был в папахе, в шинели, в форме, хотя уже не служил и суд уже закончился. Не знаю, то ли он носил форму, чтобы напоследок насладиться своими полковничьими регалиями, то ли, что более вероятно, у него просто не было гражданской одежды, но он дернул верхний крючок шинели и, тяжело оседая на кузинский сундук, прохрипел глядя на маму: «Ира, где Ника, Ника где?» «Ника в бассейне, – сказала мама, – а вот Бориса нет». В коридор выскочила Вера Дмитриевна Кузина (прозванная тётей Шурой «Рыжка») и, увидев отца тяжело осевшим на ее фамильном сундуке, закричала в свою комнату благим матом: «Андриан, вызывай «скорую». Довели полковника твои дружки особисты! Не пожалели гады танкиста. Начали своих душить, чужих-το давно всех извели».
Отец встал, лица на нем не было, папаха упала на пол, я поднял ее и держал в руке. Он поседел, сразу поседел. «Не надо «скорую», Вера Дмитриевна, и ни при чём здесь военная прокуратура. Они своё дело делают. У меня брат погиб родной». Выскочил из своей комнаты дядя Ваня, подхватил отца под плечо, в дверях своей комнаты стоял Жорж с рюмкой в руке и буквально влил её содержимое отцу в рот со словами: «Давай-ка, полковник, это как фронтовые, тебе сейчас поспать бы». Из передней раздавались всхлипывания Рыжки: «Это какой же брат-то, Арон, Гриша, Исаак или Борис, не дай Бог, он же этого не переживёт, Борис же любимый, и это после суда, после всех этих допросов, обысков. Это где столько здоровья-то взять ему, полковнику-то?»
Здоровье было, он пережил, потому что была его огромная семья и он должен был им всем теперь заменить Бориса, потому что были мы с сестрой, была мама, бабушка, была Шура и после смерти моего деда он был единственный мужчина в семье, и он знал в жизни главное. Он знал, что это такое – быть мужчиной. Нет, он ошибался конечно, он был человеком, а человек не бывает святым и всегда правым. Например, ему тяжело дался я, вернее мои знания в иудаизме, полученные из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Эфрона и многих других книг имевшихся в доме или у дяди Бори, бабушкиного брата, Бориса Львовича Гамзы. Вначале отец не мог смириться с тем, что не может ответить на мои вопросы или я ловлю его на ошибках и тыкаю в источник, с которым он спорить не смеет. Но он знал в жизни главное. Любой человек может ошибаться, и даже не важно, признаются эти ошибки или нет. Что-то в жизни надо уметь делать так, чтобы ошибок не было. И тогда у тебя есть авторитет и уважение людей.
Он любил жизнь, очень, и она, жизнь, отвечала ему взаимностью, и по ним обоим, по нему и по его жизни, это было видно. Но время брало своё. Он старился, а жизнь шла вперед. Он уже очень многое не мог делать сам. Например, заменить колесо на машине. Но я подрос и, будучи в отца костяком, остаточно рано обрел силу в руках и в своего деда, отца мамы, приобретая навыки автомеханика из объяснений отца, я работу выполнял бегло и за мной не нужен был присмотр, если я знал, что и как нужно сделать.
Медленно, но верно подкатило начало 70-х. В 72 году моя сестра родила в МОНИАКе девочку, и мы приехали забирать ребенка. Мама, отец, тётя Шура, я и Игорь – муж и отец. Папа курил. Где стоял, там и курил. Мама говорила о нём: он так привык к своей военной форме, погонам и уважению к себе, что никак не переоденется. А люди-то встречают по одёжке и не могут понять, почему он так себя нахально ведёт. В общем, стоим мы на приеме детей, отец закуривает и подзывает меня. «Сынок, сейчас выйдет Ника, и нянечка вынесет ребенка на руках. Есть обычай у русских, ребенка надо выкупать. Вот тебе четвертной, заплатишь за девочку нянечке и передашь ребенка тете Шуре с мамой, а то у этого (дальше следует презрительное слово на идиш) никогда в кармане больше рубля не водится, завлаб хренов, всё на машину по рублю собирает». «Па, ты бы сигарету выбросил в урну и пошёл бы сам заплатил и ребенка забрал. Мне чего-то боязно». Взгляд отца становится жестким, глаза съезжаются в хазарский прищур: «Давай, сынок, это приказ, у меня уже руки слабые, боюсь, уроню я девочку».
Прошло десять лет, начало 80-х, родилась моя Диночка. Мы все приехали в роддом. Мне почти тридцать, я старший научный, кроме того, занимаюсь «халтурой», мы пишем диссеры нацменам и тем самым поднимаем на недосягаемый прежде уровень отечественную периферийную науку. Я на своей машине. Одет, обут и курю американские сигареты, что было первым раздражителем для моей дорогой тёщи. Думаю, она мне этого не забудет до моей или её смерти. Все стоят. Отец с сигаретой в приёмном покое, какая-то нянечка или доктор попробовали что-то сказать, кажется, он ответил на идиш. Реакция была – «только иностранцев тут у нас не хватало». Ещё чуму или холеру в роддом завезут, мало нам своей дряни, не знаем, куда деться от стоматитов.
Подхожу: «Пап, ты бы бросил сигарету, а то они сейчас главврача вызовут, тебе это надо?» «Ладно, сынок, не горячись, пару затяжек и выброшу, а тебе ребенка забирать, у меня уже десять лет назад руки слабоваты были, а сейчас еле руль в руках удерживаю на ямах». Про деньги не спросил, знает, что я обожаю шнырять по магазинам и мне везет, все время попадается что-то, поэтому в кармане у меня меньше пары сотен рублей никогда не бывает. Я отхожу, он догоняет меня со словами: «Да, сынок, инфляция, десять лет прошло, ставку надо удвоить, ты понял?» Я понял – я в него. Мне никогда не бывает жалко денег, только чтобы они были, а они для того и есть, чтобы ими платить. Вероятно, как и он, я умру нищим, но зато свободным.
Прошло еще десять лет. Мизансцена сильно изменилась. Начало 90-х. Израиль. Страна, где всегда жарко, где в роддомах проходной двор, где в начале 90-х все курили, где стояли, и где слово «порядок», имеет весьма глубокий смысл и означает порядок проведения пасхального застолья. Весь остальной порядок – это личное дело данного конкретного индивидуума. В семье праздник. Родился мальчик, и уже по телефону договорились, что он будет носить двойное имя, моего деда по отцовской линии – Айзик и дяди моей жены, капитана артиллерии, геройски погибшего в Отечественной войне, Вениамин по-русски, Беньямин на иврите, Беньямин-Айзик Коган.
На следующий день после рождения ребенка мой отец прилетел в Израиль из Москвы. Приезжаем в больницу Баней Ешуа, ортодоксально-религиозный квартал Тель-Авива, Бней Брак. Выходим из машины, прошли метров 200 – «Сынок, огня дай. Прикурить». «Папа, я же курить бросил, давай сигарету, я пойду, прикурю в машине от прикуривателя». «Не надо, вон человек идёт, сейчас у него прикурим». Навстречу нам двигается человек, на голове меховая шапка, изрядно напоминающая головной убор английских королевских гвардейцев, несущих охрану Букингемского дворца в Лондоне, одет в плотный, шелковый черный халат, подпоясанный шнурком из парашютной веревки. На ногах туфли в стиле XVII века и белые гетры, которые носили советские пионеры времен моего детства. Венчают фигуру дорогущие, в золотой оправе, самые модерн очки со стеклами «хамелеон» и торчащая изо рта толстенная гаванская сигара в стиле «Уинстон Черчилль». Папа подходит к человеку, и я вижу, как между ними завязывается весьма оживленная беседа на идиш, которая сопровождается вспышкой золотого «Ронсона» и попыткой всучить ему этот самый «Ронсон». В конце концов, зажигалка оказывается в кормане отца, и человек расцветает блаженной улыбкой. Приблизившись к ним, я благодарю за подарок и спрашиваю, когда начинается сегодня Шабат, потому что дело происходит на исходе пятницы. Выслушав мою тираду на иврите, человек отвечает мне по-английски: «Мне твой отец сказал, что ты не знаешь нашего родного языка, не говоришь на идиш. Это очень плохо, но еще хуже, что на святом языке, на языке Торы ты говоришь о вещах житейских. Это совсем никуда не годится, это очень большой грех». Английский мой ужасен, я с трудом но отвечаю: «А со сфарадим на работе мне на каком языке объясняться, они английского не понимают, а я не знаю французского». «Работу надо менять, раз так. У тебя полчаса в распоряжении, через полчаса мы закроем шлагбаум, а трагедия не велика, в кои-то веки раз проведешь субботу в хорошей компании и с хорошими людьми. Я объяснил твоему отцу, где мой дом и как до меня дойти. Я тут близко живу, 150 метров до моего дома пешком от больницы. Гуд шабес аидеше кид! Зайгизунт!» Ну, это даже я понял, и мы с отцом бодро двинулись к больнице…
Всё успели, он посмотрел на внука, обнял Марину и сказал ей спасибо со слезой в голосе. Постарел. Раньше его прошибить было очень трудно. Толстокожий, всегда называла его мама.
Прошло чуть больше положенных восьми дней, у мальчика был повышен билирубин и главный врач больницы раббай Фридман не позволял делать брит милу. Но всему наступает своё время, по израильскому обычаю снят улям, зал, все собрались. Все Авруцкие: Мати, Дарон (Тат Алуф Дарон Альмог – бригадный генерал Дарон Альмог, в то время командующий Южным военным округом, старший сын Авруцких), Моди, Ротем, Гидон Окунь с Таней, Ицик Родошкович с Шули, Ривка с Ициком, соседи, ребята с работы, Далия из Марининого банка. Страна маленькая, все друг друга знают. Через некоторое время явился мейл, сухопарый поджарый сефард, волосы черные, глаза тоже, и пальцы, длинные, как у хирурга. Инструменты разложил, куда-то что-то отнес прокипятить. Через пятнадцать минут мейл готов. Кто будет держать?
Первым слинял на улицу курить доктор Гидон Окунь, заведующий отделением из больницы Бейлинсон. Ко мне подошла Таня, извинилась и сказала что у Гидона панический страх детского крика и он падает в обморок от вида крови у младенца. В общем, все разошлись кто куда, остались одни старики. Отец быстро смекнул, что происходит, и говорит мне: «Сынок, ты же тоже психопат еще тот, иначе врачом бы был. Да и по нашей, по идишевской традиции, тебе нельзя, только если, не дай Бог, нет никого, давай мне ребенка, я буду держать». Я подхожу к мейлу и объясняю ему происходящее. Мейл смеётся: «Обычное дело. Сейчас мой помощник уже подъезжает к Ришону. Доплатишь немного». «Конечно, доплачу,» – говорю я, возвращаюсь к отцу и докладываю ему ситуацию. «Ты скажи, сынок, мейлу, что ждать никого не надо, я буду держать, у меня духу и сил хватит. Скажи, скажи ему, а если хочет, пусть подойдет ко мне, я ему пожму левую руку, а то ему правой-то работать надо».
Я подошел к мейлу, передал ему сказанное отцом. Мейл засмеялся: «Ну, пошли, поздороваемся. Он же старый совсем, какие там рукопожатия. Не бойся, я ему не буду руку сильно сжимать. Он же старик, как бы не сломать!» Через секунду наш мейл сидел на полу и потирал левую руку с неприятной гримасой на лице и приговаривал на иврите: «Вот так старик! Он же мне чуть руку не сломал. Слава Богу, отпустил, когда я вскрикнул. А то перелома не миновать. А какая же у него правая рука, какой силы?»
Брит закончился, все разъехались. Диночка несла на руках Бенни, наполненная гордостью и счастьем, что ей доверили нести мальчика. Папа, кряхтя и прихрамывая, шёл в моём сопровождении, напевая на идиш какую-то песенку. Я не выдержал: «Папа, объясни мне, пожалуйста, как так получается. Двадцать лет назад, когда родилась Яна, ты был старый и руки у тебя были слабые, и вообще. Десять лет назад, когда родилась Дина, ты жаловался на то, что на ямах не можешь удержать руль машины руками. А сегодня ты левой рукой усадил на пол здорового, молодого мужика. Могу я что-нибудь понять?» «А что понимать, сынок, всё слава Богу, всё хорошо, сейчас надо маме позвонить в Москву, завтра ты меня к тете Ане отвезешь в Иерусалим, там я у них побуду, у Неллы, у Гришеньки, потом Марина меня заберет, а там, глядишь, и домой. А ты про руки спрашиваешь? Конечно, слабые у меня руки. Вот у моего деда, отца моего отца, руки были, он заходил к нам в дом и говорил моему отцу: «Айзик, ты что же такие плохие подковы делаешь, я её не приседая сгибаю. А почему ты девчонок забирал у нянечек, так надо же было тебя немножко жизни поучить. А сегодня мой был день, сынок, я этого дня всю жизнь ждал».
Давно нет отца, больше десяти лет. И не с кем поговорить. Потому что не просто нет отца, нет мужского разговора. Прямого, начистоту, когда врать нельзя, спрятаться нельзя, когда надо говорить, как думаешь, а потом жить, как сказал. Всегда ли получалось? Нет, конечно, но когда он был – была совесть, и было стыдно жить с нею не в ладах, она мучила, грызла, не давала спать. Потому что, я не знаю, как это объяснить не умею, не хватает слов. В общем, у меня был такой отец, и он был таким человеком, что если он где-то и грешил, сделал что-то не так, то всё равно он в раю.
Папа, пап, слышишь меня? Ох, как я бы спросил сейчас тебя про вот эти мои тексты. И я знаю, что ты сказал бы мне: «Пиши, сынок, пиши Эмца, что-то есть в этом и это про нас про всех, про то, что мы были, и про то, какими были, и что с нами была наша война, и у всех нас она была общая, и у каждого на всю жизнь она была своя».
Зяма
А почему он стал Зямой? Я не знаю. Женька Кулагин… Среднего роста, коренастый, широкоплечий, с есенинским взглядом голубых глаз и светлыми вьющимися густыми волосами. Зяма, а я тебя ни разу не видел, думаю, года после 75-го точно, а может быть и больше. Зяма, ты был самым красивым из нас, у тебя была самая лучшая и совершенно мужская фигура, ты лучше всех стоял на коньках, быстрее всех входил в поворот и ездил спиной, ты точнее и лучше всех бросал, даже лучше, чем Алим, у которого у первого из нас появился мужской разряд, как сейчас помню в седьмом классе, в самом начале учебного года. Алим играл сильнее тебя, но ты играл умнее, тоньше. Зяма, ты же всё, что умели делать мы, делал быстрее всех, тоньше, правильнее, умнее. Зяма, ты был гений!
Наш учитель математики Юрий Валентинович Паперно только Наташу Райхлин всегда называл по имени. Тебя он через раз называл то Кулагиным, то Женей. И иногда, очень редко, за то, что некому было дома помогать и даже уроки проверить, за абсолютно личные достижения он называл Сусака Володей.
Я помню, как я поразился, когда мы вышли на школьное крыльцо во время выпускного вечера и Паперно обратился ко мне по имени и в форме утвердительной сказал мне: «Ну вы-то, я уверен, читали «Один день Ивана Денисовича» Солженицына? Вам такие книги положено читать. Мне сказал Виктор Семёнович Магнат, что вы могли бы стать писателем».
В состоянии шока я нашелся только сказать в ответ: «Юрий Валентинович, откуда вы знаете, как меня зовут?» Куривший рядом и пускавший кольцами дым Зяма, усмехнувшись своей кулагинской ухмылкой, веско заметил: «В школьном журнале имя написано рядом с фамилией». Паперно и Зяма обменялись понимающими взглядами, после чего Юрий Валентинович открыл ящик с подаренными нами ему на выпускной гаванскими сигарами и, протянув его Зяме, сказал, не глядя на меня: «Возьмите, Женя, а вам, голубчик, не предлагаю, вся школа знает, что вы единственный в своей семье не курите. Я слышал, что даже бабушка ваша иногда покуривает, и Вероника давно выкуривает пачку в день. Это правда? А как же вы-то, голубчик, не курите?» «А он, Юрий Валентиныч, дыхалку бережёт, ну лёгкие в общем, ему в его семнадцать лет еще не ясно, что никаким профессиональным хоккеистом ему не стать никогда. Ну, хотя бы потому, что он ростом 183, а это уже за пределами возможного. А он же еще растёт, и координация движений в хоккее тем хуже, чем длиннее палка».
Паперно обвёл нас своими сегодня уже освеженными спиртным и поэтому подобревшими глазами и удивленно заявил: «Какая палка, мальчики, вы о чём, я совершенно потерял нить. Женя, я же ничего не смыслю в спорте и в хоккее в частности». Зяма прыснул и растворился в школьном дворе, где его давно поджидал Сусак с открытой четвертинкой. Дура Зинка не нашла ничего лучше, как объявить запрет на распитие спиртного за банкетным столом во время выпускного. Нашей директрисе Елизавете Никифоровне и завучу, красавице и секс-бомбе Нелли Ивановне спорить с дурой классной было неохота. Ну, разве таких бойцов, как Сусак, Зяма, Володька Корчагин по кличке Большой, или Бяша, можно было удержать сухим законом в пространстве школы. Всё было припасено в бараке, который стоял в школьном дворе и на карте Чистых прудов всеми ребятами обозначался как Домик Тыквы, по аналогии с героем из всеми обожаемого «Чиполлино» Джанни Родари.
К моему удивлению, Паперно, а также учитель физкультуры по прозвищу Ведро и Нина Михайловна (она же урожденная Нихама Максовна) наша англичанка, адрес в Домик Тыквы тоже хорошо знали и в течение выпускного не раз ходили туда освежиться, потому что Зинка со товарищи на столе выпускного вечера в изобилии расставили только соки и воды. Заходила туда и Нелли Иванна, на которую спокойно не могли смотреть ни учителя, ни мужского пола родители, ни изрядно созревшие старшеклассники и выпускники. Нелли Иванна явно выделяла из всех нас Зяму, и народ муссировал то, что у Зямы есть её домашний телефон. А еще в школе говорили, что лет десять назад, когда Нелли Иванна с Паперно только закончили университет и распределились в нашу 310-ю школу, у Неллиньки, как называл её Паперно, был роман с учеником 11-го класса, который чуть-чуть не закончился грандиозным скандалом. Дело спасло то, что мальчик был из очень хорошей семьи и поступать собирался в МГИМО и ни ему, ни его родителям не нужны были никакие скандалы. Дело замяли, а злые языки в школе поговаривали, что у Нелли Иванны легкая рука и что она дала дорогу во взрослую жизнь многим мальчикам из нашей школы.
Зяма, как правило, в школе во время уроков математики задачки из задачника Сканави решал быстрее, чем Наташа или Пимен. Иногда, а это «иногда» повторялось с известной периодичностью, ему было лень, и он считал ворон в окне, и тогда его не было в тройке призеров и его место, а именно первое и второе, занимали Пимен или Наташа Райхлин, а я или Сусак попадали на третье или четвертое. Но это передвижение лидеров означало всегда только одно: Зяма ничего не делает, он даже не записал себе условие задачи и не думает над ней. Был только один способ вывести Зяму из прострации – вызвать его к доске, и тогда он решал эту задачу, стоя у доски, с листа быстрее и лучше, чем то, что переписывалось в этот момент на другой половине доски из тетради. Также он учился по физике, астрономии, химии и биологии, писал он без ошибок и предметы гуманитарного цикла тоже знал блестяще. Немецкий, который был у него с пятого класса, знал он так, что, расхаживая по школе, наизусть читал «Фауста» Гётте или что-нибудь из Шиллера.
Всё давалось ему легко, на один зуб, даже на ползуба, и чертил он без линейки от руки и на глаз так, что наш учитель рисования и черчения Гервер возил его в МАРХИ и там демонстрировал как уникума, потому что Зяма чертил от руки не хуже, чем архитекторы с помощью рейсшины или кульмана. Мяч в баскетбольное кольцо он тоже бросал точнее всех и в футбол, который он не очень любил, играл так, как никто не мог вокруг.
Наш Зяма был самый обыкновенный гений, и он об этом хорошо знал и совершенно не делал из этого проблемы ни для себя, ни для других. Конечно, он всё на свете читал, абсолютно всё помнил и точно знал, с кем и о чём можно и нужно говорить. Историю, исторические фильмы и книги, а также литературные произведения и их героев Зяма обсуждал только со мной и Сусаком. О математике и физике он разговаривал только с Пименом. О химии только с Ольгой Семённой, нашей учительницей химии, и иногда с Наташей Райхлин. Об искусстве только с Ленкой Тазьбой, о спорте с Сашкой Алимовым и с Володькой Корчагиным. И Зяма никогда не путал собеседников и темы, никогда не делал никаких домашних заданий, и я не помню, какая сволочь из наших учителей и по какому предмету умудрилась впихнуть ему четверку, и он не получил золотой медали. А серебряной в то время в школах не было. Могу предположить, что это могли быть только Зинка или Кавалерия Фёдоровна, потому что Зяме доставляло истинное удовольствие присутствовать при их низостях в отношении меня, когда, проколовшись в очередной раз в датах, полководцах или героях литературных произведений, они получали корректировку от моей персоны. Это происходило машинально, я просто не владел собой в этих ситуациях и никогда не поправлял их нарочно. Эти две дуры, вместо того, чтобы моё замечание с места оставить без внимания, обязательно начинали со мной спорить и доказывать свою правоту, а паршивец Зяма тут же вставлял со своего места, а не устроить ли нам пари на то, кто прав – Кабан или учительница, и вообще, кто в конце-то концов в классе учитель, уж не Кабан ли? Одна из дур распалялась всё больше, и кончалось всё скандалом, в результате чего нас с Зямой выгоняли из класса.
Дотошный Зяма на следующий урок являлся с энциклопедией или литературным первоисточником и злорадно перед началом урока на весь класс объявлял, так, чтобы было слышно в дверях, где стояла Зинка или Кавалерия, что надо бы всё-таки податься в Сад Баумана или в ЦПКиО, что он слышал, будто бы там эрудиты спорят на деньги, надо попробовать на Кабане денег заработать. «Ни разу же ни ошибся!» – громогласно заявлял Зяма, с шумом на весь класс закрывая том Большой Советской Энциклопедии или художественного произведения. Потом поворачивался ко мне: «Слышь, а на фига тебе всё это надо помнить? И ты смолчать не можешь, если что?» Тут возвышал голос Сусак и заявлял ему: «Ты бы сам лучше язык попридержал. Они тебе устроят козью морду вместо золотой медали. У одного хроническое недержание мочи, и второй такой же осёл». На что Зяма делал лицо херувима, становился как две капли воды похож на знаменитый и растиражированный в то время по всей стране портрет Сергея Есенина с курительной трубкой, и голосом Зинки, так что она бедная подскакивала на стуле если была в этот момент в классе, заявлял: «Да, да Сусаков, я сколько раз говорила вам, Володя, вот кто серьёзно занимается, тот и поступит в ВУЗ. Вот так!»
Зяма, дорогой мой, я ничего не знаю о тебе, как ты жил после школы, был ли ты женат, оставил ли после себя потомство. Я знаю, что ты окончил Энергетический институт. Да ты мог бы любой окончить! Ты мог бы в жизни делать всё, что захотел бы. Зяма, ты был такой способный, я помню тебя школьником и я счастлив, что учился с тобой в одном классе. Я знаю, что всё, что знал и мог я, ничто по сравнению с тем, что мог ты. Ты был только один такой ЗЯМА во всей моей жизни, и знаю точно, что у других такого ЗЯМЫ не было ни одного!
Зинка и другие
Что есть поприще человека, а что есть профессия? Ажизнь? Сколько вопросов возникает, когда открываешь этот чистый лист вордовского файла и начинаешь ставить на нём знаки. И всегда вопрос: а о плохом, о низком, о человеческой низости и подлости надо писать или это никому не нужно? Вопрос вопросов! Я думаю нужно, обязательно нужно. Зачем всё это? А затем, что за свободу нужно уметь бороться и уметь её отстаивать, и потому что ничего нет на свете дороже свободы, и самая главная, самая необходимая свобода – это свобода мышления, это право человека мыслить свободно и говорить то, что он думает. И есть в моей жизни, в моём прошлом, в моём школьном детстве нечто, о чём я обязательно должен рассказать, хотя процесс этот будет для меня тягостен.
Итак, шёл 1968 год. В историю нашей страны и нашей жизни год этот вошёл как Пражская весна. Я не стану сейчас излагать последовательность событий. Есть масса источников, в том числе в Интернете, где пытливый читатель найдет для себя ответы на любые вопросы касательно Пражской весны. Думаю, что задача литературы не в изложении событий и оценке их. Этим должны заниматься история и историки. Для литератора важно передать атмосферу времени, о котором он пишет, и это, мне кажется, главная задача литературы событийной. Потому что есть еще высшая литература, литература языка, стиля, где событий вообще может никаких не происходить, как, скажем, в прозе великого Артюра Рембо. Но до этих вершин автору как до Монблана или Ниагарского водопада, поэтому вернемся на землю нашу бренную.
Бурное напряжение Пражской весны и последовавшего за ней непростого лета, когда нервозность СМИ и ТВ передалась в сердца советских людей и известным образом отразилась и на детских душах и сердцах. Если говорить языком, который появился в советских СМИ примерно двадцать лет спустя, чехословацкое руководство во главе с товарищем Дубчеком собиралось придать социализму человеческое лицо. Хотелось бы заметить, что еще никто и нигде не смог доказать на деле, что у социалистической страны вообще-то говоря это самое человеческое лицо может быть. Не будем сейчас говорить о Китайской Народной Республике, потому что это страна уж очень отличается от СССР или стран так называемого Восточного блока. Совсем иная в Китае система ценностей и взимоотношений между народом и правительством. В этом отношении, несомненно нам ближе такие страны, как Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия. Страны, с которыми нас в большей степени роднит языковая традиция, религиозная, культурологическая. И в этом смысле становится любопытным тот факт, что, хотя история не знает сослагательного наклонения, прислушайся тогда наше советское, брежневское руководство к тому, что говорили Дубчек, Тито, местами Косыгин, Дэн Сяопин и многие другие сторонники реформирования социализма и ослабления закрученных до предела гаек, то кто знает, возможно, что никакого СССР не было бы уже не двадцать а все сорок лет, а возможно, он был бы еще и сейчас.
Тем интереснее сегодня заглянуть одним глазком в эпоху, которая так привлекает нашу нынешнюю молодёжь, никогда при социализме не жившую и о которой столько всего хорошего говорит наше старшее поколение, по-видимому, забывшее очереди в магазинах за молоком, колбасой и водкой, цензуру, главлит, запрет на исполнение рок-музыки, спецхраны библиотек, где под паспорт или военный билет выдавали технические журналы на иностранных языках, изрезанные в пух и прах великие произведения мирового кинематографа, в которых поцелуи продолжались дольше, чем принято между мужем и женой после утреннего кофе, когда все спешат на работу Я могу продолжить, и это, я полагаю, будет в известном смысле интересно молодому читателю, равно как слегка освежит память людям постарше, склонным, по-видимому, к забывчивости и некоторым фантазиям относительно прошлого.
Было в ту пору написано и напечатано замечательное, в известном смысле выдающееся по своему содержанию и форме произведение нашего крупного писателя, главного редактора одного из московских толстых журналов Кочетова, которое называлось «Чего же ты хочешь?», где есть замечательный эпизод: один из главных героев произведения возвращается из заграничной командировки и в аэропорту какого-то европейского города он видит знаменитую тогда на весь мир ливерпульскую четвёрку, кумиров молодёжи 60-х и 70-х годов, великий ансамбль «Битлс». При этом в голове у героя бессмертного произведения товарища Кочетова мелькает мысль: «А что, эти четыре гомосексуалиста из Ливерпуля тоже летят в Москву?»
Уважаемые читатели всех поколений, я могу после стольких лет ошибиться в знаке препинания или интонации, но я уверен в том, что цитату привожу практически дословно. Я не намерен сейчас заниматься обсуждением темы сексуальной ориентации и норм сексуального поведения. Я противник однополых браков и не могу сказать, что мне нравится, когда мне пытаются внушить, будто все люди на свете бисексуальны, потому что весь животный мир бисексуален. Но я хочу в известном смысле, как говорят мои коллеги математики, отделить щи от мух. Книга Кочетова написана в эпоху, когда пластинки «Битлс» в СССР в магазинах не продавались. Разумеется, у всех всё было записано на магнитофонах, и все знали и понимали, что это великая группа, великие музыканты, новаторы, и советские люди начинали мало-помалу осознавать, что есть вопросы частной, личной жизни, в которые никакая милиция и партбюро вмешиваться не должны. Но при этом у нас существовала уголовная статья за мужеложество. Возможно, кто-то забыл об этом и, ведя активную борьбу за моральные ценности в нашем обществе, реально желает восстановить подобного рода уголовный кодекс и гомосексуалистов сажать в тюрьмы? Хочу заметить для особо ретивых, что если профессор Фрейд и иже с ним хотя бы частично правы и не во всем заблуждаются, то никто не застрахован от того, что его сын или дочь могут оказаться с подобными склонностями.
А теперь вернемся ровно на сорок лет назад, в 1969 год, в Харитоньевский переулок, где находилась тогда средняя общеобразовательная школа № 310 Бауманского района города Москвы. Итак, 1 сентября 1969 года мой 9-й класс, который был в школе один, потому что создали его из четырех восьмых, оставив лучших по успеваемости и по мнению педсовета школы. В 8-м классе у нас были переводные экзамены по пяти предметам: русский, литература, история, математика, физика. Возможно, перепутал что-то. Не уверен, была ли физика, но помню, что только по русскому письменному за сочинение у меня была четверка, остальные были пятерки и в году тоже. Прилично я закончил 8-й класс, очень прилично, несравнимо с тем, что у меня было в 10-м классе в аттестате зрелости.
Память не задержала, в каких классах менялись учителя. Кажется, в 9-м появилась Зинка – история и гнусный предмет обществоведение, который, да еще в Зинкином исполнении, сразу отравил школьную жизнь. Как избирательна память, и как она хороша в этом смысле. Я же помню голос Паперно, помню фальцеты Крокодила, когда он взрывался от чего-то, помню, как вкрадчиво говорила Ольга Семёновна (учительница химии). «Молодые люди, кино не про любовь. Аргентум хлор к вашему вниманию» – это на киноуроке в просмотровом зале. «Кулагин, Шалюхин, Завадовский не спать, не спать во время просмотра учебного материала! Всех спрошу, прямо одного за другим, покадровую разблюдовку будем делать». А маленький, скромный и очень тихий Нисон Давыдович Розенблюм? Любимый мой предмет – астрономия. Как же мне хотелось быть астрономом, чтобы искать в телескопе туманности Андромеды. А в планетарии, где Нисон Давыдович был научным сотрудникам, как он преображался, как менялся у него голос и какие он нам прочитывал лекции! Маленький, хрупкий, тихий Нисон Давыдыч Розенблюм превращался в гиганта, в атланта мироздания, и было такое ощущение, что сейчас он остановит телепатическим распоряжением движение планетарного аппарата и планеты изменят своё движение по орбитам, и звёзды поменяют размеры и очертания, и вся траектория мироздания перейдёт в руки маленького плюгавого еврея, гиганта и атланта планетарной астрономии Нисона Давыдовича Розенблюма.
Нисон Давыдыч, вы слышите меня? Это я! Я даже не пробовал поступать на физфак МГУ и не только не стал астрономом, но даже и сейчас, когда в магазинах миллион двести тысяч (это его любимая количественная характеристика в световых годах) всякой оптики, у меня нет своего телескопа, потому что нет своего бельведера, а белведера нет, потому что нет дома, где его можно было бы учинить. Нисон Давыдыч, у меня ничего нет, и мне не снятся сны, никогда. Но иногда, перед тем как заснуть, мне слышится ваш голос в Москвоском планетарии, и я вижу ваши горящие глаза и вижу, как шар светится на небосклоне, и нет ничего сладостнее, чем засыпать под вашу лекцию по астрономии.
Я не помню ни одного Зинкиного урока по истории или убогому этому обществоведению. Помню, что от неё пахло потом на весь класс и, если она вставала рядом, то паразит Зяма начинал строить такие рожи и так водить носом, что не ржать было невозможно. Ещё я помню, что она постоянно ошибалась и путала полководцев, даты, она путала всё, что можно было перепутать, и совершенно не понимала сути того предмета, который преподавала, и у неё были большие проблемы. Она попала в очень сильный, начитанный и насыщенный интеллектуальным зарядом класс. Класс был очень ровный, и в нём были настоящие лидеры, такие как Зяма, как Пимен, как Сусак. Эти ребята никому никогда не давали спуску и не прощали слабости, тупости, а главное, самое главное, не прощали не незнания чего-либо, а нежелания знать. Попав впросак, учитель назавтра должен был прийти в школу и реабилитировать себя по своему предмету, будь то математика, физика, история, литература или всё что угодно. И наши учителя про наш класс это хорошо знали и всегда готовились к урокам, были как спортсмены, всегда в форме и всегда готовы к отражению атаки противника на свои ворота, потому что их ожидали со своими вопросами Зяма, Пимен, Сусак, иногда прорывало Санчика Шалюхина или меня, а бывало плотно за дело брались Катька или Наташа Райхлин. Да и другие… Были свои сильные стороны у Веры Луньковой в истории и географии. Иногда подавала голос тихоня Оля Моргачёва или пробивало на что-то, кроме сверхкороткой юбки, сексапильную Кубасову. Могла спросить что-то и Марина Шуманова. Она была такая красивая и такая аппетитная, что сильно себя не утруждала занятиями вне школы, но если бы захотела учителю пришлось бы несладко на уроке.
Я думаю, что когда мы закончили школу, многие учителя вздохнули с облегчением, а особенно Зинка и Калерия Фёдоровна, заменившая в 10-м классе изгнанного за вольнодумство Крокодила.
Сейчас важно понять, что после того, как в 68-м году советские танки раздавили зачатки свободы в Праге и во всей Восточной Европе, 9-й класс московской школы как мог противостоял и боролся с учительницей истории, убежденной сталинисткой, которая решила, что вернулись старые времена. Противостояли своей внутренней свободой и тем, что и как мы говорили, как вели себя, даже как одевались, как учились, как знали предметы. Убогие Зинкины уроки, её косноязычная речь не могли сбить нас с пути свободного мышления и запугать, законопатить в банку сталинизма. Не вышло у вас ничего, слышите, Зина Александровна? Слышите? Не вышло! Из таких, как Зяма и Пимен, и Сусак, уже нельзя было сделать рабов. Упустили вы Никиту, устроил он XX съезд, и открылись чакры свободы на всю страну. И больше не было рабства в душах и сердцах.
Нет Зинке удалось, конечно, кое-что. Она сломала Наташу, но не думаю, что на всю жизнь. Наташу я видел после школы один раз, кажется, году в 77-м или 78-м. у неё уже был ребенок, она была разведена. Во всяком случае, говорила и мыслила она тогда, как свободный человек, а не так как, хотела бы Зинка – сочетание рабской задавленности и ханжества одновременно.
Зинка пыталась строить нам козни, рассчитаться с нами за вольнодумство, за свободу мышления, за начитанность, за интеллект, за память, особенно ассоциативную. Накатала нам по трояку за поведение и тем самым автоматически лишала шанса поступить в ВУЗы. Как уж директриса наша Елизавета Никифоровна эту туфту подписала, не глядя, видно. В общем, пришла в школу моя старшая сестра, которая ее же за восемь лет до меня закончила, и, зайдя в кабинет к Елизавете, тихо объяснила, что эти характеристики и трояки за поведение – дело даже не для Минпросвещения, которое, кстати, располагалось в точности напротив школы через Чистопрудный бульвар, а что родители нашего класса, из которых больше половины фронтовики, намерены идти в Бауманский райком партии с коллективным заявлением на имя секретаря райкома по идеологии с просьбой разобраться в том, что творится в 310-й школе. Елизавета наша, не дура будь, даже четверки ни одной не оставила в качестве оценок за поведение. Весь класс получил пятерки и рекомендации для поступления в ВУЗ.
А Зинка наша, это я теперь понимаю, вела бескомпромиссную классовую борьбу с врагами дела партии и товарища Сталина. Поздно! Упустили товарищи время. Нельзя было допускать XX Съезд и развенчание культа личности. Сработал принцип партийной дисциплины и подчинения Первому или Генеральному Секретарю ЦК. Нельзя было выпускать джинна из бутылки, а то дали слабинку, и повылезали тараканы из щелей, такие как Зяма с Пименом из нашего класса или Гайдар с Чубайсом. Всё Хрущев с Горбачевым, такую страну под откос пустили, такое дело медным тазом накрыли. Вот бы Зинку нашу, ей бы волю, она бы быстро порядок навела, и был бы у нас опять на всю страну один большой сталинский лагерь от Артека до Колымы. Все бы ходили строем и учили речи товарища Сталина, Отца народов – как Зинка, которая путала даты, не знала полководцев и ничего не понимала в истории как науке, но зато свободно могла цитировать речи и труды товарища Сталина, со знаками препинания и абзацами. Вот это память, Зинаида Александровна, вот это я понимаю! На что ушли мозговые клетки, и какой мутью были забиты желанные извилины.
Зинаида Алексанна, живы вы или нет, но мы с вами классовые враги, были, есть и будем, потому что я принадлежу к классу свободных людей, а вы – РАБОВ!
Хвороба с немцами
Дорогой мой читатель, а я не пишу мемуаров и дневников. И поэтому не обязан строго следовать хронологии событий или в точности цитировать высказывания моих героев. Я занят совершенно другим делом. Я пытаюсь излагать свои мысли, описывать свои чувства, свои эмоции. В моём повествовании перекликаются события, времена, ощущения, которые витиевато сплетены в моей голове временем моего детства, юности, молодости и теперь уже зрелости, переходящей в самую, как мне кажется, грустную и тоскливую пору человеческого бытия – надвигающуюся старость. В соответствии с вышесказанным я не принимаю никакой критики и никаких замечаний по поводу мною написанного.
Было начало 70-х годов прошлого века. Нас выселили из Чистаков в глухо ненавидимое мной Измайлово, и любой предлог попасть в центр города, а тем более на родные Чистые пруды я считал за счастье и радость. Была весна, не помню точно какого года, я учился на втором или третьем курсе. Отец был в Цхалтубо, в санатории Министерства обороны, лечил ногу. Звонок по телефону, короткий разговор, мама кладет трубку и обращается ко мне: «Надо ехать на Чистые, на Архипова. У Гриши завтра очередь подходит за мацой, кроме тебя ехать некому, в три часа ты должен быть на Архипова, и смотри не вздумай с кем-нибудь там вступить в очередную свою идиотскую дискуссию. Там полно провокаторов, а ты студент МАИ».
Буду откровенен, и, прежде всего, сам с собой. Мне нравилась московская протестантская кирха, нравился очень Домский собор в Риге, нравилась средневековая и совершенно европейская архитектура старого Таллинна или Вильнюса. Я обожаю орган, очень люблю клавесин, камерную музыку Баха, Вивальди. И не только, а теперь и подавно, мой любимый город Париж, прогулки по Сене на пароходике вечером, когда влюбленные парочки целуются на берегу и в воздухе пахнет весной и любовью. Ах какой прекрасный, какой сказочный, какой замечательный город Париж, и как там любится, как дышится! Но я отвлекся. Это был совсем не Париж и даже не Таллинн, это было скучное здание Московской хоральной синагоги (в то время единственной в городе), и там не было никакого органа, а была унылая и довольно скорбная, утлая обстановка и атмосфера.
Я явился к положенному времени, даже чуть раньше, нашёл очередь за мацой и дяди Гриши там не обнаружил. В очереди мне объяснили, что у каждого есть свой номер и никакого смысла вставать последним нет. После чего я отправился на улицу покурить и поглазеть с высокого крыльца синагоги на родные Чистопрудные переулки и дворы. Район этот я знал как свои пять пальцев и сейчас знаю и, несмотря на новое время и новые условия жизни, думаю, и сейчас смогу уйти там через проходные дворы и знакомые с детства подвалы от любого агента 007. Впрочем, когда я сегодня гуляю или проезжаю на машине мимо Московской хоральной синагоги, то перед глазами у меня немедленно вырастает картина моего детства. Мы идём с Сусаком (Володькой Сусаковым, моим одноклассником и закадычным кентом) из хоккейной секции, после тренировки. Коньки, клюшки, щитки, краги, форма, и все понавешено на нас, потому что никаких сумок, в которые бы всё это влезало, нет, а таскаться с чемоданом считалось не по форсу.
Подходим к синагоге, и Сусак, высоко подняв голову, вещает мне: «Слышь, Кабан, переведи, что там написано, я тебе рубль дам». Сусак, Володька, слышишь меня, это я Кабан, я зову тебя из наших теперешних пятидесяти с гаком, там написано на иврите «Бейт Акнесет», буквальный перевод – «дом собраний», а синагога слово греческое, и я не знаю, что оно означает, надо бы посмотреть. Володь, рубль давно мой. Не забудь мне его отдать при встрече, где бы она ни состоялась, тут или там.
Стою, курю себе на крыльце синагоги свою родную «Яву», подходит дядя Гриша. Высокий, сухопарый, серое пальто, кепка. «Молодец! Хвороба с немцами, вовремя пришёл, а вот куришь зря. Я вот не курю, и у меня все зубы свои, хвороба с немцами, бросай курить. Пошли». Заходим в синагогу, дядя Гриша чувствует себя как дома, я расстегиваю куртку и пытаюсь снять шапку – в здании тепло, даже жарко. «Ты что, хвороба с немцами? Правду мне Рафаил сказал, что ты в синагогу никогда не ходишь, ты что снимаешь шапку, это тебе что церковь, что ли? У тебя что, в кармане ермолка есть?» «Какая – думаю про себя – ермолка у меня в кармане, жара тут у вас, а я в своей красавице ушанке ондатровой». «Стой здесь, хвороба с немцами», – говорит дядя Гриша, завернув в какую-то комнату и плотно закрыв за собой дверь.
Через минуту выходит, сияя, как рубиновые звезда на башне Кремля. «На тебе подарок от раввина, ермолка из Израиля, прямо в пакете, нераспечатанная, это тебе за то, что ты коэн, что твой приход в синагогу – благословение от Бога. Ты хоть знаешь, что такое коэн, хвороба с немцами?» Я начинаю говорить, цитировать Еврейскую энциклопедию Брокгауза и Эфрона. Дядя Гриша останавливается и внимательно меня слушает, еще несколько евреев появляются около нас, и через минуту меня прерывают и начинают засыпать вопросами. В том числе на идиш.
Дядя Гриша тянет меня за руку, мы уходим. «Я же предупредил Ирину, чтобы ты молчал тут, тебя что понесло-то, хвороба с немцами, тут помалкивать надо, здесь полно всяких поцов, которые заложат враз, хвороба с немцами. Молчи! Пошли за мацой!» Я пытаюсь что-то сказать в своё оправдание и обращаюсь к нему на «вы». Всех братьев и сестер отца я называю на «вы», дядями и тетями, только с тётей Машей и дядей Исааком я на «ты», а Исаака называю и без «дяди». «Ты что, хвороба с немцами, ты что мне выкаешь? Я тебе что, Арон что ли, или Аня, или Соня, я простой рабочий, у меня четыре класса образования, я амгорец, безграмотный. Понял, хвороба с немцами? Ну так иди сюда, я тебе покажу, где Берел молился, где у него было место».
Мы входим в маленькую комнату, и дядя Гриша начинает читать молитву, вынув из кармана молитвенник. Голос прерывается всхлипываниями, на щеке слеза. Он заканчивает молиться, и мы выходим в коридор. «Ты помнишь Берела, помнишь?» – спрашивает дядя Гриша, смахнув слезу со щеки. Я понимаю, что врать нельзя: «Нет, не помню. Дядя Борис погиб, когда мне было девять лет, и я мало его видел». «Ты мало видел Берела, ха, ты что говоришь-то, хвороба с немцами. Да Берел всегда говорил твоему отцу, что тебя надо учиться отдать, что ты смышлёный очень, и Исаак тебя хвалил всегда. И еще Берел говорил, что когда-нибудь этот бардак закончится и, может быть, ты будешь раввином, и тебе смиху наденут. Понял? А ты Берела не помнишь, вейзмир, а может, и не помнишь, ты же совсем был маленький, когда Берел погиб», – и опять по лицу его покатилась слеза, и дыхание сбилось. Он откашлялся, успокоился и заявил мне: «Ну всё, я сделал то, о чем меня просил Рафаил, теперь пошли за мацой и очередь уже подходит, наверное».
Мы вошли в помещение, через двадцать минут получили свою мацу, и я свою пачку положил в сумку, а дядя Гриша взвалил себе на плечо огромную коробку. «Я, хвороба с немцами, твой отец в Цхалтубо лечится, а я должен всем мацу развезти. Понял, хвороба с немцами, пошли домой».
На улице к дяде Грише подбежал какой-то маленький, плюгавый и не очень опрятный старый еврей. Разговор шёл на идиш, перемежаясь «хворобой с немцами» и русскими матерными ругательствами, после чего дядя Гриша махнул рукой и мы пошли в сторону Покровки. «Дядя Гриша, – спрашиваю я, – а что ты ругался с человеком этим, что он хотел от тебя?» «Шидуах – есть такое слово в нашем языке, он тебя сосватать хочет, я ему покажу сватовство, хвороба с немцами». «А что плохого-то, может, какая девушка хорошая, красивая и не дура», – начал филосовствовать я.
Дядя Гриша быстро сказал что-то на идиш, потом посмотрел на меня и добавил по-русски: «Ты что, хвороба с немцами, вздумал меня жизни учить, сосунок, сейчас я дам им телефон Рафаила, чтобы они могли устроить шедуах. Это что такое, вот это вот вторсырье поганое будет сватать племянника покойного Берела и внука покойного Якова Алексаныча? Ты же по отцу акоэн, а по матери от ашкенази. А они кто? Да ни вжисть! Иди домой, хвороба с немцами, и сумку не урони, а то вместо мацы принесёшь бабушке мацовую муку на кнейдлих, хвороба с немцами, зайгизунт!» После чего дядя Гриша бодро зашагал в сторону метро Кировская, неся на плече огромную коробку с клеймом Московской хоральной синагоги на улице Архипова со здоровенной синей печатью в виде Маген Давида.
Дядя Гриша, Гирш Айзикович Коган, 187 см ростом, косая сажень в плечах, ни капли жира до самой смерти, родной ты мой, старшина второй статьи, морская пехота, десант на Малой Земле, медаль «За Отвагу» и солдатский орден Славы 3-й степени, ты слышишь меня? Слышишь, хвороба с немцами, я не ем хлеба и мучного в пейсах, держу пост на йом кипур (ин-кипер), и у меня шестнадцать лет назад родился сын, в Израиле, в Бней-Браке, и ему сделали брит на руках у моего отца. Айзик Беньямин Коган (Акоэн). Всё хорошо, дядя Гриша, всё хорошо, я, слава Богу, здоров, ХВОРОБА С НЕМЦАМИ!
Урок математики
«Светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг МОЙ и СОЛНЦА!» В. Маяковский «И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой. Словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед». И. БродскийЭто было благословенное Богом лето 1971 года. Я просыпался утром с мыслью о том, что, Боже мой, какое счастье – я окончил школу и больше мне не нужно будет слышать убогие Зинкины уроки истории и обществоведения и слушать и смотреть провинциальный и бездарный театр одного актера, вернее актерши в исполнении Калерии Фёдоровны, не без основания и причины прозванной Зямой Кавалерией. Нет, я любил школу, я обожал свой класс, я любил учителей, и у нас были хорошие учителя. Но мой десятый год обучения в родной 310-ой школе был ужасен. Я всегда был и, видимо, останусь до конца жизни человеком настроения. Конечно, с годами, с возрастом, благодаря приобретенному опыту испортить настроение мне стало сложнее, но и сейчас это иногда случается. Вот, к примеру, знал же я, что один из моих приятелей и бездарен во всём, и завистлив, и сноб, и тем не менее показал ему один из своих текстов и потом пару дней ходил сам не свой, с головной болью и обдумывал, как надо это вот всё бросить, потому что таланта нет. Какого, к лешему, таланта, что бросить и кто бы говорил со мной про мой талант! Последних лет двадцать этот приятель живет тем, что сдаёт квартиру в центре Москвы, а теперь так устроился, что и за ту, в которой живет, денег не платит. Двадцать с лишним лет человек ни одной копейки своим трудом не заработал, а я всё равно расстроился, что ему мой текст не понравился.
Впрочем, ладно, я не об этом. А о том, что мне было шестнадцать лет, потому что у меня день рождения в июле – и летом того самого пресловутого 1971 года у меня было совершенно отвязанное настроение, потому что в моём распоряжении еще было следующее лето, если бы я сразу после школы не поступил в ВУЗ. Я жил в полное своё удовольствие. Дача, что уже само по себе замечательно. Природа, река Сетунь и зона отдыха на ней, Сомаринский пруд на излете оврага в писательском городке. Пруд в ту пору был под контролем маршала Будённого, так как часть пруда находилась на территории его дачи, и там для маршала разводили зеркального карпа. Маршал Семён Михалыч любил порыбачить с удочкой на берегу.
Преределкино в ту пору было заполнено небожителями, а именно писателями, режиссерами, актерами театра и кино, композиторами, белетмейстерами, артистами – в общем, цветом советской интеллигенции того периода, с детьми и внуками которых я состоял в тесных дружеских отношениях. Потому что и мы, как выражалась наша тётя Шура, мамина няня, которая всех на свете вырастила, мы тоже не пальцем деланы и не на помойке себя нашли. В общем, дорогие мои читатели, жил я просто припеваючи. У меня всё было, и никто от меня за это ничего не требовал и даже ни о чём не спрашивал. И семья наша выглядела более чем пристойно. Все мы были одеты и обуты, на участке стояла машина, в ту пору, если мне не изменяет память, «Волга», ГАЗ-21 темно-серого цвета с сиденьями из натуральной кожи, по тем временам, несомненно, понты. А если еще добавить, что в «Волге» этой мотор был от «мерседеса», который разбили и списали в дипкорпусе, а папа через свои связи этот мотор получил и руками двух сверхсрочников, своих бывших подчиненных Казака и Скляра, его к «Волге» приладил, то машина наша в известном смысле по тем временам была эксклюзивом и моё особое положение в посёлке главным образом объяснялось связями моего отца в автомобильном мире и его пониманием в машинах. Если добавить к этому, что отец очень хорошо понимал, что такое построить дом или положить дорожную насыпь, как делается фундамент под домом и прочее в таком духе, то с учетом времени, о котором говорится, были мы людьми в акватории от Боровского до Минского шоссе и в дачных поселках, находящихся там, весьма популярными.
Тут надо понимать и отдавать себе отчет в том, о каком времени идет речь. Не было тогда в Москве станций технического обслуживания и гаражей, куда можно было свободно заехать и сделать машину, как сейчас. Гражданского автосервиса практически не существовало, механиков катастрофически не хватало, а автомобиль считался таким сложным техническим средством, что любая поломка его превращалась в трагедию, как для народного артиста, так и для не менее народного писателя. К моему отцу обращались за помощью все, и он никогда никому ни в чём не отказывал. У папы были очень серьезные связи, как это тогда называли, в самых разных сферах. Сейчас, по прошествии почти сорока лет, я задумываюсь: а если бы я не сдал вступительные экзамены, смог бы мой отец меня избавить от службы в армии, или устроить на работу, где у меня была бы бронь, или заплатить, чтобы меня приняли в ВУЗ, даже если я не получу проходного бала? Не знаю, в СССР всегда была коррумпированная жизнь и процветали взятки. Однако мне трудно сегодня оценить возможности моего отца в ту далёкую пору.
Никогда не забуду, как однажды вечером я невольно подслушал его разговор с моей бабушкой. Она поила его чаем на террасе. «Рафаил, – начала она, – как вы оцениваете свои возможности в отношении моего внука? Если поступление в ВУЗ он провалит, сможете вы его избавить от службы в армии, как это вам удалось с вашим племянником Сашей Гойхманом или племянником Норочки Колей Лазаревым? Я хочу понять, что ждёт моего внука».
В ответ папа тоже был совершенно прозрачен: «Фанни Львовна, вы хорошо знаете, что я десять лет как в отставке. Мой сын не Саша Гойхман и уж точно не Коля Лазарев. Он давно усвоил основной закон жизни. И во дворе нашего дома на Чистых прудах и в Советской Армии этот закон один. Когда тебя пришли бить трое или пятеро, надо встать к стене, чтобы не могли ударить сзади, и держаться на ногах из последних сил, чтобы не били ногами лежачего. А потом нужно всех обидчиков подкараулить по одному и так отомстить, так избить каждого, чтобы больше им никогда не могло прийти в голову бить тебя втроем одного. И усвоил он эту науку великолепно, и давно никого не боится, а в хоккее научился терпеть боль. Вы же мне сами рассказывали, какую боль он терпел, когда у него было разбито шайбой лицо, и была гематома на весь глаз и скулу. А он при этом не плакал и спал как сурок. А вы тогда в первую же ночь после травмы сказали, что лицевая кость у него не сломана, иначе он не мог бы спать. Сейчас капитан 3-го ранга Володя Волков служит в горвоенкомате, а что будет летом следующего года, я не знаю».
Бабушка была совершенно спокойна и как всегда вежлива с отцом. Она заключила разговор в предельно ясной форме: «Было бы очень хорошо, чтобы вы объяснили моему внуку, а мне кажется, он этого не понимает, ваше отношение к его службе в армии».
Я тихо ретировался подальше от террасы и серьезно задумался, вероятно, первый раз в жизни. А в самом деле, что я буду делать? Ни о какой истории и литературе речи быть не может. Какие там гуманитарные науки, такого, как Крокодил, даже из нашей школы выжили за вольнодумство, так что же, я буду учиться у таких, как Зинка и Калерия Фёдоровна, а потом работать с такими, как они? Да ни в жисть! Лучше удавиться, как вспомню Зинкину убогую сбивчивую речь! А путаницу вечную дат и полководцев, а этот удушающий запах пота на весь класс и Зямины гримасы! Нет, всё, надо пойти попить березового сока у Сергутиных, Николай Фомич так его здорово делает, такой вкус, заодно Андрюшка наверняка опять карикатур новых нарисовал, ужасно у него смешно получаются толстые тётки на пляже в розовых лифчиках и трико производства китайской фирмы «Дружба Народов». Надо же, что китайские женские трико, что советский литературный журнал, что недавно введенный Брежневым гражданский орден – и все под одним названием. У нас такой богатый язык и такие убогие люди!
А всё потому, что училки такие, как Зинка с Калерией. Калерия Фёдоровна, «совгавань», зараза прибила вас в нашу 310-ю школу, откуда вы только взялись на мою тогда вихрастую голову. Кто там у вас был моряком, муж наверное, все свои речи вы всегда начинали со слов «А у нас в Совгавани»… Вы убили во мне любовь к гуманитарным наукам. Это из-за вас я не был знаком лично с Лилей Юрьевной Брик, потому что вы сформировали во мне стойкую ненависть к поэзии великого Командора.
Году в 72-м или 73-м мы с Таней Паперной были на даче у Валентина Петровича Катаева. «А ну-ка, ребятки, – сказал вдруг Катаев. – Вы оба такие молодые, красивые, такие еврейские, пошли-ка я вас познакомлю с Лилей Каган». «А кто это такая?» – выпалил я. «А это, – сказал моложавый еще совсем Катаев, – это самая великая и прекрасная женщина в нашей стране. Это Лиля Брик, подруга великого Командора».
У меня в голове возникла аналогия с «Маленькими трагедиями» Пушкина, я смекнул, что в словах Катаева есть какой-то намек, и выпалил с той же скоростью: «Валентин Петрович, я все ваши книжки читал и помню, но у вас ни про какого Командора ничего нет, вы на Пушкина намекаете?» Катаев посмотрел на меня хлестким своим пронизывающим насквозь взглядом и изрёк: «Где ты там учишься, в МАИ? Что ты забыл-το там, парень? А Командор – это памятник на площади Маяковского, Командор – это Владимир Владимирович Маяковский, и я еще напишу книжку, где будет и про Командора, и про других». И тут я изрек, идиот, никогда не прощу себе: «Не, я не пойду, Валентин Петрович, я не пойду к Брик, я Маяковского не люблю и не понимаю, я люблю Сергея Есенина, я не пойду».
У Катаева от смеха началась судорога, он клокотал весь, не мог остановиться, до слёз смеялся и приговаривал: «Кого, кого ты не любишь? Ха-ха-ха-ха! Маша, Маша, иди сюда. Маша, посмотри на него! Он сказал, что не любит Командора. Ха-ха-ха-ха. Нет, тебя точно надо познакомить с Лилей. А ты сможешь такое сказать Брик, у тебя хватит духу?»
Калерия Фёдоровна, вы слышите меня, там, тут, неважно, это я стучусь в вашу память, помните, как вы нам читали Командора наизусть, в классе, помните? «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», помните? А «Облако в штанах»? Я помню, это же было похоже на бездарный провинциальный водевиль. А как вы вставали посередине класса, откидывали назад свой тощий стан (вот уж воистину «тощая корова еще не газель!») и вскинув руку вверх, произносили: «Маяковский это да!!!!!» А что «да», Калерия Фёдоровна? Это «да» надо было как-то пояснить. Боже мой, бедный, бедный Командор! Сколько прошло лет, а я и сейчас напрягаюсь, когда вспоминаю эти мерзкие водевили, которые вы, Калерия Фёдоровна, разыгрывали на глазах у всего класса, и какого класса, Крокодилом обученного! От мерзостей, подобных вашим урокам литературы, нас всех тошнило. А Зяма, мой дорогой Зяма, он же при произнесении вашего имени демонстративно отправлял в рот два характерно сложенных пальца – тошниловка. Нет, я не попал к Лиле Юрьевне Брик, Катаев не взял меня, постеснялся, и слава Богу, а то я и там сморозил бы какую-нибудь чушь, а потом всю жизнь краснел бы при одной мысли о том, что и кому я посмел сказать.
В общем, дорогой мой читатель, со всеми этими Зинками, которые пахли на весь класс потом, и провинциальными дурами вроде Кавалерии Фёдоровны ни о каком гуманитарном образовании речи быть не могло. Слабость духа – конечно, отсутствие воли – несомненно, расхлябаность – абсолютно точно. А главное, мальчишке шестнадцать-семнадцать лет. Учителя, педагоги, инженеры хреновы человеческих душ, шли бы куда-нибудь, не знаю куда, наукой заниматься, что ли, хорошее дело, по крайней мере никому душу не искалечите… Мне сейчас часто говорят друзья, коллеги – посмотри, что делается, детей ничему не учат в школе, они не умеют говорить, писать, они ничего не читают. Господа и дамы, может быть, лучше ничему не учить и ничего не читать, чем вот так учить, как пытались учить меня? Вопрос вопросов…
Как сейчас помню, сижу я у Сергутиных, пью холодный березовый сок и думаю вслух: «Андрюх, Андрюха, вот ты скажи мне, вот ты художник. Это уже всем ясно. А я понятия не имею, кто я. Астрономом я не буду, это точно. Физику я сдам на физфак МГУ и даже может пятерку получу, но на устной математике они поставят, что захотят. А с моей фамилией, именем и отчеством скорее всего они захотят поставить два и поставят. Отец говорит, что с моим душевным обустройством я после этого могу сильно обидеться и расстроиться. С другой стороны, в МАИ экзамены с первого августа, и весь июль я как человек прокупаюсь и проиграю в футбол, чего думаешь, а?»
Андрюха заканчивает свою очередную карикатуру и сбрасывает её мне на колени. На рисунке, сделанном обычными чернилами и ручкой с пером, забулдыги стоят в очереди за пивом на пляже в трусах и майках, все как один похожи на политических руководителей как Родины в разные исторические эпохи, так и всего мира, Гитлер от всей души обнимается, покраснев лицом от выпитого пива, с Дуайтом Эйзенхауэром, у которого в руке бутылка, где крупно написано по-русски «ВЫСКИ», а Никита Сергеевич, сидя на плечах у Фиделя Кастро, пытается сбить с ног Джона Кеннеди, одетого в костюм бейсболиста и с битой в руках, которой он норовит попасть Фиделю по детородному отростку. В общем, через минуту мы оба, и я, и Андрюшка, катались от смеха по полу его террасы, и он своим меланхоличным голосом, прерываемым смехом с подвывом, восклицал: «А Хрущев-то, Хрущев, видел, он же без трусов у Фиделя сидит на шее, прямо голой жопой».
Дорогой читатель, в конце концов был выбран МАИ, потому что там все экзамены письменные и конкурс невелик, поскольку в стране вовсю шла эпоха развитого социализма, когда полноценным считался только тот, кто работал с загранкомандировками или занимался высоким творчеством, которое тоже сопровождалось поездками в загранку. Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе готовил специалистов по самолето– и вертолетостроению, а также сопутствующим, смежным профессиям, как-то: вооружение, системы управления летательными объектами и прочее. Авиация и все, что с ней было связано, у нас была военная, строго засекреченная и глубоко отечественная, поэтому конкурса в 1971 году в МАИ не наблюдалось ни на одном факультете и ни по одной специальности. Для сравнения в ГИТИС имени Луначарского было порядка 150 человек на место. Так что, дорогой читатель, мой выбор был глубоко правильным, я косил от армии самым коротким и простым путём. Я просто шёл в неё служить добровольно.
Всегдашняя моя торопливость привела в тот день к тому, что я подхватился бежать домой и, придя на террасу, где все уже ужинали, громогласно объявил, что буду поступать в МАИ. У бедного Оси вилка упала из рук. Иосиф Лазаревич Решин, двоюродный брат моей мамы из Куйбышева – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории партии Горного института, область приложения научных интересов – ранний, поволжский период революционной деятельности Владимира Ильича Ленина. Ося был знаменитостью, во время хрущевской оттепели в журнале «Семья и школа» он опубликовал статью, в которой у него В. И. Ленин, по-видимому в догимназическом еще возрасте, пытался прочитать в оригинале «Капитал» Карла Маркса и не смог, не хватило чего-то, то ли знания немецкого языка, то ли понимания законов политической экономии капитализма. Несмотря на оттепель, все огребли, как положено: редактора сняли, выговоры по партийной линии, понижения в должностях настигли всех, кому было положено огрести, только Ося вышел сухим из воды. Ну, почти сухим. Секретарь ЦК КПСС по идеологии товарищ Михаил Андреевич Суслов сказал так: диссертацию в спецхран, все статьи, какие были когда-либо – изъять. Никогда больше не печатать и выступать публично нигде не давать. А так, что с него возьмёшь, ясно, провокатор, жидовская морда. Надо было бдительность проявлять.
Удивительное дело, несмотря на явный удар по самому святому для каждого советского человека, а именно по Гениальному Вождю и Учителю всех народов, непосредственно и лично товарищу Ленину, Осю нашего оставили работать в Горном, и он в соответствии с расписанием и программой института вещал с кафедры студентам про историю великой партии того самого Ленина, на которого он посмел покуситься своей вражеской еврейской рукой.
Ося подскочил всей своей отнюдь невысокой, но и нелегкой фигурой и закричал на весь стол: «Ну вот, допрыгались, ты, Рафаил, добился своего. Ты хоть знаешь, что ты наделал? Он же готовый, совершенно сложившийся учёный историк, который мог бы, да что там мог… Ты читал его тетради по истории, его доклады, которые он готовил для школьных семинаров? Ах, Боже мой, с кем я говорю! Ирина, ну ты хоть понимаешь, что творится? Ника, а ты что молчишь? Нет, ты скажи здесь и сейчас то, что не раз говорила мне, что у твоего брата феноменальная память, что один раз прочитав учебник профессора Мельвиля по зарубежке, он мог бы идти в университет и сдавать Мельвилю экзамен! То же и с античной философией. Что он знает и читает Лосева. Чёрт вас возьми всех, что вы молчите, что в конце концов происходит-то?»
Слово взял я: «Ося, ты успокойся. Какой может быть истфак или филфак, если надо сдавать вступительный по иностранному языку, а у меня английский – моя твоя не понимай. Моя крымский татарин. Это во-первых, а во-вторых, я не хочу быть таким, как Зинка или Калерия, а таких, как ты и Крокодил, здесь душат и будут душить».
Ося сел на стул, огляделся, все молчали, и вдруг он улыбнулся решинской своей светлой улыбкой в уголки рта: «Кто такие Зинка и Калерия, я знаю, это школьные училки по истории и литературе. Судя по всему, весьма противные. А крокодил это что?» «Не что, а кто, – спокойно сказала мама. – Это его учитель литературы, которого из школы изгнали, потому что, когда шёл педсовет и решался вопрос о реабилитации Сталина, этот самый Крокодил заявил, что он в своем кабинете литературы портрет Сталина повесить не даст». «Так нет же нигде никаких портретов, не повесили же!» – вскричал Ося, подпрыгнув на стуле. «Потому и не повесили, Ося, что таких вот Крокодилов, как его учитель, оказалось, видимо, не один и не два. А то повесили бы, еще как бы повесили!» – с уверенностью сказал папа, и Ося наш совсем обмяк на стуле.
«Да не хочу я заниматься историей, которой ты занимаешься, понимаешь, не хочу! И партией этой я давно не интересуюсь, мне с ней всё понятно. И всем понятно, и тебе, просто и ты, и отец трусы и сказать это боитесь, а я не трус. И я не хочу быть таким, как Зинка или Калерия, а таким, как Крокодил, мне стать не дадут», – с жаром бросил я в лицо Осе и отцу обвинение в беспринципности. «Ну, ты язык-то попридержи, Крокодила-то твоего из школы всё-таки выперли и вместо уроков литературы тошниловку вам устроили. Так что пыл угомони свой, – пришел черед навести порядок за столом отцу. – Ладно, сынок, картина ясна. Математику будешь готовить с Исааком и Аркашей, Исаак программу МАИ знает, он там на подготовительных работал много лет. И билеты он привезет для подготовки. А физикой – со следующей недели, я найду человека из МАИ. Исаак и Аркаша будут приезжать сюда, а на физику будешь ездить в город», – папа подвёл черту под дебатами о выборе профориентации.
Читатель мой дорогой, мне было о ту пору шестнадцать лет от роду, и в таком-то возрасте и такими аргументами решался в семье вопрос моего образования и будущей профессии. Мрак, всё, что можно сказать по этому поводу почти сорок лет спустя. Беспросветный мрак. Но так оно всё и было.
Со следующего дня попеременно со мной начали заниматься математикой дядя Исаак, младший брат моего отца, закончивший мехмат МГУ сразу после Отечественной войны, и мой старший двоюродный брат Аркадий, который на мехмате учился в 60-е годы и тогда же его окончил. Аркадий со мной занимался и требовал с меня со всей ответственностью и, несмотря на сравнительную нашу возрастную близость и добрые отношения, спуску мне не давал. С дядей Исааком уроки были похожи на игру эрудитов под названием «угадайка».
Дело в том, что Исаак был близко знаком и дружил с моим школьным учителем математики Юрием Валентиновичем Паперно. Они и внешне имели сходство – оба небольшого роста, коренастые, с животом, только Паперно был, я думаю, моложе дяди лет на пятнадцать, поэтому седины у него еще не было, а у Исаака была. И еще между ними было различие: мой дядя Исаак был самый обыкновенный гений, а Паперно – прекрасный методист. Поэтому наши занятия математикой с Исааком начались с того, что он мне заявил: «Я вчера звонил Юрию Валентиновичу. Он о тебе хорошего мнения. Сказал, что ты с мозгами, в меру ленив и такой ВУЗ, как МАИ, тебе на один зуб. Он считает, что для МАИ заниматься специально не нужно. Я тебя тоже не первый раз вижу и с Паперно согласен. Паперно плохой математик, но лучший в Москве методист. После законченной у него школы можно в МАИ не готовиться. Но Рафаил сказал, а я исполняю. Вот тебе билет. Решай, а я пойду с Фанией Львовной поговорю, я её очень давно не видел».
Через полчаса Исаак зашел на террасу, я уже играл с Эриком, нашим коричневой масти красавцем боксером. Исаак бегло взглянул на решенные задачи и изрек следующее: «Я же говорил Рафаилу, но спорить бесполезно. К следующему разу перерешай все билеты. И слушай меня внимательно, а то будешь шляпа, читай журнал «Мурзилка». Если я сейчас начну с тобой заниматься всерьёз математикой, через месяц ты будешь знать программу для поступления в МГУ, но тебе для МАИ эта программа не нужна. Будет только хуже, ты начнешь нетривиальными способами решать тривиальные маишные задачки, запутаешься и можешь получить двойку. Ты всё понял? Только папе ничего не говори». «Что я должен понять и чего не говорить папе? Ты можешь ясно объяснить, что мы будем делать с тобой, июль только начался, а у меня первый экзамен второго августа». «Мы с тобой будем играть в «угадайку». Ты мне будешь наизусть или из книжки читать какой-нибудь текст, прозу или стихи, а я буду стараться угадать автора, произведение, ну в таком духе, а потом я буду тебе загадывать. На столе разложим билеты, ты решай задачки потихоньку, если папа зайдет или бабушка, только говори тихо, чтобы нас не слышал никто».
Дорогой мой читатель, мне так понравились наши уроки математики с Исааком, я получал истинное наслаждение от этих уроков. Ещё бы, ну, во-первых, у него была вот уж действительно феноменальная память. «Войну и мир», «Воскресенье», да что там наизусть, как насчет того чтобы если у него было выучено по собранию сочинений Льва Николаевича Толстого год такой-то, издательство такое-то. В общем он помнил «страница номер такая-то, 20-я строка» и поехали, со знаками препинания и интонациями. Боже мой, а как он читал! В лицах, ну то, что он был Пьер Безухов в тысячу раз лучше любого Бондарчука, это понятно, но он был прекрасная, изумительная красавица Элен и невозможно передать какая Наташа Ростова.
Заглянув за дверь и убедившись в том, что в соседней комнате никого нет, он начинал разыгрывать мизансцену, он танцевал тур вальса Наташи Ростовой с князем Андреем, потом он был то Кутузовым, то Наполеоном, то князем Багратионом, то капитаном Тушиным. А какой он был Платон Каратаев! Это был театр одного актера, настоящий урок литературы, музыки и танца, и пластики, и пения. Боже мой, как же он был одарен от Бога всем! Исаак, ты меня слышишь? Уверен, что слышит. Исаак, ты был самый настоящий ГЕНИЙ, ты был всем гениям ГЕНИЙ, наш Исаак. Я не просто любил тебя – уважал, преклонялся. Это всё не те слова. Они ничего не значат. Я тебя обожал. Умолял пойти со мной к Крокодилу и показать всё это. Да нет, куда там. Зачем? Я учитель математики, говорил он мне, а не актер и не чтец.
Исаак, ты читаешь то, что я сейчас пишу? Нет, не только о тебе, а вообще? Тебе нравится? Мне бы очень хотелось, чтобы тебе понравилось. Очень! Я многих видел на сцене. Очень многих. Я видел Льва Дурова в роли Яго в знаменитом «Отелло», поставленном Анатолием Эфросом на Малой Бронной. Я видел Сергея Шакурова в «Сирано де Бержераке» лет двадцать пять назад. Я видел Евгения Леонова в роли Тевье Молочника и в той же роли Михаила Ульянова в телепостановке.
Отец заплакал тогда у экрана телевизора. Я видел Любшина в «Тартюфе» Олега Ефремова и его же в великой пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Я видел Олега Даля в роли Балалайкина в «Современнике». Видел молодую искрометную восхитительную Марину Неелову в «Двенадцатой ночи», видел на сцене Владимира Высоцкого в «Пугачеве» и «Гамлете», я видел, как работает на арене цирка Леонид Енгибаров, я слушал, и не раз, Сергея Юрского, я видел и знаю огромное количество великих фильмов разных режиссёров с великими актерами и актрисами. Я помню на арене цирка Олега Попова и Юрия Никулина. То, что делал на террасе нашей дачи в июле 1971 года мой дядя Исаак, ни с чем несравнимо. Я плакал, смеялся до колик, я подпрыгивал на стуле и катался по полу от смеха и слез. Мне ничего не было нужно, ни футбол, ни пруд, ни купание, ни велосипед, ни волейбол, ни даже девочки. Боже мой, какое же это было наслаждение, какая неописуемая радость смотреть и слушать моего дядю Исаака, и как сам он наслаждался тем, что показывал мне. Иногда он уставал или ему надоедало. Он садился к столу, пил чай, что-то напевал про себя и вдруг начинал читать стихи. Но как! Его природный гений вёл его по ритму стиха, как смычок виртуоза скрипача движется по струнам инструмента. Ни одного сбоя, ни малейшего фальцета, ровно и плавно он проходил по стихотворению, как по нотам клавира.
Но всему на свете рано или поздно приходит конец. Первый экзамен. Кажется, это была алгебра и арифметика. За час я решил все задачи, еще час я волынил, проверяя их взад-вперед. Потом мне надоело, я встал, подошел к столу и сдал работу. Вышел на улицу. Июль, приемная комиссия, какие-то девчонки снуют. Не тут-то было. Прямо почти у самого подъезда стоит наша серая «Волга», за рулем отец, место рядом с ним свободно. Исаак сидит сзади в фетровой шляпе и жует губы. Видно, что ему уже досталось. Хорошо, если обошлось без рукоприкладства. При этом он обожал моего отца, боготворил просто. Я сажусь, на лице отца гримаса. «Сынок, ты что явился? У тебя еще два часа времени на решение было. Ты что?» Я поворачиваюсь к Исааку и отдаю ему черновики, он в минуту пробегает по ним глазами и отдает их отцу со словами: «Рафаил, поехали, я же тебе говорил, зачем мы только притащились сюда. Высади меня у метро «Сокол». У него там пятерка». На этом закончились мои уроки математики с дядей Исааком.
Прошли годы. Осень – моё самое нелюбимое время года. Тоска на душе и какой-то надрыв всегда. Переделкинская аллея. Навстречу мне идет Валентин Катаев. «Валентин Петрович, вы не узнаете меня? Помните, много лет назад мы были у Вас с Таней Паперной? Вы предлагали пойти с вами к Лиле Юрьевне Брик». Катаев прищуривается: «Нет, не помню. – Эпизод как видно был не столь значительным для него, – А впрочем… Читали «Алмазный мой венец»?» «Валентин Петрович, да кто же не читал «Алмазный мой венец»? Конечно, читал, и очень понравилось». «А знаете, голубчик, почему Командор это Командор?» – спрашивает Катаев и на лице его гуляет та самая, характерная катаевская ухмылка, всегда обрамленная воротником самой красивой куртки или пальто. «Ну конечно, знаю, Валентин Петрович, ну кто же этого не знает, по всей Москве гуляет отпечатанный текст на машинке с разъяснениями, кто есть кто в вашей книге. Командор – это Маяковский, а прозвище такое – потому что памятник на площади Маяковского, как Пушкинский Командор, из бронзы и шагает», – отвечаю я Катаеву с задором. «А вот и нет, голубчик, вот и нет!» – Катаев как ребенок доволен и вдруг меняется в лице, которое начинает сиять, будто его подкрасили светящейся краской, и он кричит мне на всю аллею: «Командор потому, что он Командор, потому что скоро, через год-два, пять лет никто не будет читать меня, лет через десять перестанут читать штабс-капитана (Михаил Зощенко) и Ключика (Юрий Олеша), потом лет через пятнадцать все забудут Мулата (Борис Пастернак), особенно, когда освободят из заточения «Доктора Живаго», через двадцать пять забудут Синеглазого (Михаил Булгаков). И из всех, кого я знал, кого любил или не любил, останутся только двое: Королевич (Сергей Есенин), но его сияние поблекнет, он уже не будет так блистать, как раньше, как сейчас, и Командор. Командор будет стоять и светить всегда – «Вот лозунг мой и солнца», потому что Командор пришел навсегда, как Шекспир, как Мольер, как Гоголь, как Толстой, как Ветхий и Новый завет, понимаете, голубчик, Командор пришел навсегда, потому что он Бог».
Катаев уходил, походка была уже не та, сошёл лоск аристократа, старость, подумал я и зашагал к дому. Сейчас будет тепло, будет ужин, надо перечитать Командора, «если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», вот тебе и Командор, а сколько тоски и лиризма. Кажется, Вознесенский как-то в Доме творчества здесь в Переделкино обронил фразу, что Маяковский очень часто болел простудами и мучался насморками, поэтому страшно боялся сквозняков. Хоть и Командор, а при этом был просто человеком.
Прошло почти сорок лет с тех пор, как я встретил Катаева на переделкинской аллее. Не просто прошло время. Сменилась эпоха. Нет больше СССР и нет советского образа жизни. Сейчас я скажу то, что думаю, хотя понимаю, что вызову гнев многих людей, в том числе людей, которые дороги мне и которым, хочется верить, дорог и я. Начну с Катаева. Он написал хорошую книжку, в конце 70-х она была просто необходима. Умная книжка, литературный кроссворд, тонкий, интересный, умный ход шахматиста. Давно никто не читает и не знает писателя Валентина Катаева. Он забыт, и его лучшая книга «Алмазный мой венец» никому сегодня не нужна. Ключик – Юрий Карлович Олеша, так и сложился ключик в кроссворде Катаева по инициалам ЮКО. Его хорошую, честную, нервную книгу «Три Толстяка» никто сегодня не читает – устарела тема. Штабс-капитан, Михаил Зощенко… Умный, тонкий писатель Михаил Михайлович Зощенко, хлесткий писатель. Умерла эпоха, умерла и его литература. Мулат, Борис Леонидович Пастернак. Роман «Доктор Живаго», да простит меня читатель, это типичная проза поэта. Яркий, жгучий, такой пронизывающий образ Лары. Возможно, это лучший, самый русский, самый ломкий женский образ в русской литературе XX века. И Юрий хорош, конечно, изломанный, уничтоженный советской жизнью, тонкий, рафинированный аристократ. Хорошая книжка, честная, нервная, но ушла эпоха и не нужны никому и Юрий Живаго, и Лара. Не читают больше… Самый крупный, самый значительный русский писатель этой эпохи – Синеглазый, Михаил Афанасьевич Булгаков. Я скажу правду, скажу то, что думал сорок, тридцать, двадцать, даже десять лет назад. Я считал, что Булгаков – это абсолютная истина, это классик. Как Гоголь, как Пушкин, как Достоевский. Когда мне человек говорил, что он не любит Булгакова, я переставал общаться, старался отстраниться, потому что для меня это было всё равно, что сказать: я не люблю Лермонтова, или мне не нравится Роден, или я равнодушен к Мольеру, или не люблю Шекспира. Я люблю Булгакова, я его обожаю, но сменилась эпоха и неинтересно читать про ту Москву, которой нет, и никогда больше не будет. Есть другая, она, может быть, в тысячу раз хуже той, которую увидел Булгаков и описал, но она другая. И то, что он написал, на нынешнюю Москву не ложится, ну просто никак. Что же касается глав о Понтии Пилате и Иешуа… Михаил Булгаков сделал очень большое дело для русской культуры. Его заслугу трудно переоценить, он помог русскому читателю, определенному срезу русского общества, изрядно прибитому душегубкой вульгарного материализма в сочетании с безбожием и мракобесием, которое насаждалось в русском обществе всеми правдами и неправдами, помог устоять и сохраниться и показал огромную фигу советской бездушной пропаганде атеизма в виде своего восхитительного романа «Мастер и Маргарита». Но, дорогой мой читатель, социальная миссия этого литературного произведения закончена. Сегодняшняя Россия медленно, но верно возвращается в лоно православной церкви, русские люди читают Евангелие, и им не требуется роман Булгакова как некий переходный мостик от безбожия к слову Господню. В сегодняшней России, вне всякого сомнения, присутствует в полной мере свобода вероисповедания.
Знаю, что навлекаю на себя гнев одного из близких мне людей. Юра, знаю, не согласитесь, а если немного встать сбоку и посмотреть на ситуацию без эмоций восторга, пережитого сорок лет назад при первом прочтении «Мастера»? Вот видите. Сейчас можно читать слово Божие, не адаптированное даже таким великим мастером, как Булгаков.
Теперь о Королевиче, о Сергее Есенине. Нет, поэты такого масштаба, такого великого дара и мастерства живут вне эпохи и вне времени, и социальная сторона жизни к ним не имеет никакого отношения. Сергей Есенин самый настоящий гений в абсолютном смысле этого слова. И я обожаю «Анну Снегину» и «Москву кабацкую», и всего Есенина, и молодого, и зрелого, как может быть зрелым только гений в двадцать шесть лет. Но что-то происходит, что-то фантасмагорическое, для меня необъяснимое, что-то такое, что, вероятно, знал Катаев, но это недоступно мне. Есенин блекнет, постепенно мерцание его звезды, его планеты, его солнца становится не таким ярким. Нет-нет, этой звезде светить еще очень долго, Есенин – это навсегда. Это как Тютчев, или Фет, или Баратынский, или Языков, или Веневитинов.
И теперь последнее. Главное. Здесь и говорить-то ничего не надо. Всё ясно без слов! Потому что зачем говорить о Боге, когда он Бог. Командор – это как Пушкин, как Лермонтов, как Гоголь, как Толстой, как Достоевский, как Андрей Платонов. Это – пока будут есть, пить, дышать, читать, то и Командор будет. Потому что у гениев так – не Командор в эпохе, и не эпоха в Командоре. А ЭПОХА КОМАНДОРА, а сам КОМАНДОР – это и есть ЭПОХА, потому что он БОГ!
«…вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живём!..»Гавнистан
«Родина моя, Россия… Няна… Дуня… Евдокия…» Александр МежировНет, это не было первой потерей для меня – смерть моей бабушки в апреле 1980 года, но это была первая потеря, которая ощущалась каждую секунду, минуту, час, день проживаемой мною жизни. Так устроен мир: проходит время, и всё забывается, многое забывается. Нет, не забывается! То, что не должно быть забыто, не забудется и вернётся, и отзовётся, пусть в другом, не явном преобразованном или даже, по мнению многих, искаженном виде. Возможно… Но я уверен, что вижу мир вокруг себя не в кривом зеркале.
Шёл 1980 год, год Олимпийских игр в Москве. В апреле умерла моя бабушка, и я стал частенько заходить к тёте Шуре на восьмой этаж. Нас выселили в 1970 году из нашей комнаты в общей квартире на Чистых прудах. И тётю Шуру, мамину няню, которая вырастила всех на свете от моей мамы до моей дочери, тоже выселили, и она поехала жить вместе с моей старшей сестрой, а располагались наши квартиры в одном доме йодном подъезде в ненавидимом мной Измайлове, на 11-й Парковой улице.
О, безликая и унылая Москва брежневских новостроек! Поскорее бы время разрушило эту убогую архитектуру 70-х годов прошлого века. И жизнь в этих новостройках была такая же убогая, как и архитектура тех лет.
В общем, я стал ходить к Шуре, особенно когда никого не было дома. Тошно мне было одному, не привык я, и смущало меня что-то – бабушка умерла дома, на своём диване. Шура меня кормила обедом, я читал книги из библиотеки сестры, занимался за её письменным столом.
Надо заметить, дорогой читатель, что тётя Шура меня не растила и всегда громогласно заявляла, что мальчиков она не любит, потому что все мальчишки «шипана». Она была неграмотная, родилась в деревне, и в начале 20-х годов жизнь прибила её к Москве голодом и неустроенностью. Была она из семьи сельского дьякона, семьи многодетной, и с малого детства была она в работе и жить привыкла в труде и без баловства, хотя когда, как сама она выражалась, дети или собаки «озоруют», лицо её светилось настоящим блаженством. Думаю, и сама она не прочь была в молодости поозоровать, как всякий по-настоящему русский человек. Она всегда жила с включенным на полную мощь радио и обожала, заслышав кадриль или какой-то еще русский танец, чуть-чуть сплясать, иногда самую малость, вполоборота, одним поворотом плеч или движением рук.
Она была верующая, православная, очень набожная, ходила в церковь в Телеграфный переулок каждое воскресенье, по праздникам всегда ездила в Елоховский собор, а бывало, ездила туда и по воскресеньям, потому что собор был патриарший, и там служили патриарх и митрополиты. Всё высшее духовенство знала она в лицо, обо всех о них имела мнение и его вслух высказывала. Она являлась опровержением лжи о том, что русский народ – это народ рабского сознания. Тётя Шура наша была человеком совершенно свободным и говорила все и всякому то, что думала и что хотела. Она была личностью, эта безграмотная старая русская женщина в платке, каковой я её застал в своей жизни.
Никогда не забуду, как мой отец в начале 60-х годов вместо получения генеральских погон и ордена Ленина угодил под чистку, которую Никита Сергеевич, будучи верным ленинцем и продолжателем великого дела товарища Сталина, начал проводить в рядах Советской Армии, и в квартире нашей был учинен обыск по всем правилам советской прокурорской сыскной службы, а именно: все было выпотрошено, вывернуто, обивка на стульях и диване вспорота, книги валялись на полу с вырванными страницами и оторванными переплетами. Мама моя, будучи человеком нордическим и мало импульсивным, решила меня в квартире оставить, чтобы я пронаблюдал происходящее, и оно мне врезалось в память, так как, возможно, меня ожидало счастливое детство, юность и молодость сына врага трудового народа и злостного расхитителя социалистической всенародной собственности.
Учился я в ту пору во вторую смену, и на улицу мы вышли втроем – я, Шура и наш красавец коричневой масти боксер Эрик, которого Шура вела на поводке, вернее, сначала он спустил её с лестницы так, что она чуть ли не на спине скатилась, а теперь так дергал за поводок, что голос её периодически прерывался, как будто она всхлипывала. А может, и в самом деле всхлипывала. Говорила она мне, что рассказывать никому ничего не надо и что отец мой – честнейший на свете человек, а гадьё это всё, паразиты эти, которые Бога не знают и не ведают, всё равно скоро попадут в чан с кипятком в аду. Никак не успокоятся, вещала она сквозь зубы, дергаемая Эриком из стороны в сторону, паразиты проклятые, кровопийцы, сколько народу извели, никак кровушки не напьются, звери проклятые, все лютуют, хоть вожак и издох давно.
Было начало 60-х годов, я ходил в третий или четвертый класс и вопросов ей никаких не задавал, больше половины слов не понимал, но она через слово повторяла мне, что я должен запомнить всё, что видел, и что Ира права, оставив меня дома. Ах, какая Ира умная у нас, приговаривала Шура, что было абсолютной правдой, и теперь я понимаю это лучше чем когда-либо. Моя мама – самый умный человек из всех, кого я когда-либо встречал или встречу в жизни. И это не потому, что она моя мама, и не потому, что у неё никогда не было никаких оценок, кроме пятерок, и эти пятерки всегда были безусловными, и школа была с золотой медалью, и институт с красным дипломом, и давалось ей все легко, и она всегда все делала с блеском, за что бы ни бралась. Я объективен. Просто у меня была такая мама. Она была совершенно естественна и гармонична в блеске своих способностей и своего ума. Нелегко приходилось с ней отцу, и нам с сестрой перепадало то, что полагалось.
Отца не посадили, как ни странно. Бог спас, считал он, и, думаю, был от истины недалек. Обедая с прокурором после окончания суда и выпив коньяку, отец получил вопрос: «Полковник, мы все перетрясли, даже на даче твоего брата половицы вынимали. Видно, ты и правда не брал, но я хочу понять, почему, ты что, такой честный, все воровали, все брали, а ты один не брал». Отец ответил и, думаю, сказал чистую правду: «Моей жене никогда ничего не было нужно: ни дачи, ни машины, ни колец, ни серег, ни шубы, понимаешь, ничего. А мне-то уж точно ничего не нужно, у меня два служебных газика, «Победа» и «Волга», и диван в кабинете, на котором я ночую через сутки на третьи в части, потому что командующий в кабинете в штабе и в любую минуту может позвонить и вызвать к себе,» – ответил отец, не кривя душой.
Прошла угрюмая весна 80-го года, и сменилась она летом, которое в полосе Москвы и Подмосковья само по себе уже праздник. Привычно семья переехала на дачу. Но как-то переехали в тот год неуверенно. Мы с Шурой квартировались там, в дачном нашем летнем доме. Мы с отцом привозили продукты. Машина в семье тогда была одна. То, что нужно было, я докупал в окрестных магазинах, разъезжая на велосипеде. Мне было 26, я уже закончил и второй свой ВУЗ МФТИ (ФИЗТЕХ) – и был один как перст на белом свете. У меня не было девушки, не с кем было ходить в кино и театр, было лето, и всё своё свободное время я проводил на даче. Был у меня один очень неосновательный роман, который сопровождался крайне редкими, хотя и очень горячими поначалу встречами в дневное рабочее время. Думаю, что пытливый читатель без труда догадался, что моя подруга, мягко говоря, была не свободна. Нет, конечно, я не приходил к ней днем домой, ни о каких отелях на час или полтора в то советское и глубоко моральное время не могло быть и речи. Наш роман протекал в стенах великого храма искусств, моя знакомая была артисткой кордебалета Большого театра Союза СССР.
Я обожал балет с детства, с того дня, как мама привела меня на «Спящую красавицу» в Большой, я еще в школу не ходил. И тогда же мы с ней первый раз слушали «Евгения Онегина». Мама, ты ввела меня в пространство, которое не раз и не два спасало меня в жизни, ты ввела меня в Мир Искусства. Как в прямом, так и в переносном смысле.
Я не знаю, зачем я был нужен Любе. Её муж был умнее, в сто раз красивее и в любом отношении в тысячу раз лучше меня. Да и любила она его. И не скрывала этого, и вслух говорила мне об этом, хотя я никогда не задавал ей никаких вопросов. Это я сейчас стал женщин о чем-то спрашивать и обсуждать с ними какие-то темы, а в молодости я только предлагал.
С Любой мы познакомились в Переделкино, она была в гостях у моих знакомых. Я заехал, тогда не было мобильных, и стационарных телефонов в Переделкино было мало, поэтому в гости к соседям заходили без предупреждения. Калитки были всегда открыты, и собак злых ни у кого не было, нечего было охранять. Я зашел в гости, познакомился с Любой, она мне дала свой телефон на работу, я позвонил, и Люба согласилась встретиться. Летом отношения начали затухать. И время уже какое-то прошло, и страсть утихла, и я переехал за город, и Люба начала репетировать новый спектакль. Мы почти расстались.
Город медленно, но верно вкатывался в Олимпийские игры 1980 года. Москву понемногу начали закрывать от приезжих, а магазины наполнять товарами. Мы все оделись: костюмы, рубашки, джинсы, кроссовки, обувь, аксессуары. В табачных киосках плотно осели несколько сортов американских сигарет, в винных магазинах стали появляться напитки, которые никто не то что, не пил, а и названий таких не слышал никогда. В поливальные машины начали загонять что-то вроде шампуней для мытья улиц, и от них стало пахнуть, как от конфет барбарис. Милиция надела белую форму и краги на руки. Лица людей с каждым днём разглаживались от хмурого выражения, и всё больше было видно улыбок и слышно смеха. Но главное, самое главное – исчезли очереди в булочную, гастроном, за овощами, за водкой. Город вздохнул полной грудью.
И тут меня вызывает мой драгоценный шеф и объявляет, что я отбываю на неделю в совхоз «Заречье» Клинской области. Поссорились тогда же и на всю жизнь. Я вернулся и сразу подал заявление об уходе. Нет, кажется, я подал его еще до отъезда в колхоз. Не суть важно, через неделю я вернулся. Дыра была непроходимая, это «Заречье». Уже тогда там все спились, дорога к деревне шла через лес, и в здании управления колхозом, где я жил, не было телевизора, а дома местные у себя телевизор тоже не включали, потому что новостную программу «Время» не смотрели, да и не понимали. Она начиналась в 21.00, и к этому часу они уже все были бухие и спали.
Через неделю я вышел из поезда на Савеловском вокзале и из автомата позвонил маме на работу. Она мне сообщила, что умер Высоцкий, что он похоронен на Ваганьковском кладбище и, понимая, что я поеду сразу туда, попросила зайти к дяде Боре на Армянское, это напротив. На Ваганьковском при входе стоял наряд конной милиции, и пешие менты проверяли при входе паспорта. Я протиснулся внутрь. Стояла толпа людей, многие были на коленях, подойти к могиле не представлялось возможным. Включен был магнитофон, и хриплый голос Высоцкого разносился над кладбищем. Вдруг кто-то обнял меня сзади за плечи. Андрей Сергутин, сосед по даче. «Ты давно приехал?» «Я только с вокзала, из колхоза, видишь, с рюкзаком». «На работу пойдешь? Сусак и Зяма тоже здесь, но никого тут не найдешь, толпа, поехали на дачу».
Выходим с кладбища, на Армянское не пошли, выпили по пятьдесят грамм, у Андрюшки была четвертинка. На работу я не пошел, хотя была она в двух шагах от Ваганькова. Приехали на дачу. Разошлись по домам. Шура накрыла поесть. Грибной суп, второе, черный хлеб ржаной, огурцы соленые. «Ем, ты знаешь, Высоцкий умер. Только по телевизеру об этом ничего не говорили. Мне жена прокурора сказала, и Марья Семенна, Андрюшкина мать, и Тамара. А кто это такой, Высоцкий, кто это был?»
Я обомлел. Но хватило ума и такта, и я начал рассказывать ей, включил магнитофон, рассказывал про спектакли, которые видел, про фильмы, про песни, про Марину Влади, про всё, что знал. Она слушала, подперев рукой голову в ситцевом белом летнем платке и стоя коленями на бабулиной табуретке с высокими ножками. «Ой, что-то голос какой-то хриплый, наверное, курил больно много, как Ника наша с Рафаилом, и горькой поди баловался. Ем, ты бы бросил курить-то и мать не расстраивал, тебе же легко бросить, ты мало куришь».
Я вдруг понял, что сейчас разревусь, как в раннем детстве, когда я на Чистых опрокинул бабулину горку и на меня упал столовый кузнецовский сервиз, купленный дедом в Москве, в Торгсине. Я вытащил свою «Яву», закурил и пошёл через калитку в заборе к Андрюшке, где мы молча выпили пол-литра водки и бутылку портвейна без всякой закуски, куря сигареты и трубку. Уходя, я сказал: «Хоть бы поскорее кончился этот високосный год».
Прошло несколько дней. Я втянулся в московскую жизнь. Кто-то из ребят изрек истину, что поэты не живут долго, это не художники и не скульпторы, а Пастернак прожил семьдесят лет, потому что ему нужно было написать роман, а на это надо лет пятнадцать-двадцать жизни, быстрее не выходит.
Жизнь катилась своим чередом. Ужинаем с отцом, Шура кормит нас. «Ем, а чавой-то мериканцы к нам не приехали на Лемпиаду, бойкотирують нас?» Молчу, делаю вид, что жую, молчит и отец. «А я знаю чаво, – продолжает Шура. – У меня радиола сломалася, и я к тебе в сарай ходила, ВЭФ твой включала, а там у тебя настроено, но не «Маяк», а чевой-то то другое, интересно так говорить, и вот они сказали, что мериканцы потому в Москву не придуть, что наши войска в ГАВНИСТАН ввели, а что, правда ето?» У отца ложка упала в тарелку: «Да, сынок, посадишь ты нас, сколько раз я тебя просил, чтобы ты настройку сдвигал, мало ли кто может зайти к тебе в сарай. Ох, ребейме шелейме, подведешь ты нас всех под монастырь! Шура, у него там «Голос Америки» включён, или «Немецкая волна», или Би-Би-Си. Пожалуйста, никому не говорите о том, что там слышали, очень вас прошу, прямо слёзно». «Ой, а я уже прокурорше рассказала всё, а она мне говорить: тоже мне новость, про ето уже пару месяцев как все трубят. А кто все, я по телевизеру и по «Маяку» ничего такого не слыхала ни разу. Ладно, Ем, шут с ней с етой Лемпиадой, леший их возьми, голоногих етих, а вот там из книжки одной читали, из нашей, из русской, и писатель не еврей, русская фамилия, вот только я не запомнила ее, а еще там имя красивое такое, Маргарита, а у тебя есть ета книжка?»
Тут отец просто позеленел весь и собрался броситься на меня. «Ты чего рассвирепел-то? – возмущаюсь я. – Это уж давно напечатано всё, она про «Мастера и Маргариту» говорит Булгакова, давно всё прошло твой вонючий главлит и опубликовано, хоть и с купюрами, сколько раз просил тебя достать мне, а ты же по-прежнему боишься скрипа двери входной. Есть у меня, тёть Шур, есть, на листках из журнала перепечатано, затерто все, но есть, хочешь, дам тебе почитать?» «Ем, так я ж неграмотная. Меня же мама твоя, Ира, когда я молодая была, уговаривала на рабфак пойти, а я ж не пошла, я читать не умею».
Я обмяк: «А что же будем делать-то, теть Шур?» «А ты почитай мне, Ем, такая книжка хорошая, мне очень хочется послушать, а я слышала, как ты стихи читаешь, мне нравится очень, ты же хорошо читаешь вслух, Ем, красиво, почитай мне ету книжку. А?» Вот так мы и вышли из тяжелейшей в моей жизни депрессии, из череды смертей, горя, так вот и выползли – я, тётя Шура и «Мастер и Маргарита».
Каждый вечер я приезжал домой, ужинал, она накрывала чай мне и себе, ставила на стол свои любимые конфеты карамель, наливала себе чай в блюдце, откуда прихлебывала, а мне в стакан с дедушкиным подстаканником, и я начинал читать ей Булгакова, в лицах, интонациях, выражениях, как сам понимал эту книгу, как видел я Понтия Пилата, пятого прокуратора Иудейского, всадника Золотое Копье в белом плаще с кровавым подбоем, хромого нищего дервиша Иешуа Га-Ноцри, кентурио-на Марка по прозвищу Крысобой, Мессира, Азазелло, Коровьева в расколотом пенсне, Бегемота, рыжую голую Геллу, которая открыла дверь Никанору Ивановичу Босому, была она в одном передничке, но вела себя так, будто была одета, Мишу Берлиоза, Ивана Понырева (писавшего в молодости под псевдонимом Иван Бездомный), Мастера, Маргариту и всех-всех. Я читал взазхлеб, вкладывал всего себя в это занятие, всю душу и сердце и замертво падал спать, и так день за днем, вечер за вечером. Она понимала, всё понимала и про Москву советскую, и про Ершалаим, и про большевиков товарищей, и про Сенедрион и фарисеев. Она смеялась, плакала, выражала недовольство, сердилась. Она ругалась: «Как же ты говоришь, у него отец священник был, профессор духовной академии, а он шо же говорить-то, как нехристь прямо! Нет, ето ты не понимаешь и не спорь со мной. Ты же не читал Евангелие и не знаешь, чево там написано. А? А может, ты читал уже, Ем, ну мне-то скажи, я никому не скажу, честное слово, ни отцу твоему, ни Ире, а Фанни Львовне нету уже, упокойся душа её, пусть земля ей будеть пухом. Ей я всё говорила, ей соврать я не могла». «Читал я, всё читал, и Ветхий Завет и Евангелие, но он писатель, понимаешь, и он пишет для тех, кто не может это прочитать». «Ето для таких, што ли, как я? Для неграмотных? А я и ето не могу прочитать, а как же ты Евангелие читал, оно на старославянском написано языке, а Ветхий-то Завет, он вообще написан по-еврейски, а ты рази знаешь еврейский-το язык, Ем? Тебя рази отец учил по-еврейски читать, ты и говорить то не говоришь, А?»
Я пытаюсь разъяснить ей, что всё есть по-русски, что нет, конечно, я не знаю еврейского языка, да читать и отец не может, потому что говорит он на идиш, это как диалект немецкого, а Ветхий завет написан на древнееврейском языке.
Заканчиваем чтение. Книжка прочитана. Шура поглаживает листки ксерокопии, лежащей в красной картонной папке со шнурками. «Спасибо тебе, Ем, какой же ты у нас образованный. Ты в маму весь, в Иру нашу, знаешь, как её покойный Яков Алексаныч любил, прямо весь светился, когда твоя мама из школы приходила. Он и на собрания в школу сам ходил, её же хвалили всегда, она ж отличница у нас круглая была, Ира-то, а красавица какая, только худенькая очень, потому её и в балет брали, она в Дом пионеров ходила, я водила её, такоё у неё было коричневое трико, Екатерина Николавна сшила из своего вечернего платья, ты помнишь тётю Катю-то, Ем? Мы с ней всю войну в квартере вдвоем прожили, я кормила её, она же немка была, лютеранка, так они её из города выслали, а она тайно вернулася, а потом уж всё как-то и сошло и забылося».
Я вижу, что у неё катится слеза по щеке. «Ладно, теть Шур, пошли спать. Поздно уже. Мама круглая отличница была, у меня по русскому письменному никогда пятерок не было, в аттестате у меня и по истории и по литературе тройки стоят, понятно тебе, а ты говоришь я в маму. Я мамин позор, теть Шур, вот как дело-то обстоит». Слёзы высыхают на её щеках, она собирает со стола и вдруг жестко так говорит в угол террасы: «Ося покойник – прости меня Господи, что учинил-το над собой, ни у нас, ни у вас такого нельзя, говорил маме твоей при мне, что тройки твои в аттестате по литературе и истории всё равно рано или поздно обернутся совсем другим каким-то делом. А каким – это кому же ведомо, это здеся никто, Ем, не решает, это тама наверху как Господь захочет, так и будет. А ты помнишь, как ты в пятом классе со мной спорил и кричал мне в коридоре, что Бога нет, помнишь, а?»
Мне стыдно, и тогда и сейчас стыдно, теть Шур, ты меня слышишь, ты прости меня, я маленький был, глупый совсем, не понимал ничего, я даже не понимал, почему отец обещает меня наказать, если я посмею тебе еще раз сказать, что Бога нет. Теть Шур, есть Бог, есть, я уврен, и ты проживаешь в раю. Тёть Шур, ты прости меня за моё дурацкое детское безбожие, я давно исправился, я больше не буду, никогда не буду такое говорить. Честное слово тебе даю. БОГ ЕСТЬ!
Мое первое интервью
Как сказала Татьяна Михайловна, глядя внимательно на свою дочь Ольгу: «Гены, доложу я вам, голубчик, жестокая вещь. Вот Олечка наша, вылитый папа академик. И лицом и натурой, слава Богу, хоть фигура моя. А то была бы еще и толстой и маленькой». Это я к тому, что я по натуре, несмотря на мою склонность к ёрничанию и издевательству над всеми, очень наивный и застенчивый человек. Наивный я в отца, а в кого застенчивый, я не знаю. И всегда, когда я начинаю говорить с незнакомым человеком, у меня болит голова. Мигрень, немедленно, даже если я вижу, что ко мне доброжелательно относятся. Я поэтому и по магазинам стараюсь не ходить и на бензоколонке заправляюсь там, где стоит автомат, который по карточке заправляет.
Был март 1990 года, моя первая весна в Израиле. Израильский март в целом, я думаю, теплее нашего московского июля. Всё цветет и благоухает. Тепло, я ездил на море купаться на велосипеде. Вокруг бурлила жизнь. Люди поголовно говорили на всех языках мира, из которых я понимал только родной русский. Дело в том, что у меня нет никаких способностей, это мягко сказано, к изучению языков, и когда мой дядя Исаак первый раз застал меня в возрасте понимания, думаю, лет в тринадцать или четырнадцать, он предложил мне модель сознания, которая устроила меня на всю жизнь.
Дело было так: я не просто явился домой с непонятым материалом по математике, но и в первый раз отверг попытки отца вмешаться в процесс обучения – внаглую заявил ему, что не понимаю, что он говорит. Так же я поступил и с пришедшей домой из университета сестрой и продолжал читать книжку, которая к геометрии имела отношение весьма опосредованное, а были это «Итальянские хроники» обожаемого мной тогда французского писателя Мари Анри Бейля, капитана интендантской службы наполеоновской армии, более известного под псевдонимом Стендаль. Как всегда умнее и тоньше всех поступила мама. Она даже и не пыталась открыть учебник по геометрии, которую я терпеть не мог по причине всякого отсутствия не то что пространственного, а вполне даже тривиального и вполне двухмерного плоскостного мышления. Как я в МАИ сдавал начерталку и ТММ, ведомо одному всемогущему Богу. Бедный профессор Эдельштейн, обрусевший сухопарый немец. Полагаю, что раз пять вы мою физиономию вынуждены были лицезреть на пересдачах ТММ. Мама, поняв, что происходит вещь вполне банальная, и лень наконец-то обнялась в медленном романтическом танце с отсутствием особых способностей, предложила покончить с дилетантизмом и пустыми разговорами и вызвать сапожника для пошива сапог.
На следующий день вместо обеда и послеобеденного отдыха Фавна (моя бабушка была глубоко уверена в том, что мужчина должен быть высок, а растут во сне, поэтому ежедневно после школы я должен был минимум два часа спать после обеда) меня ожидал сюрприз. «Ну что, шляпа, читаешь журнал «Мурзилка»? Я звонил Юрию Валентиновичу, он мне сказал, что ты во время урока считаешь ворон в окне и у тебя лицо человека, который о чём-то глубоко задумался. Он проверял, ты точно не думаешь о геометрии. Интересно, о чём?» – за столом сидел мой дядя Исаак, младший брат отца, учитель математики, который работал в школе на Сретенке, где учился мой закадычный кент Стас Рабинович, по кличке птица Марабу (нос входил в помещение первым, потом появлялась тощая и всегда голодная остальная часть). Дядя Исаак в школе на Сретенке, да и вообще в Баумане-ком районе и городе Москве, был славен тем, что любого дебила мог довести до четверки по математике в средней школе и поступить в так называемый ВУЗ второй категории типа МАДИ, МИИТ, МИРЭА, МИЭМ, МИЭТ и прочие. Был он сам гениальным математиком, удивительно добрым человеком и обладал совершенно детским умом, при этом феноменальной памятью, абсолютным музыкальным слухом и блестяще играл в шахматы. Поэтому встретить его на Покровском, Чистопрудном или Сретенском бульваре днём играющим в шахматы на скамейке и на спор насвистывающим Первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром в правильном темпе и тональности большого труда не составляло. Война и его не обошла стороной. Слесаря дядю Ваню она лишила ноги, а на математике оставила след в виде контузии. Дядя Исаак не мог заниматься научной деятельностью, он не мог высидеть на стуле больше пятнадцати минут. Засыпал. Оставалась школа, и вся его жизнь после университета сосредоточилась на работе учителем математики в средней школе. Внешность, манера говорить, шутки, походка, фигура, одежда не оставляли никакого сомнения в его этнической принадлежности и месте рождения, вернее сказать, местечке рождения. Осознание и ощущение себя, понимание многих вещей пришло ко мне много позже, а в то время я никогда не подходил к нему на улице и не привлекал к себе его внимание.
Ситуация дома была накалена. За столом сидел отец и внимательно следил за происходящим. Я молчал. Исаак зашел с другой стороны: «Ну хорошо, ты же не намерен бросить школу, пойти работать на завод и доучиваться экстерном или в школе рабочей молодёжи, и я думаю, тебе не очень бы хотелось быть переведенным в 657-ю для дебилов, правда? Ну вот, не хочешь. Ты плохо знаешь Паперно, друг мой, он скотинка злопамятная и в покое тебя не оставит. Так что давай-ка, садись за стол и будем заниматься».
Выхода не было, я понял, что от меня не отстанут, и через пять минут душа понеслась в рай, причем в темпе и разрезе, который никакому Паперно не снился и в самом кошмарном сне. Через пятнадцать минут все было объяснено и понято, и за столом воцарилось чаепитие. Отец уехал, бабушка вышла на кухню, а Исаак, подвинувшись ко мне поближе, доверительно спросил: «Трёх мушкеторов» перечитываешь или «Виконт Де Бражелон» уже в деле, фильм, наверное, посмотрел в «Колизее»? Отличный фильм, а миледи какая красавица, и Констанция тоже ничего?» – глаза Исаака уехали куда-то к потолку, к нашей изумительной красоты веницианской люстре, настоящему произведению искусства, купленному моим дедом в Торгсине, кажется, к рождению мамы.
«Я читаю Стендаля, потому что он был бонапартист, а я тоже бонапартист и хочу заниматься историей войны 1812 года и совершенно не понимаю, зачем мне нужна для этого геометрия», – сказал я, зная, что в комнате мы вдвоем и Исаак точно меня не продаст отцу, потому что он добрый человек.
Исаак встал и забегал, удивительным образом набирая колоссальную скорость в лабиринтах нашей заставленной мебелью комнаты. Сейчас он не впишется в поворот, и конная бронзовая статуэтка государя императора Николая Павловича времен, когда он был еще только великим князем, упадет на пол или, не дай Бог, Исааку на ногу. «Перестань бегать тут, царя уронишь и будешь хромать потом, царь тяжелый, бронзовый, сядь на стул или на диван. Мне же влетит потом, что я тебя не угомонил», – сказал я в отчаянии.
Дальнейшее нельзя было предположить никак. Исаак подошел к статуэтке, снял ее с деревянного красавца столика с гнутыми ножками и стал внимательно изучать надпись. «Если он тут еще не царь, то должен быть не великий князь, а цесаревич, а тут написано что он великий князь, тогда как же он мог стать царем?» – на лице Исаака в этот момент было совершенно блаженное детское наивное выражение непонимания, у него не стыковалось. «Исаак, я тебя очень прошу, отдай мне коня и перестань бегать по квартире, ты сейчас что-нибудь уронишь или сам упадешь. Здесь негде бегать, иди в коридор, там мы с Димкой даже в футбол играем. Меня, кстати, тётя Римма спрашивала, не можешь ли ты с Димкой позаниматься, он там у себя на Арбате двойки стал по математике ловить. А Николай был великим князем, потому что наследником цесаревичем был Константин, который следующим шел за Александром, а у Александра не было детей. А Константин отрекся»…
Договорить он мне не дал. Изо всех сил ударив себя по лбу ладонью, закричал на всю квартиру так, что залаял из своего угла и бросился на него наш коричневый боксер Эрик, который до этого мирно спал на старой папиной полковничьей шинели с оторванными погонами. «Как я мог, как я мог забыть, ну конечно, потому и было восстание на Сенатской площади, ну, конечно, декабристы, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев». «Никакого Пестеля в Питербурге тогда не было, – возразил я, – он служил на Украине, зато там был Каховский, который застрелил героя войны 1812 года генерала Милорадовича. А когда французская армия была в Москве, то капитан Мари-Анри Бейль, известный тебе как писатель Стендаль, разбирал в Кремле архивы вместе с Каховским, который в Кремле служил архивариусом». «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», – процитировал Исаак. По его лицу скользила блаженная улыбка удивления. «Так вот чем занята твоя головушка, и вот почему тебе нет дела до геометрии. Ты намерен стать историком, так?» «Так, – сказал я, водружая царя на прежнее место и стараясь установить его так, чтобы не объяснять потом, что это не я пытался оторвать у него шпору и приладить её по какой-то своей надобности. – Именно так. Я буду заниматься Наполеоном, войной 1812 года и Великой Француской революцией, понятно тебе?» – заявил я Исааку с уверенностью своих тринадцати лет.
«Понятно, понятно, конечно, понятно. Только ты учти, что аттестат зрелости еще никто не отменял и Паперно замордует тебя тройками и двойками, если ты не будешь заниматься геометрией, и в конце концов мама будет вынуждена перевести тебя в другую школу, где ты будешь учиться с дебилами и у учителей дебилов, будешь читать журнал «Мурзилка» и книжки про пионера Витю Малеева, понял? Не шути с Паперно, я говорил, что он злопамятный, а математику не надо учить, и вообще ничего учить не надо, никакие предметы».
Пришел мой черёд удивиться: «Исаак, ты что говоришь-то, как это ничего учить не надо, тут не только Паперно, тут все замордуют, и химоза, и Крокодил, и Нисон Давыдыч, и Марьяша, тут уж правда придется воду сливать и в шесть пять семь переводиться!» «Не замордуют», – сказал Исаак и весьма доступным языком изложил мне модель восприятия мира, которую я охотно и быстро усвоил на всю свою жизнь и не жалею об этом. Сводилось сказанное дядей Исааком к тому, что голова человеку дана – если она ему дана – не для того, чтобы напрягать её заучиванием математических формул, или теорем, или стихов, дат, имен и фамилий, событий, физических и химических законов или математических уравнений. Смысл человеческой жизни сводится не к тому, чтобы запомнить, а к тому, чтобы понять, и если у тебя есть голова и ты понял, то это навсегда. «А стихи, как можно понять стихи, их же зубрить надо», – возразил я. «Не надо, – уверенно и спокойно сказал Исаак, – их тоже можно научиться понимать». «Это как это?» – удивился я. «А вот так!»
Через пятнадцать минут была разобрана глава из «Евгения Онегина», и это было сделано так, что через несколько месяцев я знал наизусть почти всю поэму, «почти» – потому что надоело, а некоторые главы помню наизусть и сейчас. Методика эта себя подтвердила и доказала многократно, и опробирована она не только мною, а всеми, кто хотел. В одной только сфере человеческих знаний она дала сбой, во всяком случае, у меня – в изучении иностранных языков, слова приходится учить.
Впрочем, не буду углубляться, я не лингвист. Вернемся в 90-й год и на Землю Обетованную. Через месяц обучения в ульпане (школа для изучения иврита в Израиле) стало ясно, что я не могу выучить алфавит. Картина была не просто плохой, она была отчаянной, беспросветной. И тогда я набрался наглости и решил: по-английски я кое-как говорю, могу объясниться в магазинах и в банке и даже слов много знаю из профессии, из программирования – буду искать работу, что мне этот ульпан с тамошними придурками. Заготовка резюме у меня была еще из Москвы. Вооружившись газетами, где объявления, даже написанные на иврите всё равно содержали перечень требующихся программных средств на английском, потому что «PL/Ι», или «С», или «Pascal» они и на суахили, и хинди так называются, я рьяно начал рассылать своё резюме. К моему удивлению, через некоторое время начали раздаваться телефонные звонки домой. А еще спустя дней десять мне назначили первое интервью и я отправился на автобусную станцию, чтобы ехать в Тель-Авив. Несомненно, Тель-Авив самая развитая в промышленном и вообще экономическом отношении часть Израиля, который один из моих московских друзей, побывав у нас в гостях в середине 90-х, совершенно справедливо называл после этого «городом Израилем» или «когда я был в городе Израиле».
Итак, 90-й год, март, я сажусь в автобус один. Мне немного не по себе. А туда ли я еду? Подхожу к водителю. Выясняется, еду туда и, с учетом дороги и пробок, минут через тридцать будем на месте. Успокаиваюсь и сажусь на место. Остановка, водитель открывает дверь и запускает пассажира. Я приподнимаюсь на стуле. Нет, это не просто сходство… Ну нет, одергиваю я сам себя, я же стоял у могилы, нет, ну я умом, наверное, двинулся от жары и иврита.
Человек садится на сиденье, чуть впереди меня с другой стороны. Я не могу оторвать от него глаз. Похож, не то слово. Двойник, даже шляпа фетровая, рост, фигура, лицо, и напевает что-то, мне хочется крикнуть: «Исаак!» Но я молчу. Человек достает еду, большую бутылку кока-колы и начинает с аппетитом есть и запивать еду колой. Даже ест так же, думаю я про себя. Мне не по себе. Спохватываюсь. Хватит бредить, надо повторить… «I graduated… Moscow Aviation Institute, Radio engineering department…. Nineteen seventy seven, system and application programming, apply mathematics… – лихорадочно в воспаленном своем сознании я пытаюсь строить английские фразы для интервью.
Пассажир поел и аккуратно сложил остатки еды в пакет, стряхнул с одежды крошки на пол и раскинулся на сиденье, положив обе руки на спинку. Боже мой, подумал я, он даже сидит так же, как Исаак сидел, и так же крошки стряхнул с себя после еды и всё время что-то бубнит про себя и жуёт губы. Человек – а людям вообще свойственно чувствовать, когда им пристально смотрят в спину, оборачиваться. Обернулся, один, второй, третий раз, и сказал что-то мне на иврите. Отвечаю по-английски, практикуюсь заодно: «I am sorry, unfortunately I don’t speak Hebrew». Следует длинная пауза, которая сопровождается бормотанием себе под нос и раскачиванием на стуле. «Точно как Исаак, – думаю я про себя, – если о чем-то размышлял, обязательно качался на стуле». Далее следует фраза, которая произносится, видимо, на идиш, судя по интонации и отдельным словам. «I am so sorry, but I don’t speak Jewish Yiddish too». Пауза еще более продолжительная, и вдруг следует: «Ты щто, оле хадащ (новый репатриант), слущай, Руссия, слущай? – произносит человек, не глядя на меня, с жутким, испепеляющим грузинским акцентом. Я счастлив, у меня эйфория, голова становится на место – язык общения найден, и это русский, родной, а акцент… а у меня какой в английском акцент? Мне говорили, тут у всех акцент, вся страна говорит с акцентом. Я почти кричу: «Да, да, я из России, из Москвы, недавно приехал». «Кущать хочещь?» «Нет. Спасибо, я не голоден». «А что, ты уже сегодня кущал?» «Да, и неполохо бы мне есть поменьше, я начал здесь поправляться».
Человек встал, подошел ко мне и стал внимательно разглядывать меня. Пауза. «А куда ты вообще сейчас едешь, а?»
В подробностях и с большим энтузиазмом я начинаю рассказывать, что еду в Тель-Авив, на интервью, выехал с большим запасом времени, потому что знаю, нельзя опаздывать. Говорю про профессию, про образование, про опыт работы и про то, что, наверное, по израильским понятиям я никто, как мне объяснили приехавшие из СССР десять-пятнадцать лет назад, но я готов пойти работать даже без денег, чтобы учиться и, возможно, себя показать.
Человек слушает меня с каменным непроницаемым лицом, молча, никакой реакции, глаза почти закрыты. Да, он точно как Исаак, который однажды заснул в школе, стоя у доски и доказывая теорему, он мог спать даже стоя. Пауза, длинная. Вдруг прорыв: «Слущай, а у тэбэ мама еврэй?» С тем же энтузиазмом и открытой душой я рассказываю ему всю историю своей семьи, всё, что знаю сам, при этом в моем голосе звучит что-то вроде гордости, что вот, прошли тысячи лет, и я вернулся сюда, на эту землю, с которой когда-то изгнали моих предков. Кажется, я гнул ему что-то про легионы Тита и Веспасиана, про Понтия Пилата, Йешуа, про Иудейскую войну. В общем, дорогой мой читатель, Остапа понесло. Он не перебивал, не задавал больше никаких вопросов. Дослушал и медленно направился к своему месту. И там, повернувшись, он сказал, я не забуду эту фразу никогда: «Веизмир, и кому я предлагал щишлик, кому? Значит, ты говоришь, что мама у тэбэ еврей и папа у тэбэ еврей, это только Всевышний знает, кто у тэбэ папа, это даже мама, может, точно нэ знает, и все у тэбя еврей, и ты приехал в Израил, чтобы работа здэс искат? Ты щто, болной?»
Читатель мой дорогой, это был один из первых настоящих уроков жизни, и он никогда мною не будет забыт.
Сумка под мышкой
«Луна хохотала, как клоун. И в сердце хоть прежнего нет, По-странному был я полон Наплывом шестнадцати лет. Расстались мы с ней на рассвете С загадкой движений и глаз…» С. ЕсенинШла середина первого десятилетия нашего XXI века. Я немного отдышался после развода с женой. Была весна, любимое моё время года. Я понемногу начал возвращаться к нормальной активной жизни. Купил себе что-то, ко мне вернулся мой привычный волчий аппетит, в том числе и по ночам. Перевалило за пятьдесят. Иногда томило одиночество, и я стал чаще приезжать в Москву. И по сей день на меня обижены мои друзья, которые, узнав, что я приехал и в городе, были оскорблены моим молчанием.
Однажды мама, она еще жила на Чистых, внимательно осмотрев мой не очень веселый облик, объявила своё традиционное: «Ты, похоже, совсем ничего не делаешь. Все депрессии только от безделья и лени. О любви надо было думать перед тем, как ребёнка второго заводить. Помог бы ты Нике, она совсем зашивается. Ты же знаешь, с тех пор как отец умер, она совершенно одна. Помнишь, когда он умер, я сказала тебе, что ни у тебя, ни у твоей сестры теперь никого нет, только вы сами друг у друга, как видишь, я оказалась права».
«Мама, помнишь поносного цвета детскую энциклопедию моего детства, которая в подметки не годилась дореволюционной и которую я обожал и зачитал до дыр? Так вот, там была статья, которая называлась «Всё живое из яйца». Мама, ты всегда права». Мама приподнялась, отхлебнула чай из дедушкиного подстаканника, улыбнулась глазами и посмотрела на меня одобрительно. «Ну, слава Богу, выздоравливаешь, видимо. К тебе вполне вернулась отцовская манера издеваться над всем миром, в том числе и над самим собой».
Через неделю я начал вести на медицинском факультете Государственной классической академии имени Маймонида занятия по компьютерному ликбезу. И это при моей стойкой антипатии к процессу преподавания и обучения. Я вообще считаю, что система образования, и не только в России, катастрофически устарела, никогда в жизни никаких групповых занятий не вёл, а тут… Я уставал, с непривычки садился голос, однажды, расхаживая по компьютерному классу, я споткнулся и всеми своими килограммами упал на молодую курсистку – хорошо еще, что привитые в хоккее навыки группироваться при падении помогли. А так бы мог и травмировать девочку. Класс был в восторге, кажется, моя жертва тоже не была оскорблена тем, что мои руки при падении попали ей в район торса.
Я начал искать способ уклониться от работы. На помощь пришла методика организации процесса обучения, которую я уяснил в процессе учёбы на физтехе. Студентов обучать надо руками и головами других студентов, тем более компьютерный ликбез. Через несколько дней были запущены в дело два старшекурсника с факультета математики и информатики – косматый, длинный и толстый Мишка и тощий московский армянин Арик, который по-русски говорил без намёка на акцент. Теперь я, если и находился на территории вверенного мне объекта, то исключительно в маленьком кабинетике, при котором был туалет и окно с видом на лес.
И вот однажды в дверь постучали и, не дожидаясь моего ответа, кто-то вошел, вернее как выяснилось, когда я повернулся на компьютерном стуле – вошла. Стройна, но не без выпуклостей. Ничего особенного, подумал я, правда, волосы, кажется, свои, светло-русая, это я люблю. Белая-белая кожа. Почти без косметики, я ненавижу шпаклёвку и краску на лице. Аккуратные хорошие руки, маникюр, но коротко острижены ногти. Терпеть не могу эти накладные когти. Джинсы без дурацких рисунков в виде жар-птицы или идиотских пальм, короткий твидовый пиджак, очень стильный, под ним рубашка нараспашку, пиджак расстегнут, хорошие добротные спортивные ботинки три четверти, но главное не это. Главное, и это сразу покорило, положило на лопатки, глаза. Боже мой, какие глаза! Как в стихах Королевича, ну конечно, как у Королевича: «Луна хохотала, как клоун». Лицо серьёзное, но глаза у неё не просто смеются – хохочут. А какие голубые при этом, небесно-голубые. Девушка называет меня по имени, я почти не слушаю её. С третьего раза до меня доходит: она староста 6-го выпускного курса медиков. Декан прислал ее ко мне, потому что у них не пройден курс компьютерного ликбеза, а в программе это есть. Девушка предлагает мне взятку, деньги, чтобы я проставил им зачет без всяких занятий, потому что им некогда, они выпускаться должны, у них диплом и госы, ну какая ко всем шутам информатика!
Сначала отказываюсь от взятки, аргументируя это тем, что сумма, какая бы она ни была, не решит никаких моих проблем. По роду службы, а она к тому же и временная, такие конверты каждый день мне носить не будут, надобности во мне ни у кого нет, а посадить могут и за эту ничтожную малость. Очень будет обидно травить анекдоты с зеками на нарах и кушать баланду из алюминиевой миски за такую малость, как 500 американских зеленых рублей, поэтому я сейчас плотно занят разработкой аналитической модели ограбления банка «Кредит Москва», где у меня работает управляющим старый знакомый. Редкая гнида, еврей и к тому же еще и врач-стоматолог, который в своё время обломал мне изумительные отношения с девушкой, которую я очень любил. Сдал, собака, меня с потрохами, что я жениться не хочу и не женюсь, даже если меня к стенке поставить под пулемет. Пришло время возмездия, заявил я, вставая и давая понять девушке, что аудиенция закончена.
Она продолжала сидеть на нашем гостевом стуле, который Арик с косматым Мишкой залили всем, что только льется и уборщица, музыкантша певица Олька по кличке Кармен, никакой щеткой смесь этих напитков оттереть не могла. «А меня Лида зовут, – сказала девушка, – я родилась и выросла в небольшом городе под Курском и первого еврея увидела, когда приехала в Москву в колледж учиться на модельера. У меня сокурсник был, еврей, москвич, мы с ним друг друга очень любили, но его мама нам не дала пожениться, потому что я русская». Я сел с размаху на свой стул, потому что хохотавшие глаза стали в два раза больше и излучали сияние. «Боже мой! – подумал я про себя, – а глаза-то какие сделались, она же сияет вся. Её бы Королевичу показать или на худой конец Катаеву. Однако поздно, уже и Катаев давно в бозе почил». Мой взгляд упал на ее правую руку. Обручальное кольцо, слегка тяжеловато для её руки. Она сидит чуть боком, пиджак расстегнут, ворот рубашки тоже, и не на одну пуговицу, не носит лифчик, грудь розовеет в просвете. Красивое молодое упругое тело.
Девушка поняла мой скользящий по ней взгляд: «Мы с мужем наш брак донашиваем. Я его ждала, пока он в армии был. Очень любила. Он пришел, не работал, не учился, мой папа его устроил учиться в технический ВУЗ. Он бросил. Девчонки, карты, выпивки. Я из-за него от нервов ребенка не удержала». Луна погасла на лице. Глаза стали обычные. Сумка по старинке, как ридикюль, зажата под мышкой, и вторая рука плотно её держит. Девушка ловит мой взгляд, смеется, глаза опять хохочут: «У меня несколько раз вырывали сумку в метро. Выработался рефлекс. Вот теперь всегда так держу, как бабуля покойная носила, она умерла, теперь я живу в её квартире, у меня мама москвичка, за папу замуж вышла и переехала в Железногорск. Папа тогда был там главным инженером крупного комбината, а был еще совсем молодой. Никто же не хочет жить на периферии». Меня покоряет слово «бабуля», теплею душой, так и мы с сестрой всегда называли нашу бабушку. Начинаю читать стихи:
«Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет».Останавливаюсь и замолкаю, девушка с места читает дальше:
«Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле, мелькают цветы».Вот так, думаю про себя, вот тебе и не читают ничего и не знают ничего. Спрашиваю, кто твой любимый поэт, отвечает: «Я очень люблю Цветаеву, я её понимаю, чувствую, а вы?» Отвечаю правду, как есть: «Нет, я не понимаю Цветаеву, она для меня слишком сложна. Для меня это как музыка Шнитке, я остановился на Маллере».
Я не зверь, приходит в голову мысль, а пусть несет зачетки и ведомости, проставлю я зачет, зачем ребят мучить, и самому быстрее. И вдруг она встает со словами: «Спасибо вам, мне всё равно, почему вы деньги не взяли, и то, что вы говорите, правильно, но все же берут. А нам ребята сказали со второго курса, что если мы уговорим вас занятия вести, то нам это будет очень полезно. Потому что вы и объясняете толково, и говорите интересно и еще про Гоголя с Пушкиным и Достоевским успеваете что-то рассказать. Мы с завтрашнего дня три недели подряд будем приходить каждый день кроме выходных, и заниматься с вами по шесть часов в день. Как раз за три недели весь курс и закроем». Мне кажется, первый раз я был рад, что буду вести занятия, потому что каждый день я буду видеть, как хохочут её глаза. Королевич всё-таки гений, в очередной раз подумал я, какие метафоры, как словом владел.
Через неделю мы ужинали с ней в Доме творчества в писательском городке и я рассказывал ей всё про Катаева, про Нагибина, про маму, про отца, про киноуниверситет, про свою первую любовь, которая жила там же недалеко, про, то как познакомился на улице со своей теперь уже бывшей женой, про Наполеона, войну 1812 года, про то, что здесь, в Переделкино, стояли кавалерийский корпус маршала Мюрата и пехотный дивизионного генерала герцога Анжу. Она не просто слушала, она не просто смеялась и живо реагировала, у нее светилось лицо, временами целиком превращавшееся в эти удивительные небесного цвета лучезарные глаза, которые хохотали, как клоун. Нет, я не Корлевич, я никогда не писал стихов и не буду и я не умею описывать личные переживания и эмоции. Я никогда не буду описывать близость, потому что для этого нужен высший талант, или это будет пошло, а значит, скучно.
Вечер катился в ночь, надо вставать и ехать домой. Лида жила далеко, на другом конце города, а работала в больнице на улице Алабяна, медсестрой на полставки. «Я сегодня не работаю, – сказала она. – И домой не поеду, я хочу остаться здесь с вами, пойдите, договоритесь о комнате.» «Лида милая, – возразил я, – ты что говоришь-то, ты же замужем! И вообще. Между нами разница в возрасте столько, сколько тебе от роду, я тебя ровно вдвое старше.» «Это вас не касается, замужем я или нет. Я подала на развод, и мы не живем вместе уже полгода. И вообще, это не ваше дело. Я вам нравлюсь, очень, у вас глаза горят, когда вы мне рассказываете и смотрите на меня. Идите, заплатите за комнату и возьмите ключи, а я вас внизу подожду на скамейке, хочу подышать лесным воздухом».
Нет, дорогой читатель, дверь в комнату, где стоит моя постель, всегда будет плотно закрыта. Таинство любви человеку описывать и рассказывать другим незаповедано.
Шло время. Мы встречались каждый день, иногда не расставались подолгу, но вместе не жили. Она ждала развода. Ходили в театр, на выставки, в кино, гуляли. Я читал ей стихи, наизусть, что бывает со мной крайне редко, читал «Анну Снегину», говорил, что если бы Королевич был жив, то он наверняка женился бы на ней, и они бы родили еще королев и королевичей с восхитительными хохочущими голубыми небесными лунами вместо глаз, как у всех людей. Она смеялась, у нее была манера согнуться и резко выпрямиться. Она полюбила мои любимые места и часто звонила мне на мобильный и говорила, что она уже на Девичке и чтобы я приехал.
Однажды я не выдержал и дал ей прочитать один из своих текстов, после того как в очередной раз она показала мне свои стихи. Она прочитала при мне, это был текст, который назывался «Урок математики», посмотрела на меня. Глаза не смеются: «Вы пишете, как живёте, как с женщиной спите.» Я удивился: «А как это?» «А как выстрел из пистолета». «А другие как?» – спросил я. – «А другие сиськи мнут», – ответила Лида.
Юбки она носила только когда шла в церковь, и всегда у неё был с собой в ридикюле платок, который она доставала, когда шла молиться, и всегда из церкви выходила с заплаканным и каким-то потерянным лицом. Надо было – и только так – поцелуями осыпать её щёки, и тогда она возвращалась сюда, на землю, последний раз всхлипывала, обнимая меня за шею, и, целуя в губы, говорила: «Вот я уйду, уйду в монастырь, вот увидите. У меня больше нет сил, понимаете?» Я не понимал, отстранялся и начинал выступать, что за чушь, какой монастырь, тебе рожать и рожать, помотри, какие у тебя бедра, какая попа, а грудь, ты можешь взвод своей грудью выкормить, а то и роту. Она успокаивалась, вздыхала, батальон, говорила она, и луна опять хохотала, как клоун, и мы ехали куда-нибудь. Только чтобы она успокоилась.
Я подарил ей чудесную тоненькую кожаную курточку от хорошего испанского дизайнера, купил в Тель-Авиве. Она носила её без ничего, просто на голое тело и была так хороша в ней, так прекрасна. Я был в неё влюблён по уши, она носила не снимая православный крест, который я купил ей в Иерусалиме и освятил в церкви Гроба Господня. Она снимала этот крест, целовала его и только после этого шла ко мне.
Перед самой защитой диплома, когда она уже все сделала, все закончила, мы с ней ужинали в маленьком итальянском ресторанчике на Рождественской улице. На ней было короткое чёрное вечернее платье, очень скромное, и бархатная полоска на шее, под которой белела цепочка и иерусалимский крестик из белого золота с маленьким брильянтиком. Она была прекрасна, глаза светились, она ждала, и я сказал спокойно и уверенно: «Лида, выходи за меня. Мы же любим друг друга и не можем друг без друга». Она была сосредоточена, спокойна. «Я благодарна вам за предложение. Любая женщина почтёт за счастье хотя бы проводить с вами время и встречаться, когда вы того пожелаете. Вы можете выбрать себе любую, и любая согласится. Но есть правило: женщина не должна отвечать на предложение о замужестве сразу. Так заведено на свете». Мы вышли на улицу. Прекрасный летний вечер, она обняла меня за талию, как только она умела, взяла меня сильной рукой и притянула к себе, так что я чуть не упал на неё и автоматически оперся на её плечо. Был такой поцелуй, такой горячий, такой свой, родной поцелуй.
Прошло несколько дней, она позвонила, сказала, что сидит на Девичке и ждет меня. Я приехал, она курила, хотя вообще не курила. На скамейке валялась пачка «Парламента» до половины выкуренная. Глаза совсем потухли. Она была в платье, на коленях лежал шёлковый коричневый платок, который изумительно шел к её русым волосам. «Вы не перебивайте меня, а то я сейчас разревусь, и мы поедем с вами в ЗАГС, а этого нельзя делать. Вы, вы самый лучший человек, нет, не то, ерунда выходит. В общем, я никогда не смогу быть счастлива без вас. Тоже какая-то ерунда. Я вас очень, очень сильно люблю. Мой духовник сказал, что нельзя без венчанья, понимаете? Теперь понимаете? А для вас, у вас… не в вере вашей дело, а в том, что вы потом не сможете жить, будете считать, что предали вашего отца и те шесть миллионов, которых фашисты задушили в войну. Понимаете? Пропади оно всё пропадом, я ходила к вашим, так они сказали мне, что не сделают по вашему обряду религиозную еврейскую свадьбу потому, что я не еврейка, потому что была замужем. Вы понимаете?»
Она рыдала на всю Девичку в голос, так что подходили люди и предлагали ей воды, валидол… «Лида, милая, да плюнь ты на все, пойдем с тобой распишемся, я же так тебя люблю, ты же моя, своя, ты же лучшая самая на свете, успокойся, перестань плакать, я сейчас сам разревусь тут. Лида, поедем и распишемся, ты же свободна уже, разведена». Она просохла лицом, прислонилась ко мне, положила голову на плечо: «Ты что мне врешь, у тебя русского паспорта нет, зачем ты врешь мне?» «Я всё узнал и в посольстве был, есть ЗАГС, который расписывает русских с иностранцами, никакой очереди, поехали, за сегодня и завтра все сделаем.» «Отвезите меня на Алабяна, у меня скоро смена, а мне еще надо переодеться, душ принять, жарко-то как, и я жить-то как буду, я же не могу без вас и с вами без венчанья не могу, уйду я в монастырь.»
Нет, она не ушла в монастырь и в ЗАГС со мной не пошла. Примерно через полгода она вышла замуж, через девять месяцев родила дочку, Дашеньку.
Королевич, к тебе я же могу посметь обратиться. Как ты считаешь? Ты же Королевич, ты не Командор, ты не памятник и не Бог, ты, как сказал о тебе Катаев, – обыкновенный гений.
«Тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, Но мало любили нас.»А может быть, нет, и всё же, а вдруг?
«Мы все в эти годы любили, Но, значит, Любили и нас.»А они все будут спорить, что там случилось с тобой в «Англетере», как же так, и почему, и такой еще молодой. И будут ковыряться, следственные эксперименты, выписки из истории болезни. Будут свои мещанские понятия применять к тебе и твоей королевской жизни. И взахлеб читать всё новые и новые сплетни. А ответ-то прост, вот он:
«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать.»Анна Ахматова об Иосифе Бродском – «В этом еврейском юноше есть что-то маяковское».
Рассказы о героизме
«За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла!» Константин СимоновМои тексты, а именно так я их называю и таковыми считаю, потому что это не рассказы, не новеллы и не эссе и воообще, я не считаю их литературными – это мои тексты. Я пишу то, что мне нравится, о том, что нравится мне, и пишу так, как мне нравится. Я не претендую ни на историческую или хронологическую достоверность и не готов ни с кем спорить, хорошо или плохо то, что я пишу. Я уверен, что это мое право, равно как и моё право публиковать или не публиковать то, что я пишу. Так вот, мои тексты, мои мысли и реакция на них, в том числе моих знакомых и друзей, а также людей, которых я никогда не знал, не видел и, вероятно, никогда не увижу, привели меня к мысли, что настало время объяснить смысл того, о чем я пишу, и почему это делаю.
Уже неоднократно звучали замечания по поводу того, что тема войны перестала быть кому-либо интересна в российском обществе, а на западе она давным-давно потеряла свою актуальность. Хотелось бы заметить, что это не совсем соответствует действительности. Здесь и сейчас не место и не время приводить статистику, но если, а я полагаю это единственно правильным, тему холокоста считать неотъемлемой частью военной темы, то следует сказать, что лучший фильм, снятый за последние годы в Голливуде выдающимся режиссером и нашим современником Романом Полански – «Пианист» – целиком, от первого до последнего кадра, посвящен войне и холокосту и величие этого фильма в том, что снят он современным, чрезвычайно скупым киноязыком и тема убийства безоружных евреев в гетто прозвучала в нем гениально и, как я понимаю, единственно правильно – автор показал нам, что убийство в гетто было совершенно банальным, а точнее, даже обыденным событием. Вышел на крыльцо, достал пистолет, застрелил еврея и пошёл домой. Гениальный режиссер Роман Полански, и мысль гениальная.
Война – это время, когда убийство человека является делом обычным, банальным и даже обыденным. И в этом весь ужас войны, а особенно последней войны, когда обыденность лишения человека жизни приняла массовый, повальный характер. При этом странным и удивительным кажется мне тот факт, что не прошло и ста лет, а в России, которая больше всех от войны пострадала, даже среди представителей еврейского населения, так часто раздаются голоса о том, что пора, мол, забыть весь этот ужас и мрак. Явление удивительное и, как мне представляется, крайне опасное.
Итак, в силу моего интереса к событиям, имевшим место в пору моего школьного обучения, предлагаю сделать ретроспективу в период от 1961 до 1971 года, десятилетие, которое составляло счастливейший период в жизни автора и его поколения – детство, отрочество, юность. Возвращаясь в ту эпоху мысленно и рецепторами собственной памяти, хочу сказать, что не было в то время в советском обществе, включая литературу, кино, театр, музыку, живопись, да, собственно, все сферы, как высокую духовную, так и житейски обыденную, ничего важнее темы Великой Отечественной войны. Мнение каждого человека по-своему субъективно, собирать голую статистику популярности художественного произведения бессмысленно, оценка специалистов может оказаться весьма тенденциозной, но я своё мнение выскажу, и, полагаю, оно не более тенденциозно, чем другие.
Я думаю, что лучший советский фильм о войне это «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова, лучший несоветский фильм о войне это «Пепел и алмаз» Анджея Вайды, а лучший фильм последнего времени о войне это «Пианист» Романа Полански. Время неумолимо движется вперед, и вот почти уже нет в живых поколения, прошедшего войну, потому что в 1945 году, последнем году войны восемнадцать лет было тем, кто родился в 1923, и, стало быть, сегодня этим людям должно быть как минимум восемьдесят шесть. Если учесть, что воевали в основном мужчины, а средняя продолжительность… В общем, нет почти никого. И тех, кто пережил войну осталось немного.
И вот я возвращаюсь в свое детство и юность, в 60-е. Фронтовики, настоящие фронтовики, прошедшие войну, ничего не хотели рассказывать и в школу на 9 Мая не хотели идти или приходили, говорили что-то с трибуны в актовом зале и стремились поскорее уйти. Никогда не забуду, как отец однажды сказал мне: «Если еще раз полезешь к Ване с вопросом, как он воевал, и будешь ныть, чтобы он пришел в школу на 9-е Мая, я сниму ремень. Понял?» Мне обидно, спрашиваю: «Пап, я понял, а почему?» «Ты помнишь, как со сломанной рукой в гипсе ходил три месяца?» «Помню, – говорю, – а причём тут моя рука?» «Тебе больно было?» «Еще как, особенно когда повернёшься во сне или в школе ребята толкнут и на стену больной рукой, и когда гипс снимали, а бинт прилип и отдирали его с кровью, очень было больно», – я зажмурился. Открываю глаза, отец смотрит на меня исподлобья, сквозь очки, в руках газета, взгляд сухой, напряженный. «Ване снарядом во время атаки оторвало ногу, потом он по госпиталям валялся, потом маялся, пока сам себе протез приладил, потом стул себе сделал, а работать слесарем не может, стоять или сидеть всё равно ему тяжело, спина начинает у него болеть и нога левая, понятно тебе? Но и это не главное, главное, что получает он на работе 95 рублей и горько ему, что работяги в получку скидываются ему по трешке, чтобы прожить он мог. А тут ты со своей школой, Днём Победы. Отстань от всех, Емца, пойди себе мороженое купи или в кино сходи, на тебе трешник,» – смягчился отец.
И так все. Жорж, когда я лез к нему, тут же мне выдавал коробки с фотографиями и отправлял меня к тёте Кате со словами: «Иди, тебе Екатерина Николавна всё расскажет, у неё память хорошая, она всё помнит, где, когда и кого я снимал». «Дядь Жорж, что мне-то, что вы снимали. Мне Вовка Пушков рассказывал, что вы на всех фронтах были, что вы Ворошиловский стрелок, что вы кроме фотоаппатарта-лейки ещё и снайперскую винтовку везде брали с собой и у вас боевые ордена и медали. Расскажите мне, как вы воевали, ну, пожалуйста. Я напишу про вас сочинение и отнесу в школу». «Так, всё, я тороплюсь, мне еще в редакцию сегодня, брата Константина надо завезти в поликлинику ВТО, а у меня что-то машина барахлит. Твой отец дома?» «Дома». «Ступай, позови, только если спит, не смей будить, успеется, машина не горит. Ты понял?» «Понял, понял, иду за отцом, а что мне в сочинении-то писать про героев фронтовиков? У одного ноги нет, второй говорит, всю войну под разбитыми и сломанными танками пролежал, чинил, варил, паял, лудил, потому что зампотех, а третий вообще занят, на теннис опаздывает, с Николаем Озеровым играть. Может, пойти к Кузиным, и мне Андриан Тимофеич расскажет, как он в интендантской службе добро из Варшавы в Москву вывозил? За такую войну мне Крокодил пару впаяет за сочинение и будет прав». «Что ты, что ты такое говоришь, вроде не слыхал никто, ты откуда знаешь про Кузина, что ты болтаешь всякую ерунду! Кто тебе такое сказал?» «Мне дядя Ваня сказал, и тетя Шура сто раз говорила, и тетя Катя мне рассказывала, а что тут такого, весь двор знает, что он добра целый вагон в Польше нахапал». «Так, ясно всё, хватит болтать! Ты иди к тёте Кате, почитаешь ей вслух, ей одной скучно целый день лежать, она тебе расскажет про то, как и где я воевал, и на карточках всё покажет, отца не зови, я на теннисный корт, мне надо Николая Николаевича Озерова фотографировать, всё, пока».
Делать нечего, иду домой за блокнотом и ручкой и через минуту стучусь в дверь к Липскеровым. «Теть Кать, теть Кать, можно мне зайти?» «Заходи, конечно, заходи». Вхожу. Моя бабушка всегда говорила и была глубоко права: «Дети не любят стариков!» Ну, а больных стариков дети еще и побаиваются. Тётя Катя лежит, она всегда лежит. У неё практически парализованы обе ноги. В туалет её водят Жорж, или тётя Шура, или моя мама, или моя сестра. Она не может идти одна. У неё есть шнурок, за который она дергает и на общей кухне звонит звонок. Если на кухне никого нет и на её звонок никто не является, она начинает что есть мочи кричать и звать, чтобы к ней пришли.
Я захожу. Очень красивая светлая мебель. Все знают, у Кати и Жоржа в комнате стоит мебель из дома Шмиттов. Шмитт – это Катина девичья фамилия, она из обрусевших немцев, но по вероисповеданию она лютеранка, поэтому в квартире у них над её кроватью висит распятие, икон я там не помню. Впрочем, мог и забыть. Главная достопримечательность, которую я обожаю рассматривать, это огромный портрет в раме совсем молодого Жоржа в костюме слушателя пажеского корпуса Его Императорского Величества. Ему на портрете одиннадцать лет и у него длинные до плеч волосы и на поясе висит настоящая шпага. Они так красивы, и Жорж, и портрет, что перед сном, когда я закрываю глаза, мне представляется, что это я, а не Жорж стою со шпагой и вот сейчас будет поединок.
Я мальчишка, начитавшийся Александра Дюма и Вальтера Скотта, мне не нравится прозаическая скучная жизнь в советской Москве 60-х годов, и я вполне допускаю, что где-то рядом есть другой мир и в нем люди скачут на лошадях, фехтуют и стоят на одной ноге, целуя руку прекрасным, благоухающим лесным и свежим ароматом красавицам, а не толстым противным девкам, которые пахнут удушающими духами «Красная Москва» или «Ландыш».
Одно из любимых занятий в детстве – это упросить бабушку достать её гимназический кожаный портфель, в котором собраны открытки её молодых лет, письма от гимназических подруг и друзей, переписка с братьями и сестрами, с моим дедом, когда он отсутствовал в Нижнем Новгороде, и чудесные незабываемые флакончики из-под французских духов, давно, конечно, пустые, но сохранившие удивительный аромат настоящих духов.
Дорогой читатель, мне не ведомо, как в условиях советского бесконечного дефицита некоторые люди умудрялись соблюдать гигиену и не мучить себя и окружающих удушающим запахом пота.
Итак, я у тёти Кати, в её комнате всегда проживает несколько кошек, которые гулять ходят в окно. Её окно выходит во двор, где мы играем в хоккей, и она просит иногда Жоржа помочь ей сесть в кресло и смотреть в окно на происходящее. Ей тяжело жить, она очень давно и серьезно больна. Кроме того, она из тех самых недобитых врагов трудового народа, которые потеряли все с приходом к власти большевиков. Её отец, обрусевший немец и весьма удачливый предприниматель Шмитт, который дружил с революционерами и даже помогал им деньгами, на свое счастье скончался еще до начала мировой войны, оставив Кате немалое состояние в виде доходных домов. В том числе дом, в котором мы живем, принадлежал Катиному отцу, и до революции она после смерти своего отца занимала одна с прислугой всю нашу квартиру – шесть чудесных комнат с видом на пруд Чистопрудного бульвара. Разумеется, она спала, ела и читала в разных помещениях своей квартиры.
В памяти не сохранилось, вышла ли она за красавца Жоржа, Георгия Абрамовича Липскерова, одного из сыновей того самого Липскерова, который был владельцем московского ипподрома и знаменитой газеты «Московские Новости», где подвергались убийственной критике пьесы небезызвестного доктора Антона Чехова. Чехов газетенку препротивнейшего Абрашки Липскерова тоже не забывал и где мог с удовольствием проезжался по жидовской газетенке в своих сатирических рассказах. Наш Жорж был крещен при рождении и являлся младшим братом знаменитого поэта символиста, а в советское время переводчика Константина Липскерова, который знал всех: и Командора и Королевича, и Штабс-капитана, и Ключика, и, конечно, Мулата, с которым дружил всю жизнь. Пять лет Константин Липскеров пробыл в советском лагере, но, к своему счастью, не как враг трудового народа, а по статье за мужеложество. Впоследствии бабушка говорила мне и подтверждал наш сосед по даче Павел Александрович, что за этой статьей некоторые очень умные люди прятались в лагере в 37–40 годах, когда свирепствовали чистки Ягоды, Ежова и Берии. Самое надежное место – если тебя взяли за гомосексуализм, то уже не упекут как врага народа и не расстреляют за измену Родине. Возможно, нынешнему читателю трудно всё это понять, но я вырос в 60-е годы и хорошо понимаю, что люди настолько боялись и страх был так реален и объективен, что любой, в том числе курьезный, способ спасения жизни был хорошо и правилен.
Не помню, читал ли я в тот раз что-то тете Кате. Я печален, излагаю ей ситуацию про то, что Жорж отбыл на теннисный корт играть с Озеровым и фоторафировать его, дядю Ваню нельзя трогать, потому что он на войне ногу потерял, отец говорит, что большую часть войны провел в ремзоне как зампотех и инженер, а к Кузиным идти незачем, потому что за сочинение про грандиозные достижения нашей интендантской службы в деле вывоза имущества из братской Польши командир батареи, фронтовик, капитан в отставке, наш учитель литературы Крокодил с меня снимет три шкуры и отправит голым в Африку. И без сочинения в школу лучше не приходить. Затравит.
Тётя Катя поднимает руку над спинкой дивана, где у нее полка с книгами, которые она сейчас читает, и передает мне маленькую книженцию. «Не потеряй, а то Жорж затравит меня, – говорит она смеясь. – Там дарственная. Я думаю, в этой книге точно есть твое сочинение». Я благодарю тетю Катю и выкатываюсь из квартиры Липскеровых.
С. С. Смирнов «Брестская крепость». Открываю, слева на тыльной части переплета надпись: «Дорогому Жоржу от автора с благодарностью». Внизу очень красивая подпись и дата. «Вот это почерк, умеют же люди писать, а у меня все буквы в разные стороны смотрят всегда», – думаю я. Смирнов, что-то знакомое, так это же Сергей Сергеевич Смирнов, «Рассказы о героизме» по телевизору, это же любимая передача, я же хоккей даже бросаю и иду домой, когда «Рассказы о героизме», раз в месяц по средам. Он еще всегда пьет воду из простого стакана и мизинец отгибает в сторону. Здорово ведет! Ну, Кайл ер, конечно, красивее внешне, и голос у него приятнее, и одевается элегантно, но разве можно сранить «Расказы о героизме» и какую-то там несчастную «Кинопанораму» или «Клуб кинопутешествий». Нет, Смирнов – это гениальный человек, и скольких героев он нашел, сколько могил, и вообще лучше только Ираклий Анронников, «Загадка Η. Ф. И.», ну это вообще! Это же про литературу, про историю, про Пушкина, Лермонтова, про декабристов. Я проглатываю книгу Смирнова. Сочинения из неё не выходит. И я пишу про братьев отца и про него. Что знаю, отсебятины половина. Но «Рассказы о героизме» я смотрю всегда. Передача тускнеет, приедается и постепенно уходит с экрана. Смирнов иногда появляется и потом исчезает совсем.
Начало 70-х. Москву трудно удивить, Москва слезам не верит. Москва видела всё и всех. Это город, в котором в цирке выступают Юрий Никулин, Олег Попов, Леонид Енгибаров, где блещет своими постановками Эфрос на Малой Бронной, где «Современник» молодого еще Ефремова на площади Маяковского и «Сатира» с Мироновым, Папановым и Пельцер, а рядом в «Моссовете» восходящая звезда Бортников и стареющие, но какие Раневская и Плятт, Марецкая и Орлова и где при выходе из метро «Маяковская» могут спрашивать билеты и на органный концерт молодого Гарри Гродберга. Город, где еще живы мхатовские старики: Грибов, Яншин, Масальский, Кторов, Станицын и Прудкин, город, где живет молодой Высоцкий, на которого ломятся в «Театр на Таганке», где он поет, выступает с концертами, город, где живут Александр Галич и Булат Окуджава, и Юлий Ким и где очень хорошее кино и режиссеры, где Данелия, Рязанов, Гайдай, город, где читают, спорят, пишут книги, пьют водку, где живут и надеются, и куда все стремятся и где хочет жить весь СССР, но без прописки на работу не принимают, и где каждый год празднуют по-настоящему два праздника – празднуют больше, но душой и сердцем два – Новый год и День Победы. Тема войны считается избитой, заезженной и никому не нужной. Все устали.
И вдруг. Город взбудоражен. Снят фильм «Белорусский вокзал». В главных ролях суперзвезды Анатолий Папанов и Евгений Леонов. Играет Нина Ургант из Питера, Маргарита Терехова, молодая красавица, секс-символ. Фильм про войну, но войны на экране нет. И песня. Она уже звучит, и даже ходят слухи, что Высоцкий написал эту песню и споет её в фильме. Нет, ошиблись. Булат Окуджава, он и сам фронтовик. Звоню Пимену: «Ты смотрел?» «Смотрел, иди, это настоящий фильм» «А кто режиссер?» «Андрей Смирнов». «А кто это?» «Помнишь, по ящику раньше «Рассказы о героизме?» «Помню!» «Это его сын, что-то снял до этого, но очень неудачно».
Покупаю белеты в наш кинотеатр «Первомайский». Идем мама, отец и я. Сижу посередине, как в детстве, на экран почти не смотрю. Мне интересна реакция в зале и реакция родителей. Мне кажется, я первый раз так часто слышу в зале смех, слезы, люди громко говорят. Как на кинофестивале. Заканчивается фильм. Зал сидит, никто не встает. И вдруг, оглушительный шквал аплодисментов. Ураган, зал ревет. Как на стадионе, когда забивают гол. И это не просмотр, никакой съемочной группы в зале нет. Рядовой сеанс в рядовом кинотеатре. Я больше никогда такого не видел. Никогда и нигде. И еще у меня было такое чувство, что я стою со всеми, что рядом со мной народ, нация, а не население.
Прошло время. Оно сняло многие вопросы, но еще больше вопросов поставило. И нет на них простого ответа. Я не люблю фильмы о войне, особенно батальные фильмы. И не понимаю, зачем Голливуду снимать фильм про наших снайперов в Сталинграде. Мода, вероятно. Я не люблю фильмы о зверствах нацистов. Потому что лучше, чем Михаил Ромм в «Обыкновенном фашизме» сделать ничего нельзя. Поэтому я не люблю «Список Шиндлера», я вообще не люблю Стивена Спилберга и очень люблю Романа Полански, поэтому я принимаю «Пианиста» и еще потому, что в «Пианисте» тоже обыкновенный фашизм, как у Ромма. И я много раз пересматривал «Пепел и Алмаз» Анджея Вайды – это шедевр, это лучший фильм о войне всех времен и народов, ну еще и потому, что это лучшая роль Збигнева Цибульского в кино, а Цибульский – это актер от Бога. Этот фильм лучше, намного лучше другого шедевра Вайды с другим гениальным актером, Даниэлем Ольбрыхским, в картине «Пейзажпосле битвы». Конечно, я обожаю «Гибель Богов» Висконти, потому что это Хельмут Бергер, это Дик Богарт, но… Лучший фильм о нашей войне, о том, как мы жили после войны, как поколение, которое прошло войну, жило с ней в сердцах в нашей стране, в Москве – это «Белорусский вокзал». Одним словом, Андрей Сергеевич Смирнов создал шедевр.
«Горит и кружится планета, Над нашей Родиною дым, И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех – мы за ценой не постоим». Булат ОкуджаваОчень короткие штрихи
Мечта
Мне 6 лет. Мы живем в городе Электростали. Мой отец – полковник бронетанковых войск, командир отдельной механизированной бригады под Ногинском. Бабуля и дедя живут в Москве на Чистых прудах. Каждый день я пристаю к отцу и матери с тем, что я хочу в цирк, в настоящий, а не по телевизору. Что у меня есть важное дело к Олегу Попову. Наконец моя мечта сбывается. Меня берет в цирк с собой дедя на настоящее представление, детское, дневное в воскресенье, и коверным в этот день на манеже будет Олег Попов. Я молчалив и замкнут и ни с кем ничего не обсуждаю. Мама пытается разговорить меня, узнать, что я задумал. Но я молчу, набрав в рот воды.
Отец привозит меня на Цветной бульвар и из рук в руки передает деде. Дедя большой любитель цирка и оперетты и знает артистов, режиссеров и администрацию. Он близко знаком с директором Московского цирка на Цветном бульваре Марком Местечкиным. После представления мы идем за кулисы. Мне обещана встреча с Олегом Поповым. За кулисами артисты репетируют, курят, балагурят, едят и пьют. В коридоре очень оживленно. Нам навстречу идет Олег Попов. Он в гриме, в своей знаменитой клетчатой кепке. Я останавливаюсь перед Олегом Поповым и заявляю громогласно на весь коридор: «А я вас знаю, вы рыжий коверный, вы Олег Попов». В коридоре все замирает. Ничтожный мелкий клоп внаглую обращается к самому распиаренному цирковому артисту в СССР. «Да ты прав, я рыжий коверный, я Олег Попов, причем я самый лучший рыжий коверный и не только в этом цирке но во всем Советском Союзе, а возможно и в целом мире. А вот кто ты?» – спрашивает Олег Попов, оглядывая дедю неузнавающим взглядом. «А я, когда вырасту, закончу школу шоферов и буду вашим шофером, буду возить вас из дома в Цирк, а после представлений и репитиций домой отдыхать». Весь коридор, все артисты и обслуга лежат от смеха, только я и Попов смотрим друг на друга совершенно серьезно. «Думаю, к тому времени ты передумаешь, работа очень тяжелая. Я рано встаю и уезжаю в цирк на репетиции, потом езжу домой обедать, потом опять в цирк. И у меня в день бывает по два-три представления и еще концерты и гастроли», – абсолютно серьезно заявляет мне Попов. «Там видно будет», – со всей серьезностью заявляю я – «Дедя пошли, папа наверняка уже приехал и ждет на улице. Он не может долго без своих танков, бронетранспортеров и машин, скучает очень». Последняя фраза вызывает новый громоподобный взрыв смеха за кулисами цирка и мы отбываем на улицу навстречу отцу.
Дедя
Мой дедушка, который скончался когда мне едва исполнилось 7 лет, всегда у меня перед глазами как живой. Я называл его «дедя» и к шести годам он научил меня разбираться в марках и монетах, вырезать фигурки из дерева и выжигать лупой на солнце по рисунку на фанере, пользоваться инструментами и следить за чистотой и опрятностью своей одежды. Это от него я унаследовал многие качества, которые поражали и продолжают поражать моих друзей, знакомых и родственников. Ну, например, никогда не садиться дома за стол в одежде, которая носится на улице, и многое многое другое. Дед мой был немец, барон Якуб фон Хармель. В советское время он назывался Яков Александрович Беккер.
На дворе конец 50-х. Поздняя осень, но день солнечный. Мы идем по аллеям Переделкино и собираем грибы на обочине дороги. Несмотря на проблемы с ногой, мой дедя хороший ходок и большой любитель пеших прогулок через лес. Я копошусь среди деревьв и кустарника и периодически выхожу оттуда на узкую дорожку по которой дифелируют дедя и черная злобная такса «Айна», «Ашка», которая не спускает с меня глаз и носа и если я только чуть чуть по её мнению уклоняюсь от курса, она начинает неистово лаять и показывать деде, что пора меня приструнить и взять на короткий поводок. «Ашка» умна, несмотря на короткие лапы – быстронога и во всем, что касается моей безопасности совершенно бесстрашна, что не раз доказывала своей агрессивностью как людям, так и собакам, не взирая на своё явное несоответсвие габаритами и размером. Воевала она совершенно по-суворовски – не числом, а умением и хитростью. «Ашка» злобно лает, дедя настоятельно требует моего возвращения из густого кустарника на дорожку, и я выбираюсь из чащи. Нам навстречу идет, чуть прихрамывая, как и мой дедя, человек его же возраста и похожей комплекции. Худощав, коротко острижен и удивительные пронзительные глаза. В руке как и мой дедя человек держит палку, на которую опирается. Мой дедя здоровается первым, чуть приподнимая свое соломенное канотье, в ответ прохожий приподнимает кепку и вежливо кланяется.
«А что ты не остановился и не поговорил? Ты же знаешь всех в поселке по именам и отчествам и все знают тебя», – спрашиваю я удивленно. «Потом, потом, через много лет. Его не будет и меня не будет, а ты вырастешь. Станешь взрослым и вспомнишь, ты обязательно вспомнишь, ты не забудешь никогда эту фамилию». «Это что, как трава такая полевая и лесная?» – спрашиваю я удивленно. Дедя смеется, даже немного приседает к земле. «Господи, надо рассказать дома, когда вернемся. Трава. Хорошо, что он уже далеко и не слышит, айв самом деле же трава. Какой ты славный у нас мальчик и какая память у тебя интересная, все у тебя на ассоциациях, такой маленький, а уже ничего не хочешь заучивать, только понимать».
Дедя начинает читать стихи, и я не понимаю ни единого слова, но мне понятно, что я слушаю музыку «Это звучит так, как когда тетя Фаня, твоя сестра, играет на пианино». Дедя останавливается как вкопанный, внимательно смотрит на меня и говорит: «Ах как жаль, как жаль, что он уже ушел и не слышит того, что ты говоришь. Милый мой, дорогой мой мальчик, воистину – устами младенца глаголит истина. В самом деле, конечно, его стихи как музыкальные ноты, как фортепьянная пьеса».
Зонт
Поздняя осень, начало 70-х. Я студент второго курса МАИ. Сажусь в электричку, чтобы ехать в наш поселок, который располагается посередине между Боровским и Минским шоссе. Можно ехать как с Белорусского, так и с Киевского вокзала до станции Баковка или Переделкино Киевской или Белорусской ж.д., а потом пешком идти до дачи. На сей раз мне ближе и удобнее Киевский вокзал.
Я в электричке и пишу стихи о любви к своей однокурснице Лене Меламед, которая, я думаю, не имела никакого представления о моей в неё влюблённости. Почему – да шут его знает, всего вероятнее по причине идиотской скромности, а говоря языком нынешним, из-за комплексов, которые тогда простительны в виду прыщавой молодости. Стихи не получаются, как вдруг, что-то, что-то неясное, невыраженное забрезжило. Что-то, что Александр Межиров называл на своих поэтических семинарах ритмом поэзии.
Выхожу на станции Переделкино, идет проливной дождь, уже темно и премерзко. Иду быстро и на ходу роняю и ловлю утлого, маленького человечка под зонтом. Из-под зонта слышу знакомый до боли, до стона голос: «Как это у вас, однако одновременно и неловко и ловко вышло. И уронили, и в воздухе поймали, не дали упасть на землю под зонтом. И большой вы какой-то и сильный очень, спортом вероятно занимаетесь?» Машинально отвечаю: «Да, хоккеем с шайбой», и заглядываю под зонт. Больше я никогда не пробовал рифмовать слова – под зонтом стоял и улыбался в узкие глаза и щепотку усов Булат Шалвович Окуджава.
Таганка и Цирк
Девочка, хорошенькая, тоненькая, очень рыжая жила на Цветном бульваре возле цирка, глубоко во дворе. Дружили, гуляли, курили, она была очень гибкая. Роман на бульварах и во дворах. Она была опытнее, ничего не боялась и была склонна к тому, что теперь принято называть экстримом. В ней что-то было очень своё, очень необычное. Она была совсем свободна, тогда в начале 70-х. Свободна так, как те, кто родился в начале 90-х. Секс был и до неё, но до неё он всегда был с оглядкой, с опаской, с осторожнностью и настороженностью. С ней впервые он стал свободным, отвязанным. Вероятно, это был именно секс, не любовь и не влюбленность даже, а секс без обязательств, без страдания и при этом без памяти и с потерей сознания. И без постели. Секс был там, где его быть не могло, не должно было быть.
Театр на Таганке, спектакль по коммунистическому американцу, по Джону Риду – «10 дней, которые потрясли мир». Удивительно что ни Сталин, ни его последователи не запретили эту книгу в СССР, хотя надо быть полным дураком, чтобы не сделать из этой книги очевидный вывод. Петроградское вооруженное восстание, которое впоследствии называлось Великой Октябрьской Социалистической Революцией, а сейчас именуется Октябрьским переворотом, было подготовлено и осуществление Львом Давидовичем Бронштейном, более известным под политическим псевдонимом Троцкий.
Мы заходим с «Рыжей» в театр на Таганке, и контроль на билетах мне отрывает Владимир Высоцкий, а ей Вениамин Смехов. Высоцкий и Смехов молоды, а мы с «Рыжей» просто дети, я в синих джинсах «Super Rifle», «Рыжая» в белых трузерах в обтяжку «Lee». Штаны обтягивают её весьма аппетитный бексайт, и я замечаю, что взгляд Высоцкого задерживается на «Рыжей». В спектакле он играет Керенского, мы сидим недалеко от сцены и «Рыжая», когда аплодирует ему, кричит с места так, что нас скоро выведут из зала. Впрочем, буйствует не только она, и есть надежда что всех не переловят и в участок не сведут. Я пытаюсь её утихомирить – «да пошел ты на х. й», – говорит «Рыжая» так громко, что я готов провалиться сквозь землю, когда к нам подходит тетка в униформе. Она обращается к «Рыжей»: «Вас лично Володя просил в антракте не уходить из зала, он будет петь для вас».
«Рыжая» становится вся пунцовая, лицо, кожа под белой рубашкой расстегнутой до пупка. «Слышал», – обращается она ко мне с презрением. – «А ты не ори, не ори. Если только он поманит меня, ты меня больше никогда не увидишь, понял?» Отвечаю: «Понял, а я тебя и так вряд ли еще увижу много раз». Она молчит, в глазах огонь и абсолютная решимость.
Спектакль окончен, мы выходим на улицу. «Рыжая» закуривает. У неё кубинские сигареты «Портагас» из сигарного табака. Этот горлодер не под силу даже видавшим виды алкашам. Она его курит как мемфиски, играючи. Мы идем по Садовому. Оба так молоды и под таким впечатлением от спектакля, что пешком доходим от Таганки до Цветного бульвара. «Рыжая» говорит мне, что сегодня ничего не будет, что больше вообще ничего не будет, что всё кончено между нами. Я не в трансе, любви не было. Мы расходимся легко, и я выхожу из двора к цирку.
Около входа в цирк стоит 21-я Волга универсал, в багажнике которой копошится хозяин. Он одет в кожанную летную куртку. Я подхожу и прошу прикурить. У меня кончились спички.
Человек поворачивается ко мне лицом, зажигает спичку и дает мне прикурить. В огне зажженой спички я вижу улыбающееся улыбкой Фернанделя лицо Юрия Владимировича Никулина. У меня от волнения перехватывает дыхание и слова благодарности я выжимаю из себя сдавленным голосом повешенного. Никулин смеется: «Да ладно тебе, что ты так завелся-το, давай с тобой по рюмке выпьем, у меня все готово и закуска есть. Будешь ребятам завтра хвастаться что распивал с Никулиным прямо около цирка». «Буду, Юрий Владимирович, обязательно буду, а еще я сегодня на Таганке был и мне контроль на билете сам Высоцкий оторвал, и меня девушка бросила сегодня, «Рыжая», она тут рядом с цирком живет на Цветном». «Ну видишь, у тебя день какой сегодня удачный выдался, и девушка тебя бросила, за других замуж хотят, а с тобой расстались, везучий ты какой парень-то. Давай еще по рюмке и я домой поеду, меня жена ждет, пора ужинать».
Больше я никогда не виделся с «Рыжей».
Бутафор
Она была бутафором в театре Ермоловой и училась в Художественном училище имени 1905 года на Сретенке. Нинка Бешеньковская, в нашу компанию её привел Алик Соколов, а его с ней познакомил московский собиратель человеческой экзотики Стас Рабинович по кличке «птица Марабу». Худая до мальчиковости, тощие ключицы и торчащие локти и колени и при этом какие-то громоподобные арбузные груди, которые шли впереди неё, как знаменитый нос Стаса Рабиновича. Нинкины груди и нос Рабиновича входили в помещение задолго до того, как там появлялось утлое тело хозяйки её грудей или хозяина его носа.
Раннее утро после новогодней ночи. Шура Комаров, мастер спорта по вольной борьбе, с квадратным подбородком брюнетистой утренней небритости просыпается и, раскинув руками, натыкается на нинкины груди. Шура вскрикивает с ужасом и резонным вопросом: «Ты кто?» Ответ прозвучал, как отскок шайбы от борта: «Я бутафор». Шура, отпустив её груди и поворачиваясь к стене: «Боже мой, какого только народу на свете не бывает, с кем только не проснешься утром, жениться пора!».
Середина 70-х. Нинка пишет курсовой у нас в дачном поселке. Она переходит из дачи в дачу, везде её любят, кормят, и ей везде рады. Она безбашенная. У неё бзик – она мечтает выйти замуж за чеха и жить в Праге. Где она будет ходить по городу с мольбертом и рисовать. К тому же, она обожает Гашека, за что мы все её любим ещё больше, и у неё есть мечта – иногда обедать и ужинать в заведении «У чаши», где она расчитывает познакомиться со Швейком, которому она скажет: «Швейк, снимите штаны и покажите…».
Мы с Андрюхой едем из Москвы по киевской дороге. Ранняя осень, тепло. У Переделкинской церкви мы наблюдаем картину – за мальбертом спокойно и непроницаемо работает Нинка. На ней короткие шорты и майка, которая едва прикрывает её огромные и очень красивые груди. Рядом топчется не очень уже молодой, бородатый человек, который дает ей советы по части писанного ею этюда, и не может оторвать взгляда от нинкиных грудей. Человек Нинке: «Давай я тебя напишу обнаженную. Я скоро умру от алкоголизма, а тебя эта картина потом сделает богатой». Нинка отказывается, дает приставале рубль и он отваливает на станцию Переделкино. Мы подходим к Нинке. «Ты хоть знаешь кому дала рубль на поправку здоровья?» – спрашивает Андрюха. «Да привязался забулдыгай какой-то непромытый с бородой. Предлагал за червонец писать меня голую. Наверняка надо будет еще и дать ему, а он, может, сифилитик». Меланхолик Андрюха подводит черту: «Может он и сифилитик и точно бомж и забулдыга. Только это Звере – самый лучший русский художник нашего времени».
Изабелла Яковлевна Кац
Это мама моего однокурсника – Алика Соколова. Изабелла Яковлевна Кац, дочь первого председателя ГУБЧЕКА Нижнего Новгорода – Якова Воробьева. Воробьев – это партийная кличка, настоящая фамилия Кац. Изабелла Яковлевна была женщина очень умная и тонкая. Поэтому сыновьям Игорю и Алику она очень советовала не поминать растрелянного в 21-м году белыми деда, Якова Воробьева. На всякий случай, а то всякое бывает, времена могут и поменяться. И поменялись, в 90– е годы на Родине красных родственников точно лучше было не вспоминать, тем более с такой выраженной фамилией как КАЦ. Кстати КАЦ – это аббревиатура Коэн Цадик – святой служитель храма, или воин храма, буквально – хранитель храма.
Однажды, мы учились на 3-м курсе МАИ и собирались на каникулы в зимний спортивный лагерь. Хоккей, лыжи, санки, футбол на снегу, пьянка, карты и, конечно же, девочки, вечером танцы в концертном зале пансионата. Идея пришла в голову Алику – надо подзаработать. Изабелла Яковлевна преподавала немецкий на курсах ВНЕШТОРГА и ей разрешалось пользоваться тамошним буфетом. Спиртное, американские сигареты, по праздникам одежда и обувь. Супер бенефиты, как сказали бы сейчас. Нам были куплены три блока «Мальборо», которые Алик умудрился продать так удачно, что на следующий же день из ментовки Ленинградского района пришла телега в ректорат МАИ, что студент Соколов занимался спекуляцией около метро «Сокол». Разумеется включились все, в том числе мой отец, у которого были колоссальные связи в самых разных сферах Москвы. Общими усилиями Алика отбили, приказ об отчислении из МАИ заменили на комсомольский строгий выговор с занесением в учетную карточку. Тоже хреново, но с этим можно жить и учиться дальше, а не идти солдатом в Красную Армию.
На следующий день мы на радостях распивали в доме у Соколовых новинку – бутылку «Петровской» водки, купленную мной в магазине по случаю. Изабеллая Яковлевна накрывала на стол закуску и напевала веселую немецкую песенку И вдруг: «Мальчики, я вас очень прошу, с бизнесом надо закончить. Если вы вознамеритесь продавать гробы, люди перестанут умирать!»
Контрамарка
Начало 70-х. В Москве идет неделя французского кино. В кинотеатре «Мир», который находится на Цветном бульваре возле Московского цирка, дают фильм Шаброля «Пусть умрет зверь». Билетов в кассе нет, я стою в очереди на бронь, а Пимен на улице рыщет в поиске лишнего билета. Ко мне подходит человек в очень хорошей, но весьма потертой и неопрятной одежде. В зале касс кинотеатра темновато, но я вижу, что и лицо у человека потертое. Он мне предлагает сделку, за трешник купить у него контрамарку на два лица. Сделка не честная, продавец теряет два рубля, потому что билеты по 2.50, а контромарка на два лица. Я предлагаю дать пятерку. Человек вздыхает и говорит мне – это много. И тут, несмотря на утлый свет в помещении касс кинотеатра, я узнаю его детскую застенчивую улыбку, с которой он выступает на арене Московского цирка, практически не гримеруясь. «Вы, это Вы. А мы с Вами встречались в Переделкино, прошлым летом, помните, Вы были на даче у Народного артиста, у А.А.А., а я дружу с его сыновьями. Вы, Вы!»
У меня прерывается дыхание, но на одном духу я выпаливаю: «Вы самый лучший артист в нашем Цирке. Я всех видел и Каран-Д-Аша, и Никулина, и Олега Попова, и Бориса Амарантова, но Вы, Вы лучше всех! Вы даже лучше, чем Марсель Марсо, я его два раза видел, когда он приезжал на гастроли в Москву. Вы великий артист».
Блаженная детская улыбка исчезает с его лица, он опасливо поглядывает по сторонам и говорит мне: «Ты что так орешь-то? Что тебя так разобрало? И какие ты слова говоришь. Великий! А Фернанделя ты видел в кино, а Тото? И вообще, кто тебе сказал, что комик – это артист. Лоуренс Оливье великий артист или Смоктуновский. Иногда что-то получается у Володи Высоцкого, иногда у Любшина. Старики во МХАТе – вот это артисты, Грибов, Яншин, Станицын, Прудкин, Массальский. А я эксцентрик, понял? Ладно, пошли в кино, говорят, фильм неплохой. Только я пойду в зал сразу, а ты сходи в буфет и купи мне две бутылки пива, а то я себя очень плохо чувствую, а вечером у меня представление».
Когда я вошел в зал, он мирно спал глубоким сном, развалившись на удобном кресле. Я положил ему в открытую сумку две бутылки пива и ушел искать свободное место в зале. Это было весной 1972 года. Вскоре, его не стало.
Цитата
Мы студенты 2-го или 3-го курса МАИ. На дворе начало 70-х. Мы все очень много читаем и постоянно цитируем прочитанное. К месту и не к месту. Литература – часть нашей жизни. Причем, важная часть. Возможно – это основа нашей жизни. В ту пору в Москве таксисты читают наизусть стихи. Нет человека в городе, который не знает наизусть Есенина, Блока, Пастернака и Мандельштама. Многие знают и хорошо помнят наизусть Ахматову и Цветаеву. Молодежь увлечена Вознесенским и Евтушенко. Я в ту пору совсем не понимаю и мало читаю стихи. Но проза, без хорошей прозы жизнь мне не представляется жизнью. Книги, журналы, бесконечные ксероксы. Мы все очень начитаны и совершенно не имеет никакого значения избранная профессия или социальное происхождение. Нельзя не читать. Потеряешь друзей. В активном ходу с цитатами и обсуждением по кругу повесть Василия Аксенова «Затоваренная бочкотара». Повесть, которую кто-то из известных и уважаемых советских литературных критиков назвал «странной». «Странная повесть» Василия Аксенова была напечатана в журнале «Юность» в конце 60-х и обрела в нашем лице весьма благодарного читателя.
Мы много и часто гуляем бесцельно пешком по Центру. Три закадычных Кента: я, мой одноклассник Володька Сусаков, Сусак, и Андрюха, мой сосед по даче, художник. Случай привел на Красную площадь. И вдруг без всяких к тому оснований, прямо напротив Мавзолея у меня вырывается цитата из «Бочкотары»: «А вот вам и старичок маринованный в банке, не Богу свечка, ни чёрту кочерга». Цитата как обычно произнесена во весь мой зычный звенящий баритон. После чего возникает оцепенение ясного понимания написанного Аксеновым. Рядом с нами стоит мент в офицерском чине, который в растерянности понимает, что прозвучала глубоко циничная антисоветчина, на которую он не знает, как отреагировать. Мы трое расходимся в разные стороны, понимая что последствия возможны. Обошлось.
Бестактность
Шла вторая половина 70-х годов теперь уже прошлого века. Мама закончила школу перед самой войной и у её класса, у всего выпуска была традиция. Каждый год они все, все кто остались живы, отмечали вместе 9 мая. Необязательно самого 9-го, но обязательно отмечали. В тот год всех пригласил к себе на дачу в Красную Пахру Юрий Маркович Нагибин. Что-то у мамы не срасталось с тем, чтобы ехать со всеми на автобусе, который отходил от здания типографии на улице Макаренко, там до войны находилась мамина школа. Папа, который вообще всегда не любил компании, а маминых одноклассников недолюбливал активно, отправил маминым водителем меня. Мы приехали одновременно с автобусом, и вся толпа немедленно отправилась за стол распивать и закусывать. Я пошел гулять по поселку Интересно было сравнить Пахру с нашим Переделкино. Начавшийся дождь вернул меня к дому и я залез в машину, разложил сиденье, включил себе музыку и вознамерился куковать один. Не тут то было, через полчаса из-за калитки выросла фигура хозяина дома, который подошел к машине и окликнул меня по имени. «Это что еще за шоферские замашки? Ну-ка немедленно в дом. Тебе моя жена Алиса накрыла ужин в кабинете, а я тебе настроил кинопроектор. Хочешь посмотреть «Последнее танго в Париже» Бертолучи? У нас же не показывают, считается что фильм порнографический, а я себе привез кассету из Японии, и мне её даже продублировали на русский. Пошли».
Через два часа Нагибин вошел в свой кабинет и увидел мои восторженные глаза. «Вижу, вижу, что тебе очень понравилось. Я тоже обожаю этот фильм. Шедевр, а Марлон Брандо каков? Какой актер, как играет! И ничего удивительного, их там в голливудской школе учат по системе Станиславского, а основал её знаменитый актер Художественного театра и племянник Антона Павловича Чехова – Михаил Чехов. А книжки ты читаешь? Кто твой любимый русский писатель?» Я выпалил как из пушки: «Их два – Михаил Булгаков и Андрей Платонов». Нагибин расцвел: «Ну Булгаковым ты меня не удивил, а вот то, что ты любишь Платонова, это удивительно. Хотя, с другой стороны, у тебя очень хорошая наследственность по маминой линии. Твоя мама блестящий человек, и у неё безошибочное литературное чутьё. Я её побаиваюсь, её критика моей литературы всегда испепеляет мою душу».
Я решил поправить дело и заявил: «Юрий Маркович, недавно в журнале «Дружба народов» был напечатан ваш изумительный рассказ-эссе «Двое и одна и еще один», изумительная вещь, декандентская, импрессионистская». На лице Нагибина появилась гримаса боли. «Ясно мой друг, мне понятен твой литературный вкус и твои предпочтения. Это единственная вещь, которая написана мной в этом стиле и значит вся моя остальная литература тебя не трогает. А ты – мамин сын».
Прошла жизнь, этот случай не выходит у меня из головы, мне горько и стыдно за свою бестактность и больше я никогда не позволял себе и не позволю говорить с авторами об их произведениях.
Водитель Николая Романова
Кинотеатр «Первомайский» на углу 11-й Парковой и Первомайской улиц. Дневной заурядный сеанс, художественный фильм «Красная палатка». Все знают: фильм откровенно слабый, хотя тема интересная – катастрофа дерижабля «Италия», командиром которого был генерал Умберто Нобиле, большой друг Муссолини и Гитлера. Но фильм интересен не этим. В нём играет знаменитая супер-красавица, итальянская актриса Клаудия Кардинале. Секс-символ середины 70-х. Яркая изумительная брюнетка с огромными глазами и нечеловеческой фигурой. И с ней в фильме целуется советский актер Эдуард Марцевич. Это для тех времен событие.
Картина заканчивается, она не оставила никакого впечатление и поцелуй оказался каким-то утлым, вполне советским, не горячим. Так себе поцелуйчик, на нетвердую тройку.
Иду по проходу. Меня останавливает вопросом пожилой совсем человек. «Ну что молодой человек, понравился вам фильм?» «Нет, – говорю, – совсем не понравился. Я ничего особенного и не ждал, но оказалось еще скучнее чем мне говорили. Я бы ушел, если бы не Клаудия Кардинале. Такая красавица, прямо дух захватывает». «Да, красивая девушка, очень красивая, а еще Шон О’Коннори, шотландец, тот который играет Амундсена, это супер-звезда Голливуда, Джеймс Бонд, агент 007».
Человек помолчал, потом спросил: «Молодой человек, а вы машинами интересуетесь?» «Да, очень интересуюсь, а что?» «Приходите в Политехнический музей, я покажу вам нашу коллекцию старинных авто, там чего у нас только нет и все на ходу и заводится и можно прокатиться во дворе. Придете?» «Обязательно приду, а кто же меня пустит без пропуска и как спросить?» «А вы спросите меня, скажите что вам нужен шофер царя Николая Второго Романова и меня позовут. А фамилию мою вам не нужно знать, меня по фамилии никто не знает в музее и даже не знают, что я заведую автомобильным отделом музея. Только поторопитесь, молодой человек, мне уже за 90. Боюсь недолго мне осталось и некому коллекцию оставить. Умру и все растащат и изломают».
Антисемитизм
Звонок по телефону. «Привет. Привет. Ты один дома?» «Один, а что, ты хочешь приехать?» «Мама твоя наверное на даче, а у тебя, как всегда, ни денег в кармане, ни жратвы дома?» «Приезжай, у меня есть сосиски и твое любимое можайское молоко. Отец целый ящик купил. Если по дороге прихватишь с собой двух красавиц я не обижусь.» «А если одну? Зато она играет на гитаре и поёт, очень красивый голос». «Значит, сама страшная как атомная война.» «Есть малость. Зовут Марина, фамилия Рапопорт». «Нет не надо, не привози, я не собираюсь жениться».
Смеется: «Слушай а ты правда один дома, а то я не первый раз звоню. Думал, ты голос изменил и хохмишь.» «А что было то?» «А я позвонил и попросил к телефону тебя, назвал тебя сначала коротким именем, там переспросили кого, кого? Тогда я назвал тебя твоим полным именем и мне сказали – жидов не держим и положили трубку. Слушай где мы живём а? Надо линять отсюда, куда глаза глядят». Стас Рабинович по кличке «Птица Марабу», худой как палка, с огромным длинным шнобелем вместо носа, вечно голодный и всегда без денег. Думаю, он и сейчас живет в Москве, а если и уехал из неё, то наверняка давным давно вернулся назад домой. Не представляю себе его пополневшим, поседевшим или облысевшим, женатым, с детьми, в какой-либо форме обязательств перед кем-либо, работающим на постоянной работе и соблюдающим какую-либо форму упорядоченности поведения. Стас Рабинович не мог постареть или измениться – он Вечный Жид.
Зачёт по информатике
Начало XXI века. Девочка, беленькая, аккуратная, гладко причёсана, скромно одета. Хорошо отвечает. Очень. Ставлю отлично и протягиваю ей зачётку: «Отлично разбираетесь-Word, Excel, PowerPoint,Windows – всё просто экселент», у вас бойфренд – программист?» «Нет» – отвечает, – «Мне нравится чатиться, я медсестрой работаю, в основном в выходные и по ночам, полно свободного времени, вот я и переписываюсь с друзьями в онлайне». «Молодец, у нас на факультете информатики не все так владеют компьютером как ты, будучи медичкой». Улыбается, смотрит на меня пристально: «А можно мне вас тоже спросить?» «Конечно, можно, валяй, спрашивай, если ты про жену, то разведен, она меня сама бросила три года назад, а может и больше, я знаю про три». «Таких как вы не бросают. Вас и не поднимешь-то, уж очень вы умный и очень уж знаете много, женщине такого трудно осилить. Умишко слабоват. А вот мне интересно, зачем вы на занятиях по информатике все время классиков цитируете – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, ну прямо все время цитируете, а зачем?» Отвечаю: «Понимаешь, у меня ассоциативная память, я цитирую по ассоциации, потому что по смыслу цитата уместна. Понимаешь?» «С трудом понимаю, мы-то этого ничего не читали не помним и не понимаем, так что ваши цитаты нам только мешают, отвлекают нас, понимаете?»
Вероятно, начинаю понимать, с трудом, нехотя, но приходится. Культура конечна, потому что, если не читают Гоголя и Лермонтова и им не нужно это, и без этого они живут, значит они уже другая популяция – «digital generation». А раз им не нужен Гоголь и Достоевский – значит всё бессмысленно, значит после человека вообще ничего не остаётся. Всё имеет своё начало и конец и всё проходит. Вот вымрет моё поколение и ничего не останется. Будут чаты, социальные сети, придумают что-нибудь новенькое, но никто не будет читать по ночам Бальмонта и Есенина. На скорость это не влияет, прямо ни разу, как говорят мои студенты!
Концерт
Середина 80-х. Моя племянница учится в Гнесинской школе по классу арфы. Ежегодно все классы по всем отделениям дают сводный концерт. Играют дети, работают педагоги, в зале сидят умиленные родители. Как вдруг, худенький вихрастый мальчик, очень еврейский, садится за фортепьяно, немного потирает руки одну об другую и начинает играть. Я дилетант, но после первых же звуков ясно, что-то не то. Играет не ребенок, не десятилетний мальчик. В школьном концертном зале происходит действо и ещё какое! Мальчик заканчивает играть, встает из-за инструмента, кланяется. В зале гробовая тишина. Из глубины зала голос: «Мальчику этому не надо продолжать ходить в школу, и в Косерваторию ему поступать незачем, потому что ни Листа, ни Шопена, ни Рахманинова давно нет в живых, а больше ему учиться фортепьянной игре не у кого. Он сам ГЕНИЙ». Все поворачивают головы. На самом последнем ряду, возле прохода сидит Святослав Теофилович Рихтер. А играл Евгений Кисин.
Напутствие
1989 год, Москва, Большой зал Консерватории. Евгений Кисин играет Первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром. Большим симфоническим оркестром дирижирует Великий Герберт фон Кароян.
Караян болен. Он не может стоять за дирижерским пультом. Он дирижирует, сидя на высоком барном стуле. Лицо его прекрасно как и всегда, когда он играет музыку. Заканчивается концерт, Кароян берет Кисина за руку, подводит его к краю рампы и в низком глубоком поклоне чуть отходит назад, оставляя Кисина одного у края рампы и громко на весь зал говорит: «Теперь я могу спокойно уйти, потому что музыка остается в надежных руках», и уходит со сцены тяжелой походкой очень больного человека.
Соломон Мудрый
ПРОКУРОР: Вы говорите, что, будучи офицером СД, вы в соответствии с уставом исполняли приказы, так как за неисполнения приказа по законам военного времени вас могли растрелять?
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЕСТАПО IV-B-4 Адольф Эйхман: Да, это так.
ПРОКУРОР: В июле 1942 года пехотная дивизия вермахта с Восточного фронта в связи с понесенными тяжелыми потерями была отправлена на переформирование в Германию. На маленькой станции на польской территории эшелон остановился для замены паровоза и комнадир дивизии был вызван к коменданту станции, где ему был вручен приказ о том, что взвод из его дивизии должен быть выделен в распоряжение офицера СС для проведения акции, для растрела евреев. «Но мы боевая часть, отправлены с фронта для отдыха и пополнения, мы потеряли больше половины личного состава солдат и офицеров». «Это приказ, – бесстрастно заметил комендант.
Полковник вермахта вышел из кабинета коменданта и застрелился. У вас же было личное оружие, Эйхман, вы же были офицером?
АДОЛЬФ ЭЙХМАН: Но я же служил в гестапо, а не в вермахте».
Как сказал Ахиезер, в пространстве русского языка нет преемственности поколений и нет традиции. Каждое поколение начинает все сначала. Возможно, Ахиезер был глубоко прав, но я не хочу смириться с этим. Это очень опасно, потому что тема войны, которая звучит во всех моих текстах, это тема, которую нельзя забывать. Чем дальше мы уходим от войны, чем больше проходит времени, тем опаснее, потому что всё чаще даже сами евреи, в том числе израильтяне, выражают сомнения по поводу холокоста. В самом деле, такая прекрасная и культурная нация немцы, цивилизованная, образованная, такая аккуратная – и такой ужас. Шесть миллионов задушенных, расстрелянных, повешенных, закопанных заживо, убитых только потому, что они евреи. В это невозможно поверить. Нужно поверить! И не только потому, что есть документы, а потому что были и еще остались, очень мало – ведь люди редко живут до ста лет, но остались люди, которые прошли через этот ад или потеряли в этом аду свои семьи и близких. И важно, что я и многие мои ровесники этих людей видели своими глазами, мы их застали и знаем, что катастрофа в середине XX века была, и я считаю необходимым писать об этом, о людях, переживших катастрофу.
Шел 1990 год от Рождества Христова. Это был мой первый год проживания на Земле Обетованной. Очень для меня непростой год, очень нервный и напряженный. Уверен, то, что я скажу сейчас, у многих вызовет понимание, хотя, вероятно, еще больше найдется людей, которые не согласятся со мной. Я о чувстве внутреннего покоя и об ощущении защищённости. Возможно, существуют на свете люди, настолько уверенные в себе и настолько самодостаточные, что не нуждаются в этом ощущении, но я думаю, таких немного. Большинство же людей испытывают страхе перед завтрашним днем, и я полагаю, что это чувство сильнее, чем страх смерти, так как многие, достигнув среднего возраста, склонны полагаться на волю Всевышнего или волю рока, судьбы – это кому что больше по душе, и не думать о том, что будет с ними после смерти, а вот страх заболеть, испытать страдания и боль, страх остаться без пропитания, без крыши над головой, потерять свободу передвижения или попасть в заточение – все это толкает людей на многое, поэтому очередной политик-популист, который обещает всем золотые горы, каждой женщине по мужу, каждому мужчине гарем, всем детям бесплатные игрушки, а больным спасение от рака или СПИДА, имеет высокие шансы стать президентом или премьером, это уж зависит от государственного устройства.
Мы все в душе хотим спокойной жизни и тихой заводи, кроме тех немногих, которых называют новаторами и лидерами, а в психбольницах им обычно ставят диагноз «паранойя» и прописывают контрастный душ или обертывания. Вперед к победе коммунизма или уж на худой конец для начала социализма с человеческим лицом. А если серьезно, то вот как раз Гитлер популистом не был, и зря многие посчитали, что он только обещает германскому народу уничтожить главного врага нации – евреев. Будучи полным вегетарианцем и последовательным католиком, Адольф Шикльгрубер всеми силами, как мог, старался исполнить все свои предвыборные обещания и во многом преуспел.
Сейчас, в конце первого десятилетия XXI века, меня часто спрашивают, почему я в декабре 1989 года, не попав в США, благодаря лоббированию израильских интересов моими братьями и сестрами в Конгрессе и Сенате США, а именно сионистскому лобби, я поехал в Израиль. Вернее, почему я решил, несмотря на непопадание в США, оставить пределы СССР и эмигрировать в Израиль. Буду честен, у меня не было и нет никаких сионистских убеждений. Мне ближе позиция ортодоксального иудаизма, пока Мошиах (Мессия) не пришел и не указал, где надо повесить алтарь, и Храм в Ерушалаиме не восстановлен как ХРАМ ВЕРЫ, я имею право жить, где хочу. Машу рукой моим братьям в США и говорю им спасибо. Мне Канада нравится больше, чем США, я, пожалуй, проголосую на следующих выборах за месье Игнатьефф как за премьера Канады, хоть он и лейборист, но он же по отцовской линии русский граф, а я, как сказала мне моя бабушка перед смертью, пожалованный баварский барон. Хоть и национал, но социалисты Гитлер и Геббельс мои фамильные земли, разумеется, национализировали, увидев национальное происхождение фон Хармелей.
Тогда, в 1989 году в Москве, я видел жалкий оскал Горбачева, с опозданием на двадцать лет пытавшегося реализовать модель Дубчека, которая не факт что годилась в 1968 году в Чехословакии, но уж в СССР 1988 года попахивала жареным петухом, который вот-вот клюнет. На фоне всего творившегося возник мемориал «Память», превратившийся из общества охраны не пойми чего и где во вполне оформившееся, и очень быстро, фашистское движение. Любой человек хорошо понимает, что в стране с разваливающейся экономикой и, что еще хуже, прогнившей идеологией для фашизма и крайней его формы, а именно национал-социализма, открыты все двери и окна. Россия конца 80-х годов XX века чудом не пошла по пути национал-социализма. Да простят меня мои соотечественники, но все так сгнило и народ русский настолько безалаберен сам по себе, к тому же какой лидер из Васильева, ставшего тогда во главе общества «Память». Гитлер был личностью харизматической, хоть я и не люблю этого слова. Да что там, Гитлер был личностью, и этим всё сказано. Но в конце 80-х кто там личность и кто нет, сказать было трудно, зато стало очень нервозно и напряженно, вспомнились великие слова Николая Николаевича Озерова во время игр СССР-Канада. Когда Фил Эспозито показал нашим защитникам, что если его еще раз кинут на борт, то он кого-нибудь придушит, Озеров заорал во все горло в микрофон со стоном и ломкой в голосе: «Нет, товарищи телезрители, такой хоккей нам не нужен, надо уводить нашу сборную с поля, пока канадские профессионалы не перекалечили всех наших игроков. Нам такой хоккей не нужен!»
Как-то сдуру и по горячности, гуляя с собакой в Измайловском парке и попав на сходку товарищей в черных рубашках, я заявил, что, будучи евреем по национальности, я не испытываю никаких симпатий ни к Троцкому, ни к Зиновьеву и не понимаю, почему должен отвечать за их злодеяния, не отвечает же русский народ за Ежова, а грузины за Сталина. Аргумент мой вызвал некоторую озабоченность в рядах, как их тогда называли, «памятников», и мне милостиво разрешили остаться на собрании, где с трибуны несли такой бред и такую отсебятину, что мне стало скучно, и я ретировался. А ребята-то совсем ничего не знают и не разумеют, таких куда угодно можно вести за собой.
Начали появляться неприятные новости, где-то сожгли дачу, кому-то перевернули во дворе машину Обстановка стала накаляться. Теперь уже бывшую, а тогда реальную и горячо любимую жену стали обзывать в метро и магазинах жидовской мордой, намекая на то, что продуктов и белым людям в магазинах не хватает, а тут еще и евреи должны есть, это в контракте не было предусмотрено. Живите, мол, пока, а кушать вам необязательно.
Своё черное дело делала экономика. Никто не работал, начальство на этом не настаивало, а население наше не немцы и пахать впрок в надежде на лучшие дни давно устало. Картина близилась к катастрофе и усугублялась тем, что на руках у населения были какие-то несметные колличества советских денег, которые имущие классы почему-то не тратили. Никто в то время не покупал никаких дач и машин, что усугубляло инфляцию, потому что правительство просто печатало деньги. Обычный дефицит принял обвальный характер, одеться, обуться и надушиться одеколоном уже нельзя было ни за какие деньги, потому что склады были пусты. Создавалось крайне неприятное ощущение, что что-то делается преднамеренно и злонамеренно и вовсе не для того, чтобы скоро порадовать советского человека новой радостной жизнью, а вероятно, и даже скорее всего, чтобы опять загнать всех в Гулаг, причем, возможно, начать с жидомасонов, потом посадить сочувствующих жидомасонам, а потом, как это не раз уже было, в том числе в отечественной истории, посадить тех, кто сажал жидомасонов и сочувствующих им.
Медленно, но верно события развивались, в Грузии пролилась кровь, Вильнюс заполыхал, до этого Карабах, потом Баку. Дело близилось к развязке, и её не могло не быть. В целом же ни Горбачев, ни покойный первый Президент России Ельцин не только не были крупными политическими фигурами, но не обладали ни тот, ни другой, даже среднестатистическими способностями, чтобы просчитать многоходовку хотя бы на пять-шесть ходов вперед. Думаю, даже позицию себе плохо представляли. Этих королей не то что делала свита, а они без свиты не могли даже повернуться в мантии и сделать полшага самостоятельно.
И хочу подчеркнуть, что в советском обществе, а позднее при конфликте Ельцин – Верховный Совет в российском ждали и были уверены, что вот-вот появится человек типа Владимира Владимировича Путина, который многоходовки делать обучен, считать умеет и не сегодня-завтра покончит со всем этим горбачёвско-ельцинским бардаком. А вот каких политических взглядов этот человек будет, какие он будет носить костюмы, какие пить напитки и куда повернет он флюгер внутренней и внешней политики, было непонятно, и все ждали худшего, а именно кого-то вроде Лаврентия Павловича Берии.
Народ потихоньку начал расползаться за пределы Родины, опасаясь оказаться если не лесом, который рубят, то уж точно щепками, которые летят. А не хотелось, хотелось пожить, на машинках поездить, мир посмотреть. В общем, оказавшись жертвой поправки Буша – Бейкера, которая за отданную Германию отменила для СССР статус Империи Зла и лишила таких, как я, въезда в Штаты через Вену и Рим, я решил сделать короткий привал на Земле Обетованной, а потом двинуть дальше в сторону Калифорнийщины или на худой конец Оклахомщины. Кто же знал, что в Тель-Авиве в американском посольстве потенциальным эмигрантом в США из Израиля может считаться только араб, или друз, или черкес и прочие в таком духе, но никак не бывший советский еврей. О Великая Америка, о двойной стандарт! И по сей день из России, Украины и прочих мест прибывают люди в США, или Канаду, или Австралию в статусе беженцов – куда беженцев, откуда беженцев, но беженцев. И доказывают же в посольствах всякую туфту про то, как кто-то детей в школе притесняет или их на работу не принимают, какой только бредятины не начитаешься и не наслушаешься.
Но я в 1989 году приехал в Израиль как репатриант, а не как беженец и не как эмигрант. Наша горбачевская Родина с человеческим лицом лишила меня паспорта и гражданства и, сделав персоной нон-грата с израильской визой в руках, выдворила из СССР с тысячью долларами в кармане и разрешенным одним чемоданом на физическое лицо. А израильтяне, которые впоследствии тоже показывали мне козью морду, и не раз, тогда в аэропорту «Бен-Гурион» сделали меня полноценным гражданином. И хотя я отлично понимаю, что и там был свой интерес, я за это им благодарен. С 10 декабря 1989 года, со дня прибытия в Израиль, я полноценный гражданин этой страны.
Израиль встретил меня солнцем, теплом, изобилием товаров в магазинах и тем, что все вокруг свободно изъяснялись по-английски. Всё радовало, настроение было прекрасное, понемногу все обустраивалось, было на чем и где спать, было что есть, и даже весьма пристойно есть, и меня окружали люди, которые как миниум были доброжелательны. Как и все человечество, израильские евреи плохо переносят чужой успех и благополучие, а к вашему праву снимать за бешеные деньги квартиру, есть, спать и влачить полунищенское существование израильтяне относятся весьма положительно. Человека всегда греет чужое неблагополучие и проблемы, а вот успех вызывает желание как минимум чужого благополучия не видеть, а еще лучше – попробовать этому благополучию навредить или по возможности чем-то помешать. Поэтому писать доносы друг на друга отнюдь не прерогатива советских людей. Одно пресловутое платье мадемуазель Левински чего стоит. Время проходит, а ничего не меняется. Люди как люди, любят деньги.
Однако я отклонился от темы. Итак, мы вживались в Израиль начала 90-х. Никогда не забуду встречу 90-го года, первого Нового года на Земле Обетованной. Сильвестр, как называют его израильтяне, в Израиле празднуют христиане, причем весьма скромно, как, впрочем, и везде в мире, а бывшие граждане СССР – бурно, с выпивками, застольями дома или в ресторанах, скандалами, драками и прочими привычными с детства атрибутами настоящего праздника.
Мы с женой, теперь уже бывшей, были приглашены встречать Новый год в компанию так называемых ватиков – советских людей, прибывших в Израиль в 70-е еще годы. Среди них, в этой компании, были люди, которые реально пострадали за свой сионизм в СССР, за свою борьбу за право переехать жить в Израиль. В известном смысле до этого Нового года, до всего того, что я увидел и услышал, я относился к этим людям с почтением и уважением. Застолье началось с того, что нас представили, я привстал, поклонился и началось… Убедившись в том, что историю иудаизма я знаю намного лучше большинства присутствующих за столом, меня начали чеканить историей войн Израиля. И тут у моих оппонентов вышла промашка, потому что по своей привычке я говорил только то, что знал наверняка, ни разу не ошибся и, в свою очередь, начал задавать вопросы и ловить своих собеседников на ошибках. Как всегда и везде, через пять минут после начала перебранки и викторины «угадайка» я себя почувствовал весьма уверенно, тем более что темы иудаизма, истории Израиля, истории войн и военных конфликтов на Ближнем Востоке входили в круг моих интересов. Спор сопровождался плотным застольем, а я никогда в Москве не видел, чтобы приличные люди, тем более евреи, за столом, будучи с женами, так много пили и так по-хамски вели себя. В общем, когда мне сказали, что я приехал потому, что в Москве стало плохо с колбасой, я понял, что вечер закончился, поднялся и предложил жене отбыть домой на такси. Но в этот момент кто-то из сидящих за столом решил что-то сказать по поводу законности моего рождения и права носить моё святое имя, которое я по их предположению изменил в Москве перед самым отъездом в Израиль или уже здесь, а всю жизнь был Анатолием или Александром.
Я схватил своего обидчика рукой за шею и поднимая его со стула, почувствовал, как кто-то сзади очень мягко теребит меня за полу пиджака. Плотно держа гниду твёрдой рукой хоккеиста и сжимая ему шею так, что он безропотно двигался за мной, я вышел из-за стола.
На улице мы оказались втроем – я, удерживаемый мной за шею и плачущий от боли мой визави, а также человек, который дергал меня за пиджак. «Пожалуста, я очень вас прошу, отпустите его, он уже все понял, он больше не будет». Я отпустил обидчика, тот упал на колени, похрипывая и потирая шею, а я, разминая левую руку, вкрадчиво заметил: «Я, гнида ты поганая, с этим именем родился и с ним сдохну, а ты благодари своего друга за то, что я тебе, падла, позвонок шейный не сдвинул, а то не миновать тебе ошейника месяца на три, если не на полгода. А колбасу я не ем, я её не люблю, я сырник. Понял, поганец, мне никогда в Москве никто не смел сказать, что я не со своим именем живу. Жаль я руку-το не сжал у тебя на шее».
Спаситель этого падонка смотрел на меня с уважением. «Я вижу, что вы всерьез спортом занимались, вся ваша фигура об этом говорит, но не пойму каким, и успокойтесь вы, все знают, что он падонок, но мы давно привыкли».
Я успокоился, перевел дыхание, закурил. «Да, занимался спортом, и всерьез. Меня потому и взяли в МАИ, у меня 1-й мужской разряд по хоккею. Еще велогонками занимался, ну это уже так, на сладкое». «А в МАИ взяли, чтобы за их команду в хоккей играть?» «Это было на второе, а на первое мне на медкомиссии записали зрение минус 15 и, соответственно, не годен, а я, после того как шайба попала в лицо, наблюдался в глазном институте Гельмгольца у профессора Аветисова, и когда мне в МАИ впаяли минус 15, мой отец прямо в восторг пришел, потому что в Гельмгольца в медкарте были все мои показатели, в том числе и результаты ежегодных осмотров. – Я помолчал, потом спросил: – Скажите, а почему в вашей компании так пьют и так по-хамски ведут себя, почему так разговаривают и так оскорбляют. Моё хоккейное прозвище Кабан, и я мог вашему знакомому свернуть шею и покалечить его, мне нетрудно это сделать, я пожалел его, потому что вы попросили. Что у вас тут творится? Я в такой стране жить не буду, я не помоечник».
Человек молчал, курил и внимательно слушал меня, изучал. Потом заговорил: «Все, кого вы здесь видите и еще увидите, глубоко несчастные люди. Я слышал, что вы говорили за столом, как спорили и как вы знаете историю Израиля и разбираетесь в иудаизме. Так вот, вы должны знать. Того Израиля, в который приехали мы пятнадцать лет назад и в который, вероятно, ехали вы, того Израиля нет и, боюсь, никогда не было.
И сионизма никакого здесь нет, вы скоро это поймете. Вас, как и меня, спасет спорт и равнодушие к алкоголю, а они все спились, потому что их сионизм остался там, в СССР, а тут нет никакого сионизма. Тут бюджеты делят в Кнессете и в правительстве. А я каратист, теперь уже тренер, если захотите, приходите ко мне в зал, просто тренироваться».
Так начинался мой Израиль, так я получил первый урок сионизма и навсегда потерял желание бывать в среде израильтян, которые говорят по-русски. Да ну, решил я, ещё придушу кого-нибудь с моим-то характером, а евреи народ хлипкий.
Прошло время. Я уже работал. В гостях побывала сестра, и мы провели с ней несколько чудесных дней в зимнем Иерусалиме. Зима в Израиле – благодать, но тогда я еще не знал этого, мне было холодно дома и сыро, потому что отопления нет, а у нас не было рефлекторов. И я переболел местным гриппом с очень высокой температурой, чувствовал ужасную слабость, еле ходил. Тропические вирусы отличаюся от вирусов средней полосы, где я родился и вырос. Иврит мне не давался и не дался. Я нашел работу и бросил ульпан. Настроение стало лучше, потому что язык программирования «С» мне был куда интереснее иврита, на PC я начал работать еще в Москве, но не успел как следует зацепиться за это, и задача была очень интересная, надо было зацепить компьютер, принтер, автоответчик телефона и факс. Я увлекся и, как со мной обычно бывает в таких случаях, сидел на работе допоздна, у меня начало получаться, и мои хозяева, два родных брата из Южной Африки, подняли мне зарплату и дали домой PC, чтобы я мог работать в выходные и по вечерам после работы. Настроение стало совсем другим. Я стал присматриваться к машинам, потому что последний раз без своей машины жил, когда учился в школе.
Вернемся к защищенности, с которой я начал свое повествование. Нет, её не было. Она была утеряна. Первый удар внутреннему покою нанесла смерть моей бабушки. Тогда в мою душу пришло очень неприятное предчувствие, что я не просто потерял близкого родного человека, что не только меня никто больше не будет любить, как она, но ждут меня в жизни и другие очень неприятные неожиданности, которые мне придется пережить. И интуиция не обманула меня и не обманывает. Просто сейчас мне стало все равно, что будет и что ждет меня завтра, через полгода, если я проживу их. Я и всегда-το был фаталистом, а сейчас мне стало все равно, что будет. Так уж вышло, что все, что у меня было, я смог отдать своим детям в равных долях, и если Бог даст мне что-то еще, то и этим я распоряжусь ровно так же. И во многом решение мое об отъезде из Москвы связано было с тем, что ситуация в семье, в которой я родился и вырос и которую считал своей семьёй, изменилась коренным образом, и поняв это, я принял решение уехать из Москвы. Хорошо ли это? Нет, конечно, это нехорошо, но семья – это когда ты понимаешь, что есть люди, отношение которых к тебе определяется не тем, как разделить имущество и при этом сделать вид, что тебя нет или что ты есть, но вместе с тем тебя и нет в известном смысле. Я давно не задаюсь вопросом, что явилось мотивом для принятия того или иного решения моими родителями или моей бывшей женой. Всякий человек, который поступил со мной не по справедливости и не по чести, избавил меня от ответственности перед собой и перед обязательствами, что сделало меня свободным в своих решениях. Но это сейчас я так рассуждаю, когда на дворе 2009, а тогда, двадцать лет назад, у меня были другие чувства и эмоции.
У меня был страх завтрашнего дня, безработицы, бездомья, безденежья, страхи и комплексы преследовали меня и в ближайшем и в отдаленном окружении не было ни одного человека, который мне хотя бы хотел помочь от страхов этих избавиться. Одним словом, люди, окружавшие меня, делали все, что могли, чтобы эти страхи и комплексы во мне развить. Возможно, это было следствием элементарного отстутсвия у этих людей любви и тепла ко мне, возможно, это был способ удержания меня в хорошей спортивной форме. На всякий случай. А то перестану бежать. Но если сейчас я не падаю просто потому, что не на кого опереться при потере равновесия, то тогда у меня было временами такое чувство, что еще и подтолкнут при случае, чтобы ударился побольнее. При этом надо заметить, что никаких оснований волноваться и нервничать не было и, если я и падал когда-нибудь, то только потому, что от меня этого ждали, а вовсе не потому, что я стоял неровно или неустойчиво держался в седле.
А еще мне было очень скучно, потому что эмиграция – это прежде всего потеря социальной среды и броуновское случайное движение молекул, хотя и в этом есть нечто.
Некий Михаэль Комаровский, по аналогии с одним из героев «Живаго». Наше с ним бдение и курение привели меня к теме всех этих двадцати лет – intelligent artificial. Бог знает, откуда и каким ветром занесло его в мою степь, кажется, из Кишинева, но я ему благодарен и даже обязанным себя чувствую. Вскоре, однако, он начал работать в подразделении энергоподдержки отеля «Хилтон» в Тель-Авиве и наши совместные бдения кончились, потому что в выходные Миша был занят домашним хозяйством. Жена его страдала хроническими мигренями, которые были связаны с Мишиной удивительной добротой, интеллигентностью и чувством ответсвенности, гипертрофированно развитом в нем родителями. Курву бы эту мне на перевоспитание на пару дней, я бы показал ей такие мигрени, что она потом всю оставшуюся жизнь Мише Комравскому тапочки бы в зубах носила. Однако выраженное всегда чувство брезгливого презрения к женским усталостям и мигреням и мне не помогло, когда с рождением сына я потерял бдительность и контроль и тоже взял в руки тряпку и мыл пол в доме, не желая жить в грязи, а надо-то было всего-навсего вернуть «на диллер шип» машину, на которой ездила тогда моя теперь уже бывшая жена и нанять уборщицу, кухарку, и все безобразия немедленно закончились бы. Женщины без всяких исключений существа необычайно ушлые и никакого либерализма, мягкости и прочего не понимают, немедленно оказываются с ногами на шее у дурака – мужа и начинают страдать болями в руках и мигренями.
Однако в 1990 году в моей семье был один ребенок, голова и руки у моей жены не болели, и относительный порядок в доме имел место. Но я скучал, было ясно, что придется много всего делать в жизни, и не видно было, что за это я получу. Концерты – дорого, в Италию поехать или в Париж – дорого, приличные штаны или ботинки – дорого, даже машину – страшно дорого. Ну, тут я взревел и с тирадой русского мата отбыл в Тель-Авив выбирать автомобиль. Причем идиотические советы купить старенькую для начала – на хрен. Старая формула отца – покупаешь чужое старье, вкладываешь деньги, а оно ломается и дешевеет и остается старьем.
Машина появилась у меня у первого из ульпана и вообще, вероятно, у одного из первых среди приехавших в конце 89-го года. Больше половины знакомых и соседей немедленно перестали здороваться со мной. Вопрос не в том, как живут люди и на что у них есть деньги, и что они могут себе позволить. Собака зарыта намного глубже. Важно, кем ты считаешь себя, а я себя никогда не считал нищим рабом, который должен жить плохо и во всем себе отказывать, потому что на черный день не хватит. Да провались этот завтрашний день, может, я сдохну сегодня во сне и что мне это завтра? Психология моя ненавистна многим моим друзьям, знакомым и родственникам и всем женщинам, которых я в жизни знал, или почти всем. И вот с этим ощущением, мучимый страхами и комплексами, я дожил до начала чемпионата мира по футболу, который проходил летом 1990 года.
Телевизор был без тарелки, кабельного ТВ в Израиле еще вообще тогда не было, и я с нетерпением ждал начала футбола, понимая, что вот сейчас наступит жизнь, когда на все и на всех будет н….ть, потому что начнется это таинство футбола и плевать, что комментатор что-то будет говорить на иврите, его вообще можно выключить, потому что у меня есть все составы команд, я купил себе в киоске буклет на английском, и вообще, в чем вопрос. Я и футбол! Мне что, комментатор нужен, я футбольную многоходовку чувствую лучше, чем телеоператор. Кстати, вот работа, вот профессия – не долдонить языком, шарик направо, шарик налево, а строй себе композицию комбинации с помощью камер.
Чем ближе к чемпионату мира, тем лучше у меня на душе. На работе журналы на английском, и я зачитываюсь футбольными прогнозами. Конечно, я болею за немцев. Я болею за них всегда, с тех пор как себя помню. Нетцер, Беккенбауэр, Оверат, Майер, Мюллер, новое поколение: Карл-Хайнц Румменигге, Лотар Маттеус, Руди Фёллер, Томас Хёсслер, Юрген Клинсманн и Матиас Заммер. Футбол, как и «Бравый солдат Швейк», часть моей жизни, и важная часть, я не представляю себе жизни без «Швейка» и футбола и не встречал еще женщины, которая не страдала бы тяжелой формы неприкрытой ненависти к одному из этих явлений, а общий случай – когда ненависть вызывают и «Швейк», и футбол в одинаковой степени. Моё знакомство со слабым полом начинается с того, что я честно признаюсь: «Милая, если ты когда-нибудь посмеешь выключить телевизор или переключить на другой канал, когда я смотрю футбол или хоккей, я встану и сразу уйду навсегда, а на время серьезных матчей в доме объявляется мораторий на разговоры и к телефону меня не зови, меня нет дома». На сегодняшний день я знаю только двух женщин, которые читали сами «Швейка» и не мешали мне смотреть футбол. Обе эти женщины были моими женами. Знаю такую еще одну, но она жена другого человека и никак не может решиться, уйти от него. Если уйдет – женюсь в тот же день.
Итак, я работал, пил, ел и ждал футбол. Некоторое беспокойство вызывало присутсвие в доме тещи, но я знал, что матчи буду повторять, в том числе ночью, и я смогу посмотреть в повторе то, что не увижу в прямой трансляции, слегка обидно, но терпимо. Моя теща, так же как и бывшая жена, ложатся спать строго в 22.00, что меня всегда радовало. У меня это исключительно продуктивное время, Если я не работаю руками, то думаю в это время всегда очень интенсивно.
И вот однажды – футбол еще не начался, поэтому домой с работы я не торопился – я вошел в квартиру, открыв её своим ключом, и увидел человека, бочком сидящего на диване, и как-то вполоборота смотревшего по телевизору новости на английском языке. И лишь бегло взглянув на его профиль, я сразу понял: я никогда раньше не видел этого человека, но я его знаю всю свою жизнь и буду его знать до того дня, пока не закроются мои глаза.
Первая мысль, которая мелькнула в голове: какая спина прямая, из всех, кого я знал в жизни, с такой спиной сидел только один человек – Народный артист СССР, солист Большого театра Боря Акимов, с моей точки зрения, не худший Спартак, чем Михаил Лавровский или Владимиров, но, конечно, уступавший Васильеву. Стоп, стоп, какой Боря Акимов? Боря Акимов не намного старше меня, а это сидит старик, он в возрасте моего отца, а то и старше, и какая ровная спина! Увлеченный новостями, он не слышал и не видел меня. Я подошел вплотную – он не встал, а вскочил. Ростом выше меня и весь такой же ровный и статный, как его спина. «Вот так старик, – подумал я, – а что он тут делает?»
Он заговорил, как будто прочитал мои мысли. И на английском, что меня очень порадовало, говорил очень чисто и красиво, произношение не американское, но и не английское. Его зовут Соломон, родился он – так и сказал – в Санкт-Петербурге, до Первой мировой войны. Потом его родители бежали от большевиков в Германию, и он жил и учился в Мюнхене. Это лучший город из тех, которые он в жизни знал, а в конце 20-х он совсем молодым переехал в Палестину. Здесь тогда были турки и было очень тяжело. Безработица, ему здорово досталось. В 30-е годы он состоял в ОГАНЕ (организация, состоявшая из добровольцев, охранявших еврейские поселения в Палестине), и его ранили в спину. Он долго пролежал в больнице, но после этого его комиссовали и больше он никогда не брал в руки оружия. В Мюнхене он закончил школу мажордомов, знает все кухни и сервировки всех народов мира, и когда создался Израиль как государство, его пригласили на работу в правительство и он был главным распорядителем на дипломатических приемах. Если принимали посла Китая, то он сервировал китайские блюда плюс то, что было положено или просили, для французского посла готовились соответственные блюда, на приемах в честь государственных израильских праздников царила еврейская кухня и много всего другого. Пока были дипотношения с Россией, русский посол обожал бывать у него дома и есть русский или украинский борщ, потому что повар в русском посольстве готовил хуже, чем Соломон.
Он назвал меня по имени, причем с ударением, принятым в Европе, а не в Израиле. Он назвал меня Эммануэ’ль, в отличие от израильтян, которые называют меня Эмма’нуэль, не говоря о бедных моих соотечественниках, которые вечно мучались с Эммануилом. Красиво, красиво звучит мое имя по-европейски, красивый, благородный старик, а интересно, откуда у него такой беглый английский. О да, конечно, в школе мажордомов его научили не только приготовлению блюд и сервировке столов, но и хорошим манерам, обхождению, умению носить фрак и смокинг и многому-многому другому, как держать зажигалку, давая прикурить даме, и как подать пальто послу или шинель военному атташе, и, конечно, языкам, он свободно говорит на английском, французском, итальянском, испанском языках, немецкий у него родной, и он знает все диалекты, потому что с прусским офицером нельзя говорить на баварском диалекте, не удостоит ответом. «Вот так старик, – подумал я, – и профессия-то какая, все тут были агрономами или дорожными строителями, а этот приемы правительственные сервировал и кормил советского посла у себя дома».
Закончил он свою тираду тем, что из-за свободного знания европейских языков, полученного еще в молодости, он так и не выучил иврит, ужасно говорит и не умеет ни читать, ни писать. При этом он сделал скорбное лицо как у Марселя Марсо и искристо улыбнулся своими серо-голубыми и совсем не старческими глазами. Да он шутник, однако, подумал я, надо ужинать идти, и что он делает-то у нас. Через минуту все стало ясно. Ужин явно состоял не только из того, что было в холодильнике. Старик принес замечательные отбивные и, видимо, сам и зажарил их, потому что мясо было прожарено не так, как это делалось у нас в доме. Вкусно, черт, подумал я, приходил бы почаще, глядишь, ели бы нормальную еду и приготовленную как надо, а не эти гуляши дурацкие с котлетами. И как по мановению волшебной палочки старик стал приходить чаще, появился повод – футбол. Начался чемпионат мира.
Разумеется, сначала я болел за сборную СССР, пока она не сдулась как обычно. А дальше я начал болеть за немцев. Я задал вопрос, он промолчал. Потом ответил: вся семья погибла в Аушвице, назвал он Освенцим по-немецки, уцелели только он, потому что с 29-го года жил в Палестине, и одна сестра, переехавшая в Париж еще до 33-го года. Остальные все погибли в Аушвице. Он был спокоен, я понял, это не может быть пережито и преодолено. С этим он умрет, но вместе с тем он чувствует себя немцем, он думает по-немецки, он одевается по-немецки, он говорит по-немецки, если есть с кем, он немец, и он, конечно, вне всякого сомнения, европеец во всем: в том, как ходит, и как сидит, и как говорит, и как носит всегда туфли, а не дурацкие сандалии, он ест как европеец. Конечно, он всю жизнь курил, недавно строго-настрого запретили врачи. У него коллекция трубок, и он обожает сигары и иногда перед сном делает пару затяжек или утром с кофе.
Глядя на него, я думал: ну точно же мужчина как коньяк, чем старше, тем лучше. Он был женат дважды. Первая жена погибла во время бомбежки в начале 50-х в Тель-Авиве. Он остался один с двумя детьми, женился на женщине, которая была вдовой. Он вырастил четверых детей. Повторно овдовел пять лет назад и живет один. Его никто никогда не навещал. Но каждое утро, кроме субботы, в одно и то же время посыльный на мотороллере привозил ему газеты на всех европейских языках и кидал на его участок через забор. Соломон говорил, что их ему присылает старший сын, который работает в аэропорту «Бен-Гурион» большим начальником. Его детей никогда никто не видел, он жил совершенно один в небольшом коттедже.
Футбол разгорался все больше, и немцы играли все лучше. Он болел, думаю, все-таки за немцев, хотя делал это цивилизованно. Европеец, он умел скрывать свои эмоции. И он был красив, несомненно, высок, статен и при этом мужественно подтянут. Нет, не сухой, не тощий, крепкие бицепсы, совершенно не по его как минимум восьмидесяти пяти годам. У него дома я сразу нашел разгадку этого ребуса – штанга, гантели, гири, эспандер, и видно, что все в работе, и эффект был грандиозный.
Как-то мы смотрели с ним телевизор. Футбол давно закончился, но вдруг всплыла тема Германии. Он спросил у меня, знаю ли я, кто такой Эйхман. Я не сразу понял, о ком он, ведь по-немецки все это звучит иначе: Хитлер, Химмлер, Херинг, Айхман, Айнштайн. Ну как же, уточнил Соломон, тот, который ведал еврейским вопросом, начальник отдела в гестапо. «А я его обслуживал в тюрьме, – сказал Соломон, – он потребовал, чтобы с ним говорили чисто по-немецки, и чтобы кухня была немецкая и французская, и чтобы с ним обедали и завтракали и ужинали, и под музыку, и читали стихи. В общем, я не хотел, но меня попросил Додик». (Давид Бен-Гурион – первый премьер Израиля). «И ты согласился? У тебя же все погибли в концлагере!» «А что было делать, этот подонок заявил, что не будет давать показания и выступать в суде, если его не будут обслуживать по-немецки». «И ты, ты не придушил эту гниду? Его же в школе называли маленьким еврейчиком за маленький рост, тщедушное телосложение и крючковатый еверейский нос, а ты такой здоровяк!» «Я пожалел». «Кого, его?» «Да нет, меня охранник попросил, сказал: «Соломон, если ты зайдешь в камеру и начнешь душить его, я не буду стрелять в тебя, как положено по инструкции, и мне с тобой голыми руками не справиться, ты можешь одной рукой задушть эту тварь, Айхмана, а второй меня. Соломон, моя семья будет голодать, у меня пятеро детей, и я один кормилец. Не души эту тварь, пусть он отвечает на вопросы в суде». Только ты не говори никому, мне никто не верит, считают, что я старый чудак и фантазер». «Я верю, – сказал я и увидел благодарность в его глазах.
Через какое то время мы переехали, он стал приходить намного реже, а потом и совсем перестал. Причина выяснилась позже. Он давно болел, но форма рака стала активной, и он перестал ходить в гости и приглашать к себе. В то время появилась версия о заразности некоторых форм рака, потому что стали болеть парами, муж и жена. Вероятно, он эту версию разделял. Я встречал его изредка в городе. Он по-прежнему обожал сидеть в кафе и беседовать с кем-либо. Увидев меня, он всегда выходил мне навстречу, и мы беседовали на смеси английского и иврита, но вскоре я понял, что его иврит несопоставимо хуже моего и половину слов он просто не понимает. Потом еще через какое-то время он подошел ко мне на улице и сказал, что знает о моих проблемах и что его дом всегда открыт для меня.
Середина 90-х, после рабочего дня я сижу на бульваре Ротшильд в самом сердце Тель-Авива просматриваю свой любимый журнал на свете «National Geographic» и курю. Ко мне подсаживается человек и здоровается со мной, произнося моё имя на европейский манер. Соломон. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает он меня. «Я работаю рядом, вот закончил и отдыхаю на бульваре, слава Богу, сегодня не так жарко. А ты?» «А я иду с улицы Арлозорова с заседания ветеранов партии Труда». «Ну и что ты там назаседал?» «А я сказал, что если бы тогда, в 30-е, я знал, как будут принимать репатриантов из России, то я бы в Палестине не остался, не мостил бы дороги, не строил дома и не пролил бы кровь свою, а уехал бы в Америку». «Вот те и раз, – говорю, – ты же всю жизнь тут прожил, четверых детей вырастил и такое говоришь». «Я правду говорю, и мне обидно, что они тут устроили спекуляцию банковскими ссудами и квартирами, это подло, и я знаю, что ты собираешься отсюда уехать с семьёй». «Да, Соломон, так и есть, я был в Америке в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, я не останусь в Израиле, и ты знаешь, что у Марины здесь брат погиб, и ты знаешь, как он погиб. Моя дочь стала бояться и вообще…» «Я тебя прекрасно понимаю, был бы я помоложе… Ты в Штаты поедешь?» «Нет, в Штаты не выйдет, там наши с тобой братья-еврейцы стоят стеной, чтобы мной и моими детьми на случай чего подбелить Израиль, а то тут одни марокканцы с йеменцами останутся и эфиопы. Так что я подал документы в Канаду, там лоббирование интересов в парламенте по национальному и религиозному принципу запрещено. Поехали с нами, Соломон, что ты тут сидишь один как сыч. Канада – отличная страна, и виза туда не нужна для израильтян». «У меня есть немецкий паспорт, я же уехал из Германии в 29-м году, еще никакого Гитлера в помине не было, и они забыли про меня, а я до образования Израиля здесь жил по немецкому паспорту, и турки меня очень уважали. Потом пришли англичане и после войны арестовали меня как немецкого шпиона. Но разобрались и отпустили. А потом, когда я уже работал в правительстве, мне немецкий посол принес запечатанный пакет и попросил раскрыть его дома. Я пришёл домой, еще была жива первая жена и мы жили здесь, в Тель-Авиве на Ротштльда, вон там был наш дом, в который попала бомба и моя жена погибла, а я гулял с детьми и не пострадал, да, так вот, в пакете был новый немецкий паспорт, новой страны – Федеративной Республики Германии, и там лежало уведомление о том, что мне назначена пенсия от германского правительства за понесенный ущерб, вся моя семья осталась в Аушвице». И он посмотрел на меня своими ясными светло-голубыми арийскими глазами. «И ты?» – спросил я. «А что я, эта пенсия была в пять раз больше моей зарплаты, мы жили вчетвером, дети были маленькие, жена не работала, я не мог решать один. И жена сказала мне, а она родилась в Палестине, родители её были из Буковины и приехали сюда еще до Первой мировой войны, так вот, она сказала мне: если я узнаю, что ты взял у них хоть одну марку или хоть что-то, если ты когда-нибудь купишь и принесешь в дом хоть что-нибудь немецкое, я в ту же минуту оденусь и уйду из дома и ты никогда больше не увидишь ни меня, ни детей».
Он сидел, сияя от счастья, у него прямо нимб над головой светился. Мы обнялись с ним, я выкурил пару сигарет и молча ушел, чтобы никогда уже больше с ним не встретиться. Через какое-то время мне сказали, что он в больнице и просил никого не приходить и не навещать его, в частности, еще и потому, что он знает, что очень изменился, и не хочет видеть испуг на лицах посетителей. Он был европеец, наш Соломон, жил как европеец и ушел как европеец. Зихрано Увраха, блаженной его памяти.
P.S. Прошло время, я жил в Канаде и был в гостях у Вульфов. Мы смотрели телевизор, было начало мая. В это время в странах победителях показывают кинохронику и художественные фильмы о войне. Шёл документальный фильм об Адольфе Эйхмане. Айхман, немедленно вспомнил я, как называл его Соломон. И вдруг буквально подскочил на стуле – Эйхману подали чай. Боже мой, кто этот высокий стройный человек, какая удивительная выправка, не офицерская, но совершенно особая, неповторимая осанка! Я вскочил с места, подбежал к экрану и почти закричал: «Это же Соломон, помните, я рассказывал вам, Соломон, а никто не верил ему, все считали, что он фантазирует!»
«Слушай, откуда ты всё это знаешь и почему это у тебя должен был быть вот такой знакомый Соломон, а не у нас, и вообще, ты сам-то кто такой, что тебе так везет на таких вот Соломонов?»
Соломон, ты слышишь меня, благородная твоя душа? Как тебе там, в Ган Эден, в раю. Ты строен, подтянут, ходишь с прямой спиной и так же сидишь на диване, чуть вполоборота, чтобы видеть боковым зрением происходящее у тебя за спиной. Мне рассказал доктор Гидон Окунь, почему ты, блестящий молодой человек, красавец, своя спортивная итальянская машина кабриолет, смокинги, фраки и белые перчатки, слуги и прочее, почему ты всё бросил и из горячо любимого тобой Мюнхена переехал в Палестиновку. За тебя не отдали красавицу немку, которая была похожа на Марлен Дитрих и которая обожала тебя и тем не менее не посмела ослушаться своего отца. Романтическая несчастная любовь, и ты избежал Аушвица. Пусть тебе будет пухом Земля Обетованная, дорогой мой ЕВРОПЕЕЦ.

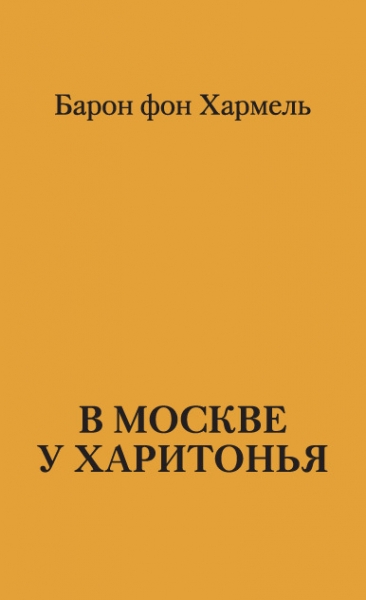







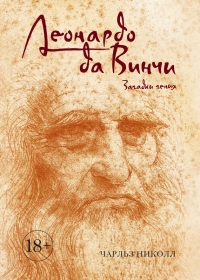
Комментарии к книге «В Москве у Харитонья», Барон фон Хармель
Всего 0 комментариев