Мариан Ткачёв Сочинитель, жантийом и франт. Что он делал. Кем хотел быть. Каким он был среди друзей
Предисловие от составителя
В этой книге, посвященной памяти нашего друга – великого знатока вьетнамского языка и культуры, переводчика и писателя Мариана Николаевича Ткачёва, есть три раздела и «Вступление от героя (собственноручное)».
Первый раздел «Что он делал» составили статьи, написанные им в разные годы к вьетнамским книгам разных веков и авторов, свидетели его глубокого и сердечного знания вьетнамской истории, культуры, литературы.
Второй раздел «Кем хотел быть» – написанные им рассказы, собранные когда-то под одну американскую обложку его уехавшими друзьями, с предисловием Натаныча – великого Стругацкого старшего. Эти рассказы могут подтвердить, что, как у всякого замечательного переводчика, на дне ткачёвской души теплилась надежда: не только переводить, но и писать самому – тоска по своей, и только по своей, литературной делянке.
И третий раздел – «Каким он был среди друзей», где собраны воспоминания о нем его друзей, учеников и даже детей друзей.
Чтобы читателю легче было ориентироваться в хитросплетениях ткачёвских отношений, дружб и противостояний с людьми и миром – маленькая биографическая справка.
Одесско-кишиневское детство и юность. Оттуда четыре персонажа этих воспоминаний: Боря Бирбраир, Саша Калина, Леня Спекторов и доктор Табак. Двое из них, слава богу, живы. Из одного – Бирбраира – даже удалось добыть крупицу воспоминаний, и я счел возможным с нее начать третий раздел. Второй – Сашка, он же Шурик Калина, – прогарцевав по чужим воспоминаниям, своих воспоминаний не написал, по инженерно-научной своей ограниченности. Зато, по американской своей состоятельности взял на себя финансовое обеспечение и этого постткачёвского проекта. Правда, в последнюю минуту он дал нам важную биографическую справку, которую мы приводим как комментарии к воспоминаниям Левы Бирбраира.
Далее идет переезд в Москву, учеба на истфаке МГУ, работа во вьетнамском интернате и приход в университет уже в качестве ментора. Эта часть ткачёвской биографии отразилась в воспоминаниях Теда (Теодора) Гладкова и Фам Винь Кы, или просто Кы, ткачёвского выпестованника из того самого интерната, а ныне выдающегося вьетнамского специалиста по русской литературе.
Затем следует недолгое, но оставившее сильное впечатление у студентов преподавание Ткачёва в Институте восточных языков при МГУ, о чем – в воспоминаниях его учеников разных лет Сережи Афонина, Жени Кобелева и Саши Минеева, употребляю их домашние имена, поскольку и сам учился в те годы в ИВЯ при МГУ, правда, по другой языковой специальности.
Цедеэльское время Иностранной комиссии при Союзе писателей и многочисленные поездки во Вьетнам представлены текстами известных литераторов Аркадия Михайловича Арканова, соседа по писательскому дому на Малой Грузинской, автора бессмертного шедевра «Большая перемена» Жоры Садовникова и заметками соучастника многочисленных вьетнамских эскапад Ткачёва, его спутников и друзей – генерала от известинской журналистики Мишеля Ильинского.
Об остальном – коротко в воспоминаниях художественного руководителя театра «Эрмитаж» Михаила Левитина и – довольно длинно – в тексте вашего покорного слуги.
Заканчивается этот раздел мемориями человека совершенно другого поколения, хотя, на мой взгляд, интересны они совсем не этим. У Бори Бирбраира, дольше всех нас дружившего и бранившегося с Ткачёвым, есть сын – ныне благополучный бразильский математик – Лева. У него-то по электронной почте мною выцыганены воспоминания, особо для меня ценные уже в силу того, что к другому представителю этого же поколения – Александру Мариановичу Ткачёву – я, по изложенным в воспоминаниях причинам, обращаться не мог.
Просматривая ткачёвские материалы, собранные и сохраненные не упомянутым еще, но помогавшим собирать эту книгу Игорем Левиным, я натолкнулся на одно из любимых ткачёвских хулиганств, на которые он беззаветно тратил время, бумагу и талант, – посвящения друзьям. В данном случае – не раз встречающемуся на этих страницах Володе Брагину. В этом посвящении он представил и тех, кто много лет спустя напишет о нем в этой книге, и тех, кто уже никогда этого не сделает. Но это ткачёвский стиль, ткачёвский юмор – его любимая стратагема – пусть он представляет нас – так мы решили, составляя эту книгу.
Вот, собственно, и всё!
Алексей Симонов
Вступление от героя (собственноручное)
Что он делал
Из современной вьетнамской поэзии
…Я подметил, что всюду – в Ханое ли, шумящем вокруг озер, или в Хайфоне, где каждая улица, как и в побратиме Хайфона – Одессе, ведет счет домам от моря, или в кофейном госхозе «Донгзиао» – и дети, и взрослые, едва превзойдя азбуку, принимались читать и учить наизусть стихи. И не какие-нибудь рифмованные тексты из букварей, а настоящие, хорошие стихи хороших поэтов. Причем учили отнюдь не в порядке школьных заданий.
Когда я расспрашивал их об этом, они, застенчиво улыбаясь, отвечали примерно одно и то же: мол, очень любят стихи и просто хотят их знать. И я понял тогда, отчего старики, дожившие до седых волос, не учась грамоте, читали наизусть выученные на слух целые главы старинных поэм, отчего на собраниях и вечерах люди непременно читают сочиненные ими стихи, пусть бесхитростные, но всякий раз как-то по особенному раскрывающие их характеры и отношение к жизни…
Я вспомнил почти сплошь состоящие из стихов стенные газеты, которые видел в шахтерском общежитии в Камфа и в правлении рыбацкого кооператива в Нгитане, в блиндаже пограничников на семнадцатой параллели и в дежурке военного аэродрома под Ханоем… Вспомнил бесчисленные конверты со стихами, которые мне показывали в редакции ханойского еженедельника «Ван нге» («Литература и искусство»), проводившей традиционный поэтический конкурс. Нет, это не графоманство, столь распространенное нынче, а проявление истинного влечения и любви к поэзии.
Мне представляется иногда, будто все здесь слилось воедино в стремлении к высокому поэтическому настрою: и природа, в своем особенном ритме чередующая времена года, отмечая их смену переменой ветров и цветением разных деревьев; и угловатые чаши полей, высокие межи которых – вспомним слова старого русского поэта – сами кажутся рифмами стихотворения; и реки, подобно цезурам рассекающие вытянутую с севера на юг землю; и полотнища горных лесов, похожие на парчовые футляры старинных рукописей; и вздымающиеся посреди пашен и прибрежных вод скалы, причудливые, как иероглифы древних стихов. Да и самый язык вьетнамцев, с шестью его музыкальными тонами, удивительно певучуй и гибкий, словно создан для стихосложения…
1973 г.
Поэзия Дай-вьета
Различны судьбы поэзии в разных землях, у разных народов. Но, пробудившись однажды к жизни, поэтическое слово не умирает. Меняются очертания морей и рек, пески затопляют долины, рушатся крепости, и застывают в безмолвном сне под землей некогда шумные города, истлевают в прах скипетры законных владык и завоевателей. Но строки стихов – доверены ли они хрупкой глине, непрочной бумаге или высечены в камне, сохранены ли для потомков тщанием переписчиков и покоем книгохранилищ или пробуждены от векового сна пытливостью и трудом потомков, – строки стихов неизбежно становятся достоянием людей, протягивая к их сердцам незримые нити из прошлого. Они словно эхо звучат в творениях поэтов других времен, в народных песнях, снова и снова пробуждая в людях тягу к добру, к созиданию и красоте.
Труден был путь поэзии на земле вьетов, он отмечен и взлетами творческого гения, и горестными утратами. Но на этой земле не могли не родиться стихи. Поэтические струны души пробуждались под обаянием природы, сплавленной из буйства красок и акварельной мягкости оттенков и полутонов. Здесь ярится раскаленное солнце, а там фиолетово-серый полог долгих дождей обволакивает весь зримый мир до самого окоема. Тишину вдруг разрывает в клочья рев тайфунов. Дурманящее ароматами пышноцветье сменяет усталое увядание осени. Отлоги, песчаные скосы у моря, круты одетые парчою лесов горные склоны и плодородные равнины то ширятся в речных устьях, то, стиснутые горами и морем, тянутся с севера на юг узкой извилистой лентой. Деревья в лесных чащах упираются кронами в синеву неба, опутанные переплетениями лиан. Стелются по опушкам неисчислимые цветы и травы. И бродят в жилах древес, в корневищах и стеблях былия незримые соки, способные в искусных руках стать смертельной отравой или целительным зельем. Реки, каскадами падающие с гор, вырываясь на равнины, смиреют и несут в океан свои воды, то окрашенные красноватым илом, то прозрачные – исхитившие у неба серебристую голубизну. А у берегов озер и тихих излучин колышутся тростники и цветут лотосы. И все это движение и противоборство стихий совершается в извечном ритме. Этому ритму подчинены повадки лесных чудищ, перелеты пернатых, таинственная жизнь водяных тварей и недолгий век радужнокрылых бабочек. Даже могучие драконы (а вьеты считали себя потомками Повелителя драконов) свои появления, знаменовавшие близость великих событий, увязывали с чередованием природных начал. Этому ритму подвластны труды земледельцев, дважды в год – если не возмущались стихии – снимавших с полей урожай риса.
Но не всегда рос на здешней земле рис, и не всегда тут были долины и пашни. Это человек своими руками оттеснил джунгли и замостил болота и прибрежные морские топи. Из века в век на равнинах и в предгорьях ширились рисовые поля, а вдоль накатывавшихся на них в паводок рек вырастали – стеною – плотины. Вьеты сами создали свою землю. Они не мыслили себя без этой земли, да и земля бы погибла без их забот и трудов: «Слышите, люди: не бросайте поля. Что ни щепотка земли – то щепотка злата…»
Так пели они и шагали по полю за плугом, оставляя борозды, похожие на строки; и, подобно рифмам, стягивали эти строки четкие грани межей. А прямо по строкам – нога в ногу – следом за пахарем брели белые аисты…
Песни вьеты слагали издревле. Испокон веку были свои особые песни у землепашцев и рыбарей, у ткачей и лодочников. Их пели во время работы и в часы вечернего досуга, когда над раскидистыми кронами баньянов у общинных домов повисали яркие звезды и высеченные из векового дерева люди, духи и звери, украшавшие эти дома, затаясь в полумраке, внимали напевам – то тягучим и плавным, то задорным и звонким. Песни звучали не только на деревенских или храмовых празднествах. Известно, к примеру, что так называемые «песни гребцов» исполнялись во время лодочных гонок на торжествах по случаю дня рождения вьетского государя Ле Дай Ханя (985 г.). Тот же Ле Дай Хань, принимая во дворце посла сунского императора, немало удивил чопорного китайского вельможу, когда, как докладывал посол, «самолично затянул песнь приглашения к винопитию; слова были непонятны…» (Стало быть, пел государь на языке вьетов.) В 1025 году основатель новой династии Ли (1009–1225 гг.) государь Ли Тхай То на дворцовом празднике раздавал награды певцам. Среди них была «лицедейка Дао», имя которой, как отмечал летописец, стало понятием нарицательным и означало впоследствии просто «певица». В 1060 году государь Ли Тхань Тонг перевел на язык вьетов тямские песни, сочинив к ним аккомпанемент для барабанов. Преемник его, Ли Нян Тонг, царствовавший с 1072 по 1128 год, построил в столице «дом для песнопений и плясок», а по словам безымянного автора первой из дошедших до нас вьетских летописей («Краткой истории земли Вьет»), «песни и мелодии для музыкантов все были сложены им (государем. – М.Т.) самолично». И при династии Чан (1225–1400 гг.) песни звучали в пиршественных залах дворцов, в домах вельмож и чиновников.
По преданию, именно в эту эпоху в войсках вьетов, которые за недолгих три десятилетия трижды отразили вторгавшиеся из Поднебесной полчища монгольской династии Юань, родились «песни военного барабана». Тогда их, став двумя рядами у барабанов, пели солдаты. Но до наших дней песни эти дошли уже в виде диалога между юношами и девушками, а ритм – в разных местах по-своему – отбивают где барабаны, а где – и туго натянутый певцами канат, иногда пропущенный для резонанса сквозь пустой бочонок.
И пусть где-то к концу XV века, с утверждением засушенного, регламентированного до мелочей конфуцианского церемониала, песни вытесняются из придворного обихода, – народ, само собою, пел свои старые песни и слагал новые. Если же говорить о влиянии на поэзию письменную, то в песенном наследии важнее всего были, пожалуй, «ка зао» – стихи, читаемые нараспев, на свой особенный музыкальный лад, отточенные и совершенные по форме. Применяясь к новым временам, ка зао менялись сами, и мало их дошло в первозданном виде из далекого Средневековья. Но уж если они касались деяний государей, державных и ратных дел, то пели о героях, сражавшихся за отчизну, о «справедливых» императорах, при которых даже куры не клевали отборных рисовых зерен, а быков было столько, что стали тесны пастбища. Хотя все чаще и чаще звучала в народных стихах горечь и боль обездоленных людей, а позднее, в XVIII веке, безвестные сочинители звали людей в повстанческое войско тэйшонов и оплакивали казненного властями «доброго разбойника» Лиу. Ему, кстати, в другом уже жанре, была посвящена народная баллада. Но в большей гораздо мере вместе с пословицами (они состояли зачастую из нескольких строк и тоже строились по законам поэтической метрики) уделяли внимание трудам земледельца и связанным с ним обычаям и природным приметам. Одни пословицы и ка зао складывались как бы в обширный календарный свод, где значились сроки пахоты, посева и жатвы, предвестия доброй и худой погоды… Другие – составляли свод этический и нравственный, полный не только вековечных житейских правил, но и вбиравший в себя иногда осуждения и неприятие этих правил, исподволь готовившие перемены в обычаях и в быту. Этот последний свод не во всем совпадал с уложениями конфуцианской морали. Но совсем уж расходился с этой моралью еще один, третий свод народной поэзии, самый, пожалуй, богатый и популярный, – любовная лирика. Ка зао воспевали любовь свободную, не знающую закостенелых и подчас смехотворных рамок, – любовь, дарящую людям счастье и красоту, и гневно обрушивались на все, что мешало соединению влюбленных.
Были у вьетов и другие стихи и песни – язвительные и насмешливые, бичевавшие пороки и кривду, жадность и жестокость богатеев и метившие нередко в самые, как говорится, «верхи». Не случайно уже в 80-е годы XVIII столетия чванливый временщик Хоанг Динь Бао приказал выставить на рыночной площади ножницы с крюками, чтобы тут же на месте отхватить язык всем, кто посмеет завести хулительные песни.
Этот пускай и неполный рассказ о народной поэзии поможет нам лучше представить себе, как складывался духовный мир стихотворцев Дай-вьета. Да, они были людьми книжными и с малых лет корпели над конфуцианским каноном, над историей древних и новых китайских династий; без этого невозможно было выдержать испытания ни в провинции, ни в столице, дававшие ученую степень и право на чиновничью должность. Но историю своей земли и законы, по которым испокон веку жили на этой земле их соотечественники, будущие стихотворцы, – росли ли они под изразцовыми кровлями палат или под тростниковыми крышами, – сызмальства узнавали еще и из сказок и песен. И неписаная «история», равно как и не освященные авторитетами древних мудрецов житейские правила, властно налагали свою печать на их характеры и судьбы. В одной из песен вьетов поется: «За сотни лет сотрутся письмена на камне, «Письмена» же изустные и тогда будут жить…». Не отсюда ль идут строки стихов великого поэта Нгуен Чая (1380–1442 гг.): «Рушатся каменные стелы, но истина нерушима…»
Здесь уместно вспомнить, что традиция почти всегда связывала сочинение песен со стихотворчеством. Великий поэт Нгуен Зу (1765–1820) писал в одном из своих стихов: «Деревенские песни нам помогают выучиться словам, чтоб описать, как растят тутовник и рами…» И сказано это было не для красного словца. Поэт всерьез старался постичь искусство народных певцов. Вместе с друзьями являлся он из своей деревни Тиен-диен в деревню Чыонг-лыу. Там по вечерам девушки, сидевшие за прялками, и приходившие в дом, где они пряли, юноши пели знаменитые «песни ткачей». Нгуен Зу пел вместе с ними и был всегда желанным партнером. Как-то раз девушки, боясь, что он не явится на следующий вечер, взяли у поэта в залог его платок. Говорят, он даже полюбил одну из прях. Потом, когда он уехал, девушка стала чахнуть от тоски, и он написал ей письмо в стихах…
Но вернемся к письменной поэзии Дай-вьета. Когда и как она начиналась? Древнейшие, дошедшие до нас стихи относятся к концу X века. В 987 году в Дай-вьет прибыл из Китая посол сунского императора, звали его Ли Цзюэ. До тогдашней столицы, города Хоалы (Цветочные врата), стоявшего в неприступных горах, надо было добираться на лодках. И государь Ле Дай Хань выслал навстречу посольству просвещенного и влиятельного при дворе буддийского наставника До Тхуэна (924–990 гг.), дабы тот, под видом кормчего, постарался выведать тайные мысли посла. Плывя по реке, Ли Цзюэ произнес две строки стиха. И вдруг лодочник подхватил рифму.
Посол был в изумлении. Он подружился с До Тхуэном и подарил ему стихи, таившие, как оказалось, в себе глубокий политический смысл. А потом на отъезд Ли Цзюэ другой буддийский наставник и советник государя, Нго Тян Лыу (959–1011 гг.), сочинил стихи «Провожая посла Ли Цзюэ». Оговоримся, что вьеты писали тогда стихи по-китайски, на ханване. Но неужели это были первые опыты стихосложения? Вряд ли возможно было без должного опыта и традиции состязаться с китайцем в сочинении стихов на его родном языке или написать ему в дар изысканные вирши. И такая поэтическая традиция у вьетов, конечно, была. Углубляясь в источники, так сказать, против течения времени, мы узнаем, что начиная со второй половины VII века китайские поэты, бывая в земле вьетов или встречаясь с приезжавшими оттуда в Китай буддийскими наставниками, дарили вьетам стихи. Литератор и ученый Ле Куи Дон (1726–1784 гг.) приводит четыре таких стихотворения, сохранившихся в китайских анналах. Но в этих случаях не принято, чтобы стихи дарила только одна сторона. Должно быть, вьеты тоже дарили поэтам из Поднебесной стихи; просто в китайские книги они не вошли, китайцы вообще редко сохраняли произведения чужой словесности. Однако по крайней мере одно исключение было сделано: в танских анналах сохранилась написанная ритмической прозой ода «Белые тучи озаряют весеннее море» – сочинение выходца из земли вьетов Кхыонг Конг Фу, который учился в танской столице Чанъани, сдал в 780 году экзамен, дослужился при китайском дворе до высоких чинов, но был уволен за «излишнее прямодушие». А еще раньше также учившийся в Чанъани выходец из земли вьетов – Фунг Дай Чи – удостоился за свои стихи похвалы танского императора Гаоцзу (правил с 618 по 626 гг.). И речь здесь может идти о серьезной поэзии, об этом говорит хотя бы тот факт, что двое буддийских наставников из земли вьетов состязались в стихосложении с великим поэтом Ван Вэем (699–759). Итак, вьеты сочиняли стихи за триста лет до приезда в их страну почтенного Ли Цзюэ. Но можно попытаться отодвинуть истоки поэтической традиции еще дальше. Обратимся снова к «Краткой истории земли Вьет». Там под 184 годом приведено сообщение о том, что ханьский император (вьетские земли были тогда захвачены Китаем) узнал о поднятом вьетами мятеже и послал к ним нового наместника – Цзя Мэнь-цзяня. Он утихомирил бунтовщиков. И дальше в летописи говорится, что после замирения (цитируем): «Сотни семейств (то есть множество людей. – М.Т.) распевали такую песню: „Отец Цзя прибыл с опозданием. Нас прежде довели до мятежа. Теперь вокруг покой и чистота. И снова бунтовать нам ни к чему“».
Начнем с того, что вряд ли в земле вьетов «сотни семейств» могли распевать стихи, написанные по-китайски. Язык этот и много позднее знали только люди образованные, большинство же его не знало. Здесь, видимо, летописец попытался с помощью стихотворения как-то обрисовать то, что мы теперь назвали бы «общественным мнением». Сами же стихи, несомненно, сочинил человек просвещенный. Заметьте, в них сказано «нас… довели до мятежа». «Нас»!.. Значит ли это, что автор был из тех, кто бунтовал? То есть не обязательно бунтовщик, а вообще тамошний уроженец?.. Через сто лет это четверостишие включил в свои «Полные исторические записи Дай-вьета» Нго Ши Лиен, для того времени довольно критически относившийся к источникам. Сложно сейчас настаивать на том, что стихи эти относятся именно ко II веку; однако для нас главное в том, что сама постановка вопроса позволяет по-новому взглянуть на истоки поэзии вьетов.
Трудности в изучении древнейшего периода в истории поэзии Дай-вьета во многом связаны с сохранностью памятников. Практически от той эпохи почти ничего не сохранилось. Да и произведения более позднего времени тоже дошли до нас далеко не полностью. Причин тому было немало. Здесь и влажный тропический климат, и частые пожары (в старину все почти постройки были деревянными), и случавшиеся беспорядки, во время которых документы и книги, выброшенные из хранилищ, по словам историка, «переполняли дороги». А ведь «тиражи» книг были тогда невелики. В Дай-вьете, правда, книгопечатание (с резных досок) существовало издавна. В буддийской житийной книге «Записи дивных речений в Саду созерцания» (XIV в.) есть жизнеописание преподобного Тин Хаука (умер в 1190 г.), где сказано, что предки его испокон веку резали доски для печатанья книг. С XV столетия дело это было поставлено на более широкую и современную ногу. В середине века ученый и поэт Лыонг Ньы Хок дважды ездил с посольством в Китай и, выведав там секреты печатного дела, обучил ему своих односельчан. В родной его деревне Хонг-лиеу (по-новому: Лиеу-чанг) доныне стоит ден (поминальный храм) Ньы Хока, где чтут его память. Оттуда ремесло разошлось по соседним деревням. Но все же книг было мало. Многие вещи оставались в рукописях, а они теряются и гибнут быстрее, чем книги.
В свое время ученый и поэт Хоанг Дык Лыонг (XV в., экзаменовался в 1478 г.), составляя «Собрание превосходных образцов поэзии», сетовал: «Ах, отчего в стране, где творения словесности и искусства создаются вот уж которое столетие, нет ни одного собрания лучших своих творений, и, обучаясь стихосложению, надо отыскивать образцы где-то вдали, среди сочинений эпохи Тан…» Хоанг Дык Лыонг утверждал, будто книги пропадают оттого, что люди их не так уж и ценят: всякий, мол, распознает вкус изысканных яств или красоту парчи; но не каждому дано почувствовать прелесть поэзии. К тому же, считал он, сочинения поэтов теряются, а собрания стихов не составляются, поскольку мужам просвещенным недосуг заниматься ими из-за служебных занятий; иные же и вовсе ленятся. Через триста лет примерно такие же точно резоны приводил составитель «Всеобъемлющего собранья стихов земли Вьет» Ле Куи Дон, сокрушавшийся, что даже со времен Хоанг Дык Лыонга многое утрачено.
Но среди «превосходных образцов», собранных учеными мужами, нам не найти, конечно, таких по-своему примечательных строк: «Каждый клочок бумаги – пусть даже с половиной иероглифа, каменные плиты с надписями, воздвигнутые в этой стране, – все, едва увидите, изничтожайте в прах». А они многое бы могли объяснить о гибели книг, потому что «эта страна» – Дай-вьет, сама же цитата взята из указа минского императора Чэнцзу, который в 1407 году двинул на Дай-вьет свои войска, заботясь якобы о восстановлении законности и порядка. Двенадцать лет спустя новым указом император повелел вывезти из Дай-вьета в Китай все ценные книги, хроники и документы. В перечне их рядом с летописями и трактатами по воинскому искусству – книги стихов и прозы… И это был отнюдь не случайный каприз! Без малого полтора столетия спустя китайский историк, вместе с войсками вошедший на территорию Дай-вьета, с похвальной откровенностью писал: «Когда пришли солдаты, они, за исключением буддийских и конфуцианских канонических сочинений, отнимали любую печатную книгу, даже разрозненные страницы, вплоть до книжек пословиц и побасенок, по которым дети учились грамоте, – все должно было быть сожжено…»
Однако литераторы и ученые Дай-вьета с огромным трудом, чуть ли не по строкам, собирали наследие своей поэзии. К началу XIX века существовало уже девять больших антологий. Примечательно, что пять из них составлены были в XV или в самом начале XVI века, а когда после долгой и тяжелой всенародной войны были изгнаны из страны полчища феодального Китая, Дайвьет переживал огромный духовный подъем. Возрос, естественно, интерес к литературе – выразительнице национального духа и традиций, к своей истории, к наследию предков. Государь Ле Тхань Тонг (1442–1497 гг.) особым указом велел награждать людей, сохранивших редкие книги…
Итак, вначале поэзия Дай-вьета писалась на ханване. Мы здесь не будем касаться вопроса о том, существовала ли до того у вьетов своя письменность. Он достаточно сложен, и даже для предварительных выводов пока нет никаких точных данных. Отметим, что приятие вьетами китайской иероглифической письменности и китайского языка – как языка официального, делового и литературного – явилось, несомненно, важным шагом не только потому, что открывало перед ними новые возможности для творческого самовыражения (нас в данном случае интересует прежде всего художественная литература), но еще и потому, что предоставило в их распоряжение огромные духовные богатства китайской культуры. Очень многое и в поэтической метрике, и в образной системе, и в том, что сегодня именуется «интеллектуальным багажом» поэзии, вьеты заимствовали из Китая. Знанию китайской словесности и всех премудростей конфуцианского учения способствовала и система экзаменов, о которой уже шла речь выше. Но было бы наивно предполагать, будто вьеты не видели разницы между слепым подражанием и творческим заимствованием языка и реалий другой культуры. Вспомним хотя бы, как один из выдающихся реформаторов и просветителей Дай-вьета Хо Куи Ли (1396 г.) сказал, разбирая доклад некоего вельможи, обожавшего цветистые цитаты и ссылки на китайских мудрецов: «Тех, кто, едва приобщась к словесности, только и норовит упомянуть деяния времен Хань или Тан, верно прозвали «глухонемыми болтунами»; они лишь сами на себя навлекают насмешки». Сказано это было в 1402 году, через два года после того, как Хо Куи Ли сверг династию Чан, и за пять лет до китайского нашествия, оборвавшего его реформаторскую деятельность. Он был вместе с семьей и теми придворными, которые сохранили верность ему и его сыну, царствовавшему в те годы, увезен в клетке в Китай, где и умер в заточении. А ведь, как это ни парадоксально, именно Хо Куи Ли начал дело перевода китайских книг на язык вьетов и даже сам переводил канонические конфуцианские тексты. Он и стихи сочинял по-китайски, писал стихи на «номе»…
Если судить по сохранившимся надписям на стелах, иероглифическая вьетнамская письменность ном уже употреблялась где-то в конце династии Ли, хотя некоторые исследователи датируют ее появление гораздо более ранним временем. О первом же литературном памятнике на номе мы располагаем, так сказать, вполне официальными сведениями. «Полные исторические записи Дайвьета» под восьмым месяцем года Воды и Коня (1282 г.) помещают известие о выдающемся событии: были изгнаны – с помощью стихотворного заклятия на номе – крокодилы, заполонившие устье реки Ло (ныне Красной). Заклятие это по приказанию государя сочинил и бросил в реку глава Палаты правосудия Нгуен Тхюйен. «Крокодилы, – говорит летописец, – само собою, исчезли. Государь решил, что деяние это схоже с деянием Хань Юя, и потому велел (Нгуен Тхюйену. – М.Т.) сменить родовое имя и зваться Хан Тхюйеном…» (Во вьетнамском языке слово «хань» произносится с твердым окончанием.) «Именно с той поры, – заключает летописец, – в земле нашей при сочинение стихов… многие стали пользоваться родным наречием». К сожалению, собрание стихов Хан Тхюйена до нас не дошло; название его значится в реестре книг, вывезенных в Китай в 1419 году. Пожалуй, здесь позволительно будет сделать предположение о том, что поэзия на номе могла существовать и до Хан Тхюйена. Для создания книги стихов нужно было все-таки опираться на какую-то традицию. Да и в том же самом летописном своде Ного Ши Лиена двадцать четыре года спустя мы находим сведения о Нгуен Ши Ко, ученом, литераторе и придворном, который был «искусен в шутках, любил слагать стихи на родном языке». И далее: «С той поры в земле нашей начали слагать стихи… на родном наречии». Что немаловажно, под этим же 1306 годом мы читаем о том, как вьетскую принцессу Хюйен Чан выдали за короля Тямпы, по каковому поводу «среди сочинителей – при дворе и в простых домах – многие, взяв за образец случай, когда ханьский император выдал дочь за гунна, сложили стихи на родном наречии, дабы излить насмешку». («Насмешку» – потому что брак этот, в общем, был мезальянсом.) Выходит, через два десятилетия после появления магических виршей Хан Тхюйена стихи на номе слагали уже сочинители самого разного ранга и толка?
Первой дошедшей до нас поэтической книгой на номе стало «Собрание стихов на родном языке» Нгуен Чая. Двести пятьдесят четыре стихотворения – драгоценный свод, которому мы в основном обязаны нашими представлениями о вьетской поэзии да и о самом языке вьетов. Именно книга Нгуен Чая открывает нам по-настоящему поэзию вьетов, зазвучавшую на их собственном языке. Судьба Нгуен Чая, гениального поэта, ученого, государственного деятеля и военачальника, сподвижника Ле Лоя, который был вождем освободительной народной войны, изгнал из Дай-вьета китайских захватчиков и основал династию Ле (1428–1788 гг.), сложилась трагически. Он был по ложному навету обвинен в цареубийстве и казнен вместе с сыновьями, внуками и правнуками. А книги его и доски, с которых они печатались, были сожжены или уничтожены. Отдельные экземпляры их вроде бы сохранились лишь в тайных государственных архивах. Стихи Нгуен Чая были изданы через четыреста лет после его смерти. Но утаить наследие поэта от потомков не удалось. Следы влияния его поэзии находим мы в сочинениях государя Ле Тхань Тонга и членов созданного этим монархом «Собрания двадцати восьми светил словесности». Плод их совместного творчества – «Собрание стихов на родном языке, сложенных в годы «Великой добродетели» – следующая после книги Нгуен Чая поэтическая вершина. Ле Тхань Тонг и его собратья по поэзии слагали стихи и на ханване (так же, кстати, как и сам Нгуен Чай и, по преданию, Хан Тхюйен, равно и Чан Тхай Тонг и другие). «Двуязычным» был и другой великий поэт – Нгуен Бинь Кхием (1491–1585 гг.).
Стихотворчество на родном языке делается достоянием все большего круга лиц. Поэзия утрачивает свой элитарный характер, у нее появляется новый читатель, вернее, и читатель и слушатель, потому что стихи теперь воспринимались на слух людьми, не обученными грамоте. Естественно, возникает и «обратная связь» – ширится влияние народной поэзии на поэзию письменную. Обогащается за счет фольклорных форм и сама поэтическая палитра. К заимствованным из китайской, главным образом танской, поэзии стихотворным размерам и формам (чаще всего восьмистишья и четверостишья с семисловной, то есть и семисложной строкой и конечными рифмами) со временем добавляется пришедший из ка зао «люк бат» – размер, построенный на чередовании шестисложной и восьмисложной строк с конечной и внутренней рифмами. Начатки люк бата можно найти в песенных стихах Ле Дык Мао (1462–1529 гг.). Но уже столетие спустя в стихотворении Фунг Кхак Хоана (1528–1613 гг.) «Песня о лесистых ущельях» мы видим люк бат окончательно оформившимся. Этим размером написаны и поэмы Дао Зюй Ты (1572–1634 гг.) «Песнь о возлежащем драконе» и «Песнь о заливе Ты-зунг», читавшиеся, вероятней всего, нараспев с музыкальным сопровождением. Люк бат связан со становлением и высочайшими достижениями крупного жанра в поэзии, им написан и бессмертный роман в стихах Нгуен Зу «Стенания истерзанной души» (часто именовавшийся по имени героини «Тхюи Кьеу», или «Повесть о Кьеу»). На люк бате пишутся и лирические поэмы – «нгэмы». Входит в поэзию еще один размер «тхэт нгон люк бат», где чередуются две семисложные строки с шестью– и восьмисложной строками, также с конечной и внутренней рифмами. Этим размером написаны такие шедевры классики вьетов, как философско-лирическая поэма «Песнь о четырех временах года» Хоанг Ши Кхая (XVI – начало XVII вв.), лирические поэмы Доан Тхи Дием (1705–1748 гг.) «Жалобы жены воина» и Нгуен Зиа Тхиеу (1741–1798 гг.) «Плач государевой наложницы», философская поэма Нгуен Зу «Все живое…». Разумеется, появление крупного жанра в поэзии связано не только с обогащением и развитием поэтической формы, но и прежде всего с переломными явлениями в социальной и духовной сферах, с кризисом старых и зарождением новых идей. Впрочем, об этом позднее.
А сейчас вернемся к XVII столетию, когда, вероятно, написаны были на номе первые безымянные повествовательные поэмы – «чюйены» («Рассказ о прекрасной Ван Цян», «Су – полномочный посол государя», «Дивная встреча в лесистых ущельях»), строившиеся еще большей частью «по-старому», на семисложной строке. Они сразу же стали необычайно популярны. Очевидно, в конце XVII века появилась безымянная поэма «Записи Небесного Юга» (более восьми тысяч строк люк бата) – своеобразная летопись в стихах, также широко распространившаяся среди читателей. Поэмы эти помимо новизны и увлекательности сюжетов несли в себе и определенный социальный заряд. Число их, а равно и количество копий рукописных и печатных, множилось. И власти не замедлили всем этим заинтересоваться. В 1663 году князь Чинь Так (княжеский род Чинь практически узурпировал в то время власть государей Ле) повелел составить «Сорок семь статей об обучении словесности», где, кстати сказать, в стихотворной форме, указывалось на великую назидательную пользу, проистекающую от изучения китайского языка и словесности, а наипаче – от неукоснительного следования конфуцианским догмам. Все же остальное объявлялось никчемным и безнравственным. Остальное – это были книги на номе (речь главным образом шла о чюйенах), которых якобы развелось слишком уж много: «Дочитаешь одну книгу стихов, вновь попадается песня (поэма). Слова их развратны, с легкостью лишают людей власти над собой. Не следует их печатать и распространять в ущерб добрым порядкам».
Одновременно князь Чинь Так, радея о высшей нравственности, повелел собрать «вредные книги» (на номе!) и сжечь. Однако книжные костры здесь, как, впрочем, и везде, оказались бессильны, и XVIII столетие поистине стало венцом восьмивекового пути поэзии Дай-вьета…
Но давайте вспомним об ее истоках. Принятый в некоторых изданиях принцип открывать публикацию поэтических памятников с начала XI века в общем-то имеет, как говорится, свои резоны. В 1010 году прославленный государь Ли Тхай То перенес столицу из укрывавшегося в горах городка Хоалы – пусть там поставлены были дворцы под «серебряными изразцами» и златоколонные пагоды, он все же оставался небольшим городком, само местоположение которого как бы свидетельствовало о постоянной угрозе вражеских нашествий. Новое, единое и сильное вьетское государство нуждалось в новой столице, которая лежала бы в центре его расширившейся территории. И такое место было найдено. Именно там, на равнине, в дельте Красной реки, находилась, как сказано в «Указе о переносе столицы», «скоба и задвижка от всех земель в четырех сторонах света». Здесь, если вспомнить историю, были уже в прошлом – далеком и не очень далеком – столицы других династий и царств. Но государю, само собою, это место было указано свыше: здесь он увидел взлетавшего в поднебесье золотого дракона, – счастливейшая примета, сулившая его державе процветание и силу. Так был заложен Тханг-лаунг – «Град Взлетающего Дракона», престольный город Дай-вьета, опора его могущества, средоточие богатства и славы. Именно здесь был центр духовной жизни Дай-вьета, здесь творилась его поэзия. Да, конечно, стихи писались и в отдаленных пагодах, и в деревенском уединении ушедших от дел конфуцианских книжников, во дворцах окружных наместников и в дальних походах. Пусть не в столице, а в уезде Куинь-лэм собирал взысканный чинами и титулами принц Чан Куанг Чиеу (1287–1325 гг.) «Сообщество стихотворцев яшмового грота» – первое содружество поэтов в истории Дай-вьета. И так же не в столице, а на юге в Ха-тиене, собиралось, пожалуй, последнее поэтическое содружество, которое основал государев наместник Мак Тхиен Тить (XVIII в.). Но все же именно здесь, в Тханг-лаунге, стихи обретали свое полнозвучие, здесь определялись и соизмерялись значение их и ценность. Быть может, из всех великих поэтов один лишь Нгуен Зу был связан со столицей Нгуенов, городом Хюэ, но узы эти навряд ли были особенно прочными.
И тем не менее мы ошибемся, считая стихотворцев Дай-вьета горожанами в нашем сегодняшнем смысле этого слова. Вьеты – придворные ли или простолюдины, жившие в Тханг-лаунге и других городах – тысячью невидимых нитей соединены были с природой, ее движением, ее силой и красотой. Не случайно поэты Нгуен Ньы До, Данг Минь Бить или Тхай Тхуан (все они жили в XV в.), описывая столицу, выводят все те же детали «чистой» природы: сад, пруд и лягушек, кричащих после дождя, бамбук, цветы, луну; пишут о рыбной ловле… Лишь в XVIII веке у Ле Хыу Чака и других мастеров появится в стихах о Тханг-лаунге «городской» пейзаж.
В царстве природы не существовало границ, не было неравенства. «Все, что существует в природе, суть – общее достояние…» – так писал Нгуен Бинь Кхием.
В царстве природы, в стремлении постичь и изобразить его, пожалуй, наиболее тесно соприкоснулись поэзии народная и письменная. Поэт, человек просвещенный, книжный, и неведомый творец народных стихов и песен, в сущности, одинаково подходили к изображению природы. Просто у них были разные «точки отсчета». Первое, что всегда приковывало к себе внимание человека, это, наверно, загадка вечного круговорота в природе, смены времен. У народной поэзии здесь своя система координат. Давайте прислушаемся: «В первом месяце ноги шагают за плугом, Во втором, когда высевают рис, множь усердье…». И так далее, до двенадцатого, последнего месяца, когда надо сажать бататы… Это – ка зао. А пословицы еще уточняют, что, если «…кричат журавли, – будет стужа». И что, если, скажем, осенью «летают стрекозы, – будет буря». А сколько есть тут примет, связанных с луной! Но, оказывается, и государь Ле Тхань Тонг, вроде бы завзятый книгочий да к тому же еще погруженный в дела правления, отлично, что явствует из его стихов, знает о том, как многоразлично светит луна в разные времена года. И государь Чан Нян Тонг (1258–1308 гг.) о приходе весны узнает не от придворных астрологов, а по бабочкам, закружившимся над цветами. Ведомо было поэтам, и какую пору весны означает «пух, облетающий с ивы» (принц Чан Куанг Кхай; 1241–1294), и что по весне в час пятой стражи кукует кукушка (Ле Тхань Тонг). А вот знаки наступившего лета: пение иволги (Хюйен Куанг), крик коростеля и округлившиеся бутоны софоры (Нгуен Чай), все та же иволга и цветение гранатов (поэтесса Нго Ти Лан). Осень – важная пора для земледельца, и в народной поэзии с нею связано особенно много примет. Но и в «календаре» стихотворцев осенние знамения многочисленней прочих. Вот одно лишь начало осени: «Со старых тутовников листья опали, коконы уж созрели; Благоухает ранний рис в цвету, жиреют крабы». (Нгуен Чунг Нган: 1289–1370 гг.) Поэт и вельможа, он написал эти строки, вспоминая далекую родину, когда ездил послом в Китай.) «Цедреллы плоды еще зелены, но уже ароматны; Лиловые крабы с желтым бруском в брюхе в бамбуковые заползают верши». (Ли Ты Тан (1378–1457 гг.). Придворный и военачальник.) Кстати, «желтый брусок в брюхе» – это крабье сало. Стало быть, все та же примета. Ее мы найдем и у стихотворца XVIII века Нго Тхой Ыка, уточняющего, что крабы особенно жирны «в седьмом и восьмом месяцах», – по лунному календарю это уже осень. Поэт определяет время даже по шуму потока: «Журчанье ручья у изголовья возвещает осень» (государь Чан Минь Тонг; 1300–1357 гг.). Календарь ему заменяют цветы: «Год на исходе, в горах численника нет, но распускаются хризантемы, значит – день двойной девятки». (Преподобный буддийский наставник Хюйен Куанг. «Двойная девятка» – девятый день девятого месяца.) А вот строки, что вышли из-под кисти придворного и дипломата Фам Шы Маня (XIV в.): «…Мелкий дождь заполонил город – пора хлебных червей». Осень кончается, и «рыба, почуяв холод, скачет в студеном потоке». Так предугадал перемену времен высокоученый Тю Ван Ан (1370 г.), непреклонный блюститель «истинного пути», провозглашенного Конфуцием. У поэзии письменной не только свой точный календарь, но и свои часы. Каждой из пяти страж посвятил по стиху государь Ле Тхань Тонг и у каждой подметил особенные, ей одной свойственные черты. Утро поэту возвещает голос иволги, а вечер – кружение ласточек (чиновник и придворный Тхай Тхуан). Вечером также кричат вороны (Мак Динь Ти) и опускаются на ночлег в поля цапли (государь Чан Нян Тонг).
Стихотворцы Дай-вьета умели ценить щедрость земли. Но они знали, что ее дары – плод нелегких крестьянских трудов. Не случайно Нгуен Чай напоминал служилым людям: «За чиновничье жалованье твое будь благодарен землепашцу…» Главной заботой людей был урожай, и судьба его занимала поэта: «Смотрю, как синие тучи укрывают поля, вижу – урожай будет добрый» (Буй Тонг Куан; XIV в.). Государь Ле Тхань Тонг слушает кукушку, «возвестницу сева». А один из его «двадцати восьми светил словесности», Тхай Туан, прислушивается к крикам пахарей, погоняющих буйволов в борозде, и глядит вслед испуганным их голосами белым аистам…
Нгуен Чай писал стихи о сахарном тростнике, банане и целебном корне хоанг тине. Ле Тхинь Тонг и его собратья – о банане, арбузе, батате, капусте. Нгуен Бинь Кхием – о кокосе… Но, конечно, поэтам был чужд «утилитарный» подход к природе. Нгуен Чай всю жизнь копил «серебро маи» (маи – разновидность сливы, расцветающей в самом начале весны) и «золото хризантем». Он считал их единственным богатством, которое достанется детям и внукам. Поэты, зная толк в сокровищах цветов, умели подметить и изобразить самые разные «ценности». В «Собрании стихов, сложенных в годы „Великой добродетели“, есть семь стихотворений о лотосе (только что распустившемся; старом; колеблемом ветром…).
Поэт ощущал себя частью природы, нераздельной с целым. «Этот ветер, – писал о себе государь Чан Ань Тонг (1267–1320 гг.), – и эта луна, и этот человек – все вместе суть три дивные сущности жизни». Наверно, здесь надо отличать традиционные атрибуты отшельнического бытия, реминисценции книжные, пришедшие в стихи вьетов из поэзии Китая, от личного, прочувствованного и осмысленного восприятия природы. И то, чем, собственно, был уход от мира для поэта-буддиста и для поэта-конфуцианца. В первом случае – это естественное бегство из царства суеты и праха на лоно природы, где царят первозданный покой и гармония, – суть наилучшие условия для самосозерцания, – основы укоренившегося в Дай-вьете учения «тхиен» (санскр. – «дхьяна», китайск. – «чэнь», японск. – «дзэн»). Все сущности и существа природы для буддийского отшельника были звеньями всеединой и вечной цепи перевоплощений и различных существований. В этом смысле поэт воспринимал и самого себя как неотъемлемую частицу природы. Именно о таком слиянии, таком единении и говорил Чан Ань Тонг. Состояния природы и предающегося на лоне ее самосозерцанию человека тождественны. «Душа, принесшая обет природе, – утверждает поэт, – как и она, чиста и свежа» (государь Чан Тхай Тонг). Для конфуцианца же отшельничество, уход от деятельной жизни – это прежде всего способ решения житейских противоречий. Долг предписывает «истинному мужу» служить государю и государству. Но когда государь несправедлив и в государстве вершатся неправедные дела, долг предписывает от такового служения отказаться. Конечно, не всегда перед человеком стояла дилемма: служба или отшельничество? Здесь было множество оттенков, и отшельник не обязательно должен был отгородиться напрочь от многоликой и переменчивой жизни. Очень часто отшельники – буддисты и конфуцианцы – становились наставниками, учителями. Но в этом случае буддийский наставник учил отрешенью от бренностей мирского существования во имя самосозерцания, самопостижения и – через них – приобщенья к истинному пути. Конфуцианец же в первую очередь излагал своим ученикам все те же догматы общественной иерархии, служения «долгу», участия – в отведенной всеобщим регламентом мере – во всем, что касается дел государства. Конфуцианец на лоне природы учил тому же, чему обучали его коллеги в столичных школах…
Иные конфуцианцы уходили от дел до поры до времени. У них имелось одно очень удобное правило: как только правление станет клониться к справедливому толку – можно ему и послужить. Не все они бесповоротно, раз и навсегда, уходили от обольстительных соблазнов власти, как это сделал Тю Ван Ан, когда государь отверг его знаменитое прошение об отсечении голов семи временщикам. Он был честен, когда писал: «Плоть моя, как одинокое облако, вечно привязана к горным вершинам. Душа, словно старый колодец, не ведает волнений». Кстати, этот же образ четыре с лишком столетия спустя мы найдем в стихах Нгуен Зу: «Сердце мое – словно старый колодец, в который глядится луна». (Перевод Арк. Штейнберга.)
Но были и «отшельники», такие как Нгуен Бинь Кхием, не порывавшие окончательно связей с двором и следившие весьма даже пристально за течением государственных дел (хотя он также потребовал у государя головы временщиков – на этот раз в количестве восемнадцати – и, не получив их, вышел в отставку). В своей деревне он выстроил дом, который скорее лишь в силу традиций именовался «приютом» (кельей) – «Приютом Белых туч», навел мосты и воздвиг павильоны для удобства дальних прогулок. Он принимал посланцев обеих враждовавших династий – Маков, захвативших тогда столицу, и Ле, обосновавшихся на юге, в Тхань-хоа. Маки слали ему золото, драгоценности и шелка, и он, утверждая в стихах суетность богатства, не возвращал их назад. Случалось, он наведывался в столицу, а иногда и Маки навещали поэта в его «келье». Ученики же его служили при обоих дворах.
Гораздо скромнее жил в деревенском уединении, в Кон-шоне, Нгуен Чай, когда сперва попал в опалу, а затем и вышел в отставку. Впрочем, в отличие от Нгуен Бинь Кхиема, Нгуен Чай вовсе не склонен был уходить от дел после первого же несогласия с монархом. Он, изведавший горечь китайского плена, тяжкие превратности войны и хитросплетения дворцовых интриг, всегда готов был бороться за выношенные и выстраданные им идеалы человечности и добра. Изгнанный, он, проглотив обиду, вновь возвращался к кормилу власти, ибо народ он уподоблял водной стихии, а государя и власть – ладье. Истинный служитель долга, он хотел быть кормчим, верным и неподкупным кормчим своего государя. Он был бескорыстен, – вспомним «золото хризантем». Ему, привыкшему держать в руках меч, невмоготу было из отдаленных тенистых беседок взирать на торжество несправедливости. Он вступил в поединок со злом и пал в нем… Нет, не отрешения от жизни, а прежде всего отдохновения искал Нгуен Чай на лоне природы. Не об этом ли его «Песнь о Кон-шоне»: «В Кон-шоне есть речка, журчанье ее меж камней для меня – переливы струн. В Кон-шоне есть скалы, отмытый дождями зеленый мох для меня – циновка с периной. В Кон-шоне есть роща тунгов, кроны – зеленые балдахины, под сенью их я сажусь отдохнуть…»
Поэты, созерцая природу, умели увидеть в малом большое, в частице – целое. Для них «пруд в половину мау (мау – старинная мера площади, равная 3600 кв. м.) отражал целиком все небо», как писал Нгуен Хук (XV в.). Конечно, когда стихи о природе слагал венценосец, он умел привнести в них должные интонации. Так, государь Чан Нян Тонг, находясь в округе Тхиен-чыонг, откуда вышла династия Чан, заявлял: «Округ этот – первейший из двенадцати округов». Подобную иерархическую географию весьма уместно дополняло сравнение шпалер апельсиновых деревьев с рядами дворцовой гвардии. Ле Тхань Тонг, набрасывая традиционными красками деревенский пейзаж, добавляет к привычным деталям вереницу колесниц и звуки музыки. А в «Восхваление деревни Тьэ» он же завершает описание природы и шумного торжища «государственными резонами»: мол, здешнее процветание объясняется тем, что с людей взимают меньше податей. (Кто, спрашивается, их столь разумно установил?) Если в описаниях природы, связанных с временем процветания и мира, царит успокоение и гармония, то в пору военной страды и социальных потрясений нарушается равновесие стихий… Начинается дисгармония космических начал, когда, по словам Нгуен Бинь Кхиема, «вселенная не умиротворена» (современный ему вселенский разлад он подтверждает учеными ссылками на подобные случаи при древних китайских династиях). Отсюда тянется прямая связь к космическим мотивам в поэме Хоанг Ши Кхая «Напевы о четырех временах года». Здесь автору космические и стихийные силы понадобились, напротив, для того, чтобы воспеть возвращение к власти законной династии Ле, а точнее – воцарение княжеского рода Чинь, взявшего всю власть в свои руки, – воспеть через якобы утвердившуюся в природе лучезарность, покой и изобилие. У Хоанг Ши Кхая тоже множество реминисценций из китайской словесности и истории. Все это должно было придать главной идее поэмы особую убедительность. Кто знает, не была ли чрезмерная восторженность поэта изъявлением признательности новым властителям, которые не только не стали карать Хоанг Ши Кхая за службу у узурпаторов Маков (вот она, верность конфуцианскому долгу! Правда, он после изгнания узурпаторов вышел в отставку), но окружили почетом и пожаловали щедрую пенсию.
Как и в народной поэзии, стихотворцы очеловечивают явления природы. Поэт слышит, как «дождь переносит журчанье ручья через ущелье», видит, как ветер «машет бамбуком над крыльцом» (Чан Минь Тонг)… Одушевляет поэт и самые различные предметы, сотворенные людскими руками. Дремлет весь день, взойдя на песчаный берег, одинокая лодка (Нгуен Чай). Отгоняет птиц нелюдимое пугало, которое и владельца бахчи не очень-то жалует… Пейзажная поэзия зачастую как бы строилась по законам живописи. Стихотворец умел передать контрасты цвета и игру света и тени и призрачность полутонов. Более того, в стихах иногда зримо ощущается перспектива, объемная организация пространства, средневековой живописи не всегда еще свойственная. И становится понятным встречавшееся тогда в одном лице сочетание талантов поэта и живописца.
Возможно, разговор наш о поэзии Дай-вьета X–XVII веков покажется чересчур пространным. Но ведь она до сих пор практически была неизвестна русскому читателю; тогда как творения поэтов XVIII столетия, во всяком случае, главные и лучшие среди них, давно уже бытуют в русских переводах. XVIII столетие в истории Дайвьета было временем крупнейших социальных потрясений. А вместе с устоями феодальной монархии заколебались общественные и этические идеалы, казавшиеся прежде незыблемыми. Конфуцианская регламентация и нормы рассудочной морали отступают перед властным требованием свободы человеческой личности, свободы человеческих чувств. Поэт осознает право человека на счастье, высокую непреходящую ценность любви, вступающей зачастую в конфликт с конфуцианской этикой и существующими порядками. И пусть стихотворец, не видя еще путей к истинному освобождению личности, решает жизненные противоречия с помощью условных приемов: воссоединение влюбленных в иных существованиях; пусть еще торжествует зло, но оно весьма недвусмысленно разоблачается и осуждается поэтом. Не случайно император Ты Дык (1848–1883 гг.), как говорят, прочитав в великой поэме Нгуен Зу «Стенания истерзанной души» строки, в которых вольнодумец и бунтарь Ты Хай отвергает власть монарха, воскликнул: «Будь Нгуен Зу еще жив, Мы повелели бы отсчитать ему двадцать ударов бамбуковой палкой!..»
Гневно осуждают стихотворцы Дай-вьета бесчеловечность законов, феодальные распри, несправедливость, лишающую человека права на счастье. Созвучны с творениями Нгуен Зу и стихи Хо Суан Хыонг, которая, продолжая традиции «малого» жанра, воссоздает цельную картину общества, построенного на угнетении и бесправии. Меняется и сам тип поэта. Да, Нгуен Зу еще служит феодальному государству, но мог ли он вырваться из привычных норм и жизненных правил своего класса?! Для него служение монарху – это уже не высшая и единственная цель жизни. Не смог возвыситься до конца над традиционными представлениями и правилами и другой замечательный поэт – Фам Тхай. Но именно он, видя несправедливость окружавшей его жизни, которая явилась и причиной личной его трагедии, порвал с извечной «верностью» государю и «истинным» установлениям. Добровольно поставив себя вне традиционных жизненных рамок (и дело здесь было, конечно, не только в династических пристрастиях и антипатиях), он стал «свободным художником». Скитаясь по дорогам, поэт слагал стихи «на случай» и кормился кистью своей, предпочтя желтую рясу нищенствующего монаха пышному одеянию царедворца. И именно из этого XVIII столетия память народная сохранила уже не только имена стихотворцев, но и имена героев их книг, ставшие нарицательными и вошедшие в песни и на зао. Это прежде всего относится к поэме Нгуен Зу, персонажи которой стали героями многочисленных притч, стихов и драматических произведений…
1977 г.
Мастер рукотворных чудес из края Светлого моря
Судьбы старинных книг, как и творцов их, бывают загадочны и необычайны. Вот уже более 4-х столетий живет среди людей книга, которую автор ее – вьетнамец – нарек, быть может, длинновато на наш нынешний вкус: «Пространные записи рассказов об удивительном».
Написанная на вэньяне, языке общем в ту пору для многих литератур Дальнего Востока, она вскоре была истолкована подробно уже по-вьетнамски, а толкования эти и примечания, записанные вьетнамской письменностью «ном», сделали ее достоянием уже не одних ученых и книгочиев, но и очень многих людей, приобщавшихся к основам словесности.
Однако предисловие к первому, дошедшему до нас печатному тексту книги, сообщая, что издание это предпринято на двадцать четвертом году Лучезарного процветания – под таким девизом царствовал Ле Хиен Тонг (год по нашему исчислению 1763), – и воздавая хвалу государю, о самом авторе книги говорит лишь, что имя его Нгуен Зы, что он сдал столичный экзамен, был назначен правителем уезда, но потом, всего год спустя, вышел в отставку и вернулся восвояси. Не сказано, когда родился Нгуен Зы, в котором году экзаменовался и поступил на службу и долго ль еще прожил, оставив должность.
Но вот перед нами последнее, вышедшее в 1971 году, вьетнамское издание Нгуен Зы. Из предисловия, кроме прежних скупых данных, мы узнаем лишь название родной деревни Нгуен Зы: Дотунг, что в уезде Чыонг-тан, в Хай-зыонге (земле Светлого моря).
Там сказано еще, что знаменитая антология «Собрание стихов державы Виет» относит Нгуен Зы ко временам дома Мак (отнявшего в 1527 г. престол у законной династии Ле и удержавшего его до 1592 г.) и что антология называет Нгуен Зы учеником знаменитого поэта и философа Нгуен Бинь Кхиема (1491–1585), экзаменовавшегося и служившего при Маках. А отсюда делается вывод, что, стало быть, и Нгуен Зы сдавал экзамены и служил при тех же Маках и был тесно с их временем связан.
Давайте раскроем «Собрание стихов державы Виет» (предисловие подписано 1788 г.). Трудами его составителя Буй Хюи Битя сохранены для нас многие творения старой вьетнамской поэзии.
Включил он в свою книгу и несколько стихотворений, украшающих прозу Нгуен Зы, но об авторе их сообщает также весьма кратко. Однако есть здесь и новые для нас сведения: 1) на экзаменах Нгуен Зы занял третье место; 2) он вышел в отставку, чтоб опекать престарелую мать; 3)вернувшись в деревню, никогда больше не был в городе. И опять ни единой даты!..
Обратимся теперь к «Описанию уложений минувших царствований». Многотомный свод этот полтора столетия назад так восхитил короля, что он пожаловал его автору, Фан Хюи Тю, тридцать лангов (более килограмма) серебра, одеяние тончайшего шелка и три десятка наилучших кистей с тридцатью тушечницами. Но придворный историограф, запечатлевая прежде всего успехи различных лиц на служебном поприще, отдельной биографии Нгуен Зы не дает.
Лишь перечисляя выдающиеся творения словесности, он отметил, что «Пространные записи рассказов об удивительном» сочинены ученым-отшельником Нгуен Зы, сыном тиен ши Тыонг Фиеу. Имя отца Нгуен Зы и упоминание имевшейся у него степени тиен ши, открывавшей путь к служебной карьере, – сведения для нас весьма важные.
И еще, из биографии упоминавшегося уже поэта и вельможи Нгуен Бинь Кхиема мы снова узнаем, что Нгуен Зы был его учеником, с одним лишь дополнением: учитель читал и правил книгу ученика.
А еще в одной старой книге – «Кратких записях постигнутого» (предисловие датировано 1777 г.), – принадлежащей кисти историка, поэта и государственного мужа Ле Куй Дона, находим мы жизнеописание Нгуен Зы. Поскольку оно полнее всех прочих и само по себе весьма интересно, приведем его здесь целиком: «Нгуен Зы – уроженец деревни До-тунг… Отец его по имени Тыонг Фиеу удостоился степени тиен ши на испытаньях в год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Огня и Дракона (то есть в 1496 г. – М.Т.)… служил Полномочным главою Королевского казначейства. Нгуен Зы с младенческих лет был умен и смекалист, подмечал многое и увиденное запоминал надолго. Преуспев в словесности, он сумел продолжить добрую славу семьи… отличился на окружных испытаниях, а на столичных – многократно достигал третьих степеней.
Поставлен был правителем уезда… но, прослужив всего год, под предлогом удаленности от дома отпросился в отставку, дабы, воротясь восвояси, ухаживать за родителями. После, когда узурпатор Мак бесчестно захватил трон королей, он поклялся впредь никогда не поступать на службу, поселившись в деревне, преподавал школярам и ни разу с тех пор не устремлял стопы в город. Из сочинений его имеются… «„Пространные записи рассказов об удивительном“, смысл их ясен и слог превосходен, люди в то время всячески их превозносили».
Итак, Нгуен Зы «многократно» сдавал столичные экзамены. Но они проводились раз в три года.
Значит, он, наверное, долгое время жил в столице, скорее всего в доме отца, важного придворного чиновника. Но что особенно важно – Ле Куи Дон утверждает, будто Нгуен Зы служил и вышел в отставку еще до воцарения Маков. И неожиданное подтверждение этому мы находим в старинном географическом своде «Описание земель великой державы Юга» (XIX в.), где краткие сведения о Нгуен Зы помещены в раздел «Эпоха Ле» (здесь – 1428–1527 гг.), а биография Нгуен Бинь Кхиема открывает другой, идущий следом раздел «Эпоха Маков». Причем авторы явно руководствовались сроками служебной карьеры.
Давайте попробуем уточнить эти сведения с помощью появившейся у нас наконец единственной даты – 1496 года, когда отец Нгуен Зы сдал столичный экзамен. О столичных экзаменах (точнее, первый их тур назывался столичным, а второй – дворцовым) есть множество сведений, особенно для интересующего нас времени, когда с 1460 по 1497 год царствовал Ле Тхань Тонг, который экзаменам да и всему вообще просвещению внимание уделял особое. При нем были расширены пределы страны и утвержден высокий ее престиж не только среди малых соседей, но и при дворе правившей в Китае династии Мин. Познав в отрочестве нужду и горечь изгнания, Ле Тхань Тонг стремился (насколько при всем прочем это было возможно) к идеалам «справедливого правления». Он упорядочил законы и налоги, преобразовал государственный аппарат и армию.
При нем был впервые сделан «полный чертеж» земли Дайвиет (так назывался тогда Вьетнам), разделенной по-новому на округа и уезды, составлен свод вьетнамской истории.
Выдающийся поэт Ле Тхань Тонг писал стихи и прозу на вэньяне и по-вьетнамски; он возглавлял знаменитое «Собрание двадцати восьми светил словесности».
Так вот, в 1496 году действительно состоялись столичные экзамены, и в списке отличившихся мы находим Нгуен Тыонг Фиеу, отца Нгуен Зы.
Сколько же лет могло быть Нгуен Тыонг Фиеу тогда, в 1496 году?
Во втором издании «Кратких биографий вьетнамских авторов», вышедших недавно в Ханое, мы для всего времени от конца XI века, когда во Вьетнаме появились экзамены, и до 1547 года (более поздние данные для нас в общем-то не важны), находим пять лиц, у которых известны даты рождения и сдачи экзаменов.
Оказывается, девять человек сдали экзамены, будучи моложе двадцати лет, двадцать четыре человека – от двадцати до тридцати лет и двенадцать – старше тридцати лет (из них пятеро – старше сорока).
По двум другим источникам мы находим еще четырех лауреатов: двое экзаменовались моложе двадцати лет, двое других – в двадцать два года. Итак, мы можем предположить, что отцу Нгуен Зы в 1496 году было, скорее всего, от двадцати до тридцати лет.
Женились вьетнамцы в ту пору рано? и, как правило, родители выбирали жен своим сыновьям сами/ Человек, отправлявшийся на экзамен в столицу, обычно бывал уже женат. Об этом, кстати, свидетельствуют многие из новелл Ле Тхань Тонга, да и самого Нгуен Зы, вполне достоверные во всем, что касалось обычаев и быта.
Выходит, Тыонг Фиеу в 1496 году почти наверняка был человеком женатым. Детьми тогда тоже обзаводились рано. Позднее рождение ребенка даже в летописях, где речь шла о наследниках престола, не говоря уже о рассказах про чудеса (у Нгуен Зы тоже есть два построенных на этом сюжета), связывалось обычно с вмешательством потусторонних сил и, значит, было событием редким и необычным. Правда, тогда люди с достатком имели почти всегда по нескольку жен, а значит, и много детей.
Но если Нгуен Зы успел до 1527 года окончить учение, сдать экзамены (возможно, еще и не один раз), получить должность, отслужить год, выйти в отставку и вернуться восвояси, то, исходя из простого расчета времени, он должен был быть старшим сыном в семье. Косвенно это подтверждается и тем, что Нгуен Зы вышел в отставку под предлогом заботы о престарелых родителях, что было прежде всего долгом старшего сына.
Кстати, в летописях и других источниках сведения о каком-либо лице почти всегда содержат упоминание имени и чинов его отца. Происхождение играло тогда важную роль в служебной карьере: для допуска к экзаменам кроме письменного подтверждения личной благонамеренности, выданного местными властями, требовалось еще и свидетельство о том, что в родословной «абитуриента» не было изменников, мятежников и… актеров. Но мы нигде не находим упоминаний о других сыновьях Нгуен Тыонг Фиеу, старших или младших братьев Нгуен Зы.
Стало быть, мы вправе выдвинуть еще одно, третье предположение: Нгуен Зы родился около 1496 года.
Но как же тогда Нгуен Зы мог быть учеником знаменитого Нгуен Бинь Кхиема? Ведь традиция вроде бы связывает всех его именитых учеников с тем временем, когда Нгуен Бинь Кхием, выйдя в отставку (1543 г.), открыл в своем уезде Винь-лай (в том же Хайзыонге) школу, куда отовсюду стекались ученики. Для троих из прославившихся впоследствии «выпускников» Нгуен Бинь Кхиема нам известны годы сдачи экзаменов, и, оказывается, двое из них экзаменовались в 1538 году, то есть за пять лет до отставки Нгуен Бинь Кхиема. Значит, он преподавал и до 1538 года! Впрочем, для нас главное в том, что упоминание имени Нгуен Зы среди учеников Нгуен Бинь Кхиема вовсе не означает непременного его ученичества после 1543 года. Да и вообще, в Средние века во Вьетнаме (и не только там) понятия «ученик» и «учитель» отнюдь не значили лишь «школяр» и «преподаватель». Учеником могли называть и последователя знаменитого философа или вероучителя (то есть учителя в высоком смысле этого слова). Здесь отношения строились уже не по школьному принципу и вовсе не предполагалась особая разница в возрасте. Не таковы ль были и отношения между прославленным мыслителем и поэтом, царедворцем, чьи мнения даже после отставки воспринимались обеими враждующими династиями как политические пророчества, – Нгуен Бинь Кхиемом и почти неприметным в «свете» Нгуен Зы, хотя и он с детства блистал познаниями и талантами и тоже имел своих собственных учеников?
Многие источники утверждают, будто Нгуен Бинь Кхием читал и правил книгу Нгуен Зы. Но нам теперь ясно: отнюдь не неопытный юный школяр вручил тогда престарелому мэтру свои рассказы. Они написаны были скорее всего человеком зрелых лет и таланта и отданы им на суд взысканного дарованиями и славой единомышленника. Да и возможно ль, чтоб книга, подобная творению Нгуен Зы, лишь под чужой кистью обрела присущие ей достоинства!
Итак, давайте построим окончательную схему: Нгуен Зы родился около 1496 года; учился, сдавал экзамены, служил и вышел в отставку до 1527 года; жил в деревне, в родительском доме, преподавал, общался с Нгуен Бинь Кхиемом, завершил «Пространные записи рассказов об удивительном» после 1527 года.
Схема эта дает нам новый ключ не только для воссоздания биографии Нгуен Зы, но и для понимания написанной им книги. Ведь если значительная часть его сознательной жизни падает на времена государей Ле, значит, он был очевидцем едва ли не самых мрачных дней вьетнамского Средневековья.
В 1504 году умер король Ле Хиен Тонг, которому еще удалось в какой-то мере продолжить политику своего отца, прославленного Ле Тхань Тонга. И не случайно у Нгуен Зы в «Рассказе о беседе стихо-творцев в уезде Золотых цветов» оба эти государя упомянуты с высочайшими похвалами. А далее за неполных двадцать три года сменилось семь королей, из которых только один умер своей смертью. Вельможи и военачальники возводили королей на престол, свергали и убивали их – иногда через несколько месяцев или даже считаных дней. Те же, кому удалось править подольше, вроде Ле Уи Мука (1505–1509) или Ле Тыонг Зыка (1510–1516), запомнились бессмысленной жестокостью, роскошествами, разнузданностью нравов и маниакальным пристрастием к строительству новых дворцов.
Правительство забросило все заботы о поддержании плотин, каналов и дамб, что губительно отразилось на земледелии. В летописях едва ли не ежегодно находим мы сообщения о стихийных бедствиях и голоде. То и дело вспыхивали крестьянские восстания.
Самое мощное, во главе с Чан Као, продолжалось несколько лет (главной базой его была родина Нгуен Зы – Хайзыонг). Повстанцам удалось захватить столицу, и вождь их, неприметный в прошлом чиновник, был провозглашен королем. Он продолжал величаться государем и позже, будучи оттеснен из столицы объединившимися на время феодалами; затем, передав «титул» сыну, постригся в монахи и скрылся, хотя за его голову и назначили небывалую награду.
Mor ли истинный художник, каким, без сомнения, был Нгуен Зы, живя в это бурное время, дожидаться, пока Мак Данг Зунг отнимет престол у «законной» династии Ле, чтоб потревожить тень другого узурпатора, Хо Куи Ли, захватившего трон в 1400 году, и под видом того давнего властолюбца вывести «нечестивого Мака»? Неужто, как предполагалось, только к этой лежащей на поверхности аналогии сводится весь обличительный пафос его книги?
Нет, сатирический замысел его серьезней и шире! Раскроем «Рассказ о ночном пире у реки Полноводный проток», где действует Хо Куи Ли (правда, здесь он еще канцлер, но через четырнадцать лет Хо Куи Ли стал королем; и об этом более века спустя не мог не знать читатель Нгуен Зы), и «Рассказ о словопрениях с дровосеком на горе Уединения», где выведен король Хо Хан Тхыонг, при нем отец его, Хо Куи Ли, сохранял всю полноту власти. Хо Куи Ли и Мак Данг Зунг – фигуры разные. Первый – для своего времени человек выдающийся, задумал и начал важные преобразования, сорванные китайским нашествием; второй – истинный временщик, цеплявшийся за старое и в политике предпочитавший коварство и грубую силу. Пожалуй, современникам оба они рисовались одинаково мрачно, ибо нарушили долг и верность законному государю – главные устои конфуцианской этики. Но для Нгуен Зы образ Хо Куи Ли имел прежде всего аллегорический смысл.
Читая оба рассказа, мы видим, что не все обвинения, обращенные, как предполагалось, к Макам, могут быть им (или только им) предъявлены.
Вот что у Нгуен Зы отшельник-дровосек говорит о короле: «Он лжив, коварен и любострастен. Не он ли понуждает народ из последних сил возводить Дворец Золотой вазы и опорожняет до дна казну, пролагая Пестропрекрасную улицу? Не он ли разбрасывает парчу и камку, швыряет жемчуга и каменья? Золото для него – что сорные травы, а деньги – как грязь… Справедливые кары, темница и казни – все отменяется за мзду, а должности и знания достаются денежным людям!.. Награждают льстецов и секут головы тем, кто возвысил голос за правду».
Но Маки не возводили пышных дворцов, строилось самое необходимое.
А теперь – слово другому человеку (он тоже говорит о короле): «Возводил столько строений, что… в горах не хватало леса утолить его алчность… требовал столько соуса и соли, что в море не стало живности насытить голодную пасть». Не правда ли, похоже?
«Вельможи с чинами, – продолжал дровосек, – следуют слепо владыке в большом и в малом… Все без изъятия если не корыстолюбцы то горькие пьяницы, не бездельники и гуляки – то уж наверняка кознодеи, алчущие власти… И нет никого, кто бы затеял… большое дело на благо народа».
Прислушаемся к еще одному голосу, бранящему короля: «Дал волю льстецам… отдалился от честных людей, вынудил прямодушных бежать и таиться. Звания и чины исчерпаны, а они все алчут наград. Поборами и податями изъял все до последнего волоска, бросаясь добром, словно прахом и грязью. С приближенными обходился как с псами и клячами, а на простых людей глядел как на сорные травы». Снова похоже, не так ли?
Откроем секрет: диалог этот с вымышленным персонажем Нгуен Зы вели реальные лица, царедворцы Нгуен Зык и Лыонг Дак Банг, и обличали они Ле Уи Мука!
Лис-оборотень в рассказе Нгуен Зы, понося Хо Куи Ли, говорит о восстаниях, мятежах и казнях бунтовщиков. Но восстания и казни приходятся в основном на первую четверть XVI столетия, когда правили Ле, а не Маки. И не о скрывшемся ли от державного гнева «злодее» Чан Као говорит Лис, упоминая «притаившегося в тиши» вождя другого, давнего восстания – Нгуен Бо. Тем более что ко времени действия рассказа Нгуен Бо уже семь лет как был мертв, и ошибка эта, чуть ли не единственная у обычно точного в хронологии Нгуен Зы, могла быть сознательным и ясным для современников приемом.
Значит, не только Маки и их царствование стали предметом обличения со стороны Нгуен Зы, он мыслил категориями своего времени, не дробя его на династийные и иные разряды. И выведенные им короли династии Хо – это не просто аллегорические изображения конкретных лиц, но обобщенные образы «дурных правителей». Создание их знаменовало новый шаг в развитии вьетнамской прозы.
Заметим в скобках, что Нгуен Зы прибегал и к прямой литературной трансформации фактов, заведомо известных читателям.
Один из персонажей его «Рассказа о беседе стихотворцев в уезде Золотых цветов» – знаменитый поэт и сановник Шай Тхуан. Но, коль скоро Нгуен Зы писал о его книге, он не мог не знать, что собрали ее после смерти поэта его сын Шай Кхак и ученик До Тинь Мо (написавший к ней предисловие). Оба они были современниками Нгуен Зы. Но писатель вывел в качестве собирателя книги вымышленное лицо – школяра Мао Ты Биена, ибо это давало больший простор для авторского замысла.
Исторические факты прежде всего были для Нгуен Зы основой для выражения своей, личной, оценки людей и событий – оценки нелицеприятной и строгой. И книга его по остроте социального звучания выделяется среди литературы того времени.
Нгуен Бинь Кхием обращался к временщикам с пророческим предостережением; вспомним его строки:
«Тела ваши, брошенные подле дворцов и на торжищах, будут терзать коршуны и воронье!»
Нгуен Зы облекал свое осуждение и гнев в традиционную, но в чем-то и более конкретную форму законного судебного приговора: нагляднейший пример этому – «Рассказ о военачальнике Ли».
Как же, наверно, мечтал Нгуен Зы о торжестве справедливости в этой земной жизни, если пять из двадцати его рассказов содержат сцены судилищ – пускай на небесах, в подземном или подводном царстве, но карающих за преступления, содеянные живыми среди живых!
Он был человеком своей эпохи, воспитанным в духе конфуцианской этики, основанной на строгой регламентации человеческих отношений, где главным было подчинение и покорность (детей – родителям, младших братьев – старшему, подданных – государю), соблюдение добродетели и целомудрия. А полученное им традиционное образование строилось на почитании «небесной мудрости», благоговении перед заветами Конфуция, канонической ученостью и знанием, долженствующими составить основы «справедливого правления». Но слишком уж часто в окружавшей его жизни установления эти нарушались и предавались забвению, что и явилось, должно быть. одной из причин трагического разлада между писателем и современной ему действительностью.
Нгуен Зы – к чести его будет сказано – и не пытался соразмерять свои нравственные идеалы с относительно большими или меньшими достоинствами земных владык. Однажды уйдя со службы, он не помышлял о возвращении, хотя в то смутное время многие покидали должности и возвращались со сменой правителей, а иные служили всем.
У Нгуен Бинь Кхиема есть весьма символические стихи:
Все ловки вокруг, неловок лишь я один, Но знает ли кто, что неловкость моя – добронравие?Строки эти с не меньшим, а, может быть, даже и с большим основанием, чем к автору, могут быть отнесены к Нгуен Зы. Ero добронравие поистине обернулось «неловкостью», отрешением от многих земных благ.
Тогда как Нгуен Бинь Кхием, осудив временщиков и короля и уйдя от столичной суеты, отнюдь не сделался анахоретом. В своей деревне Чунгам (в Хайзыонге) он построил дом, который скорее в силу традиции именовался «кельей» («Кельей Белых туч»), навел мосты и соорудил павильоны для удобства дальних прогулок. Любуясь красивыми видами, он гулял, опираясь на посох, или же с настоятелем тамошней пагоды плавал по морю в лодке, слагая стихи (вспомним, что точно так же «отшельничал» и Ты Тхык в рассказе Нгуен Зы). Иногда он отправлялся в гости к бонзе. Он принимал послов обеих враждовавших династий – Маков, захвативших столицу, и Ле, обосновавшихся на юге, в Тханьхоа. Маки слали ему золото, драгоценности и шелка, и он, утверждая в стихах, что богатые эти дары ему не нужны, ни разу не вернул их обратно. Изредка Нгуен Бинь Кхием наведывался в столицу, а случалось, и Маки навещали его в Хайзыонге.
Ученики же его служили при обоих дворах.
Разумеется, это никак не обесценивает творчества Нгуен Бинь Кхиема, но «неловкость» Нгуен Зы была более цельной и безыскусной.
Талант стал по тем временам свойством весьма опасным. Сколько литераторов (меж ними и мастеров из «Собрания двадцати восьми светил словесности» были убиты или покончили с собой после дворцовых переворотов! Вспомним судьбу знаменитого зодчего Ву Ньи То. Он построил королю Ле Тыонг Зыку Великий дворец ста покоев с прекрасной башней и озером, в которое заплывали лодки, и начал возводить еще более величественный Чертог Девятого неба. Но Ле Тыонг Зык, ввергший страну в нищету, был убит заговорщиками, которые зарезали и королевского архитектора, бросив тело у городских ворот. И прохожие плевали на труп Ву Ньи То, видя в трагически погибшем художнике виновника своих бедствий…
Удивительно, как на материале иного, отдаленного, времени Нгуей Зы сумел передать сумеречный драматический колорит своей эпохи. Наверное, оттого, что и в прошлом Нгуен Зы всегда выбирал события, созвучные напряженным и трудным дням, в которые жил он сам. Мы не найдем у него описаний сражений и войн, его интересовало иное – «человеческие» последствия событий. Вообще, обострение интереса к человеческой личности и своеобразию ее черт заметны не только во вьетнамской литературе того времени, но и в изобразительном искусстве. Вспомним скульптуры эпохи Маков, где традиционные канонические образы уступают место образам, построенным на знании натуры и художественном обобщении.
Главная особенность изобразительной манеры Нгуен Зы – ее эмоциональность. И даже когда чувства героев расходятся с установленьями добродетели, за которую ратует автор, художественная правда далеко не всегда на стороне последней. Лиризм и поэтичность рассказов Нгуен Зы заставляют нас вспомнить новеллы его знаменитого предшественника Ле Тхань Тонга, хотя, пожалуй, в рассказах Нгуен Зы меньше патетики, они проще и «приземленнее» по стилю.
Прозу Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы сближает еще и сходство в подаче «чудесного», волшебного элемента. Если в первом из дошедших до нас произведений средневековой вьетнамской прозы – книге Ли Те Сюйена «Собрание чудес и таинств земли Виет» (предисловие датировано 1329 г.) – задачей автора и было, собственно, описание чудесных событий, лишь соотнесенных с определенным историческим фоном и долженствующих запечатлеться в памяти потомков, а вторая – «Дивные повествования земли Линь-нам» Ву Куиня и Киеу Фу (послесловие датировано 1493 г.) – построена в основном на записях древних преданий, где чудеса – непременный, а иногда и главный элемент сюжета, хотя подвергшегося уже известной трансформации, то в сочинениях Ле Тхань Тонга чудо становится как бы элементом повествования, задуманного самим автором, который определяет место и роль «чуда» в развитии действия. Причем сам Ле Тхань Тонг поистине с королевской непринужденностью собственной персоной появляется на страницах своих новелл.
Конечно же непосредственное участие в чудесном «действе» самого государя, жизнь и деяния которого фиксировались летописцами и вообще протекали как бы «на виду» у «просвещенных мужей» – ученых-литераторов, вельмож и чиновников, читателей его книги, – не могло не способствовать восприятию этих заведомо неслучавшихся чудес как литературного приема, свидетельства красоты и изощренности авторского замысла. Не случайно Ле Тхань Тонг в своем предисловии называл людей, придиравшихся к недостоверности чудес, тугодумами, «сидящими на дне колодца и не способными рассуждать всерьез о том, что случается в бескрайней небесной шири».
Подобную идею чуда мы видим и в рассказах Нгуен 3ы, где духи и небожители существуют как бы в одном измерении с людьми, действуют в соответствии с «человеческими» обычаями и правилами и зачастую, уйдя в иной, потусторонний мир, сохраняют свои земные привязанности.
Надо помнить, что граница между представлениями о чудесном и реальном в те времена проходила совсем не там, где нынче. И мы не удивляемся, читая в летописи под 1514 годом (Нгуен Зы, возможно, еще находился тогда в столице) о том, как весной поднялась вода в столичных озерах и реках, их заполонили огромные змеи и государь вывел на берега войско с распущенными знаменами и велел палить из пушек и бить в барабаны, дабы изгнать чудовищ…
Нет сомнения, что Нгуен Зы, работая над книгой, обращался к народному творчеству. Он слушал рассказчиков, неистощимых на чудесные выдумки, смотрел выступления бродячих лицедеев и кукольников. Да и за «высокими чудесами» ему незачем было, как говорится, ходить далеко.
Рядом, в том же уезде, стояла знаменитая пагода Куанг-минь, бонза которой перевоплотился якобы ни больше ни меньше как в китайского императора. А в храме деревни Хаби поклонялись торговцу моллюсками, который, проглотив волосинку чудесного буйвола, сделался богатырем и обрел способность сколько угодно пребывать под водой, – во время войны он просверливал днища вражеских кораблей!
И еще по вечерам у деревенских общинных домов можно было послушать неторопливые разговоры пахарей, охотников, рыбаков, ведавших тайны земли, лесных чащ и водных пучин. Или на знаменитых торжищах полюбоваться разными диковинами. Славился уезд Выонг-тан отменными плодами хлебного дерева и арбузами; вкусными моллюсками и соусом из креветок. Здесь разводили шелковичных червей, плели из лиан корзины и коробы, готовили благовония. В уезде жили искусные кузнецы и плотники. Уроженец его поэт и ученый Лыонг Ньи Хок (XV в.), съездив послом в Китай, постиг там книжное дело и гравировку печатных досок и обучил ему односельчан. С тех пор в Хонг-лиеу печатались книги, расходившиеся по всей стране… Через Хайзыонг проходила большая дорога из королевской столицы, в реки входили торговые корабли…
Поистине Нгуен Зы мог сказать о себе словами своего героя, дровосека-отшельника, что хоть и не бывал он в городах и не расхаживал по дворцам и палатам, но труды народа и дела государей ведомы ему наперечет. Знание это сочеталось у него с поэтическим видением мира. Яркость и сила поэтического начала – еще одна сходная черта книг Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы. Мы имеем в виду сходство творческой манеры обоих, а не украшающие их прозу стихи, хотя стихотворения Нгуен Зы безупречностью формы, напевностью и проникновенной взволнованностью во многом близки поэзии Ле Тхань Тонга. Достижения вьетнамской поэзии того времени не могли не повлиять на развитие прозы. Утверждение вьетнамского языка как языка национальной поэзии обогатило ее изобразительные средства, вдохнуло новую жизненную силу в традиционные формы. И это сказалось на художественном качестве прозы, хотя и писалась она на вэньяне; тем более что рядом с нею появилась – у того же Ле Тхань Тонга – проза, написанная по-вьетнамски.
Бесспорно, в новеллах Нгуен Зы заметно известное сходство со средневековой китайской новеллой. Но оно отнюдь не сводится к простым заимствованиям сюжетов и образов. Возьмем «Рассказ о девице по имени Туи Тиеу», один из лучших в книге Нгуен Зы. Есть в героине его черты, напоминающие гетер из танских новелл (красота, одаренность, верность в любви). Но в чем-то сходна она и с женскими образами из новелл Ле Тхань Тонга. В финале рассказа возлюбленный Туи Тиеу, поэт Зы Нюан Ти, сдал экзамены и, очевидно, сделался важным чиновником. Но во вьетнамской истории (ее превосходно знал Нгуен Зы) известны случаи, когда певицы становились государынями, а придворные похищали актрис у их мужей. Нюан Ти некоторыми своими чертами напоминает прославленного китайского поэта Лю Юна, певца простонародья, которого сам император якобы назвал «вельможей в холщовой одежде». Подобно Лю Юну, он пишет песни для певиц и широко известен в столице. Как и Лю Юн, он лишь в преклонные годы сдает экзамен и страдает от коварства вельможи. И чувство Нюан Ти и Туи Тиеу так же возвышенно, как любовь Лю Юна к певице, прозванной Листком Астры. Все это так, но у Нгуен Зы мог быть и другой прототип для Нюан Ти – его современник, вьетнамский поэт Ле Дык Мао, который тоже претерпел немало из-за своих язвительных виршей, писал превосходные песни и лишь сорока двух лет от роду (1504 г.) сдал экзамены. При желании можно найти и некую схожесть между старым слугой Нюан Ти и «куньлуньским рабом», который в танских новеллах помогает соединению влюбленных (он кстати, упоминается в этом рассказе Нгуен Зы). Но вьетнамский слуга прибегает не к магической, а чисто земной силе и вообще напоминает слугу из народного театрального представления «тео», во времена Нгуен Зы уже существовавшего.
Известное влияние китайских сюжетов можно проследить и в «Рассказе о девице из уезда Южного благоденствия». Но вспомним, автор мог вовсе и не обращаться к иноземным книгам: у Ле Тхань Тонга есть два стихотворения, в которых поэт, специально приезжавший на Желтую реку, скорбит о печальной судьбе «урожденной Ву», то есть героини рассказа Нгуен Зы. С творчеством Ле Тхань Тонга и других средневековых вьетнамских авторов связана и «география» книги Нгуен Зы, помещающего, как правило, действие своих рассказов в места, красота или давняя слава которых воспеты были его предшественниками и, стало быть, «узнаваемы» для читателя…
Думается, образцы, которые выбирал Нгуен Зы для своей книги из обширного наследия китайской новеллистики, надо искать прежде всего среди сочинений авторов, близких к нему во времени, и, может быть, в первую очередь – писателя минской эпохи Цюй Ю, чьи новые рассказы «У догорающей лампы» относятся к 1378 году.
Влияние китайской поэзии и прозы на старую вьетнамскую литературу было весьма ощутимым, и приобщение к сокровищнице древней культуры Китая сказалось на формировании вьетнамской культуры в целом и на вьетнамской словесности. Но в этом вопросе, требующем специального исследования, есть опасная крайность; в нее впадали некоторые зарубежные ориенталисты, объявлявшие Вьетнам «духовной провинцией» Китая.
Сами вьетнамцы еще в Средние века прекрасно видели различие между разумным восприятием лучших образцов китайской словесности и бездумным слепым заучиванием чужих книг (кстати, ему способствовало каноническое конфуцианское образование). Вспомним хотя бы того же Хо Куи Ли, одного из образованнейших людей своего времени, который, – это было в 1402 году, – разбирая доклад вельможи, обожавшего цветистые ссылки на китайских авторов, заметил: «Тех, кто, едва изучив словесность, только и норовит упомянуть деяния времен Хань или Тан, верно прозвали „глухонемыми болтунами“, и они лишь сами на себя навлекают насмешки». А почти через сто лет известный ученый и литератор Хоанг Дык Лыонг, составляя свой «Свод превосходных извлечений», скорбел: «Ах, отчего в стране, где творения словесности и искусства создаются вот уж которое столетие, нет ни одного собрания лучших своих творений и, обучаясь стихосложению, надо отыскивать образцы где-то вдали, среди сочинений эпохи Тан… Почтенный Хоанг Дык Льюнг считал, будто книги гибнут оттого, что ими особенно не дорожат: всякий, мол, оценит вкус изысканных яств или красоту парчи, но не каждому дано почувствовать прелесть поэзии. Он считал, будто творения поэтов теряются, а антологии не составляются и не переписываются, поскольку просвещенным мужам недосуг заниматься ими из-за служебных занятий».
Среди «превосходных извлечений», собранных Хоанг Дык Лыонгом, нам не найти, конечно, таких по своему примечательных строк: «Каждый клочок бумаги – пусть даже с половиной иероглифа, каменные плиты с надписями, воздвигнутые в этой стране, – все, едва увидите, изничтожайте в прах». А они могли бы многое объяснить о гибели книг, потому что «эта страна» – Вьетнам, сама же цитата взята из указа минского императора Чэнцзу, который в 1407 году двинул на Вьетнам свои войска, заботясь якобы о восстановлении законности и порядка. Двенадцать лет спустя император новым указом велел вывезти из Вьетнама в Китай самые ценные книги, хроники и документы. В перечне их рядом с летописями и трактатами по военному искусству книги стихов и прозаический сборник Ли Те Сюйена «Собрание чудес и таинств земли Виет»…
Вьетнамцы, сражаясь с завоевателями, отстаивали не только родную землю и будущее своих детей, но и свою духовную самобытность, творения своей литературы и искусства, которыми они по праву гордились.
Эту гордость ощущаем мы, читая «Рассказ о беседе стихотворцев в уезде Золотых цветов» Ньен Зы, где он высоко оценивает поэтические сочинения своих соотечественников, воздавая прежде всего дань уважения великому поэту и правдолюбцу Нгуен Чаю и Ле Тхань Тонгу.
Все, за исключением одного, рассказы Нгуен Зы завершаются нравоучениями, в китайской новеллистике довольно-таки часто отсутствующими. Прием этот, заимствованный, вероятно, из исторических сочинений, мы находим в новеллах Ле Тхань Тонга, где некий Муж с Южных гор в большинстве случаев кратко резюмирует содержание текста с позиций конфуцианской морали.
Нравоучения там как бы продолжают непосредственно авторский замысел, и у нас есть основания предположить, что под псевдонимом скрывается сам король. Но сопоставим нравоучения в книге Нгуен Зы с рассказами, и станут заметны явные несоответствия. Возьмем «Рассказ о словопрениях с дровосеком на горе Уединения». Главное в нем – спор между отшельником-дровосеком и придворным, убеждающим его пойти на службу. Однако тот отказывается служить недостойному государю. Симпатии автора вроде бы целиком на стороне дровосека. И вдруг мы читаем в нравоучении, что сам дровосек – человек отнюдь не совершенный и вообще даже разумным и справедливым государям не следует иметь с отшельниками никакого дела! В «Рассказе о девице по имени Туи Тиеу» автор с большой взволнованностью описывает злоключения Туи Тиеу и ее возлюбленного, поэта Зы Нюан Ти, приводя их в конце концов к счастливому соединению; явно к ним благорасположенный, он показывает красоту и возвышенность их чувства, говорит о Нюан Ти как о талантливом поэте, преуспевшем на столичных экзаменах. Но нравоучение гласит: «Туи Тиеу – падшая женщина, недостойная любви, а Нюан Ти – человек темный и недалекий! И подобных противоречий много. Нравоучения проникнуты духом конфуцианской нетерпимости, который в гораздо меньшей степени присущ самим рассказам.
Невольно приходит мысль, что нравоучения написаны не для того, чтобы окончательно прояснить авторский замысел, а скорее с целью подать его в наиболее выгодном с конфуцианской точки зрения свете. Но для чего? В нравоучении к «Рассказу о прогулке Фам Ты Хы среди Звездных палат» есть весьма многозначительные слова о том, что если сочинение соответствует установлениям и законам (конфуцианским установлениям и законам!), «то, разумеется, никакого не будет вреда переписать его или пересказать другим». Иными словами, книге суждена была долгая жизнь лишь в одном определенном случае, иначе ей грозило забвение. Возможно, тогда «догматические» нравоучения должны были спасти книгу Нгуен Зы? Кто же пытался сделать это? Сам автор? Навряд ли… Он не любил славы и не умел ее добиваться. Может быть, друзья или почитатели его таланта хотели уберечь рассказы от гибели? Или нравоучения вышли из-под кисти твердолобого переписчика? Быть может, новые поиски ответят на эти вопросы…
Когда-то давным-давно Ле Тхань Тонг сказал о писателе: «Бумага – его пашня, кисть – плуг». Нгуен Зы вспахал щедрую пашню и бросил в нее свое доброе семя, плодами которого наслаждаемся и мы, его отдаленные потомки.
1983 г.
Нгуен Туан
Идти по земле, чтобы писать;
писать, чтобы снова идти дальше.
Нгуен ТуанСтранно устроена память. Стоит мне услыхать знакомые названия – и в памяти тотчас всплывают не улицы с площадями или памятники старины, а знакомые лица и голоса людей, распахнувших передо мною сердца своих городов. Даже в кружках на географической карте – как в модных некогда медальонах – видятся мне портреты далеких друзей…
А когда слышу я о Вьетнаме, с которым связана большая часть прожитых лет, о Ханое, где знаю теперь каждую улицу и закоулок, одним из первых вспоминаю Нгуен Туана – его высокий лысоватый лоб, зачесанные за уши длинные седые волосы, лукавый прищур глаз за стеклами очков и коротко подстриженные «чаплинские». усики, – слышу его глуховатый, неожиданно низкий голос. Необычная внешность его и манеры не раз были причиной курьезных казусов. Так, когда мы с ним, лет пятнадцать назад, прогуливались по Москве, его па Смоленской площади у здания МИДа прохожие приняли за тогдашнего генерального секретаря ООН У Тана. Сбитый над Северным Вьетнамом американский пилот заявил, что Нгуен Туан ужасно напоминает ему одного волглого ученого-физика (правда, какого именно, просвещенный янки так и не вспомнил). А совсем недавно, в последний приезд Нгуен Туана, в Центральном доме литераторов его сочли за тибетского лекаря; и он, всегда склонный к мистификации, совсем было приготовился обсуждать сокровенные тайны восточной медицины…
Так уж вышло, что «Старик» Туан стал одним из самых близких и дорогих моих друзей, несмотря на огромное разделяющее нас расстояние, разные, перефразируя поэта, «языки и нравы» и разницу в возрасте – без малого четверть века. Нгуен Туан родился в 1910 году, как раз в том месяце, когда на моей родине, в Одессе, пустили первый трамвай. Совпадение это сам Туан, будучи в Одессе, счел фатальным и символическим и пожелал проехать в трамвае «круг почета», сокрушаясь, что это не тот же самый вагон, который кропили когда-то святой водой. Мне трудно теперь вспомнить день и год, когда мы с ним подружились: как всегда в таких случаях, кажется, будто знаешь человека давным-давно, всю жизнь. Но навсегда сохранился в памяти январский день последнего моего университетского года, когда я впервые прочел книгу Нгуен Туана «Тоени и отзвуки времени». За окном, разрисованным морозом, кружились и падали снежинки, а я, околдованный магией слова, не видел ни мороза, ни снега, и чудился мне храм на вершине Горы-балдахина, слышались мятежные крики дружков Ли Вана, мерные ритмы старинных стихов и грозная песнь палача.
Наверное, поэтому ощущение некоего волшебства осталось и от самого дня первого моего визита к Туану, когда жаркое солнце игрою прозрачных лучей искажало расстояния и краски, а над тротуарами и мостовыми простирали зеленые свои ладони огромные фикусы; и от неожиданного сходства, лежащего за решетчатыми воротами двора со старыми одесскими двориками, и от звучащих, как в андерсеновской сказке, деревянных ступеней лестницы и тяжелой резной двери с бронзовой ручкой, над которой висели на кольце длинные и узкие листки бумаги с выведенной по верху затейливой вязью: «Кто у меня был?» и торопливо – наискось карандашом – написанным в классической манере двустишием:
Зачем ты спрашиваешь, кто мы, Коль вовсе не бываешь дома?А в кабинете хозяина – вещь, ошеломляющая в тропиках, – камин. Топчан из массивных досок черного дерева, какое в Европе, наверно, идет на рояли. На топчане раскладная опорная подушка из раззолоченной кожи, на которые в старину облокачивались мужи во время ученой беседы. Неправдоподобно яркие цветы в обвитой ощерившимися драконами вазе. А на каминной полке багровые огоньки благовонных палочек, курящихся под носом у древней статуи коленопреклоненного тямского пленника[1] с отвисшим брюхом и сложенными перед грудью ладонями. Рядом – дружеский шарж – скульптурный портрет самого хозяина, изображенного в момент творческого экстаза. На стене, сбоку от камина, еще два живописных его портрета: один на доске написан лаком – черными и золотыми штрихами по алому фону, другой исполнен в той же технике – вписанное в круг широкой тарелки серебристо-серое лицо с перламутрово-черными усиками правый глаз лукавый и смешливый, а левый – печальный.
– Художник, – поясняет Нгуен Туан, – уловил двойственность моей натуры. Ничего-ничего, к гостям я всегда оборачиваюсь веселой стороной. Печальная – для членов семьи и литературных критиков.
Картин здесь много. В бамбуковых рамках, наклеенные на серый холст, пестреют исполненные в народной традиции иллюстрации к старинной поэме. В серовато-коричневых тонах выдержаны написанные маслом виды старого Ханоя. Возле книжного шкафа – небольшая, проникнутая юмором картина – солдат, ведущий в поводу лошадь. Кажется, вот-вот он выйдет вместе с конем из рамы и увезет во вьюках всю хозяйскую библиотеку. А библиотека эта немалая: книги на многих языках и самые разные. Подпертая альбомом польского плаката, прислонилась к стеклу книга об Альберте Эйнштейне с его портретом на обложке – седоватые усы, темные усталые глаза… Перевожу взгляд на хозяина – я, кажется, догадался, кого имел в виду незадачливый янки… Рядом с Эйнштейном «Описание земель державы» – первая география Вьетнама, созданная еще в XV веке, и нарядная французская книжка «Наши друзья – деревья». Мне, горожанину, трудно в ней разобраться, да и язык как-никак чужой. И вдруг старик Туан говорит:
– Деревья – моя слабость. Это великое счастье, что они не могут передвигаться. Иначе давно бы ушли из городов. Представляю, как мы им надоели!..
Но деревья – не единственная его слабость. В комнату входит голубоглазый сиамский котенок. – Кошки и слоны, – продолжает он – мои любимые животные.
Правда, слонов он дома не держит.
Мы усаживаемся за трапезу. Мою бамбуковую табуретку с гнутыми ножками хозяин ставит посередине между собой и другим гостем, прозаиком То Хоаем, нашему советскому читателю хорошо знакомым. И после того, как мы воздаем должное хозяйскому гостеприимству, я достаю из кармана блокнот и говорю, что хочу, мол, расспросить Туана о его биографии.
– Пожалуйста, пожалуйста, – отвечает он, – но только спрячь свой блокнот.
Не очень-то полагаясь на память, я, вернувшись в гостиницу, записал его рассказ в тот самый блокнот:
«Будем придерживаться общепринятого порядка. Когда я родился, тебе известно. Да-да, в деревне Нянмук, или, точнее, Комок, под самым Ханоем. Сейчас она практически в черте города… Мужчины в нашем уезде издавна славились усердием в науках и потому старались переложить главную тяжесть трудов по хозяйству и в поле на женщин. Зато за столом они всегда были первыми, и я стараюсь, как могу, поддерживать эту благородную традицию…»
Он поднес к губам рюмку, разжевал ломтик сушеной каракатицы и продолжал:
«У нас большое значение придавалось тому, как люди принимают гостей. И если гости оставались недовольны, дурная слава о хозяевах ходила потом долгие годы. Возле нашей деревни в пятнадцатом и восемнадцатом веках были большие сражения, но я, несмотря на преклонный мой возраст, участия в них не принимал. Из деревни нашей вышло много высокопоставленных чиновников, я же – печальное исключение, – окончив школу, занялся литературой. Любовь к словесности воспитал во мне отец; он приносил мне книги, нередко читал их вместе со мной, всячески старался расширить мой кругозор. Часто в канун Лунного нового года отец брал меня с собою в Ханой. Мы гуляли по шумным торговым улицам. Посещали состязания цветоводов; побеждал на них тот, чьи цветы раскрывались ближе к полуночи или ровно в полночь, отмечая смену времен. С тех пор время для меня – не просто абстракция, фиксируемая часовым механизмом. Я научился улавливать его в смене светил и созвездий, в чередование времен года, в обновление листвы и цветов. Где-то читал я, будто одному особо искусному садовнику удалось подобрать на своей клумбе цветы в такой последовательности, что они раскрывали и смыкали лепестки вслед за движением солнца по небосводу; и он мог узнавать точное время по цветам. Такие часы, по-моему, лучшие в мире, только их неудобно носить с собой…
Честно скажу, перепробовал я немало профессий. Одно время – когда мне было за двадцать – решил всерьез стать актером. У меня были удачные роли. (Тут он показывает несколько запомнившихся наиболее эффектных своих выходов.) Я тогда открыл для себя значение ритма и пауз. Проговорить текст – это еще не все. Пауза – великое дело. Мои паузы ценились больше, чем слова… Можешь смеяться сколько угодно, а часть публики – разумеется, самая просвещенная – приходила на спектакли ради меня. Но, честно говоря, в театре было как-то тесновато, что ли. В жизни – в настоящем, да и в прошлом – столько достойного воплощения и не попавшего, а подчас и не могущего попасть на сцену. Может, поэтому я начал писать. К тридцать восьмому году, пожалуй, как любят выражаться критики, «вошел в литературу». Но самое незабываемое воспоминание, тридцать восьмого года – это первомайская демонстрация – самая большая за годы французского протектората. Собралось двадцать пять тысяч человек. Помнишь (обращается он к То Хоаю), ты ведь тоже участвовал в ней. Там было (это уже мне) много твоих друзей, писателей и поэтов… Лозунги Первомая и Народного фронта! Красные флаги!.. Главный митинг был тут, наискосок через улицу от нынешнего моего дома, где сейчас Народный театр. В то время на этом месте была площадь с Выставочным залом и павильонами для торговых выставок и ярмарок. Их разбомбили потом, в сорок третьем, американские самолеты, наверно, в качество японских военных объектов.
После первых литературных успехов, я возомнил о себе бог знает что. Но, оказалось, до официального признания еще ох как далеко. Я понял это, представ перед судом, обвинявшим меня в нарушении паспортного режима. Один кинопродюсер уговорил меня поехать в Гонконг – сниматься в его фильме. Выправлять документы на поездку пришлось бы очень долго, да мне и вообще могли бы в них отказать. Я решил обойтись без формальностей, но формальности без меня обойтись не смогли. Гонконгская полиция арестовала меня и препроводила в Хайфон. Кинозвездой я стать, увы, не успел. Судья-француз изъяснялся со мной через переводчика, хоть я и пытался отвечать ему по-французски. «Род занятий?» – спросил он меня. И когда я ответил: «Литератор», ему перевели: «Лицо без определенных занятий…»
Отшагал я по этапу в Хоабинь[2], отсидел свой срок. Тюрьма, вернее, люди, с которыми я там столкнулся, на многое открыли мне глаза, ну а потом – японская оккупация. Повсюду грабеж, насилие под восхищавшей кое-кого из наших националистов фальшивой вывеской «великой Азии». Страшный голод сорок пятого года. Мне до сих пор иногда снятся умирающие на улицах люди – как мумии с протянутой рукой…
Он помолчал, потер пальцем лоб и заговорил снова: «Ну, историю ты учил попозже меня; повторять ничего не буду. Скажу в двух словах. После того как Советская Армия разгромила квантунскую группировку и Япония была окончательно разбита, у нас началась мышиная возня вокруг печально знаменитого последнего императора Бао Дая. Возвращались старые колонизаторы. Все честные люди понимали: родина наша в опасности. И единственной силой, которая могла сплотить народ, повести его на борьбу, были коммунисты. Когда в августе сорок пятого победила революция, я понял, что чувствуете вы, русские, дождавшись, после долгой холодной зимы, весны и тепла. А потом второго сентября Хо Ши Мин прочитал в моем любимом Ханое, на площади Бадинь[3], „Декларацию независимости“. Это – самые важные, главные дни моей жизни…
И снова война. Но теперь уже – за мою революцию, и я ушел со всеми в джунгли. Там в сорок шестом вступил в партию. Работал, писал, помогал солдатам…»
(В джунгли, добавлю я от себя, ушел тогда со знаменитым Столичным полком и старший сын Туана. А сам он вскоре, в сорок седьмом, возглавил созданную в свободной зоне Вьетбака[4], в горах на севере, Ассоциацию культуры. В тяжелейшие военные годы она выпускала журналы и книги – оттиснутые вручную на серой ноздреватой бумаге, они кажутся сегодня памятниками человеческого упорства, мужества и творческого горения. В одном из таких журналов, «Ван нге»[5], нашел я и перевел для этой книги рассказ «Харчевня „Свежесть“»; попадались мне в них очерки и статьи Туана. Ассоциация проводила творческие дискуссии и семинары в своей «резиденции» – горном доме на сваях, крытом тростником. Иногда удавалось даже исхлопотать «творческие отпуска» литераторам, воевавшим в действующей армии.)
«Ну, что еще? – продолжает он. – Вел литературные кружки: попадались удивительно одаренные люди. Тряхнув стариной, работал в передвижных театральных труппах. Иногда приходилось быть сразу и драматургом – пьесы, правда, ставились короткие и немудреные, на „злобу дня“, – и режиссером, актером, осветителем и „оркестром“ – играть на старинном барабане. Случалось, антракты в спектаклях и перерывы в репетициях диктовались не авторским или режиссерским замыслом, а тревогами и бомбежками. Приходилось трудновато. Ели не досыта. Ну и реквизит… ходить было не в чем. Но мы не унывали. Зато потом, когда в пятьдесят четвертом освободили Ханой, на общенациональном театральном фестивале уаша труппа имела особый успех. Несколько дней подряд в театрах, на площадях и в скверах играли спектакли, танцевали и пели мои друзья актеры. Собралось чуть ли не тридцать ансамблей. К нам обратился с приветствием президент Хо Ши Мин. Я едва с ног не сбился – организация представлений, жюри, премии, награды…»
(За деятельность в годы войны и проведение фестиваля правительство республики наградило Нгуен Туана военным орденом Сопротивления первой степени.)
«Сразу после войны издал две книги очерков – одну о делах и людях Сопротивления, во второй, кроме военных, были уже и „мирные“ очерки…»
(Добавлю снова: за первую книгу, выпущенную в пятьдесят пятом году, Туан был удостоен Литературной премии Ассоциации культуры.)
«В мирные годы много ездил по стране; забирался в горы – поднялся даже на самую нашу высокую вершину Фансипан, конечно, не Эверест, но как-никак 3142 метра; плавал на лодках и катерах по островам, жил в деревне. Побывал и за границей, у вас, в Советском Союзе, и в Финляндии – на Всемирном конгрессе сторонников мира. Путешествия – моя страсть. Я когда-то эпиграфом к одной из своих книг взял слова Поля Мораиа „Хочу, чтобы после смерти из кожи моей сделали дорожный чемодан“… Но главное, конечно – узнать свою землю, каждый ее уезд. Ведь страна теперь наша, и, чтобы с умом управлять ею, мы обязаны ее знать. Есть у меня друг, писатель, – как поедет с бригадой в горы, обязательно задержится где-нибудь подольше, отобьется от всех и заглядывает в самые заповедные уголки. Его прозвали „одиноким львом“». Вот и я из той же породы. Но ты не пугайся, я лев-вегетарианец. Охочусь на жизненные ситуации и необычные характеры. Видишь, совсем недавно вышла книга…
И он протянул мне томик толщиною в две с половиной сотни страниц. На титульном листе я прочитал: «Черная река», издательство «Ван хаук»[6], 1960 год. Взглянул на выходные данные: тираж 4000, для Вьетнама – не малый. Оговорюсь заранее, в 1978 году «Черная река» была переиздана более чем шестнадцатитысячным тиражом.
Мы сговорились о следующей встрече: хотелось посмотреть старые журналы с рассказами Нгуен Туана, взять на время те из его книг, которые не довелось еще прочесть. Обратно в гостиницу меня вез То Хоай на багажнике своего велосипеда, здесь такой способ передвижения – обычное дело. Сперва я в страхе балансировал на крошечном проволочном насесте, но под конец осмелел и даже стал потихоньку перелистывать подаренную мне «Черную реку»…
С тех пор прошел двадцать один год. Мы часто виделись во Вьетнаме, не раз бывал Нгуен Туан у нас, в Советском Союзе. Случалось нам вместе ездить по Северному Вьетнаму и по нашим городам и республикам. Я перечитал все книги старика Туана. (Да будет позволено мне упомянуть ту, что полюбилась более прочих, – старую его повесть «Бронзовая курильница», фантасмагоричностью действия, неожиданными метаморфозами характеров, парадоксальностью изложения напоминающую булгаковскую прозу.) У меня бережно хранятся его письма, полные юмора и написанные с тем изяществом и блеском, которые и одну-единственную страницу делают произведением искусства. А, кроме того, услышал множество историй о нем при самых иной раз неожиданных обстоятельствах: от солдат-зенитчиков в ханойском пригороде и от молодых писателей, показывавших мне императорские гробницы близ старой столицы Хюэ, в мастерской сайгонского художника-карикатуриста и в деревенском доме на сваях в Лан-шоне[7], рядом с китайской границей. И надеюсь, сумею, не тревожа более почтенного мэтра видом своего блокнота, рассказать вкратце, конечно, о жизни его за эти двадцать с лишком лет.
Прежде всего, это снова поездки, перелеты и плавания по городам и весям родной земли – от разделявшей тогда его страну надвое семнадцатой параллели и до самых северных уездов ДРВ. И странствия эти отнюдь не прервались, когда в шестьдесят пятом Вашингтон развязал необъявленную войну против Северного Вьетнама. Хотя в этой особой воздушной войне дороги были уже не просто транспортными артериями, по ним – старым и новым, шоссейным и проселочным, речным и морским – проходила линия фронта. Неприятель бомбил каждую автомашину и парусную шаланду, каждый мост и паром. Бомбы падали на деревни и города, больницы и школы, рвались на улицах Ханоя. Одной из главных целей янки в Ханое был расположенный неподалеку от дома Нгуен Туана железнодорожный вокзал. Но он наотрез отказался уехать из города. Лишь увязал в пачки свои записные книжки и рукописи, пронумеровал «в порядке, – как он объяснял мне, – убывающей ценности» и всякий раз, уходя из дома, наказывал жене во время воздушной тревоги уносить их в убежище. Несколько соседних домов пострадали от бомбежек. Но, к счастью, дом и архив Нгуен Туана остались целы. Я помню, как помрачнел он, рассказывая, что в прошлую войну, уйдя из Ханоя, оставил в захваченном французами городе свою библиотеку, рукописи, черновики… Особенно сожалел он о записях и набросках, сделанных в первый год революции. Конечно, главное не забудется. Но сколько родилось новых замыслов, сколько было интересных встреч, сколько звучало вокруг новых крылатых слов. Вот из этого многое забылось, выпало из памяти. Многое – но не все! Кое-что он даже восстановил в нынешнем «академическом», как он его называет, собрании своих записей. И после каждой поездки собрание это пополняется. Страна сражалась против захватчиков. Как грозные стрелы возмездия, обрывали путь вражеских самолетов огненные трассы ракет, сбивали их и вьетнамские истребители (на одном из этих МИГов летал внук Туана). На пути реактивных бомбардировщиков вставала стена зенитного огня, сплетались в свинцовые сети траектории пулеметных и автоматных пуль, выпущенных солдатами и ополченцами. О людях, бесстрашно дававших отпор захватчикам и продолжавших строить новую жизнь, писал в газеты Нгуен Туан. Многие из этих вещей вошли в его книги. Помню, один из его очерков в еженедельнике «Ван нге» открывался фотографией автора в каске. Нет, это была не поза и не журналистский трюк, – огневые позиции, где Туан собирал материал для своих произведений, бомбили и обстреливали с воздуха. Туан, писавший о строителях вьетнамских дорог документальную прозу и задумавший написать о них роман, не мог не интересоваться психологией тех, кто с воздуха разрушал эти дороги. Он встречался со сбитыми американскими летчиками и писал о них с возмущением и гневом, но стараясь и тут быть объективным и честным. И присутствовал в сентябре семьдесят третьего при их репатриации из Ханоя. Для него родная земля и народ ее – на Севере и на Юге – всегда были едины; об этом писал он с присущей ему страстностью. Не случайно именно он в течение нескольких лет вел на ханойской радиостанции «Голос Вьетнама» рубрику «Переписка с Югом». Он писал о Юге, о героизме своих соотечественников-южан. Со свойственным ему сатирическим даром бичевал марионеточных сайгонских «властителей», их лживые «реформы», разоблачал бесчеловечность и жестокость затеянной ими – с благословения Пентагона и Белого дома – братоубийственной войны. В очерке «Мост-призрак» – о мосте через реку, разделившую Юг и Север, который никто не мог ни перейти, ни переехать, – Нгуен Туан мечтал о том дне, когда над въездом на мост появится небольшое, всего в две фразы, объявление: «Сегодня в 0 часов (по ханойскому времени) по мосту открывается движение транспорта и пешеходов. Просьба к водителям автомашин, въезжая на мост, снижать скорость». И этот день настал. Правда, старый «мост-призрак» был разрушен американскими бомбами и снарядами; но по наведенной рядом понтонной переправе Нгуен Туан в феврале семьдесят третьего переехал не существовавшую более пограничную линию и одним из первых написал о возвращающейся к миру героической и многострадальной земле Юга… А потом – потом в жизни его появились еще два самых главных дня: один – майский в семьдесят пятом, когда над Сайгоном взвилось знамя освобождения, и другой – в апреле семьдесят шестого года, когда весь народ Вьетнама на всеобщих выборах отдал свой голос за национальное воссоединение. И вот Нгуен Туан приезжает в Сайгон (ныне город Хошимин): встречи с читателями, дружеские застолья с тамошними литераторами, композиторами, актерами; и здесь художники рисуют его портреты…
Ну а мы с вами давайте снова перенесемся в кабинет Нгуен Туана. Здесь вроде все по-прежнему. Только угощенье теперь подается на большом медном подносе, именуемом «Война и мир», потому что эта сугубо мирная вещь отлита из снарядных гильз… Подойдем к книжному шкафу. Вопреки обыкновению большинства пишущей братии Туан не держит на виду своих собственных книг, и придется попросить его открыть затворенные дверцы. Вот они – десятка полтора книг (правда, большинство выдержало не одно издание). Много это или мало? Я думаю, в искусстве цифры еще ничего не значат. Но тогда что же это за книги? Первая же книга Нгуен Туана, «Тени и отзвуки времени», вышедшая в сороковом году, принесла ему широкую известность. Время это во Вьетнаме было тяжелым и мрачным. После сравнительно «либерального» периода, когда в самой Франции стояло у власти правительство Народного фронта (1936–1938 гг.), наступило засилье реакции. Колониальная цензура обратила свое «очищающее лезвие» даже против детских сказок. Естественно, к произведениям других жанров цензоры были еще более строги. И все же вьетнамская литература развивалась и мужала. Властно прокладывала себе путь, пускай теперь и в полулегальных или вовсе нелегальных изданиях, революционная литература, пока главным образом поэзия, связанная прежде всего с именем То Хыу. Революционная литература намечала вехи будущего развития всего национального искусства. Особенно это стало заметно позже, в сорок третьем году, когда компартия опубликовала свою программу в области культуры. Начиная с середины 30-х годов оформляются романтическое и реалистическое направления в поэзии и прозе. Оба они оказали существенное влияние на ход литературного процесса в стране. Но, разумеется, преобладающее влияние было за писателями-реалистами. Вспомним хотя бы, что именно книга реалистических рассказов Нгуен Конг Хоана «Актер Ты Бен» (1935 г.) послужила отправным пунктом для развернутой критиками-коммунистами дискуссии, направленной против поборников «искусства для искусства». Все большую популярность у читателей завоевывают произведения реалистической прозы, принадлежавшие перу Нам Као, Нго Тат То, То Хоая, Нгуен Хонга. Появляются и первые произведения о рабочем классе. Здесь невозможно дать подробный очерк истории вьетнамской литературы того времени, осветить состояние поэзии и драматургии, хотя оба эти жанра достигли тогда значительных высот, а романтическая школа «Новой поэзии», несомненно, повлияла и на прозу своим стремлением к отказу от традиционных штампов, раскованностью формы и, что важнее, углубленным вниманием к миру интимных переживаний человека. Но хочется несколькими беглыми штрихами обрисовать положение, сложившееся к началу 40-х годов, чтобы нам стали яснее мотивы, которыми проникнуты первые книги Нгуен Туана. Поэтому упомянем, опять же вкратце, и, несомненно, расширившееся к тому времени влияние прогрессивной западной литературы (значительная часть вьетнамской интеллигенции читала по-французски) и, что особенно для нас интересно, советской и русской классики. Появляются первые вьетнамские переводы Горького, ставшие фактом не только литературного, но и общественно-политического значения. Разумеется, колонизаторы усердствовали, насаждая иную, вполне определенного рода «культуру», но на лучшие литературные силы существенного влияния она не оказала.
Итак… Итак, вернемся к книгам Нгуен Туана. Кто-то из великих актеров говорил, что главное – это дебют. Не спорю, может быть, в театре оно и так; но сколько мы знаем в литературе дебютов, не подкрепленных дальнейшим творчеством? И все же, перебирая книги Нгуен Туана, нельзя не признать, что прочную литературную репутацию ему создал именно дебют. За четыре года – с 40-го по 43-й – вышло шесть его книг. И вот здесь-то невольно приходит на память двуликий портрет Хуана. Потому что книги эти (как и рассказы, публиковавшиеся в прессе), написаны в разных манерах: одни выдержаны в романтическом ключе, другие – в реалистическом. Реалистическим рассказам присуща легкая ироническая манера письма. Но заметна в них и явная социальная заостренность. Возьмем хотя бы рассказ «Сенсация»: «герой» его, провинциальный репортер Оай, предстает перед нами не просто незадачливым пожирателем газетных «уток», но и – это гораздо важнее! – омерзительным «трупоядцем», делающим свой журналистский бизнес на человеческом страдании и горе. Как ликовал он, заполняя блокнот подробностями судебных разбирательств, суровых приговоров! А дальше черным по белому написано, что подсудимыми были участники восстания в Нгетине[8]. Но ведь именно эти повстанцы в 30-м году впервые в истории страны создали Советы и под руководством коммунистов попытались по-новому строить жизнь; колонизаторы потопили восстание в крови. Невольно возникает вопрос: ради чего, собственно, написан рассказ – ради комического сюжета или несомненного политического «заряда»? Вспомним, это было время глухого засилья цензуры!.. Внешне комичен и непритязателен рассказ «Облава на самогонщика». Экое дело – полиция ловит самогонщика, а он надувает ее, подсунув вместо сусла бобовый соус, который, по мудрому заключению таможенного старшины, «не может служить исходным продуктом для получения алкоголя». Но даже если отвлечься от упомянутого как бы вскользь убийства деревенского старосты чиновником-французом – убийства, само собою, оставшегося безнаказанным (кстати, подобные факты не раз использовал в своей публицистике 20-х годов Нгуен Ли Куок – как называли тогда товарища Хо Ши Мина; мне приходит на память его небольшой памфлет «Цивилизация убивает», где в постскриптуме сказано: «Жизнь вьетнамца ценится меньше сапеки…[9]»; если отвлечься и от красочного описания чиновничьих поборов и вымогательств, в рассказе все равно остается явный социальный прицел, вполне понятный тогдашнему читателю. Дело в том, что каждая деревня, в соответствии с законодательными актами, обязана была ежегодно закупать определенное количество алкоголя на душу. Хочешь пить или нет – не важно, покупай свои литры и обогащай казну. Вот почему самогоноварение представляло прямую угрозу колониальному бюджету. Ведь шестьдесят (да-да, шестьдесят!) процентов поступлений этого бюджета складывались из налогов на соль, алкоголь, опиум, азартные игры и даже… публичные дома. И с этой точки зрения сюжет рассказа далеко не так безобиден, как, видимо, показалось пропустившему его цензору. Пикантным душком коррупции веет и от рассказа «Дамская хитрость»; правда, ей придали здесь вполне благопристойный, так сказать, гастрономический лоск.
Немало сатирических, обличительных мест и в повести «Жизнь Нгуена», написанной (кроме последней главы, названной автором «Вместо послесловия») до революции 1945 года. Достаточно вспомнить монологи Нгуена о конституции «будущего общества», о благотворном влиянии бескорыстных богачей на искусство… А сколько горечи в описании нищих придорожных деревень, жители которых устраиваются на ночлег прямо посреди шоссе, моля небо о том, чтобы их во сне задавил автомобиль, избавив от беспросветного существования.
Да и романтические новеллы Нгуен Туана не лишены социального подтекста. Вот перед нами рассказ «Непревзойденный палач». Сам по себе сюжет его изобличает жестокость и бесчеловечность государственной машины. Но есть здесь одна любопытная деталь: когда императорский наместник с садистским упоением разъясняет высокому французскому гостю порядок и способы казни, он сообщает, что, мол, казнимые сегодня преступники – «последние разбойники из Байшэя». И тут цензор, немало, кстати сказать, потрудившийся над иными новеллами, снова дал маху. Наверно, его представления об истории ограничивались сроками действия спущенных сверху инструкций, и было ему оттого невдомек, что именно в Байшее в конце XIX века четыре года подряд полыхало антифранцузское восстание, переходившее временами в настоящую партизанскую войну. (Знаменательно, что награду палачу обещает и уплачивает верховный резидент Франции!) Вьетнамскому читателю намек опять-таки был ясен. Читая другую новеллу, «Мятежная ватага», довольно скоро начинаешь понимать, что Ли Ван и его дружки – это вовсе не грабители и воры, а «справедливые разбойники», образы которых часто встречаются в мировой литературе и фольклоре, раздающие отнятое у казны или богатеев добро бедному люду. А ближайший друг Ли Вала – Кай Сань, как прямо указывает автор, был близок к вождю одного из крупнейших антиколониальных восстаний…
Нгуен Гуан не придает обличительным мотивам откровенного, так сказать, дидактического звучания. Да он, понятно, тогда и не мог в легальной публикации этого сделать. Но была ли, спрашивается, в таком звучании художественно оправданная необходимость? Пожалуй, и не было. Вспомним, как Чехов (между прочим, любимый писатель Нгуен Туана, которого он прекрасно перевел на вьетнамский язык) писал в свое время Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно… Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя…»
Свою повесть «Жизнь Нгуена» Туан писал по частям в течение пяти лет (1940–1946), и в ней довольно явственно ощутима эволюция его нравственных и художественных идеалов. Я думаю, не имеет смысла разбирать ее здесь, она написана достаточно ясно и просто. Отмечу лишь, что повесть писалась в то время, когда среди части вьетнамской интеллигенции, да и в определенных кругах буржуазии были популярны ницшеанские мотивы любования «сильной личностью», утверждение «разумности» эгоизма и тому подобные «воззрения», смыкавшиеся порой с реакционной и фашистской пропагандой. Повесть Нгуен Туана разоблачает несостоятельность и ничтожность этого идейного хлама. Заключительная глава, построенная на, быть может, чересчур обнаженном приеме параллельных сопоставлений, тем не менее звучит достаточно убедительно, и закономерность выбора, сделанного героем, не оставляет ни малейших сомнений. Повесть эта для тогдашней вьетнамской прозы – явление довольно своеобразное. Ироничная манера письма, то мягкая и сдержанная, то доходящая порой до гротеска, кажется и сегодня удивительно современной. Любопытно, что это, пожалуй, единственное произведение Нгуен Туана где и главный герой, и два второстепенных персонажа – писатели. Литературную позицию самого автора мы можем понять из его, так сказать, негативных оценок. И Нгуен, чье активное неприятие старой градации и сугубо формалистические искания вызывают поначалу симпатию у автора, и Хоанг, лишенный творческой дерзости и погрязший в бесплодных и до глупости сентиментальных сентенциях нескончаемых своих мемуаров, и Мой, чьи выхолощенные писания чересчур рациональны и не содержат ни малейших драматических коллизий и страстей, – все они в итоге терпят творческий крах. И мы вправе предположить из этого тройного отрицания, что сам автор выбирает для себя другой путь – путь активного вторжения в жизнь, отображения напряженных и сложных ее ситуаций, описания реальных человеческих характеров со всеми их достоинствами и слабостями. Да так, собственно, и написана повесть.
Наверно, прежде всего в романтических вещах Нгуен Туана наиболее полно воплотились особенности его стиля, делающие прозу его по красочности, полноте звучания и силе эмоционального воздействия сопоставимой с поэзией. Он мастерски пользуется фонетическими особенностями вьетнамского языка, создавая точный ритм, «размер» прозаической фразы и целых периодов своей прозы. Не случайно известный критик By Нгаук Фан еще после первых книг Нгуен Туана отмечал его «неповторимый, истинно вьетнамский стиль». А французский журнал «Эрой» в номере, посвященном литературе Вьетнама (1961), писал: «Стиль его (Нгуен Туана) существенным образом повлиял на богатство и гибкость современной вьетнамской прозы». Разумеется, все эти поиски и достижения Туана в области художественной формы были бы невозможны без феноменального знания родного языка. Богатство его лексики, точность словоупотребления и своеобразие речевого строя нередко изумляют, вызывая желание «препарировать» текст, чтобы понять, в чем же секрет этого граничащего с магией искусства.
Мне доводилось слышать, будто язык Нгуен Туана слишком «городской», слишком «ханойский». Думаю, это не так. Достаточно взглянуть, как точно передает он диалектальные различия, свойственные говору выходцев из Центрального и Южного Вьетнама, речь горцев, заковыристые словечки солдат или шоферов, своеобразный выговор рыбаков… Помню, как узнав, что я собираюсь в какую-нибудь отдаленную провинцию или город, Туан тотчас забрасывал меня бытующими в тех местах словесами и присловьями, которые уподоблял ключам к сердцу тамошних жителей. Из интереса я проверял его и убедился: он не ошибся ни разу.
Должно быть, «поэтичность» прозы Нгуен Туана объясняется еще и особенностями его мироощущения. «Я хочу – писал он в одной из первых своих книг, – чтобы изо дня в день опьяняла меня новизна. Хочу, чтобы каждый день дарил мне удивление, из которого рождается вдохновение и тяга к работе. Если человек отучается удивляться, ему остается одно – вернуться к первоисточнику своему – стать глиной и прахом». Но ведь умение удивляться простым вещам – это и есть качество истинного поэта. Поэтическое восприятие мира сказывается во многом, в том числе и в образе мысли, привычках, суждениях, вкусах. Не потому ли, не зная еще переводов книг Нгуен Туана, как о поэте говорили о нем его друзья Константин Симонов и Михаил Луконин и не прозаиком, а «в сущности поэтом» называет его Евгений Евтушенко в посвященном Туану стихотворении «Вьетнамский классик».
Некоторые считают, что в романтических новеллах Нгуен Туана звучит «ностальгия» по прошлому, идеализация отживающих старых обычаев и нравов. Но дело не в этом, и главное здесь не временная ностальгия, а стремление удержать в памяти исчезающие черты жизни, уходящие навсегда человеческие характеры и своеобычные ситуации. Примерно о том же говорил. Белинский в своей статье о гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Здесь поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однако ж эти оригиналы не его выдумка… Всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится… Поэт математически верен действительности».
Говоря о том, что повесть «Жизнь Нгуена» для тогдашней вьетнамской литературы явление своеобразное (это же самое можно сказать и о других его новеллах и многих рассказах), я имел ввиду, что жанры современной прозы во Вьетнаме в те годы только еще формировались. Первые «новые» рассказы были опубликованы в конце 10-х – начале 20-х годов, первый роман вышел в 1926 году; вещи эти во многом были еще подражательными и схематичными. И потому, как мне кажется, линия литературной преемственности восходит от прозы Нгуен Туана не столько к непосредственным его предшественникам, сколько к вьетнамской классике – старинным новеллам и повестям и старой поэзии. Явственно прослеживается и близость некоторых его вещей к традиции фольклорной. Известное влияние на творческий почерк Туана оказало и внимательное изучение зарубежной литературы – прежде всего французской и русской. Чехов и Гоголь на всю жизнь остались среди любимейших его авторов, он часто их перечитывает. Хорошо знает Толстого и Достоевского, писал о них.
Конечно, не все в творческом наследии Нгуен Туана равноценно. Кое-что явилось данью времени, какие-то вещи стали издержками эксперимента. Ведь творчество, творческий поиск неизбежно связаны не только с обретениями, но и с утратами. И все же большая часть написанного им в «изящной», как говорится, прозе остается и сегодня волнующим, честным и художественно безупречным 45-й год – год революции, как писал тогда Туан, датируя свои книги и письма, – «первый год Независимости», стал как бы водоразделом в его творчестве. Рассказы писателя становятся проще, приземленнее, что ли; в них мы встречаем других, новых героев – солдат, крестьян, ремесленников. Это, конечно, знамение времени. Но, думается, знамением времени стало и преимущественное обращение Нгуен Туана к публицистике. Видимо, его интересовали уже не личные, индивидуальные судьбы героев, рожденных его воображением, а реальные, невыдуманные характеры и события. Именно из них складывается в последних его книгах изображение «быстротекущего времени», обобщенный портрет его народа.
Туан писал очерки и до 45-го года. В них своеобразная и точная картина колониального Вьетнама, любопытные портретные зарисовки. Но есть в них и еще одна черта: писатель честно, как всегда, отразил смятенное состояние своей души перед надвигавшимися историческими испытаниями; тогда ему еще не был окончательно ясен путь, которым надлежит идти каждому из его соотечественников, всему его народу, чтобы изменить, переделать заново жизнь, обрести свободу и счастье. Публицистика Нгуен Туана, написанная после 1945 года, – это публицистика ясных горизонтов и осознанных целей, публицистика борьбы, поставленная на службу революции. Их пять – книг документальной прозы Туана, и все они представлены в нашем русском издании: «Очерки Сопротивления»[10] (1955 г.), «Очерки Сопротивления и Мира» (1956 г.). «Черная река» (1960 г.), «Наш Ханой здорово бьет янки» (1972 г.), «Записки» (1976 г.); некоторые вещи взяты из публикаций в периодике и различных сборниках, последняя написана в 1978 году.
Тут понадобится небольшое отступление. Названия двух первых из поименованных выше книг начинаются словом «очерки». В оригинале стоят слова «туй бут», означающие не только «очерк», но и «эссе», и «зарисовки», И, если быть многословным, «описания событий и времени». Вот почему в свою книгу «Туй бут» (1973 г.) Нгуен Туан кроме очерков – часть их вошла в наше русское издание – включил рассказы (три из них переведены в этом томе), эпистолярные вещи. Но все же в классической традиции жанр «туй бут» связан, прежде всего с очерком и эссеистикой. Здесь Нгуен Туан выступает продолжателем дела таких старых мастеров, как Фам Динь Хо (1798–1859 гг.), к сочинениям которого он даже прямо обращается в одном из своих рассказов. Видный вьетнамский критик Чыонг Тинь отмечал, что Туан первым из современных прозаиков обратился к этому жанру, «вдохнув в него богатую яркую душу и глубокую идею». Прослеживается также преемственная связь между публицистикой Нгуен Туана и другим жанром старинной прозы – «ки шы» (записи, записки). Как тут не вспомнить славную книгу «Записки о путешествии в столицу» знаменитого ученого-медика и литератора Ле Хыу Чана (1720–1791 гг.) и иные подобные сочинения…
Задумываясь о публицистике Нгуен Туана, я всегда вспоминаю один наш разговор. Это было лет десять назад, когда в Северном Вьетнаме еще шла война. После поездки на катере по порожистой Черной реке мы вместе с Туаном устраивались на ночлег в бамбуковом доме на сваях и он пытался с помощью благовонных палочек изгнать гудящие полчища комаров. Сквозь щели в тонких плетеных стенах поблескивали звезды, висевшие над горами так низко, что казалось, их можно достать рукой. Мы долго спорили о нашем времени – стремительном, противоречивом и многоликом. Меня удивило тогда, как много знал об успехах человеческой мысли и прикладных наук писатель, проживший жизнь в стране, недавно еще числившейся в отсталых, и не раз на своем веку познавший «передовую цивилизацию» весьма конкретно – по ее достижениям в области разрушения и убийства. Удивило и заставило взглянуть по-новому на связь между развитием науки и общества и художественным творчеством.
И еще я понял тогда, что Нгуен Туан сумел сохранить и воплотить в своей публицистике стилистические достоинства его повествовательной прозы, что он не только мастер многокрасочного и объемного изображения «материальной среды», но и с поразительной свободой владеет «четвертым измерением» – временем. Каждый его очерк – это не просто некое событие, взятое само по себе, но – здесь, наверно, и начинается граница между газетным репортажем и художественной прозой – звено в «цепи времени», итог логической последовательности совершившихся фактов, а иногда – и ступенька в будущее. Нгуен Туана интересует не просто «факт» в его, так сказать, документальной очерченности, но прежде всего то, что скрывается за каждым фактом, – его историческая и духовная значимость. Он оценивает события по шкале человеческих ценностей. Вся публицистика Туана сугубо «личная» – не просто в плане позиции автора, его выводов и оценок. В каждом из очерков автор – непременное действующее лицо, не наблюдатель, а соучастник происходящего. И потому любой его очерк несет в себе высокий эмоциональный заряд.
Нгуен Туан – прозаик-документалист, обращается не только, а порой и не столько к интеллекту и здравому смыслу читателя, но к его чувству и воображению. Не случайно один из лучших вьетнамских прозаиков Нгуен Нгок, представитель поколения, пришедшего в литературу в 50-е годы, назвал публицистическую книгу Туана «Черная река» «романом, написанным, в особой манере». И наверно, в этом секрет того, почему многие из самых «злободневных» его очерков читаются с интересом долгое время спустя после того, как формальная их актуальность теряет свою остроту.
Публицистика Нгуен Туана – художественное свидетельство более чем сорока лет истории Вьетнама, в особенности тех лет, что прошли от первых боев с колонизаторами в середине 40-х годов до победной весны 75-го, когда была защищена новообретенная свобода недолгого мира в промежутках между ними, когда были утверждены основы нового социалистического строя, и – далее – мирных лет, наступивших после победы в 75-м, когда новая жизнь строилась уже по всей стране – на Севере и на Юге. И оттого в публицистике Нгуен Туана ясно ощущается радость еще одной, третьей великой победы Вьетнама – над несправедливостью и косностью старой жизни, над противящейся замыслам человека могущественной природой, – победы, одержанной уже не силой оружия, а мощью труда и разума раскрепощенного народа.
Вот почему так естественен и понятен гнев, с которым обрушился писатель на пекинских гегемонистов, попытавшихся в 79-м покуситься на священные плоды побед и труда вьетнамского народа, на завоевания Августовской революции. В очерке, написанном в дни боев на вьетнамско-китайской границе, Нгуен Туан разоблачает высокомерную угрозу Пекина «преподать урок» Вьетнаму, указывая на печальные итоги этой «просветительной акции» для самих китайцев. Агрессорам не помогла, как пишет Нгуен Туан, пресловутая тактика «людской волны», которой они раз за разом пытались захлестнуть позиции вьетнамских пограничников и ополченцев. И здесь он вспоминает «пришлых призраков» – так называли вьетнамцы в старину вторгавшихся на их землю солдат Поднебесной империи, чьи кости остались гнить во Вьетнаме. С гордостью говорит он о славных победах, одержанных его предками над ордами завоевателей. И, насмехаясь над утверждением пекинской пропаганды о том, что любые земли, где захоронены китайские кости, суть территории Китая, спрашивает, не пора ли, к примеру, предъявить претензии на часть Соединенных Штатов, где во многих городах издавна существуют китайские кварталы, а стало быть, и китайские кладбища…
Быть может, на иной «академический» вкус очерк покажется слишком резким, лобовым. Но способен ли художник в такое время сохранить философическое беспристрастие? Слово Нгуен Туана и сегодня, три года спустя, обжигает своим накалом еще и потому, что до сих пор на вьетнамской территории рвутся снаряды и мины, выпущенные из-за китайской границы, и опростоволосившиеся «педагоги», все еще грозятся дать «новый урок» Вьетнаму.
В этой вещи, как и во многих произведениях своей документальной прозы, Нгуен Туан обращается к истории родной страны, для него она имеет особое значение, в ней видит он один из истоков формирования национального характера вьетнамцев. И, думается, черты этого характера откроются внимательному читателю книг Туана; в этом их высокая познавательная и нравственная ценность.
Есть одна тема, давно вошедшая в творчество Нгуен Туана и ставшая частью его помыслов и, как сам он говорит, всей его жизни. Эта тема – Россия, Советский Союз. Туан сравнивал себя со старателем, ищущим чистое золото человеческих сердец. И золото это он находит не только у берегов своих, вьетнамских рек, но и у Москвы-реки, Ангары, Невы, Волги. Слова «Россия» и «революция» стали для него синонимами. Весь жар своего сердца, всю силу таланта вложил он в обращенные к соотечественникам строки о святынях Октября – Разливе, «Авроре» и Смольном, о квартире Ленина в Кремле и о Красной площади. С восхищением писал он о Ленине и величии ленинской мысли, воплощенной в плане ГОЭЛРО, в могучих генераторах Братской ГРЭС и первых космических взлетах. Для него были всегда очевидны родство и связь между двумя революциями – Октябрьской и Августовской, как и между нашей Отечественной войной и битвами за свободу Вьетнама. Не случайно сталинградский подвал, где был взят в плен Паулюс со своим штабом, напомнил ему бункер де Капри в Дьеибьенфу[11]. И в трудные дни недавней войны он не раз вспоминал о героизме советских людей, сломавших хребет фашистскому зверю.
Как и все его земляки, Нгуен Туан высоко оценил ту братскую помощь, которую наш народ оказывал Вьетнаму, сражавшемуся против американских захватчиков. Одним из первых подмечал он и батоны из советской муки в ханойских столовых, и новые марки зиловских грузовиков на дорогах, и нацеленные в небо ракеты – их он, подобно вьетнамским крестьянам, называл «огненными драконами» и знал про них массу историй. Но, пожалуй, больше всего любит он глядеть на корабли под красным флагом, стоящие у вьетнамских причалов, непривычно для нашего слуха по слогам читая названия портов приписки – О-дес-са… Вла-ди-во-сток… Поднявшись на борт судна, он долго беседует с моряками, а потом разглядывает карты с корабельными маршрутами. Его интерес к синим, океанским дорогам понятен: ведь по ним шли и идут грузы, так необходимые Вьетнаму. Да и вообще, «море, – как говорит один из его персонажей, – это символ свободы»…
С какой-то особой сердечностью говорит Туан о советских людях, работающих во Вьетнаме, об их мужестве и беззаветной преданности делу. На удивление, многих из них он знает лично. Помню, не раз попадал я впросак, пытаясь представить заново давно знакомых ему людей. И потому так радовались его друзья и во Вьетнаме, и у нас в России, когда Туан был удостоен новой награды – Ленинской юбилейной медали. Ее в год столетия со дня рождения великого Ленина вручил пяти вьетнамским писателям, среди них и Нгуен Туану, советский посол Илья Сергеевич Щербаков…
Как-то, выступая в Москве перед своими земляками-студентами, Туан говорил о том, что дружба молодежи – это лучший залог верности и нерушимости нашего братства и будущих наших побед. Ту же мысль повторил он потом и в редакции «Юности», беседуя с молодыми советскими писателями и поэтами.
А однажды в Ханое он с великой серьезностью взялся помочь мне передать в одну из школ письмо, которое я получил через Дом детской книги от наших пионеров. Они хотели переписываться с вьетнамскими ребятами. «Это самое главное, самое важное, – сказал он тогда, – что наши дети дружат между собой. И я верю: когда они вырастут и станут взрослыми, они вместе – вьетнамцы и русские – полетят в космос». Сегодня, после космического полета советско-вьетнамского экипажа, слова эти поистине звучат как пророчество.
«Жизнь свою, – говорил Нгуен Туан, – измеряю написанными страницами. Хороши они или плохи – судить другим. Я лишь стараюсь сберечь и приумножить всё, что достойно любви моих соотечественников». Теперь проза Нгуен Туана стала и нашим достоянием, и хочется, чтобы знакомство с нею принесло радость советскому читателю.
1982 г.
То Хоай
Когда в деревушке Нгиадо, близ Ханоя, в немудреном домике кустарей, что, как и все вокруг, дедовским способом ткали шелк, родился сын, его нарекли Лотосом – Шеном, цветком удивительным и, если верить старым поэтам, взысканным перед всеми прочими цветами красой, чистотою и мудростью. Это было данью традиции, у вьетнамцев принято называть детей именами цветов. Ведь не могли же родители знать, что через двадцать лет сын их, сложив воедино первые слоги названий реки Толить (протекавшей поблизости и воспетой в легендах и песнях) и округа Хоайдык (так именовались окрестные земли), возьмет себе новое имя, чтобы подписывать им книги. И тогда у него – уже То Хоая, а не Нгуен Шена – и впрямь откроется удивительный дар, взысканный, как считалось в старину, перед всеми прочими дарованиями мудростью и красотой, – дар слова. Судьба оказалась на редкость щедра к То Хоаю: он пишет – и пишет превосходно – и для детей, и для взрослых. Читатели мужают, а он по-прежнему остается с ними – посерьезневший, но такой же лукавый и добрый. И они, перечитывая его книги, возвращаются в благословенную пору детства… Он и творческий путь свой начал без малого сорок лет назад детской книжкой «Жизнь, приключения и подвиги славного кузнечика Мена, описанные им самим», сразу принесшей ему известность. Доныне он любит ее больше всех написанных им книг, радуется переизданиям ее, переводам за рубежом. Наши дети впервые прочитали ее по-русски в 59-м году. Потом к ним пришли другие его сказки. А лет 15 спустя, видел я в Доме книги в Ленинграде почтенного уже человека, – покупая роман «Западный край», он говорил людям, толпившимся у прилавка: «Это То Хоая… Помните „Кузнечика Мена“?..» И вот перед вами, читатель, том избранной прозы То Хоая – переиздания, новый роман «Затерянный остров». Когда работа над томом подходила уже к концу, То Хоай дважды проезжал через Москву: на заседание Постоянного бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки – в Аддис-Абебу и после в Алма-Ату, где был гостем Всесоюзной творческой конференции, посвященной аграрной политике КПСС и задачам советской литературы в изображении тружеников села.
Мы часто виделись с ним – и просто так, и по делу: перед сдачей книги всегда возникают самые неожиданные вопросы. Однажды я заговорил с ним об этой статье. «Да-а, предисловие, – усмехнулся он, – для меня это – вечный камень преткновения. Не унывай, я, как гуманист, тебе помогу». В качестве первой гуманной акции он составил перечень всех своих книг с необходимыми пояснениями. Но тем же вечером, сняв с полки подаренные То Хоаем за двадцать лет нашего знакомства книги, я обнаружил: список не полон. Дело было, конечно, не в ложной скромности автора. Книг набиралось больше семидесяти. Да еще в составленном списке детских изданий То Хоая – он приложил его как дополнительный источник – раздел «До Августовской революции 1945 года» завершала строка: «Воскресная история» и другие книжки – названий автор не помнит…».
Удивляться тут нечему. Вспомним, не прошло и полутора лет после августа 45-го, когда То Хоай с рюкзаком за плечами ушел вместе с первыми отрядами Народной армии из захваченного французскими колонизаторами Ханоя в горы, в джунгли. Сколько за годы оккупации «прогорело» издательств и книготорговцев, сколько пострадало библиотек! А книжек, как правило, небольших, То Хоай, пребывая в кабале у издателей, написал не один десяток.
Что ж, будем исходить из того, что запомнилось, сохранилось. Семьдесят с лишним книг: рассказы, повести, очерки, романы, сказки, пьесы, киносценарии, статьи о литературном мастерстве. Многие переизданы – трижды, четырежды, семижды. Наверно, источник притягательной силы книг То Хоая в том, что судьба его давно слилась воедино с могучим потоком исторического бытия его народа. И там, где поток этот, вскипая, набирал силу, выходил из берегов и, круша все преграды, устремлялся в будущее, менялась и обновлялась жизнь самого писателя. Подполье, революция, война с колонизаторами научили его глубже, по-новому понимать жизнь, видеть ее закономерности.
Однако, остановись мы здесь, объяснение популярности творчества То Хоая вышло бы неполным. Вот что говорит он сам: «Допустим, писатель вырос идейно, его политические позиции верны и незыблемы – я преисполнен уваженья к нему. Но, ежели он нисколько не подвинулся вперед в овладении искусством слова, и идеи его, и позиции утратят отчасти средства своего выражения». Это – строки из интервью с То Хоаем, напечатанного в 1969 году выдающимся мастером вьетнамской прозы Нгуен Конг Хоаном (1903–1977 гг.). Тогда он пришел к То Хоаю, как говорят у нас, по следам читательского письма. Читатель сетовал: что, мол, стряслось со знакомым ему по прежним книгам прозаиком То Хоаем? Отчего он не пишет как раньше? Жаль, дотошный читатель не удосужился заглянуть в книжку То Хоая о литературном творчестве. Он бы прочел там, что писатель должен быть всегда «новым», следуя велению переменчивого времени. На сей раз, в интервью, То Хоай высказался еще определеннее: «Не знаю, ожидает меня успех или провал. Но я решил всегда, непрестанно обновлять свой стиль… Жизнь не повторяется никогда, и воплощение ее – в данном случае в слове – также не должно повторяться».
Разумеется, обновление не означало отказа от прежнего опыта. Между книгами То Хоая видна преемственная связь. Его проза всегда «узнаваема». Всегда узнаваема и всегда нова. Секрет новизны ее в неустанной работе То Хоая над словом. «Я отношусь к тем людям, – сказал он Нгуен Конг Хоану, – которые стремятся не потерять, не забыть ни единого нового слова, ни одного острого словца, оборота речи, поразившего слух». Он ведет особые записные книжки. Странички их – как бы тончайшие срезы с различных пластов живого, изменчивого языка. Нет, То Хоай не был голословен, называя народ главным своим учителем. Но учится он не только на слух. Все в том же интервью говорится о хранящейся в вырезках То Хоая статье из газеты «Новый Ханой», посвященной выделке гуоков – деревянных сандалий: в двух небольших статьях подчеркнуты тридцать четыре слова (фасоны гуоков, сорта дерева, способ крепления ремешков и т. д.). С карандашом в руке просматривает То Хоай периодику и книги по разным отраслям знания. Особое место отводится чтению художественной литературы. Здесь классика – проза и стихи. Книги современников – из них чаще всего перечитывает он прозаиков Нгуен Туана, Ким Лаиа, Буи Хиена… Впрочем, считает он, даже в самой бездарной книжке отыщется нечто поучительное. А чтобы держать свой «языковый потенциал» на должном уровне, То Хоай практикует забаву стародавних книгочеев – состязания в словах. Любимый партнер его – писатель Во Хюи Там, знаток сочного народного языка.
Познание языка неотделимо от познания жизни. Только для То Хоая изучение жизни – не модная кампания, не временное мероприятие. Сама жизнь художника, считает он, нераздельна от постижения окружающего его бытия. Для него важно все – и великое, и малое; повседневные, заурядные на первый взгляд явления тоже обогащают его опыт. Художник у жизни в пожизненном ученичестве…
Нет, разумеется, То Хоай не ставит знак тождества между перипетиями жизни художника и его творениями. Но он на собственном опыте убедился, как властно жизненные потрясения и перемены определяют иной раз весь творческий путь. Ведь и попади он тогда, в начале войны, в горы, быть бы ему, считает То Хоай, совершенно другим писателем, а может, он бы и вовсе «не состоялся»
И это никакая не нарочитость, не поза. Трудно представить, какое огромное воздействие на молодого человека, родившегося близ Ханоя и кончившего там «на медные деньги» школу, а после не год и не два мыкавшегося в поисках заработка по градам и весям густо заселенной вьетнамской равнины, должна была оказать неуемная могущественная природа гор с их непролазными чащами, где таилось зверье и диковинные птицы, звонкоголосыми речками и загадочными пещерами, буйством стихий и нежданным роскошеством многоцветия. А главное – с их людьми, сильными и гордыми, живущими – каждое племя – по своим особенным обычаям, говорящими на разных наречиях, по-разному одевающихся и готовящих пищу, с различными сказками и песнями. Но всех этих горцев объединяла одна черта – несгибаемое упорство в длящемся вот уже которое поколение единоборстве с косными силами природы. Сколь многого научились они добиваться малыми средствами, незамысловатыми орудиями; как живо умели радоваться маловажным вроде событиям и вещам. Их восприятие мира проникнуто было поэзией. Нет, вопреки суждениям иных верхоглядов, а подчас и недоброжелателей, духовный мир горцев не был скуден; это была не примитивность, а простодушие, чистосердечность людей, не отлепившихся еще сердцем от окружавшей их природы. И, что особенно важно, То Хоай застал их в переломную пору, когда к ним, в горы, пришла революция и они осознали несправедливость вековечных устоев своего бытия. Когда слово революции, словно меч, отсекло добро и правду от кривды и зла.
То Хоай чувствовал: его долг – написать об этих людях. Но ему, в отличие от иных сочинителей, была ни к чему наружная красивость, экзотика. Он хотел понять все изнутри, по-настоящему. И здесь опять единственный инструмент – слово. Он берется за изучение языков. Сперва это был язык народности тай. Потом – язык мео. Записав и вытвердив сотню слов, он в одиночку пускается в долгий путь по горам мео – от хижины к хижине, из деревни в деревню. И когда, четыре месяца спустя, он пришел в Дьенбьенфу (где позднее одержана была величайшая в той войне победа), на языке мео говорил уже свободно, без запинки. Но оказалось, это еще не всё. Как по-вьетнамски передать образ мысли горцев, их говор? Конечно, писать о земляках с равнины тоже было непросто. Пусть персонажи первых его книг были односельчане или небогатые горожане – люди, знакомые с детства, – бывало всякое. Еще в 41-м начинающим автором принес он известному критику By Нгаук Фану, редактору одного из ханойских литературных изданий, рассказ «Пылящее авто». Прочитав рассказ, By Нгаук Фан сказал: «Надо сократить ровно наполовину». То Хоай возмутился было, но сократил. Читателям рассказ понравился. А еще через год, прельстившись издательским контрактом, засел за первый роман «Чужая земля». Как потом клял он свою опрометчивость! Даже без малого сорок лет спустя сравнил себя с неопытным пловцом на длинные дистанции, который, после бурного старта, еле доплыл до финиша. Но там персонажи книг и читатели говорили на одном языке, у них был сходный уклад жизни, образ мыслей. А здесь, в горах, все другое! Как передать это своеобразие, непохожесть? Поначалу пробовал уснащать текст словами и фразами местных языков, передать в диалогах «неправильную» вьетнамскую речь горцев. Но понял: путь этот ложный. И после долгих поисков решил: главное – средствами вьетнамского языка передать своеобразие, поэтичность духовного мира горцев, манеру их речи – немногословную, неторопливую; ритм жизни в этом своеобразном мире, где расстояния по прямой – лишь зрительная иллюзия, а реальный путь – ломаная линия склонов и круч – всегда намного длиннее, где время не бежит за часовой стрелкой, а тянется неспешно за чередованием небесных светил, возвещается голосами птиц, распускающимися или смыкающимися вновь лепестками цветов.
Бывая в горах Северного Вьетнама, я спрашивал не раз горцев – многие из них говорят (и читают) теперь по-вьетнамски – нравятся ли им книги То Хоая, где описаны их родные места, те отвечали: нравятся, а люди постарше добавляли обычно, что, мол, в книгах этих все правильно… С тех пор у То Хоая осталось в горах много друзей. Впрочем, прошедшее время здесь не совсем уместно. Он и сейчас бывает в горных провинциях, живет здесь подолгу, пишет новые – тоже «правильные» – книги. И число друзей его множится. Встречают там его как самого дорогого гостя. Узнав заранее о предстоящем приезде То Хоая (он со многими здесь состоит в переписке), собираются люди из ближних и дальних деревень: рассказать, как идут дела в кооперативе, куда дошла уже новая дорога, кто просватал сына, у кого родились дети и внуки. И он радуется вместе с ними доброму урожаю, достает из чемодана подарки новобрачным и новорожденным. Он покупает и привозит друзьям не просто столичные сувениры. Все это вещи нужные в дому и большей частью истребованные в письмах. Знакомцы, а иногда и местное начальство давали ему наказы: куда бы надо сходить в столице и о чем похлопотать – в магазин не довезли товаров; хорошо бы получить поскорее семена нового сорта кукурузы; кто-то хочет ехать учиться в Ханой, а кто-то – и за границу; сын работает в Ханое, обленился, не пишет… Это заносилось в блокнот, То Хоай ходил «по инстанциям», звонил, отписывал друзьям, чем увенчались его хлопоты. Наверное, эта черта, которую мы называем общественным темпераментом, у него – прирожденная. Точно таков же он и в Ханое. Соседи даже избрали его председателем уличного комитета. И этим своим постом То Хоай – прежде депутат Национального собрания, а ныне депутат Ханойского городского совета – особенно гордится. Здесь, считает он, человеческое доверие обретает конкретную, осязаемую форму. С чем только не приходится ему иметь дело: жилье, водопровод, трудоустройство, подчас семейные распри, соседские свары. «Библейский царь Соломон, – сказал как-то То Хоай, – был просто недогруженный дилетант. Но я доволен: где еще столкнешься с таким жизненным материалом…» И материал этот не пропадает втуне. На нем построен рассказ «Улица» да и роман «Перекрестки, переулки, уличный люд», недавно законченный и переданный в издательство.
То Хоай недавно надстроил над своим домом второй этаж. Там на «мужской половине», в просторной пустоватой комнате, он и работает. Я вспоминаю шкаф, стоящий в углу кабинета. Однажды передо мной распахнулись его дверцы. Рукописи… Рукописи!.. Романы – «Западный край», «Молодость Хоанг Ван Тху»… Ни единой чистой страницы, почти ни одной «живой» строки. Я попробовал определить, чего добивался автор этой огромной, изнурительной работой? Простоты? Нет, не то… Нередко он еще усложняет и без того непростые образы и фразы. Скорее – ясности, точности. Он стремится к адекватности смысла и формы. И еще очень много «изобразительной» правки: оттенки цвета, конфигурация предметов, перемещения «в кадре» – все это уточняется бесконечно. Кажется, будто То Хоай не перечитывает текст, а снова и снова переживает написанное, воочию видит его. Да, подтвердил он, так и есть.
Для такой работы нужны колоссальная сосредоточенность, умение отрешиться от всего окружающего. И я понял, почему, когда американцы бомбили Ханой, жена То Хоая, уходя из дома, не очень-то надеялась, что муж услышит сигнал тревоги, и всегда прикрепляла к дверям записку: «Дома один человек. То Хоай». Такие записки на случай беды – для спасателей, чтобы знали, где и сколько могло остаться людей, – полагалось вешать на двери всем. Но многие не соблюдали правила: домашние-де все равно услышат сирену. Наверно, из них никто не сочинял книг…
В шкафу сложены и пожелтевшие от времени газеты – память журналистского прошлого. Еще в 45-м, когда французы – сначала только на юге – развязали военные действия против Республики, То Хоай отправился туда с корреспондентским мандатом. Потом в Ханое, незадолго до начала Всеобщего Сопротивления, в редакции газеты «Кыукуок» («За спасение Родины») его приняли в партию. В этой газете проработал он всю войну. Конечно, у вас, читатель, слова «работал в газете» непременно связаны со зданием редакции, где толпится народ, за каждой дверью стрекочут пишущие машинки, а где-то под боком в типографском цехе работают мощные ротационные машины. Ничего этого не было. В военных дневниках друга То Хоая, писателя Нам Као (когда-то, в 43-м, они вступили в одну ячейку подпольной Ассоциации культуры «За спасение Родины»), можно прочитать, как делалась поначалу газета: вся редакция – несколько человек перетаскивали на плечах из пещеры в пещеру немудреный печатный станок, художники из сланцевых плиток вырезали литографские камни, малярия валила людей с ног, – нечеловеческого труда стоил каждый номер, каждая полоса газеты. Потом стало легче, в освобожденных районах условия для издания газеты были несравненно лучше. Но Нам Као уже не увидел этого: в 51-м он был схвачен и расстрелян колонизаторами. А То Хоай по-прежнему отправлялся в пешие командировки, иногда за сотни километров. Он бывал на местах боев, в деревнях: там набирали силу ростки новой жизни; заглядывал в резиденцию – шутливое прозвище большой бамбуковой хижины, где помещалась созданная еще в 47-м Ассоциация культуры. Генеральный секретарь ее, прекрасный прозаик Нгуен Туан, тоже был другом; впрочем, многие старые друзья и знакомые – писатели, артисты, художники – находились в партизанском крае. То Хоай отовсюду слал материалы в газету. Он был настоящим военным корреспондентом, и правительство Республики удостоило его высшей военной награды – ордена Сопротивления I степени, Сверху на стопке газет лежит маленькая книжица, отпечатанная на серой ноздреватой бумаге – полторы сотни страниц, четыре рассказа о горцах и о войне в горах. По одному из них и названа книга – «Вниз, в деревню». Год издания – 1951-й. Книжка выпущена в джунглях. Сам То Хоай об этой своей работе упоминает редко. Но, наверно, без нее не было бы и другой, вышедшей через три года книги на ту же тему – «Повести о Северо-Западе» («Супруги А Фу» и др.), за которую ему присудили первую премию Ассоциации культуры.
Я обнаружил в шкафу еще одну реликвию – помещенную на зеленой дощечке скульптурную композицию из пластилина: в центре – великий кузнечик Мен, вокруг – побратим его и соратник Чуй, жук Сиентаук и второстепенные персонажи из «Кузнечика Мена». Это подарок московских школьников… Сказки То Хоая… Признаюсь, мне и сейчас до конца неясен их секрет. Сами судите: автор признает, «Воспоминания Мена» он написал, едва выйдя из возраста, когда развлекаются игрою «в кузнечики», воссоздав в книжке пейзаж большого луга, лежавшего за рекой, напротив деревни Нгиадо, и «население» его – насекомых, зверюшек, которые вместе с пропадавшей там с утра до ночи детворой (он подчеркивает это «вместе») составляли особенный, непростой, но веселый мир. Этот мир, по которому Мен и его друзья путешествовали годами, мы с вами, читатель, могли бы обойти пешком за день. То Хоай гордится тем, с какой скрупулезностью воспроизвел он обличие и повадки своих «героев». Что же, тогда его сказки (остальные были написаны через два года после «Кузнечика Мена») – лишь копия природы, увиденной острым юношеским глазом? Нет, зверюшки и насекомые на страницах книжек остаются таковыми до известного, положенного автором предела. А потом… Потом в них явственно узнаются люди. Вся суть в том, как слить воедино оба начала, чтоб персонажи сказки не стали ни зверями, обряженными по-человечьи, ни людьми с бутафорскими хвостами и крыльями. Интуиция – непременное свойство таланта – подсказала совсем еще молодому тогда То Хоаю рецепт этого сплава, и, может быть, именно его волшебство составляет неповторимое очарование сказок. Но, согласитесь, возможно, тайна успеха в другом – ведь То Хоай не просто вывел забавных очеловеченных зверюшек, но и сотворил для них целый мир со своими устоями, этикой, языком, своими поэтами и летописцами, И в этом мире, увы, далеко не все благополучно. Потому что очень уж неблагополучен был мир, в котором жил сам То Хоай. Но герои сказок не только существуют в условном сказочном мире; нет, они этот свой сказочный мир желают переустроить, изгнать из него несправедливость, угнетение, войны… Стоп! Аллегории аллегориями, но это уж слишком. Недреманное око французской колониальной цензуры узрело крамолу, бестрепетная рука ее вознесла карающее перо. И «Приключения кузнечика Мена» впервые увидели свет с большими купюрами. Береженого, как говорится, бог бережет… Нет, не уберег! Как и в маленьком сказочном мирке, в большом настоящем мире многое переменилось к лучшему. Но на значительной части нашего человеческого мира царят еще нищета и произвол, еще угрожают людям ужасы войны куда более страшной, чем Вторая мировая война, в первые годы которой кузнечик Мен «писал» свои дневники. И не потому ли такую безоговорочную симпатию вызывают у нас крохотные герои сказок То Хоая, отважно борющиеся за свое Неслыханно Великое Дело?.. А может быть, суть в юморе То Хоая – то улыбчивом и добром, то вдруг обретающем язвительный сатирический голос? Не знаю. Временами мне кажется, будто главное – в яркости, поэтичности образов, в изысканности стилизации. Кстати, сам То Хоай, говоря об «истоках» своих сказок, называет и свифтовские «Путешествия Гулливера», и «Дон-Кихота» Сервантеса, и «Приключения Телемака» Фенелона, и вьетнамский фольклор. Но в иных мотивах сказок То Хоая ощущается влияние народной скульптуры и живописи, а «Мышиная свадьба» и вовсе построена на сюжете знаменитого лубка из деревни Донгхо. Да, есть над чем поломать голову! Иногда я даже ловлю себя на мысли, что сказки эти написаны вовсе не для детей. Только не стоит обращаться с этим вопросом к автору. Он ответит, я знаю, как дельфийский оракул: мол, взрослые любят хорошие детские книги, а ежели им не нравится детская книжка, значит, она плохая. Давайте лучше перечитаем еще раз сказки То Хоая. Вдруг нас осенит Истина (с большой буквы, как у кузнечика Мена)…
Да и потом, нам пора обратиться к роману «Затерянный остров».
* * *
Замысел романа на сюжет из древней вьетнамской истории возник у То Хоая давно. Когда в 1963 году во Вьетнам приезжал Сергей Петрович Бородин[12], выступавший на ханойских литературных курсах с рассказом о своем опыте работы над исторической прозой, среди его слушателей был и То Хоай. Они встречались тогда не раз, спорили о соотношении документальности и вымысла в этом непростом жанре. И То Хоай, говоря о Ванланге, легендарном государстве вьетов, пращуров нынешних вьетнамцев, и правивших там государях Хунг, жаловался на скудость исторических источников.
Редкие сведения о вьетах в сочинениях летописцев и землесловов древних китайских царств противоречивы, проникнуты высокомерием и алчностью. Ну а, спросите вы, читатель, книги самих вьетов?.. Столетия назад просвещенные мужи Дайвьета (так назывался тогда Вьетнам) сетовали на то, как мало сохранилось творений старой вьетской словесности, находя тому самые разные причины. Но вернейшее объясненье заключено, пожалуй, в таких словах: «Каждый клочок бумаги – пусть с половиною иероглифа, каменные плиты с надписями, воздвигнутые в этой стране, – все, едва узрите, изничтожайте в прах». Знайте же: «эта страна» – Дайвьет, а слова взяты из указа китайского императора Чэнцзу, который в 1407 году двинул на вьетов свои войска, радея якобы о восстановлении законности и порядка. Еще через двадцать лет, согласно новому указу, из Дайвьета в Китай вывезли все ценные книги, хроники, документы. Сегодня мы знаем лишь их названия по списку, составленному вьетским летописцем; большинство книг исчезло бесследно. Нет, это вовсе не был единичный случай! Прошло почти полтора столетия, и китайский историк, бывший среди солдат, снова вторгшихся в Дай-вьет, писал: «Когда пришли солдаты, они, за исключением буддийских и конфуцианских канонических сочинений, изымали любую печатную книгу, даже разрозненные листы, вплоть до книжек пословиц и побасенок, по коим дети учились грамоте, – все полагалось сжечь…» Полчища просвещенной Поднебесной империи воевали с книгами, как с людьми, – их рубили, жгли и уводили в полон!
Но убить все книги невозможно. А главное – невозможно уничтожить великую книгу, начертанную в памяти народа. И прежде всего в ней почерпнул средневековый литератор Чан Тхе Фан сюжеты и сведения для собрания рассказов «Дивные повествования земли Линьнам»[13], которое, вероятно отредактировав и дополнив его, издали на исходе XV века двое ученых и литераторов, By Куинь и Кпеу Фу. Память о Ванланге жива была в народе и тогда, без малого тысячу восемьсот лет спустя, после его падения: из двадцати двух рассказов книги ровно половина посвящена государям династии Хунг. Это, пожалуй, самое обширное собрание сведений о них. Пусть у авторов было иное, чем у нас, представление об исторической правде и в книге легенды причудливо переплетались с реальностью, подобного источника нам больше не найти. Да и сам роман То Хоая построен на одном из «дивных повествований» – «Рассказе об арбузе».
Кто же они такие, государи Хунг? Давайте, подобно романисту, примем на веру не только легендарные сведения, но и мифологическую хронологию. Итак, государи Хунг царствовали с 2879 по 258 год до н. э., и было их всего восемнадцать; стало быть, каждый правил чуть не полтора столетия. Старые авторы возводили их род к Божественному земледельцу Тхэн Ионгу (китайский Шэнь-нуи). Но иные из нынешних историков считают родословную эту книжной реминисценцией конфуцианцев, не связанной с фольклором вьетов. И мы, следуя народным преданиям, назовем прародителем вьетов Лак Лаунг Куана – Повелителя драконов Лака. Он научил людей земледелию, шелководству и ткачеству; дал им законы и установления; одолел вредивших народу чудовищ; приняв множество жутких обличий, отвадил заносчивых чужеземцев. Лак Лаунг Куан взял в жены девицу Ау Ко, происходившую от небожителей; она произвела на свет диковинный ком, в котором оказалось сто яиц. Из них вышло сто сыновей. Но Повелителю драконов не нравилось жить все время на суше, а Ау Ко не могла поселиться в Подводном царстве; и они расстались, поделив сыновей: половина ушла за отцом в море, а другие пятьдесят остались на земле. Но и потом, стоило людям выйти на берег и крикнуть: «Отец, помоги!» – Лак Лаунг Куан появлялся и выручал их. Ау Ко повела сыновей к горам и там, в местности, названной Фаунгтяу, научила их провозгласить царем самого старшего. Он нарекся Хунгом, державу свою назвал Ванланг, а столицу – Фаунгтяу. Державу разделил на пятнадцать земель: младших братьев поставил теми землями править, назначил их вельможами и полководцами; определил чины и сословия; велел передавать престол по наследству и всем государям именоваться Хунгами. Люди жили у воды, и водяные твари постоянно вредили им, тогда государь Хунг посоветовал людям разрисовать себя наподобие рыбьей чешуи, чтобы подводные жители признали в них своих родичей; чудища оставили людей в покое.
Согласно другому преданию, Ау Ко обучила людей на возвышенностях выжигать лес под рисовые поля, копать пруды и колодцы, сажать у реки сахарный тростник и тутовник, ткать полотно и добывать мед, толочь зерно в ступах и, смешав его со сладким тростниковым соком, готовить на нару пироги.
И государи Хунг обучили народ множеству полезных вещей. Если раньше люди выжигали лес на холмах и рыхлили палками делянки, то государи выучили их сеять рис на низинных заливных землях, сажать просо, а также втыкать на полях гибкие стебля бамбука, чтобы отпугивать птиц. Государи велели сажать на делянках найденные в лесу клубни иньяма и лук, открыли рецепт бетелевой жвачки и превосходных пирогов. Говорят, они даже учили людей возводить плотины и дамбы. Поначалу народ жил в скудости, одеваясь в древесную кору, почивая на грубых циновках и пеленая младенцев в листья банана, питаясь клубнями да кореньями и месивом из сердцевины пальм, а из риса – его было мало – гнали чаще хмельную водку. Пищу варила в ведерцах из толстых стволов бамбука. Но со временем завелся у них достаток. Люди ели также мясо, дичину, рыбу и черепах, приправляя их корешками имбиря. Жили они в домах на сваях. Коротко стригли волосы, чтобы удобнее было бегать по лесу (или, говорят другие, нырять в воду); ходили босиком, чтобы быстрее влезать на деревья. Колотили пестами в пустые ступы, созывая соседей на похороны. Свадебные обряды их были просты: жених подносил невесте завернутые в листья землю (возможно, выпеченные из жирной, пронизанной корешками почвы лепешки, до недавнего времени сохранявшиеся у некоторых народностей Вьетнама как ритуальная пища) и соль, потом забивали буйвола, устраивали пир – и вся недолга. Люди тогда весьма заботились об умножении рода, устраивая особые состязания: кто завладеет чудесным амулетом, тому быть чадородным. И еще состязались они (большей частью принцессы и принцы) в приготовлении яств и варке риса. А на праздниках своих танцевали и пели (иные искусницы облегчали даже пляской и пением муки рожениц) и учиняли разные веселые действа. Таковы легенды.
Но существовал ли на самом деле сказочный Ванланг? Где находился он и кто его населял? Старинные книги утверждают: пятнадцать земель Ванланга занимали часть южных провинций современного Китая – Гуанси и Гуандун, Северный Вьетнам и северную часть Центрального Вьетнама. Сейчас невозможно установить точные границы Ванланга, но очерченные традицией пределы его совпадают во многом с территорией, на которой в глубокой древности расселился один из союзов вьетских племен – лаквьеты, родственные тем вьетским племенам, что именовались в летописях Батьвьет – Сто (племен) вьет и жили вместе с предками нынешних таи к югу от реки Янцзы. Под натиском с севера они постепенно отступали на юг. Итак, Ванланг был землею лаквьетов. Тотемом их (или значительной части этих племен) была птица лак. Насчет реального аналога этого мифического пернатого еще идут споры. Вероятно, у какой-то части племен тотемом был водяной змей (крокодил?), преобразившийся позже в дракона. Вспомним, легендарного прародителя вьетов звали Лак Лаунг Куан – Повелитель драконов Лак. И еще: лакхэу и лактыонгами именовались поставленные государем Хунг правители и военачальники, видимо, выходцы из племенной верхушки; лакзанами – людьми лак – простолюдины; удобные земли у воды – землями лак. Возможно, и имя государей произносилось не Хунг, а Лак (расхождение – результат неточностей в начертании и разночтения древних иероглифов). Само же название государства Ванланг появилось в китайских источниках столетия спустя после его гибели и означало «разрисованный люд», отражая скорее всего обычай вьетов покрывать свое тело татуировкой. Как называли свою страну сами вьеты, мы пока не знаем. И названия пятнадцати земель Ванланга также «пришли извне» в более поздние времена.
Вьетнамские археологи условно пока отождествляют с эпохой государей Хунг четыре взаимосвязанные культуры. Три древнейшие из них названы по местам раскопок в современной провинции Виньфу в предгорьях к северо-западу от Ханоя, четвертая, более поздняя, – по местности в устье реки Ма (провинция Тхань-хоа). Это отмеченные признаками перехода от неолита к бронзе культуры: Фунгуенг, существовавшая примерно 3500–4000 лет назад, Донгдэу (более 3000 лет назад) и Гомун (около 3000 лет назад) с весьма высокой техникой обработки камня и развитой керамикой. В Фунгуенге – лишь отдельные находки бронзы, в Донгдэу бронзовые предметы составляют около двадцати процентов находок, в Гомуно – чуть ли не половину. И наконец – культура Донгшон, когда примерно 2500 лет назад происходит скачок в высочайшей технике бронзы и в конце которой появляется все больше железных предметов. Возможно, период донгшонской культуры совпадает во времени с расцветом государства Ванланг? А старейшая из дошедших до нас летописей Дайвьета и вовсе утверждает, будто первый государь Хунг лишь в VII веке до нашей эры «силою волшебства» сплотил разрозненные племена, основал столицу Ванланг, назвав по ней и свою державу. Что означает это упоминание «волшебства»? Не выполняли ли Хунги еще и жреческие функции? Кто ближе к истине в датировке восхождения на престол династии Хунг – авторы «Дивных повествований земли Линьнам» (2879 г. до н. э.) или безымянный летописец, расходящийся с ними почти на 2200 лет? Увы, единственная достоверная дата из эпохи государей Хунг – это год падения государства Ванланг – 258 год до н. э. А вещи, извлеченные археологами из небытия, бессильны назвать имена своих создателей и владельцев.
И все же мы знаем теперь, что легенды о Ванланге содержат в себе реальное историческое зерно. Люди действительно тысячелетия назад начали выжигать лес и осваивать земли на холмах, а затем и заливные земли вдоль рек. Это стоило им огромных усилий, ведь холмы и равнины были покрыты густыми лесами. Человеческий труд сравнился с мощью стихий, преобразив ландшафт огромных территорий. Во время донгшонской культуры вся равнина Северного Вьетнама, а возможно, и север Центрального Вьетнама были, по всей вероятности, освоены. К началу нашей эры здесь насчитывалось около двух тысяч поселений, где жили сотни тысяч людей. Да, вьеты действительно в те времена возделывали рис (несколько сортов) и собирали, по-видимому, два урожая в год. Они выращивали бататы, бобы, горох, тыкву, крушину, чам (канариум), вероятно также – имбирь, бананы, арбузы, лук, просо, цитрусовые, кокосы, личжи. Приручили собак, уток, гусей, кур, свиней, буйволов (неизвестно лишь, когда их стали использовать для пахоты). Неясно пока, были ли у них домашние лошади. Большую роль в хозяйстве вьетов играло рыболовство (рыбу ловили сетями, на крючки, били острогой), они промышляли также моллюсков, крабов и другие «дары моря»; занимались охотой. Косвенное свидетельство разнообразия вьетской кухни – широкий ассортимент керамической посуды (в том числе и для готовки на пару).
Делали вьеты посуду и из бронзы. Все, что выходило из рук вьетских литейщиков и кузнецов – орудия труда, оружие, музыкальные инструменты, – сочетает в себе функциональность с соразмерностью и изяществом формы. Бронзовые статуэтки людей и животных, а также выполненные в форме человеческих фигур рукояти кинжалов поражают пластичностью поз и искусной проработкой деталей. Но еще более удивителен мир, изображенный на бронзовых барабанах, сосудах, оружии. В центре этого мира человек с его трудами и праздниками. Перед зрителем плывут лодки, корабли – на них люди, над ними стаи птиц… Дома на сваях с выгнутыми, похожими на корабли крышами; рядом амбары – тоже на сваях, и крыша их также напоминает нос ладьи; коньки крыш украшены изображениями птиц. (Итак, легенда снова оказалась права – люди жили в свайных домах. Свидетельство древнего художника, в свою очередь, подкреплено археологами: найдены остатки такого дома, рядом был амбар на сваях, площадка обожженной почвы и ямы с пеплом – следы располагавшейся на грунте кухни.) Люди изображены в праздничных одеяньях – длинных, запахивавшихся впереди юбках из перьев (листьев?), головных уборах из перьев и пушистых метелок тростника. Они пляшут с оружием, музыкальными инструментами в руках – колокольцами, кхенами[14], шеньфатями[15]; у иных руки свободны, художник живо передал характерные движения кистей, – в позах танцующих проглядывает нечто «птичье». Певцы стоят – отдельно мужчины и женщины – или сидят лицом друг к дружке, соприкасаясь ступнями и ладонями (обычай этот сохранялся у вьетов и в Средние века); тут же музыканты с гонгами различной величины и формы. Музыке приписывалась магическая сила: мы видим людей с гонгами, подвешенными в амбарах, звон их был призывом к духам зерна, заклинанием урожая (и этот обычай сохранился доныне у некоторых народностей Вьетнама). Люди бьют в пустые ступы пестами, украшенными пучками перьев; это – тоже музыка, задающая ритм танцу, и обращенный к небу призыв даровать плодородие земле и всему, произрастающему на ней. Но особую роль в ритуалах и праздниках вьетов играли бронзовые барабаны. Обычно их было не менее двух: пара барабанов считалась супружеской четой, олицетворением мужского и женского начал, животворящей силы природы. Барабаны были символом власти. Они созывали людей на сходы, возвещали приближение врага, воодушевляли воинов на поле битвы. Не случайно уже в середине I века нашей эры, через триста лет после падения Ванланга, ханьский военачальник Ма Юань, утопивший в крови восстание вьетов против китайский завоевателей, изъял множество вьетских барабанов и, перелив их, воздвиг бронзовую колонну – знак незыблемости владычества ханьцев над этой землей. Куда подевалась пресловутая колонна Ма Юаня – неведомо; малое время спустя никто не мог отыскать её. А бронзовые барабаны долго еще собирали вьетов на празднества, звали их в бой.
В древнейшие времена громыханье бронзовых барабанов, домчавшись до неба, должно было вызвать благодатный дождь. Возможно, одно из изображений на барабанах и есть важнейшее празднество – торжественный молебен, обращенный к Духу вод; на кораблях – бронзовые сосуды (со священной водой), барабанщик с барабанами, вооруженные воины, один из них колет копьем связанного пленника (уж не человеческое ли это жертвоприношение Повелителю вод?). Рядом, – как часть празднества – гонки на лодках однодревках; гребцы в праздничных одеяниях, с оружием и короткими веслами в руках… Изображения на барабанах подтверждают содержащиеся в легендах сведения: да, у вьетов были самые разные суда – лодки и большие многовесельные корабли, которые могли плавать по морю. Вода, водоплавание играли существенную роль не только в жизни вьетов, но и в системе их восприятия мира. Случайно ли знатных покойников хоронили в гробах, похожих на долбленые пироги, а в могилу клали весла? (Оговоримся, что ни в легендах, ни среди изображений на бронзе, ни в археологическом материале не найдем мы колесниц или повозок. В легендах упоминаются носилки, но ни изображений их, ни остатков не обнаружено.)
Изображения на барабанах таят в себе еще один весьма примечательный смысл. В центре верхней их плоскости часто выбита многоконечная звезда, скорее всего, это символ солнца, которому поклонялись вьеты. Фигуры, вписанные в расходящиеся от центра концентрические круги, как бы движутся вокруг солнца против часовой стрелки. Но ведь для наблюдателя, находящегося в Северном полушарии, именно в этом направлении перемещаются звезды по небосводу вокруг Полярной звезды, на которую устремлена земная ось. И Солнце, двигаясь с запада на восток, как бы идет против стрелки часов. Значит, здесь зафиксированы космогонические воззрения вьетов. Некоторые исследователи чередование символических линий, знаков природных начал, различных фигур и их поз отождествляют с календарем (солнечным и лунным). Вьеты, как утверждает легенда, считали землю квадратной, а небо – круглым…
Они поклонялись духам стихий. Чтили животных: жабу (провозвестницу дождя), оленя (он был связан с наступлением суши; на барабане есть изображение пляшущего человека, наряженного оленем), курицу, черепаху… Почитали вьеты имевшие женское обличье божества – Шелковицу, Фасоль, Хижину (позднее они вошли в местный буддийский пантеон). Они поклонялись духам предков, верили в загробную жизнь и клали в могилу вместе с покойником вещи, утварь, оружие, иногда усопших предавали сожжению. Некоторые предметы из захоронений (дерево, лак) позволяют предположить, что у вьетов была живопись.
Как же выглядели вьеты? Они стригли волосы до плеч (вспомним легенды!), но также – мужчины и женщины – закручивали сзади волосы узлом, женщины заплетали их в косицу; часто волосы схватывались повязкой. Ходили вьеты босиком (вспомним снова легенды). Одежду они изготовляли из тканей. Ткачество, судя по отпечаткам полотна на керамике и бронзе и глиняным пряслицам, появилось очень давно. Издревле вьеты разводили шелкопрядов, выращивали хлопок, джут, рами. Мужчины большей частью носили набедренные повязки; женщины – короткие юбки (цельные или из обернутого вокруг бедер полотнища). Знатные женщины (а именно таковыми являются героини романа То Хоая – Нанг Хоа и Гай, к тому же еще наряжающиеся для царского пира) носили нагрудник, поверх него – застегивавшуюся спереди блузу, юбку до пят и широкий пояс с длинными свободными концами; на голове был завязан наподобие тюрбана платок. Военачальники и вельможи (а таковым являлся главный герой романа Ан Тием) носили – очевидно, при случае – пластинчатый бронзовый нагрудник, спину их прикрывал широкий обруч с бронзовыми застежками и бубенцами. Богатые наряды украшались вышивкой и бисером.
Вьеты, возможно, чернили зубы. Они очень любили украшения. Чаще всего археологи находят серьги и браслеты. Их носили и мужчины, и женщины. Немало найдено также колец и бус. Сперва украшения делали из камня, затем все чаще – из бронзы. Даже в захоронениях знати не обнаружено украшений из золота и серебра.
Процесс социального расслоения шел у вьетов довольно явственно. Если во времена культуры Фунгнгуен различие вещей в захоронениях еще невелико, то в эпоху развитой бронзы погребения отличаются друг от друга не только количеством, но и ценностью вещей; в богатых могилах попадаются предметы роскоши, в том числе и привозные – из Китая. Любопытная деталь – могилы попроще располагались у самых жилищ, а близ богатых могил никаких следов поселений не обнаружено… Вероятно, у вьетов была тогда общинная собственность на землю. Однако выделившаяся племенная знать, составлявшая правящую верхушку Ванланга, присваивала (в форме податей, повинностей) часть продукта, произведенного свободными общинниками. У вьетов, очевидно, были рабы, хотя вряд ли многочисленные. К этому времени у них утвердился патриархат, но женщины играли видную роль в семье и общественных делах. Семья у вьетов была моногамной. До сих пор ведутся дискуссии о том, каким, собственно, было общество Ванланга. Сложилось ли уже тогда государство или это был тип общественных отношений, близкий к так называемой военной демократии? Кем являлись в таком случае, Хунган – государями или вождями племенного союза? Что, наконец, стало решающим в сплочении лаквьетов – необходимость защиты от врагов? Потребность в совместном ведении хозяйства, в котором все большую роль играло орошение приречных земель? На все эти вопросы пока невозможно дать однозначного ответа.
Но как развивались культура и общество Ванланга? Не были ли лаквьеты, вроде бы отгороженные от мира горами и морем, в какой-то мере изолированы от соседних народов, от тех пускай еще только нарождавшихся связей, которые приводили к образованию региональных культурных общностей и в конечном итоге – к формированию мировой культуры? Косвенный ответ на это мы можем найти в романе То Хоая. Один из его персонажей, Ма Ли, выброшенный после кораблекрушения на остров, где жил Ан Тием с семьей, рассказывает о себе, что родился и вырос на благодатных островах, где множество искусных мореходов, плавающих меж островами и в соседние страны. Острова посреди теплого моря – но ведь это же Индонезия! Я спросил для верности у То Хоая, и он ответил: да, Ма Ли из Индонезии. Что же это просто авторская прихоть, столкнувшая на необитаемом острове разноплеменных людей? Нет. Если, как считается, для донг-шонской культуры характерны бронзовые барабаны (большинство их обнаружено во Вьетнаме), то, видимо, о многом все-таки говорят находки похожих и относящихся к тому же времени барабанов в Южном Китае (где, как вы помните, жили вьетские племена), в речных долинах Лаоса, Кампучии, Таиланда, Малайзии и – на островах Индонезии. А ведь прослеживается несомненное сходство и в других атрибутах материальных и духовных культур народов, населяющих эти страны. Культур древних самобытных, дающих все основания пересмотреть «традиционный» взгляд на большинство их лишь как на провинциальные ответвления «великого древа китайской цивилизации». И появление в романе То Хоая такого героя, как Ма Ли, и дальнейшая судьба его поистине символичны…
Наш экскурс в области истории и фольклора вьетов следует, вероятно, завершить кратким пересказом четырех легенд, к которым часто обращаются персонажи романа и без которых трудно было бы понять ход их мыслей и мотивацию некоторых поступков (все они имеются в «Дивных повествованиях земли Линь-нам», откуда взят, как вы помните, и «Рассказ об арбузе», послуживший сюжетной основой романа То Хоая).
Во-первых, это легенда о Духе-повелителе горы Танвиен. Вьеты чтили эту гору как святыню. Дух ее считался одним из пятидесяти сыновей Повелителя драконов, ушедших вместе с отцом в море. Затем он, прельстившись красотою горы Танвиен, вернулся на сушу и поселился на этой горе. Он подружился с людьми, научил их выращивать рис и ткать белое полотно. У государя Хунта была красавица дочь Ми Ныонг, к которой однажды явились свататься Дух гор (Повелитель Танвиена) и Дух вод. Испытав их волшебную мощь, государь не знал, кому отдать предпочтение, и обещал дочь в жены тому, кто первым доставит свадебные дары. Дух гор опередил соперника, и тот в ярости двинул против горы Танвиен полчища водяных чудищ. На помощь Повелителю Танвиена пришли люди, они били в ступы и барабаны, поражали водяных тварей меткими стрелами. Чем выше поднималась вода, тем выше возносил каменную твердь горы Повелитель Танвиена. Он перегораживал русла рек, по которым прибывала вода. Пришлось Духу вод отступить. Но с тех пор каждый год в седьмом и восьмом месяцах[16] налетают бури с дождем, вздуваются и выходят из берегов реки, смывая посевы и причиняя людям страшные беды. Это Дух вод снова и снова пытается отнять у Повелителя Танвиена прекрасную Ми Ныонг и вымещает на людях свой гнев. Дух-повелитель Танвиена считался учителем, помощником и заступником вьетов.
Во-вторых. легенда о Святом воителе Бамбуке (То Хоай пользуется здесь именем героя, бытующим в народных преданиях, ибо в «Дивных повествованиях» он зовется Благородным князем духов из Фудонга). Государь Хунг, узнав о предстоящем нападении на Ванланг династии Инь[17], воззвал о помощи к Повелителю драконов, Лак Лаунг Куану. Тот обещал, что объявится небесный воитель и поможет государю отразить захватчиков. Через три года иньское воинство вторглось в пределы Ванланга. Тут в деревне Фудонг государев гонец нашел мальчика, родившегося у дряхлых уже родителей три года назад и все это время пролежавшем неподвижно, не вымолвив ни слова. Узнав о приезде гонца мальчик заговорил. Он призвал гонца и попросил, чтобы государь прислал ему железного коня, железный нон[18], железный меч и бич из железа. Потом он начал расти не по дням, а по часам и превратился в великана; люди кормили и одевали его всем миром. Получив железного коня и оружие, богатырь помчался на врага, следом за ним двинулась государева рать. Долго бился он с неприятелем, железный меч его сломался, рассыпался железный бич; тогда он вырвал из земли огромный ствол бамбука и стал разить им врагов наповал. Разгромив захватчиков, он въехал на своем коне на гору и улетел в небеса.
В-третьих, легенда о новогодних пирогах. Когда иньское войско было разбито, государь Хунг пожелал уступить престол тому из своих детей, кто поднесет ему самое вкусное угощение. Все государевы дети кинулись добывать редчайшие плоды земли и моря. Один лишь принц Ланг Лиеу не знал, что ему делать. Был он восемнадцатым сыном государя; мать его, когда государь охладел к ней, умерла с горя; не было у него ни советчиков, ни помощников. Но тут явился ему во сне дух и велел приготовить на пару пироги из клейкого риса, завернутого в листья, и чтобы одни пироги были квадратными, как земля, а другие – круглыми, как небо. Принц так и сделал. Государь признал пироги Ланг Лиеу вкуснейшим яством и возвел его на престол. (Главный герой романа То Хоая, Ан Тием, все время вспоминает его под прозванием государь-отец.)
В-четвертых, легенда о бетеле. Жили-были двое братьев-сирот (внуков государя Хунга). Старший женился на дочери их учителя. Младший, решив, будто брат после женитьбы охладел к нему, ушел из дома и умер с горя в лесу на берегу реки, обернувшись после смерти арековой пальмой. Старший отправился на поиски и, не найдя брата, умер от тоски под той пальмой, став после смерти глыбою камня-известняка, прильнувшей к стволу арека. Жена его пошла их искать, не нашла и умерла от огорчения, превратившись после смерти в ползучее растение бетель, обвивший своими побегами пальму и камень. Государь Хунг явился как-то на то место и, соединив случайно кусочек камня с плодом арека и листом бетеля, придумал прекрасную бодрящую жвачку…
Что ж, пора нам теперь познакомиться и с «Рассказом об арбузе», вы тогда сможете, читатель, по достоинству оценить замысел и труд, вложенный То Хоаем в его роман. Вот этот рассказ от слова до слова: «Жил в царствование государя Хунга служивый человек; семи лет от роду государь купил его у купцов-корабельщиков и взял в услужение. Он вырос пригожим, постиг и держал в памяти многое; государь дал ему имя Май Пей, прозвание Ан Тием и пожаловал супругу. Тием родил сына и дочь. Государь возлюбил его, облек доверием, поручал важные дела, и со временем тот стал знатен и богат, добра накопил несметное множество.
Тут Ан Тием сделался заносчив, кичлив и говаривал неизменно: «Всем обязан я прошлому своему существованию, а вовсе не повелителю». Государь, прослышав такое, очень разгневался и сказал: «Ты, Наш подданный, столь заносчив и кичлив, не умеешь быть благодарным повелителю да еще болтаешь о прошлом существование! Ныне отправим тебя в безлюдное место посреди моря; поглядим, чего стоит твое прошлое существование».
И тотчас сослал его в морской залив, что в уезде Нгашон, Со всех четырех сторон вода да песок, не видать и следов человечьих. Оставили лишь ему немного еды – месяцев на четыре-пять, а там пусть умирает с голоду.
Жена Тиема горько заплакала; но он, засмеявшись, сказал; «Небо породило нас; значит, оно нас и прокормит; в животе ли, в смерти ли оно одно и властно; нам не о чем тревожиться».
Вдруг видят: летит с запада белый фазан; подлетает, садится у подножия горы и кричит трижды или четырежды. Крикнул и обронил не то шесть, не то семь тыквенных семечек. Семечки проросли, на зеленых побегах образовались плоды. Ан Тием возликовал и сказал: «Никакое это не чудо, просто небо посылает нам пищу». Разрезал он плод на доли, и что же: вкус превосходен, запах приманчив и бодрящ. Собрал он семечки и на другой год высадил в землю. Плодов уродилось – самим не съесть, стал он менять их на рис да кормить жену с детьми. Тием не знал, что это за плоды; но помнил: фазан, принесший семечки в клюве, прилетел с запада; и потому нарек их западными плодами. Рыбари с купцами, кто ни поест, всяк хвалит – вкусно. Люди, из ближних деревень или из дальних селений, все покупали – на развод.
Наконец государь вспомнил об Ан Тиеме и послал человека узнать: жив он еще или умер? Гонец вернулся и доложил обо всем государю. Вздохнул государь сокрушенно и сказал: «Говорил он тогда – вся сила в прошлом существование, так оно и есть». Тотчас последовал указ: звать Ан Тиема назад, на прежнюю должность; вдобавок ему были пожалованы слуги.
Песчаный берег, где жил Тием, стали звать берегом Ан Тиема, а деревню назвали селением Мая. Иные, желая возвеличить место, где жил прародитель Ан Тием, утверждают: «Это, мол, Ан-Тиемов округ, что в земле Тханьхоа».
Если вчитаться в текст рассказа, мы убедимся: из него вовсе не явствует, что строптивец Ан Тием был сослан на остров. Можно предположить, что местом его ссылки стал пустынный необитаемый берег. А в двух старинных землеописаниях Дайвьета прямо сказано: Ан Тием отбывал ссылку на морском берегу в Тханьхоа. Но То Хоай в своем романе избирает «островной» вариант. Он объяснял это тем, что главная идея романа – всесилие человеческой воли, помноженной на труд, знания, разум; и для воплощения ее герои книги должны действовать в «экстремальных» обстоятельствах. Ему больше подходила не песчаная отмель где-то, в конце концов, не так уж и далеко от обитаемых мест, а дикий, гористый, поросший лесом остров, где могущество стихии проявляется в полную силу. Мне доводилось слышать в Ханое, как вьетнамские художники с похвалой отзывались об описаниях природы в прозе То Хоая. Речь тогда шла о романе «Западный крап». В «Затерянном острове» То Хоай – «пейзажист» делает новый шаг вперед. Рассказывая о своей работе над этим романом, он снова вспомнил ту роль, которую в жизни его сыграли горы. Вспомнил, как брел когда-то пешком по лесным чащобам, ютился в пещерах, искал приюта в свайных домах горцев. Это оттуда перебрались в его книгу удавы, медведи и тигры. Там он стал очевидцем страшного урагана, который потом, два десятилетья спустя, пронесся над островом и разметал из края в край семью Ан Тиема. Там узнал он вкус лесных плодов и клубней, научился радоваться солнцу, луне и звездам. Видел, как горцы окатышами сковывают в листочки крупицы самородного золота… Но изображение природы само по себе еще ничего не решает в романе. То Хоай по-новому строит систему «человек – природа», ибо для героев этого его романа, людей глубокой древности, единство и неотделимое от него единоборство с природой, пожалуй, еще более органичное свойство, нежели для горцев мео, таи, са, выведенных в прежних книгах. Что, как не общение с непознанной им природой порождало в древности у человека суеверия, заблуждения, ложные страхи? Но, с другой стороны, именно это общение рождало пусть медленный, но неотвратимый процесс познания, обогащало все усложнявшимся опытом. То Хоай очень точно показал в романе, как прорастает и приносит плоды великое семя познания, что значил тогда для человека накопленный опыт (не просто его личный опыт, а сумма знаний, опыт всей тогдашней цивилизации). Показал, как важна была в то далекое от нас время преемственность накопленных знаний и духовных качеств – воли, твердости духа, дара общения, понятий справедливости и добра, формировавших человеческую личность. Не случайно То Хоай, как бы на новом витке спирали, заставляет оказавшегося в одиночестве сына Ан Тиема заново повторить жизнь отца.
У То Хоая Ан Тием не чужеземец, а вьет. И ко двору государя Хунга попадает он не как «товар» заморских купцов. Нет, государь-отец приближает к себе Ан Тиема за его сноровку и ум. И вовсе не праведностью предыдущего существования объясняются, все свершения его и удачи. Идейной кульминацией романа представляется эпизод, когда, вернувшись из долгой, мучительной ссылки, Ан Тием, несломленный, непоколебимый, бросает в лицо государю излюбленные свои слова о том, что человек всем обязан своему труду, разуму, воле.
И еще: в романе семья Ан Тиема – не пассивные, безымянные статисты, а его помощники и единомышленники. Жена Ан Тиема, Нанг Хоа («Нанг» означает «женщина», «Хоа» – «цветок»), первенец их Мон (клубень батата) и дочь Гай (девочка, девушка) – это живые люди, каждый со своим, особенным характером и судьбой.
Для То Хоая битва народа Байло[19] с водяными чудищами и освоение дикого острова – как бы модели бытия его предков, воплощение трудолюбия, таланта и нравственного величия народа. Оттого и звучит столь настойчиво проходящая сквозь весь роман тема любви к родине, ее чудотворным горам и рекам, плодам ее земли, голосам ее людей. Земля, сотворенная человеческими руками, и люди, творцы ее, – нераздельны.
За бесхитростной с первого взгляда естественностью и простотой повествования стоит огромный труд автора. То Хоай не только долгие годы готовился к этой своей работе, собирал материал, но и над самой рукописью трудился чуть ли не шесть лет. Я видел первый рукописный вариант романа; в сравнении с ним печатный текст книги кажется совершенно другим, новым произведением. Каждая деталь по-своему многозначительна и символична. Вот, скажем, Мон находит на песке человеческий след и думает: это свой человек, земляк – вот как большой палец торчит отдельно от прочих; и наоборот, глядя на Ма Ли, тот же Мон подмечает: большой палец на ноге у него поставлен прямо – стало быть, человек этот – чужеземец. В древности одним из названий земли вьетов было слово «Зиаоти» – страна людей с торчащими в сторону пальцами ног. Правда, смысл этого названия, да и сама вытекающая из него особенность строения стопы многим ученым представляются спорными; но писатель волен выбрать подходящий для его замысла материал. Или еще – чай, приготовленный из свежих листьев, как принято «в южных краях дело в том, что вьеты в старину не подсушивали (в отличие от китайцев) чайный лист на огне; так и сейчас еще готовят чай во многих вьетнамских деревнях. Гадание по куриным ножкам часто упоминается в преданиях вьетов; даже в старых китайских книгах отмечалось: прорицатели вьетов искусно гадают по куриным ножкам. На празднествах, описанных в романе, мы встречаем старцев, повествующих нараспев о славных деяниях прошлого; но такие выступления сказителей и впрямь были непременной частью вьетских праздников, их и доныне можно услышать на празднествах малых народностей Вьетнама. А странная вроде речь придворного мудреца, убеждающего государя Хунга в мятежных замыслах Ан Тиема? Едва ли не главный его довод – соотношение числа естественных гор и возвышений, насыпанных Ан Тиемом в Вайло (две горы – три горы; девяносто девять гор – сто гор). Но эта «мистика чисел» пришла из народных преданий: когда первый государь Хунг искал место для своей столицы, выбору его мешало то, что, скажем, холмов, протоков и т. п. было не сто, а лишь девяносто девять. Берега реки в Байло рушат водяные буйволы. Казалось бы, почему не драконы, не прочие чудища? Но То Хоай и здесь точен: по древним преданиям, именно в тех местах, где государь Хунг основал столицу, жили в реке черные водяные буйволы…
Точен и другой прием То Хоая: действие в романе развивается по законам так называемого эпического времени, течение которого не соотносится с какими-либо внешними точками отсчета, а прежде всего определяется закономерностями и развитием самого действия. Эта временная концепция органична для формы повествования, избранной автором, – формы романа-притчи…
Что же, спросите вы, «Затерянный остров» – это роман, так сказать, чисто исторический, далекий от нашего времени, его тревог, проблем и конфликтов? Нет, книга То Хоая весьма и весьма современна. Именно эпоха государей Хунг, в которую уходит своими корнями вся история вьетов, сегодня в центре внимания вьетнамских историков, археологов, этнографов. Ее изучают, о ней пишут и спорят. Разве не в ней истоки национального характера вьетнамцев, их стойкости и мужества, поразивших недавно весь мир? Вспомним слова президента Хо Ши Мина: «Государи Хунг славными деяниями создали отечество, наш с вами долг его отстоять и упрочить…».
Почти пятьсот лет назад, в 1492 году, в предисловии к «Дивным повествованиям земли Ланьнам» книжный муж By Куинь выражал надежду, что в будущем кто-нибудь из «любящих старину совершенных мудрецов» доищется до сути собранных в книге легенд, отшлифует ее замысел и украсит стиль. Этот его призыв услышал и воплотил в жизнь в своем романе наш современник То Хоай.
* * *
Давайте снова вернемся в нашу эру и в наше столетие. Разговор об истории окончен. Это была вторая гуманная акция То Хоая. Предисловие, можно считать, закончено. То Хоай доволен, и теперь он, как было обещано заранее, рубится на пластмассовых мечах с моим шестилетним сыном.
Наконец То Хоай «убит» в третий раз и ему позволено перевести дух. Он садится за письменный стол, берет журнал и читает по складам русское название: «Хи-ми-я и жи-знь».
– Послушай, – спрашивает он, – а ты никогда не жалеешь, что не стал ученым? Конечно, литература – великая вещь. Бездуховный человек не создал бы теорию относительности, да и космического корабля не построил бы. А все-таки прекрасно, наверное, самому открыть нечто такое, что существует от века, но чего раньше, до тебя, никто не угадывал, не знал. Распахнуть перед людьми еще одну дверь в будущее.
Трудно не согласиться с этим. Но из врожденного чувства противоречия я возражаю, что вот, мол, многие считают, развитие науки, техники привело к созданию сверхмощного оружия, к уничтожению природной среды, и еще неизвестно, чем все это кончится.
– Нет, – говорит То Хоай, – я верю в людской разум. Наука и прогресс – нераздельны. Ясно, экологи правы, когда бьют тревогу. Да, природа больна, и виноваты мы, люди. Но главное – мы поняли это, осознали себя частью природы. Наши знания выросли тысячекратно; когда-то мы читали древесные срезы, сегодня мы можем прочесть генетический код. Человек исцелит раны, нанесенные природе, и наша Земля станет еще прекрасней.
Не правда ли, поразительна неколебимая вера в разум у человека, который, как и все его соотечественники, на протяжении десятилетий знакомился с техническим прогрессом большей частью через порожденные им средства уничтожения.
Он, выходец из народа, у которого завоеватели не раз пытались отнять его землю, достояние, язык, чувствует себя гражданином планеты. Это понятно, его книги изданы в разных концах земного шара. Он награжден международной литературной премией «Лотос», за рубежом удостоены премий фильмы, снятые по его сценариям, его рассказы. Его, председателя Ханойского отделения Ассоциации литературы и искусства, секретаря правления Союза писателей Вьетнама, коллеги из стран Азии и Африки недавно, на VI конференции в Луанде, избрали в секретариат своей Ассоциации.
Мир. Земля. То Хоай путешествует по ней не в одиночку – вместе с ним странствуют тысячи читателей его очерков. Есть у То Хоая на Земле три любимых города: Дели, Тбилиси, Бейрут. Нет, не ищите здесь следы пресловутого «восточного духа». Вспомним проникновенные строки То Хоая об афинском Акрополе и шедеврах ленинградского Эрмитажа; вспомним: среди любимых его писателей – Тургенев, Достоевский и Чехов, Малапарте, Моравиа, Мопассан, Метерлинк… Просто ему очень нравятся Дели, Тбилиси, Бейрут.
Что ж, пожелаем ему еще раз побывать там и во многих других земных городах. Нам пора попрощаться с То Хоаем. Вот он неспешно ходит по номеру гостиницы «Советская», проверяет, достаточно ли «научно» уложены чемоданы. Напоследок бережно складывает в портфель тетрадки в розовых корочках – рукопись романа «Чужбина»: он правил ее здесь, в этой тихой, уютной комнате. «Мне, – говорит он, – в путешествиях работается особенно легко».
Нет, не верится, что ему через год стукнет шестьдесят. Он, по-моему, вообще не меняется. Бег времени, перемены заметны лишь в его книгах. А впереди еще годы и – книги. Как утверждал он однажды: «Самый интересный рассказ всегда тот, который нам еще предстоит написать. Автор, взяв в руки перо, должен заранее видеть эту трудность, угадать эту муку, бесконечную эту надежду».
1979 г.
Нгуен Динь Тхи
Наши годы как зерна риса, что из горсти Революции развеяны по ветру[20].
Нгуен Динь Тхи«Вечер в устье реки»Теплым октябрьским днем мы сидели с Нгуен Динь Тхи в гостиной Союза писателей Вьетнама. Чашки, расписной чайник с пахучим зеленым чаем, сигареты были сдвинуты к самому краю приземистого стола. Перед нами громоздились кипы бумажных листов с эскизами костюмов и декораций к новой исторической драме Нгуен Динь Тхи. Как-то странно воспринимались средневековые уборы и крепостные стены в современном двухэтажном особняке на улице Нгуен Зу[21], звенящей ребячьими голосами (в школе закончилась первая смена), гудками машин и трелями велосипедов.
– Смотри дальше сам, – сказал Нгуен Динь Тхи, – мне надо позвонить режиссеру. Может, он к нам подъедет…
Худощавая фигура Тхи скрылась за перилами витой цементной лестницы. И я, прислушавшись к частому стуку его шагов, вспомнил вдруг, как таким же погожим днем двенадцать лет назад мы по этой самой лестнице поднимались на крышу дома. «Здесь, – сказал тогда Тхи, – прекрасный наблюдательный пункт. Большая часть города как на ладони и небо открыто чуть не до самого горизонта»… Оттуда и впрямь отлично были видны перипетии воздушного боя, быстрые стреловидные силуэты самолетов, грибы зенитных разрывов, дымные трассы ракет. Когда они настигали акулью тушу «фантома», из груди притихшего города вырывался вдруг тысячеголосый победный крик.
Именно здесь, как рассказывал Тхи, на этом импровизированном наблюдательном пункте, и родилась у него мысль написать книгу о защитниках вьетнамского неба. Книг получилось потом не одна, а целых две. Первая (она вышла в 1966 году), «В огне», – о зенитчиках. Вторая, изданная год спустя, «Линия фронта пересекает небо», – о первых вьетнамских летчиках, поднявшихся в небо на реактивных машинах. И материал для них Тхи собирал далеко отсюда. Мне доводилось потом видеть книжки и фото Тхи с его автографами в землянках зенитчиков у легендарного моста Хамжонг, где было сбито около ста американских самолетов. А в прославленный истребительный авиаполк «Красная звезда» Тхи сам привез нас (полк базировался тогда неподалеку от Ханоя). Помню, как рад был «своему» писателю замполит полка, как собрались тотчас все свободные от полетов пилоты, техники и наперебой расспрашивали Тхи о том, хорошо ли ему работается, где побывал за это время, когда ждать новой книжки. В полковой библиотеке было, чуть ли не полное собрание сочинений Тхи, даже русские переводы его книг – многие летчики учились у нас, в Советском Союзе, и хорошо знали русский…
Обе повести эти имели большой успех во Вьетнаме. Переводились, в особенности вторая, за рубежом – в социалистических странах и на Западе. Конечно, успехом своим они во многом обязаны были тому интересу, с которым все человечество следило за так называемым «вьетнамским феноменом»: небольшой, по сути дела, народ сражался – и успешно – против главной империалистической державы. Однако истинной причиной успеха стало все же несомненное мастерство автора. Информации о вьетнамской войне – информации всяческой – в мире было тогда предостаточно. Но книги Тхи открывали людям новый, почти неведомый прежде аспект: человеческую сущность совершаемого Вьетнамом подвига, духовные корни поразившего всех мужества и стойкости вьетнамцев. Это стало возможным благодаря таланту и мастерству автора, реализму и точности его письма, психологической достоверности персонажей.
Истоки такого успеха, скорее всего, надо искать в первой повести Нгуен Динь Тхи, вышедшей без малого тридцать лет назад. Павел Григорьевич Антокольский в предисловии к русскому ее изданию приводит историю о том, как в начале 1952 года близ оккупированного тогда французами Ханоя жандармы при обыске обнаружили у девушки-вьетнамки «пропагандистскую коммунистическую книгу». Девушка была брошена в тюрьму, а книга попала в архив военной полиции. Это и была первая повесть Тхи, «Вперед, в атаку!». Не думаю, чтобы жандармы вникали в художественные достоинства книги, но огромный революционный заряд, таившийся в повести, они оценить могли. Повесть Тхи стала одной из первых удач новой вьетнамской литературы. Не случайно она была удостоена премии Ассоциации культуры и выдержала впоследствии еще три издания. Что же это за книга? Тхи, в то время политрук прославленного Столичного полка, написал ее в считаные недели отпуска, предоставленного ему по просьбе Ассоциации культуры. Сюжет повести, в сущности, сводится к нескольким дням боевых действий штурмовой роты. В ней нет героев в привычном смысле этого слова; в центре повествования – коллектив, сообщество людей, сражающихся за свободу и независимость своего отечества. Сам Тхи подчеркивал когда-то эту особенность своей повести, говоря, что такое же построение и замысел, такой «коллективный» герой свойственны целому ряду произведений того времени. Быть может, именно так, в истории целого подразделения, проще было отобразить эпопею великой народной войны. (Оговорюсь в скобках: на этом же самом приеме построены и две упомянутые выше повести Тхи об антиамериканской войне.)
Определились в первой книге и особенности стиля Нгуен Динь Тхи – четко выстроенная динамичная драматургия сюжета, умение точными скупыми штрихами воссоздать батальные сцены и в то же время проникнуть в самую суть характера своих персонажей – бойцов и командиров революционной армии. Короче говоря, выбор Ассоциации культуры, присудившей ему премию, был верен. Тхи когда-то подарил мне первое издание этой повести – маленькую, неровно обрезанную книжку, отпечатанную на ноздреватой серой бумаге. Книга эта красноречивее всяких слов свидетельствует о тех неслыханных трудностях, с которыми сталкивалась Ассоциация, созданная в 1947 году в джунглях Вьетнама, опорной базы Сопротивления. Кстати, и сам Тхи, войдя в руководство Ассоциации, помогал издавать книги и ежемесячный журнал, проводить дискуссии, работать с молодежью.
В том же 1947 году он напечатал статью «Выбор пути», где писал, что именно первые выстрелы Сопротивления определили во многом содержание жизни писателей и их труда. И это верно. Здесь будет уместно вспомнить: речь шла о писателях-патриотах. Но многие из них, в том числе и Тхи, сделали свой выбор еще до Августовской революции 1945 года. Со школьной скамьи начался путь Нгуен Динь Тхи в революцию. Ему не было и двадцати, когда он вступил в созданную компартией в 1943 году подпольную Ассоциацию культуры за спасение родины. Успел он познакомиться с застенками и камерами для пыток в тюрьмах – их колонизаторы понастроили во Вьетнаме гораздо больше, чем школ. Август сорок пятого он встретил уже опытным работником революции; партия сразу же доверила ему пост заместителя министра по делам просвещения и молодежи, он также стал одним из руководителей Союза патриотических деятелей культуры. Революция стала решающим, поворотным событием в жизни Нгуен Динь Тхи, не случайно многие свои письма и статьи он датировал: «такой-то год Демократической республики». Подполье, участие в революции и ее преобразованиях стали для молодого писателя неоценимой школой, сформировали его мировоззрение, закалили веру в торжество правого дела.
Это нашло свое отражение и в удивительно ясном, оптимистичном настрое первой его повести. Хоть она и писалась за четыре года до победной битвы под Дьенбьенфу, вся книга и в особенности финальная сцена полны ощущением близкой победы. Победа и мир – вот заветная мечта героев книги, их цель, ради которой они жертвуют жизнью. Можно было предположить, что победоносное завершение войны и приход долгожданного мира на землю Северного Вьетнама дадут творчеству Тхи новые темы, иную окраску. Но в 1967 году он издает сборник военных рассказов «На берегу реки Ло». Годом раньше вышла книга его стихов «Солдат».
Я позволю здесь небольшое отступление о поэтическом творчестве Нгуен Динь Тхи, тем более что и формальным его дебютом в литературе была, вышедшая чуть раньше повести «Вперед, в атаку!» поэма «Мать солдата Тяна». Говорят, что поэт, начав писать прозу, редко уже возвращается к стихам. Не знаю, в истории литературы есть примеры и за, и против этого утверждения. Во всяком случае, Тхи стихов не бросил. Просто он, должно быть, из тех поэтов, которые долго вынашивают каждый образ, каждую строку. Многое здесь проясняют его собственные слова: «Писать стихи – значит жить, а не глядеть на жизнь откуда-то со стороны». Взяты они из статьи «Размышления о поэзии». О чем бы ни писал он (а фон большинства его поэтических вещей – война), стихам его свойственны простота, щемящая задушевность, ясность образов» и отточенность формы. Он одинаково свободно владеет и традиционными рифмами, и сравнительно новым для вьетнамской поэзии свободным стихом. Давайте послушаем:
Эта река, изгибаясь, течет куда, Эта дорога большая идет куда? Думы зеленых всходов риса в полях, Думы старинных пагод стремятся куда? Ранний гудок протяжный манит куда? Дым, над заводом клубясь, закрыл небеса. Прячут себя куда утренние облака? Прячет себя куда солнце по вечерам? В письмах, которые наспех набросала рука, Буквы их строчек сами спешат куда? Наши глаза людские глядят куда? Наши шаги людские ведут куда?С первого взгляда может показаться: перед нами привычные философствования о смысле бытия и т. д. и т. п. Сколько их уже было и будет еще! Но заключительные две строки придают стихотворению неожиданный поворот, новый смысл:
Ночью и днем, ночью и днем Южный Вьетнам зовет![22]Вспомним, стихи эти написаны в 1972 году, когда Вьетнам еще был рассечен надвое. И для поэта главным смыслом всего сущего, высочайшей целью было воссоединение родины, свобода и мир для всех его соотечественников на Севере и на Юге. Потому что «писать стихи – значит жить…».
А вот звучащие по-другому строки, иной критик назвал бы их «чистой» лирикой:
Деревья, стоящие вдоль тропы, По которой ты прошла, Хотят сегодня что-то сказать. Прохладный ветер сегодня – твой, Твоя – земля, поросшая травой. Гудок машины, человеческий крик, Жизни моей любой миг – Твои. …Я люблю тебя — И день мой как ручей, Ночь, как поле, в звездах. Чтоб мог набирать ее в горсть, как воду, Горе стало утешеньем, А слезы стали слезами, стекающими по небосводу.Не правда ли, хорошие стихи? И таких стихов у Тхи немало. Но мне, переводившему его повести и рассказы, всегда было интересно нащупать незримую нить, связующую его поэзию и прозу. Пожалуй, общность их в творческой манере, в методе исследования человеческих характеров, в образном строе. Проза Нгуен Динь Тхи глубоко лирична. В ней, как это обычно бывает в поэзии, особое по важности место занимает любовь, самое возвышенное и прекрасное из человеческих чувств. Быть может, секрет здесь в том, что большинство героев его прозы молоды. Несомненно одно: любовь и верность в любви для них необычайно важные, определяющие нравственные ценности. Тхи, как поэт, умеет подметить и выразить в прозе тонкие оттенки этих чувств: едва зарождающуюся любовь, радость встречи и горечь расставания, значимость каждого, пусть случайно оброненного слова, надежду, неотвязность воспоминаний…
Но вернемся к рассказам Нгуен Динь Тхи. Итак, 1957 год, третий год мира, и снова – книга военной прозы. Двенадцать рассказов, как бы вобравших в себя всю долгую и тяжелую войну Сопротивления 1946–1954 гг. А ведь поначалу очень уж неравны были силы. Только что созданным и плохо вооруженным отрядам Народной армии (в Столичном полку, где служил Тхи, в течение двух месяцев защищавшем Ханой от колонизаторов, на 2500 бойцов было всего 1500 исправных винтовок) противостояли превосходно, по тем временам, оснащенные французские силы, к весне 47-го насчитывавшие более ста тысяч человек. Нападение на молодую вьетнамскую республику было совершено вероломно и внезапно. Рабочим и техникам, ушедшим вместе с Народной армией из городов в горные джунгли, естественно, удалось вывезти, а точнее, вынести на своих плечах не так уж и много станков, оборудования, сырья. За год до начала войны страна, разоренная японской оккупацией, перенесла тяжелейший голод, унесший около двух МИЛЛИОНОВ человеческих жизней… Однако, как это ни парадоксально, первое же стратегическое наступление экспедиционного корпуса колонизаторов осенью 1947 года, поддержанное авиадесантами и речными флотилиями, закончилось неудачей. Ни французские военачальники – тогда, ни – позднее – многие западные историки не учитывали, что военные и материальные ресурсы, которыми располагала революция, должны быть многократно помножены на энергию, волю и мужество революционного народа. В горах Вьетбака, как уже говорилось, партия создала военную и экономическую базу Сопротивления. Здесь находилось правительство и главное командование. Здесь работал президент Хо Ши Мин. Вспомним написанное им во Вьетнаме четверостишие, датированное 1948 годом:
Глядя в окно, вопрошает луна: – Что, получилась строка? — – МЫСЛИ МОИ занимает война, не до стихов пока. Колокол вдруг прозвучал в горах, сон разогнав осенний, Звон возвестил, что победу в бою наши стяжали войска[23].В джунглях налажено было производство оружия, боеприпасов, медикаментов. Печатались газеты, учебники…
Народная армия вела операции и в других районах страны. Во вражеском тылу в каждом уезде, каждой волости, каждом оккупированном городе действовали партизаны.
Потерпело поражение и осенне-зимнее наступление французов в сорок восьмом – сорок девятом годах с его пресловутой стратегией «масляных пятен» (предполагалось, что захваченные экспедиционным корпусом плацдармы и созданные им укрепленные районы, расширяясь, как пятна масла по поверхности воды, стиснут и окружат освобожденную Народной армией и партизанами территорию). Переломным в ходе войны стал год 1950-й, когда от колонизаторов была очищена северная граница и Вьетнам установил непосредственную связь со странами социалистического содружества. Наверное, здесь стоит припомнить, что среди решающих предпосылок победы вьетнамской революции были разгром гитлеровского рейха в Европе и победа, одержанная советскими войсками над Квантунской армией – ударной мощью японского милитаризма. Вспомнить и то, как важна была для вьетнамского Сопротивления поддержка социалистических государств, всех миролюбивых сил, как борьба против «грязной войны» во Вьетнаме охватила всю Францию. У правящих кругов ее возникали трудности с отправкой в Индокитай каждого очередного контингента войск. И все же в последний год войны численность экспедиционного корпуса колонизаторов достигла 220 000 человек. Примерно столько же насчитывала армия марионеточного «императорского правительства». Но Народной армии, выросшей численно, перевооруженной, приобретшей боевой опыт, этот противник был, как говорится, по плечу. Колонизаторы терпели поражение за поражением. Их не спасала возросшая «щедрость» Вашингтона, все активней вмешивавшегося во вьетнамскую войну. Уже когда весной 1954 года шла решающая битва под Дьенбьенфу, тогдашний государственный секретарь США Даллес носился с планами «совместных действий» в Индокитае, а в Пентагоне изучалась возможность применения в Северном Вьетнаме атомного оружия…
События эти в отличие от последней войны сегодня, пожалуй, не у всех на памяти, и в том разговоре, который идет у нас о творчестве Нгуен Динь Тхи, обратиться к ним стоило ради того, чтобы лучше, полнее представить себе годы, когда были задуманы рассказы Тхи, когда жили, сражались и умирали их герои. Ибо для Тхи новеллиста событие, факт столь же значимы, как и характер, они связаны неразрывно. Он сам был участником этих событий и потому так верит в эмоциональную силу факта. Тхи выступает как бытописатель войны, язык его зачастую спокоен и будничен. Главное для него – передать сущность войны, ее дух. И здесь нет преднамеренной ограниченности, приземленности – нет, в каждом из рассказов ощущается достоверность описываемого, подлинность выведенных автором характеров. Мне не раз доводилось слышать споры о том, может ли произведение художественной литературы служить историческим источником, но для меня лично никогда не было сомнений: книги, написанные прозаиками и поэтами, могут, должны быть полезны для социологов и историков не меньше, чем статистические справочники, атласы, монографии. Сборник рассказов Нгуен Динь Тхи как раз из таких книг. Можно проследить, как шел Тхи к этой своей изобразительной манере. Истоки ее в его очерках, в прозе документальной. Передо мной отпечатанный все на той же серой бумаге номер журнала «Ван нго» за январь 1950 года. Его издавала Ассоциация культуры. Открывается номер воззванием президента Хо Ши Мина по случаю третьей годовщины Сопротивления. Далее набран очерк Нгуен Динь Тхи «Форт Нахан сметен с лица земли». Шесть страниц репортажа о том, как был взят вражеский укрепленный пункт близ деревни Нангыом. Запомните это название, читатель: именно у деревни Нангыом разворачивается действие рассказа «Ротный», который встретится вам в этой книге. И очерк, и рассказ посвящены одному событию – штурму и взятию форта. Но если очерк – это скупая батальная зарисовка, то в рассказе мы находим (в столь же точно выписанной боевой ситуации) изображение человеческих судеб, характеров, столкновение их и связь. Проза Тхи в своем развитии движется от простого к сложному, от злободневности к художественным образам, к тому, что составляет непреходящую ценность искусства.
Есть в военной прозе Нгуен Динь Тхи, посвященной Сопротивлению, одна особенность: многие из страниц его повествуют о детях. Да, Тхи любит детей, легко находит с ними общий язык. Я убедился в этом, побывав вместе с ним в ханойской школе и в Театре юного зрителя в Москве. Но вернемся к его книгам. Так уж сложились обстоятельства в годы Сопротивления, что тяжкое и опасное бремя войны легло и на детские плечи. Подростки были связными и проводниками, ординарцами, писарями. Они, как и взрослые, держали в руках оружие, дрались с врагом и, случалось, погибали в бою. Маленьким героям Сопротивления посвящал свои стихи крупнейший революционный поэт Вьетнама То Хыу и многие его собратья по перу, им адресовал свои стихотворные поздравления с боевыми успехами президент Хо Ши Мин. Разумеется, отношение к этим ребятам со стороны командиров и бойцов не имело ничего общего с воинской субординацией, они были как бы младшими братьями, сыновьями, их берегли, им отдавали все самое лучшее и, если их настигала беда, оплакивали с особенной горечью. Потому что в конечном счете за детей, за их будущее и сражались солдаты…
Лет пятнадцать назад мне посчастливилось быть вместе с Тхи на читательской конференции в Намдине, третьем по величине и значению городе Северного Вьетнама. В клубе текстильного комбината собрались десятки работниц, почти все они были бойцами ополчения, и потому вдоль стен стояли винтовки. Беседу нашу дважды прерывал сигнал тревоги. Но каждый раз все исправно возвращались на свои места – уж очень интересный завязался разговор.
В последующие годы, когда бомбежки усилились, клуб этот и некоторые цеха комбината были разрушены. Сейчас они отстроены заново. За три года до этой встречи, в 62-м, вышел роман Нгуен Динь Тхи «Рушатся берега» – первый том дилогии. Книгу я к тому времени прочел. Она мне понравилась, и во Вьетнаме многие хвалили ее. Но что такое истинное читательское признание (обычно слова эти звучат как-то абстрактно), можно было понять на той намдиньской встрече. Выступила едва ли не половина собравшихся. Они прекрасно поняли книгу. Речь в ней шла о событиях, происходивших от начала Второй мировой войны в Европе и до марта сорок пятого, когда японцы, низложив французских колонизаторов, захватили Вьетнам. Те, кому было за тридцать, отлично все это помнили, да и молодежь историю революции знала. Дело не только в этом. Говорили о художественных достоинствах, о персонажах романа. Воплощение основной революционной идеи все видели в образе коммуниста-подпольщика Кхака. Но тут встала девушка в лиловом платье, сказала, что зовут ее Дао, что работает в шелкоткацком цехе. Она, продолжала Дао, согласна со всеми: подпольщик Кхак – центральный образ книги, и в судьбе его многое перекликается с судьбой самого автора. Однако ей кажется, что автор больше всех персонажей книги любит (она так и сказала – «любит») учителя Хоя, ставшего литератором, и что она убеждена: такой человек, как Хой, станет хорошим писателем и он-то и будет главным героем книги… Помнится, Тхи отвечал ей, что писателю трудно делить героев своих книг на «любимых» и «нелюбимых» и в каждый из персонажей вложена обычно частица жизненного опыта, раздумий и чаяний автора, короче, частица его самого. Но мне пришла тогда в голову мысль, что девушка по имени Дао в чем-то, быть может, и права.
И вот в 1969 году вышел второй том дилогии (в русском переводе он назван «Разгневанная река»). И стало ясно: да, именно Хой – главный герой книги; причем он действительно стал хорошим писателем. В образе этом много черт, напоминающих самого Тхи. И дело здесь не в сходстве жизненных ситуаций. Хой в отличие от самого Тхи обретает известность в литературе еще до Августовской революции. Правда, он, как и Тхи, за два года до революции вступает в подпольную Ассоциацию культуры за спасение родины. Но особенно схоже в них обоих – герое и его авторе – стремление к утверждению национального самосознания, национального начала в литературе. И здесь уместно припомнить первую литературную работу Тхи – прочитанную им в 1944 году перед студентами лекцию «Жизнеутверждающая сила вьетнамских казао и сказок»[24]. В то время как колонизаторы-французы насаждали в стране так называемое «моральное и патриотическое воспитание» и даже учредили «комиссариат спорта и молодежи», а занявшие Вьетнам японцы всячески рекламировали пресловутую идею «Великой Азии», обращение к народному творчеству, к родной истории было актуально не только в культурном, но и в политическом плане. И лекция, прочитанная Тхи, была как бы миной, подведенной под шаткое здание официальной пропаганды. С другой стороны, модными стали тогда и мотивы разочарованности в жизни, этакой вселенской тоски. Некоторые утверждали даже, будто во вьетнамской литературе испокон веку преобладает пессимистическое начало. И против этой теории выступил тогда Тхи. Нужно черпать уверенность и силу, утверждал он, в сокровищнице народного творчества, главное для человека – оптимизм, вера в будущее. Он говорил о близких мотивах в фольклоре Вьетнама и других стран, ставя тем самым творчество своего народа в общий единый ряд мировой культуры. Текст этой лекции в отличие от многих других бумаг Тхи, ставших добычей «библиофилов» из французской тайной полиции, сохранился и открывает теперь оба издания его книги «Некоторые проблемы литературы» (1956, 1958 гг.).
Есть еще одна сходная черта у Нгуен Динь Тхи и его героя: оба стремятся к конкретным делам на благо народа, общества. Хой учительствует, становится подпольным работником национально-освободительного фронта Вьетминь в Ханое, потом, вернувшись в родную деревню сразу же после революции, избирается председателем общинного комитета освобождения; наконец, снова приехав в Ханой, стремится наладить совместные действия с собратьями по литературе, получает (и, видимо, примет) предложение поехать военным корреспондентом на Юг, где колонизаторы начали вооруженные действия против народной власти раньше, чем на Севере. На этом кончается второй том романа. Но мы с вами, читатель, можем представить себе дальнейшую его судьбу, зная, как сложилась после революции жизнь автора книги. О военных годах Сопротивления уже говорилось выше. А после восстановления мира Нгуен Динь Тхи снова среди тех, кто руководит строительством новой культуры. В 1957 году, когда была создана Ассоциация литературы и искусства Вьетнама, в которую вошли все творческие союзы, Тхи избирается ее генеральным секретарем. Через год становится также генеральным секретарем Союза писателей. Он редактировал еженедельную газету «Ван хаук» («Литература»), затем журнал «Так фам мой» («Новые произведения»). Избирался депутатом Национального собрания. Делегат III съезда Партии трудящихся (ныне Компартии) Вьетнама, он говорил в 1960 году с трибуны съезда об успехах и трудностях новой вьетнамской литературы, о ее высоком призвании служить народу, о новом типе читателя. Тхи часто бывает в других странах, участвует в различных международных встречах. Он убежден: писатель – прежде всего борец за справедливость, гражданин и гражданский свой долг исполняет в полную меру – меру всех своих сил и таланта.
Надо отметить, что дилогия Нгуен Динь Тхи среди вьетнамских романов выделяется еще и той ролью, которую в ней играют люди творческих профессий – писатели, музыканты, живописцы. В этом, очевидно, нашли свое отражение долгие раздумья автора об общественной функции и значимости интеллигенции, ее месте в социальной и духовной жизни народа. Разумеется, это в какой-то мере усложнило задачу автора. Но Тхи всегда интересовала соотнесенность реальной действительности, ее художественного изображения и самого творца эстетических ценностей. В одной из своих статей он писал, что внутренние законы искусства гораздо важнее надуманных приемов и правил, которые, точно тюремные стены, ограничивают кругозор и изобразительные средства художника. «Когда… эти стены будут разрушены, пределом творческого простора станет лишь собственная способность идти вдаль». Именно постижение законов творчества и зрелость таланта позволили Тхи воссоздать в его дилогии огромную панораму становления, роста и торжества революции, показать все слои тогдашнего вьетнамского общества в процессе их развития и взаимодействия, изобразить хозяйничавших в стране французских и японских колонизаторов, связать все это с ходом мировой истории. И в то же время события и факты – исторические события и факты и те, что вымышлены автором, – выписаны с той же подробностью и точностью, как и в малой его прозе. Роман Нгуен Динь Тхи поистине реальность, воплощенная в слове. И, я думаю, другим он быть не мог. Ведь не случайно в своей книге «Работа писателя-романиста» (1964 г.) он сравнивает автора, оторвавшегося от реальной действительности, поправшего ее ради «чистого» вымысла, с человеком, танцующим в одиночестве перед зеркалом.
Здесь я позволю себе еще одно отступление. Это будет отступление о нас с вами, о русских людях и о России. Есть в романе у Тхи два персонажа: Нина – она скрипачка и Федор – пианист. Оба играют в баре «Галльский петух», хотя, судя по всему, это музыканты серьезные; оба стремятся в Россию, на родину и в разное время при различных обстоятельствах покидают Ханой. Это не выдумка автора. Знаю и я понаслышке: в те времена несколько русских людей жило во Вьетнаме. Кто, почему – не ведаю: эмигрантские судьбы запутанны и темны. И вряд ли были они такими, как их вывел Тхи. Особенно Федор, отмечавший вместе со своим вьетнамским другом каждую победу Советской Армии над фашистами. А может, и были… Во всяком случае, для Тхи они быть другими не могли. Ибо это важный для него голос России в той многосложной оратории, с которой можно сравнить его роман. (Кстати, оправдаю это сравнение: Тхи – музыкант, и музыкант изрядный: песни, написанные им еще в годы Сопротивления, поют и доныне.) Россию, незримо присутствующую в романе в сводках новостей, спорах героев, авторских отступлениях, Тхи хотелось очеловечить, воплотить в плоть и кровь людей, живущих рядом с вьетнамцами, делящих с ними горе и радости. Русский голос этот в творчестве Тхи не одинок. О России, Советском Союзе говорится не раз в его очерках и статьях, где он всегда подчеркивал, что учился и учится у русской и советской литературы, старался донести до своих вьетнамских коллег и конечно же до читателей своих непреходящее величие произведений Достоевского, Толстого, Горького. К творчеству Горького он обращается особенно часто. Есть у него поэма «Песня о Черном море». В основе ее сюжета исторический факт: в 1919 году будущий второй президент Вьетнама, тогда совсем еще молодой человек, товарищ Тон Дык Тханг, поднял вместе с французскими моряками над одним из кораблей военной эскадры, посланной к берегам Одессы, красный флаг. В поэме событие это дано на широком, своеобразно выписанном фоне Одессы, где Тхи побывал после II съезда советских писателей в 1954 году. Он был гостем и других наших писательских съездов, приезжал в творческие командировки, на отдых. У него немало друзей среди наших писателей и поэтов. К шестидесятилетию Октября Тхи написал для «Литературной газеты» небольшой очерк «Люди слышат», где сравнивал нашу революцию с восходом солнца, озарившим путь всем людям планеты. Я помню, как этот очерк цитировал пожилой рабочий на митинге в клубе Московской картонажно-бумажной фабрики. Коллектив ее передал тогда в дар недавно созданному издательству Союза писателей Вьетнама 100 тонн бумаги. Потом бумагу эту везли во Вьетнам морем, и Тхи встречал ее вместе с другими писателями в Хайфонском порту. Тогда, на митинге, он сказал: «Я не знаю, товарищи, чьим книгам посчастливится быть отпечатанными на вашей бумаге. Но, поверьте мне, это будут хорошие книги…»
Казалось бы, успех дилогии должен был подвигнуть Тхи и дальше писать прозу, идти, как говорится, проторенной тропой. Но тут-то и охватило его новое, всепоглощающее увлечение. «Существуют две разновидности влюбленных, – сказал он в интервью для журнала „Иностранная литература“ два года назад. Одни с первого же мгновения дают волю чувству, в других страсть созревает постепенно, но зато со временем овладевает всем их существом и потом уж не знает удержу и границ. Сознаюсь, я принадлежу к „медлительным“ влюбленным. Объект моей нынешней страсти – театр». Вообще-то Тхи в драматургии не новичок. В 1961 году он издал пьесу-сказку «Черный олень». Увы, тогда некоторые критики неверно, на мой взгляд, поняли пьесу. Потом, как мы помним, был издан роман, напечатаны стихи, очерки, статьи, забавная сказка для детей «Как котенок Миу встречал Новый год» (она не раз издавалась у нас, и хотелось бы, добавлю я в скобках, чтобы и наши малыши вслед за своими вьетнамскими сверстниками увидали героя ее воочию – в отличной картине, выпущенной ханойской студией мультфильмов). Но вот «медлительная» страсть созрела. Причем настолько, что самому Тхи теперь кажется, будто все написанное им прежде было «лишь подходом, ступеньками к театру». За семь лет написано четыре пьесы, и Тхи утверждает, что никогда еще не работал так много и так самозабвенно. Первая пьеса «Хоа и Нган» названа по именам двух главных ее героинь. Действие пьесы охватывает непривычно долгий для сценического произведения срок – семнадцать лет, с 1956 по 1973 год. Вспомним, в 1954 году закончилась война Сопротивления, в 1959-м разгорелась партизанская война в Южном Вьетнаме, с 1960 года Соединенные Штаты расширяют свою агрессию на Юге, а в 1965 году переносят военные действия на территорию Северного Вьетнама. Все это трагически отразилось на судьбах многих людей, разрушило семейное счастье, разбило, отняло едва начавшуюся любовь. Властно вторглась война и в жизнь героинь пьесы – медиков, тех. кто столько сил и труда отдает во имя победы и чьи имена никогда не упоминаются в докладах и сводках. А после публикации этой пьесы Тхи, как сказал он все в том же интервью, «вкусил не один лишь мед похвал…».
Прежде чем говорить о других пьесах Нгуен Динь Тхи, следует, пожалуй, рассказать о предшествовавших их созданию событиях в его жизни. В последний год войны он прошел по знаменитой «тропе Хо Ши Мина» на Юг, а потом, двигаясь от дельты Меконга на север, навстречу наступавшим войскам освободительных сил, снова пересек – в обратном направлении – почти весь Южный Вьетнам. Большую часть пути он проделал пешком. Но предоставим лучше слово самому Тхи. «Это ни с чем не сравнимо, – говорит он, – своими глазами видеть в районах, только что оставленных врагом, как, подобно бабочке из куколки, сбрасывая пожухлые, старые покровы, рождается новая жизнь. Множество человеческих судеб обернулось ко мне самой неожиданной стороной. Я видел смерть и горе, отчаяние и радость, торжество справедливости. Видел, говоря фигурально, «противление добру» – увы, не всем и не все сразу было понятно. А кто-то цеплялся за старое и не желал ничего понять». Дома, в Ханое, его уже считали погибшим, но он вернулся – уже накануне победы.
Разумеется, эпическая картина народной войны, гибели старой и становления новой жизни не могла не дать какого-то нового движения мысли и таланту художника, нового, более общего взгляда на историю как на постоянное противоборство социальных сил и человеческих характеров. Он увидел, как стремительны и драматичны повороты времени. Понял, что нет предела человеческому мужеству и долготерпению: зло, даже если оно одерживает верх, преходяще, а добро неодолимо. Но он понял также, что все им увиденное – итог долгого исторического бытия и прототипы встреченных им характеров таятся в толще веков. Он обратился к истории, чтобы постичь своих современников и поделиться с ними своим открытием. На средневековые сюжеты написаны две его новые драмы: «Бамбуковая роща» (1978 г.) и «Нгуен Чай в Донгкуане» (1970 г.). Героиня первой пьесы (действие происходит в XIII веке), принцесса, выданная замуж лишь затем, чтобы возвести супруга на престол, после горьких разочарований и прозрений осознает себя единственно законной владетельницей трона, но порывает с родными, не желая иметь ничего общего с мерзкой и суетной жизнью двора. Вещь эта поражает накалом страстей и масштабом характеров. Но ясен в ней и исторический подтекст. Только что пришедшая к власти династия Чан собирает силы для отпора готовящемуся нашествию из Китая. И вьетнамский государь вынужден опираться на народ, выходцы из которого играют важную роль в пьесе. Во второй выведен Нгуен Чай (1380–1442 гг.) – великий вьетнамский поэт, мыслитель, государственный деятель и полководец, один из вождей кровопролитной и долгой народной войны, завершившейся изгнанием вторгшихся в страну китайских захватчиков. Он показан в годы своего заточения в Донгкуане (тогдашнее название вьетнамской столицы), откуда бежит, чтобы примкнуть к повстанцам. В этой второй драме с удивительной правдивостью и силой изображены выходцы из самых различных сословий – вельможи, ремесленники, воины, монахи, актеры. Омерзение и гнев вызывают образы завоевателей – китайских военачальников, солдат, тюремщиков и продавшихся им изменников. В пьесе о Нгуен Чае автор отходит от строгой реалистической манеры письма, свойственной первой его исторической драме; здесь много присущей современному театру символики и условностей.
Однако, если речь зашла о сценической символике и условностях в драматургии Нгуен Динь Тхи, нам придется вернуться к другой его пьесе – «Видения», созданной в 1977 году. Написана она ритмической прозой и стихами. Я затруднился бы отнести ее сразу к определенному жанру. Пьеса-фантазия? Драматическая поэма? Философическая притча?.. Суть действия сводится к противоборству умирающего от ран солдата со Смертью. Мир небытия предстает заманчивыми или значительными, по мнению Смерти, видениями – явлением египетской царицы Клеопатры, Императора, олицетворяющего жестокость, твердолобость и чванливую гордыню (он списан с древнекитайского императора Цинь Шихуана – деспота, печально прославившегося сожжением книг и искоренением всяческого свободомыслия). Но есть в потустороннем мире и герои древней вьетнамской легенды: принцесса Тиен Зунг и ее муж, бедный рыбак Ты Донг Ты, – символизирующие верность в любви и неодолимую силу труда и упорства человека. Мир живых, оттесняющий Смерть, представлен Матерью солдата, Возлюбленной его, Учеником, Старцем, ищущим сына… Вот что сам Тхи говорит об этой своей пьесе: «Персонажи ее – собирательные, символические образы, и взаимодействие между ними определяется не логикой жизненных ситуаций, а столкновением и развитием идей… В боренье жизни и смерти, любви и ненависти, воли и бессилия Смерть терпит поражение» (цитата из названного выше интервью).
Нгуен Динь Тхи – писатель, мыслящий современно, интересно, остро. Он заставляет своих читателей задуматься над коренными вопросами бытия, равно как и над перипетиями повседневности. Он хочет, чтобы каждый из его соотечественников, строя настоящее, укладывал бы камень за камнем в устои будущего, чтобы люди видели и понимали великие идеалы этого будущего. Потому что, как говорил он в одном из своих выступлений: «Социалистическая новь вовсе не упадет сама собой с неба и не наденется вдруг заграничной одежкой на нас, вьетнамцев». Социализм, утверждает Нгуен Динь Тхи своими книгами и делами, – это непримиримая борьба со всем старым, косным, отжившим свой век, неустанный труд и творчество.
Ему исполняется в нынешнем году пятьдесят шесть лет. Это многообещающий возраст для писателя, умеющего работать так самозабвенно, без устали. У него выходят КНИГИ, драма о Нгуен Чае репетируется сейчас в ханойском Драматическом театре, пьесу «Видения» намерен включить в свой репертуар вьетнамский Театр киноактера, она переведена на венгерский и готовится к постановке в Будапеште. Вероятно, будут переведены пьесы Тхи и у нас, в Москве, для составляемого издательством «Искусство» тома драматургии, который, как и эта книга, войдет в Библиотеку вьетнамской литературы.
Есть в его книге «На берегу реки Ло» рассказ «Обратный путь», последний в сборнике, посвященный уже наступившему миру. Герой его, Кхай, говорит своим спутникам, возвращающимся, как и он, с фронта: «Наверно, нынешней ночью по всей стране такая же непривычная тишина, как здесь. Мир, нигде не стреляют больше…» Да, тишина – вернейшая, первая примета мира. Увы, на земле Нгуен Динь Тхи она не всегда долговечна. Вспомним, как два года назад ее разорвали в клочья китайские пушки. И я знаю, где бы сейчас ни был Тхи – сидит ли он за письменным столом, глядит ли из темного зрительного зала на актеров, играющих его пьесу, или по нескончаемым своим дорогам снова едет куда-то, – он слушает привычным ухом эту Тишину, такую зыбкую и непрочную в наш беспокойный век, потому что был и останется до конца солдатом – солдатом революции.
1981 г.
Об Аркадии Натановиче Стругацком
Но как же мы подружились? И почему? На эти вопросы ни я, ни он не могли ответить. Хотя сам факт дружбы был налицо. И многие люди могли это наше взаимное чувство засвидетельствовать. Такая неясность становилась уже подозрительной. Мы выпили, закусили и заключили джентльменское соглашение: считать годом нашего знакомства 1959-й. Скорее всего, так оно и было. Я к этому времени уже второй год работал в Иностранной комиссии Союза писателей, начал печататься. А. Н. становился знаменит, работал в издательстве. Было много общих знакомых и мест, где мы могли «пересечься». Но бог с ней, точной датой.
Я сразу ощутил некую тягу к общению с А.Н. В какой-то мере (наверняка меньшей) нечто похожее чувствовал и он. Когда А.Н. уже слег, мы общались больше по телефону. Особенно если выдавался погожий день. Светило солнышко и рождалась надежда: может все еще обойдется, снова будем встречаться. Когда А.Н. уже не стало, у меня еще долго в «золотые» утра тянулась рука к телефону – набрать его номер. С горечью вспоминаются слова из интервью А.Н., напечатанного в «Даугаве»: «…Мне не от чего защищаться… От смерти не защитишься все равно…»
Если сделать ненаучное допущение, что Природа (Творец) экспериментирует, пытаясь создать «совершенного человека», моделирует, что ли, – А.Н. представляется мне как некий вариант искомого. Огромный, сильный, красивый, кладезь премудрости, талант, душевное благородство И все это соединялось в нем естественно, органично. Никакой не чувствовалось нарочитости, позы. Манеры его, казавшиеся иному «старомодными», были, вспомню пушкинские слова, «рыцарской совестливостью». Он был человеком чести, не способным на отступничество, сделку с совестью. Уважением его я особенно дорожил. Я был моложе А.Н., иной раз возникали соблазны: карьера, прельстительные блага. Для обретения их требовалось вступить в партию, чем-то поступиться – существенным. И всякий раз в подобной ситуации я вспоминал эпизод из «Трех мушкетеров» (мы с А.Н., оба, любили эту книгу и знали чуть ли не наизусть), когда кардинал Ришелье предложил д’Артаньяну чин лейтенанта в своей гвардии и командование ротой после кампании. И гасконец едва не согласился; но, поняв, что Атос после этого не подал бы ему руки, устоял… Не смею равнять себя с героем Дюма, но раз-другой опасение утратить дружбу А.Н. удерживало меня от неверного шага. Хотя сам А.Н. говаривал нередко: «Друг не судья, а адвокат». Умел прощать какие-то промахи и слабости. Но я понимал, речь шла не о всепрощении.
Он был, если можно так выразиться, талантливым другом. Всегда безошибочно угадывал постигшую близкого человека беду, находил способ помочь, ободрить. Помню, двадцать лет назад, после развода со всеми «отягчающими обстоятельствами», я, уверенный, что потерял навсегда сына, вот-вот лишусь дома и прочее, впал в мрачную меланхолию. Пытался писать – впустую, сидел почти без гроша, не мог ни с кем общаться. Вдруг позвонил А.Н. и спросил: «Что поделываете, вашество?» – «Ничего, все из рук валится. Хоть в петлю лезь.» – «Ну, – сказал он, – с этим можно и подождать. А знаете, какое нынче число?» – «Черт его знает…» – «Так вот, сегодня двадцать восьмое мая, день вашего тезоименитства. Извольте побриться и быть у меня через два часа.» Отказы, увертки не помогли. Я поехал на проспект Вернадского. Войдя в дверь, обомлел: за накрытым столом сидели друзья. А.Н., усадив меня рядом, произнес спич (он всегда это делал мастерски) и преподнес отпечатанную на машинке книжицу. На переплете выведено было: «Сказка о Тройке»… Возглавив дружеский комплот, А.Н. начал кампанию по «выбиванию» для меня жилья. Ходил в Секретариат СП, составлял петиции, подводил мины и контрмины. Для себя самого он ничего подобного не предпринял бы…
Поздней осенью 1975 года, перед долженствовавшим собраться в апреле 1976-го XXVI съездом КПСС, Московской писательской организации был предоставлен купейный вагон, которому предстояло пересечь всю страну от Бреста до Владивостока. Его прицепляли к разным поездам и отцепляли в намеченных заранее городах, где он, подобно известному бронепоезду, стоял на запасном пути, а московские литераторы встречались с читателями, посещали предприятия, вузы и т. п., дабы «собрать материал». Предполагалось после вагона создать коллективный сборник в подарок съезду. Нашлись энтузиасты – преимущественно из «патриархов», – проехавшие весь маршрут. Но большинство литпассажиров менялось поэтапно. Мы с А.Н. были в группе последнего этапа (Центральная Сибирь – Тихий океан). Поездка получилась интересная. Я думаю, для А.Н. было очень важным общение с читателями. Вопреки ухищрениям и прямым запретам со стороны союзписательского и издательского начальства, книги братьев Стругацких читали и любили. Люди протягивали А.Н. зачитанные, обтрепанные книжки с просьбой оставить автограф. Расспрашивали о творческих планах, о напечатанном. Вопрошали, сетовали, гневались… Читатели отстаивали свое законное право – самим определять свой круг чтения. Показывали копии писем в издательства, в «инстанции» и невразумительные ответы. И происходило это в самых разных аудиториях: в актовых залах институтов, научных центрах, на погранзаставе… Читатели приглашали А.Н. в гости, приносили подарки. Я тогда увидел впервые перепечатанных на машинке «Стажеров», «Трудно быть богом»… Потом уже довелось подержать в руках подобный «самиздат» и в Москве. Знаю семью, где муж с женой «пополам» отпечатали «Улитку на склоне». АН просил отдать ему этот манускрипт, но тщетно. Помню негодование моего друга и доброго приятеля А.Н. поэта Луконина, когда он, будучи секретарем СП, обнаружил в рекомендательном списке для издательств вычеркнутые книги Стругацких.
Издательскими делами в СП, если не ошибаюсь, вершил Сартаков, сохранивший, разумеется, в планах свои собственные творения. Неудовольствие литературных вождей вызвала в свое время и справка об изданиях наших писателей за рубежом, где чуть ли не первое место занимали книги братьев Стругацких. Творчество Стругацких, по моему убеждению, в 60-е, 70-е годы, да и 80-е отчасти, было существеннейшим явлением не только литературной, но и всей нашей духовной жизни. Оно оказало немалое влияние на формирование убеждений целого поколения, а может, даже и не одного. И не удивительно ли, что книги, написанные братьями Стругацкими, так и не нашли по сей день должного осмысления и оценки. А редкие «выбросы» критической мысли (даже на страницах таких почтенных изданий как «Новый мир» и «Знамя») отличаются предвзятостью, смутным представлением об истинном назначении и свойствах фантастики и тем, что именуется «подменой тезиса» и в старину еще сугубо порицалось философами. Как тут не вспомнить слова А.Н. о том, что отсутствие критики им с братом даже помогало!..
Важной составляющей бытия процветающих советских писателей являлись заграничные вояжи: участие в многоразличных форумах, творческие командировки, выезды на отдых и лечение… На имя А.Н. приходили десятки приглашений из разных стран, о каких-то он, возможно, и не знал. Причем приглашения, как правило, деловые: издания переводов, встречи с коллегами, читателями. Все эти приглашения не были реализованы. (Объективности ради замечу, что А.Н. в составе делегации СП СССР выезжал в Прагу на мероприятия, посвященные памяти К. Чапека (если не ошибаюсь, в 60-е годы). Там он впервые встретился с С. Лемом. Думаю, это было 75-летие со дня рождения Чапека.) Запомнился мне комический вариант: А.Н. был приглашен в Японию, где его знали не только как выдающегося писателя-фантаста (книги Стругацких переводились на японский язык), но и как прекрасного переводчика японской литературы; вместо А.Н. в Японию поехали несколько фантастов во главе, если мне не изменяет память, с В. Д. Захарченко. Говорят, велико было изумление вежливых японцев… Когда на исходе 80-х годов А.Н. получил очередное приглашение на Международную встречу писателей-фантастов, собиравшуюся на сей раз в английском курортном городе Брайтон, он уже сам не пожелал ехать. Сменившемуся к тому времени руководству Инкомиссии СП пришлось приложить немало усилий, дабы его переубедить. Роль уговорщика досталась и мне. Сам я к тому времени в Инкомиссии давно уже не работал, просто мне очень хотелось, чтобы А.Н. посетил туманный Альбион, куда собирались многие интересные и любезные его сердцу люди. Разумеется, был приглашен и Б.Н. Весьма рад, что эта поездка состоялась. Да и сам А.Н. остался премного доволен. Насколько комфортно он там себя ощущал, свидетельствует рассказанная им история. В ресторане их отеля официантка никак не могла понять, кто они, из каких краев. А.Н. запрещал своим спутникам открыть ей истину. И лишь перед отъездом, откушав последнюю трапезу, сказал ей: «Мадам, теперь я скажу вам правду, мы – китайцы». Потрясенная дама уронила поднос.
Ну а в последнее время публикация для самих критиков все чаще просто повод повыпендриваться на заданную тему и блеснуть изысками стиля. Критики эпатируют других критиков. Рождается некая эзотерическая отрасль словотворчества. Критик может больше не читать книг, не смотреть спектаклей и т. д. Я убедился в этом на «круглом столе», устроенном не так давно «Литературной газетой» после выхода в издательстве «Текст» 12-томного собрания сочинений братьев Стругацких. Там я узнал, например, что произведение, в коем наличествует звездолет, суть «сказка», а фантастика – род сочинительства, утоляющий в первую очередь развлекательные и предметно-познавательные потребности «человека читающего»… Но это еще полбеды! На основании просмотра библиографии изданий книг А.Н. и Б. Н. Стругацких просвещенные молодые люди вынесли приговор: вышеназванные авторы – обычные процветающие (sic!) советские писатели. (Правда, в опубликованном «ЛГ» отчете все выглядит пристойнее. Там также сказано, что во время выступлений В. Бабенко и моего выходил из строя магнитофон.) Значит, не было ни замалчивания творчества Стругацких, ни исключения их книг из издательской практики, продолжавшегося годами, ни клеветы и шантажа, ни «выдавливания» писателей Стругацких из страны. Поскольку о моей дружбе с А.Н. было, так сказать, широко известно, меня тогда то и дело спрашивали: правда ли, что А.Н. и Б.Н. уезжают? Уже уехали? А самые «осведомленные» называли даже адреса в Израиле или США. Не случайно ведь на состоявшемся в ту пору в Политехническом музее литературном вечере, посвященном фантастике и детективу, А.Н., получивший множество записок из зала (попадались и вопросы «щекотливые»), сказал во всеуслышание: «Я пользуюсь случаем. Ведь здесь собралось столько заинтересованных читателей наших с Борисом книг. И заявляю, что русские писатели Аркадий и Борис Стругацкие никогда никуда из своей страны не уедут!..» Зал разразился аплодисментами. А попытка опубликовать в «Комсомольской правде» фальшивку, под которой стояли подписи А.Н. и Б.Н., скопированные на ксероксе с издательского договора – это тоже из жизни «процветающих типичных советских писателей»? Или облыжные рецензии на книги Стругацких – симбиозы пасквиля с доносом?
Кем хотел быть
Аркадий Стругацкий
Опыт благосклонного анализа с отступлениями
Чтение как чистую усладу души отвергаю. Ценю вспыхивающий от него импульс к размышлению. Часто и запоминаю прочитанное в «блоке» с ассоциациями и поворотами мысли. Рассказы Мариана Ткачёва именно такое будоражащее чтение. Волею случая став когда-то их первым читателем, полагаю себя причастным к судьбе их; и думаю, вправе, друзья, предварить рассказы эти обращенным к вам доверительным словом.
Им не всегда везло с публикациями, хотя ходатаями были Андрей Макаенок, Константин Симонов. Доброхотствовал и аз грешный… Понятно, в годы, изящно именуемые ныне «застойными», сатирическая фантастика почиталась чуть ли не прерогативой авторов зарубежных, чтобы сразу было ясно: это – «про них». Но сегодня, когда на дворе у нас гласность и демократия, сатира вроде должна быть обласкана, как никогда; ибо – сошлюсь на авторитет самого Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина – главное ее (сатиры) предназначение: провожать «в царство теней все отжившее». Только вот прошлое наше, в котором столько было мучительно пережито, многими отринуто, осмеяно, не спешит удаляться в Аид – даже с провожатыми. Цепкий, мускулистый перевертыш, желает оно утвердиться на подмостках истории в роли Настоящего и домогается амплуа Будущего. Доморощенным «зодчим коммунизма» неймется преобразить восходящую спираль истории в замкнутый круг.
Как не пожалеть, что сатира наделена лишь властью обличительной, а не исполнительной! Тут я, убежденный демократ, голосую за объединение властей.
Мы философствуем, выводим индексы, рейтинги, спорим, как тесно должны быть увязаны политика с футурологией. Какая, позвольте спросить, политика? Та, под знаком которой влачим свое существование? Этой политике футурология, как и любая серьезная наука – прошу пардона за медицинский термин, – противопоказана. А показаны ей догмы, самоуправство, запреты. Логический (точнее – абсурдный!) вариант финала ее как раз изображен в рассказе Мариана Ткачёва «Всеобщий порыв смеха»: обнищавший народ на далекой планете Глюэна, готовящийся в очередной раз отказаться от «излишней» одежды и пищи, дабы – через Министерство Справедливых войн – утвердить идеалы тамошнего диктатора Великого Гордра во всей вселенной; жестокий, бездушный порядок, с тотальным доносительством и слежкой, даже всеобщие публичные обсуждения проводятся здесь тайно…
«Диктатор», «диктатура» – слова эти сегодня то и дело срываются (в туманно-благожелательном контексте) с языка иных наших политических витий. Но ведь история не раз уже выносила свой приговор. Сгинули фюрер, дуче и каудильо, наш Генералиссимус и, вспомним Александра Трифоновича Твардовского, «его китайский вариант». Однако, словно демоны из театральной машинерии, выскакивают в более или менее экзотических странах женерали-свободолюбцы (бывает и нижние чины), цивильные мужчины с университетскими дипломами, и сразу – в отцы нации, само собою, ради всеобщего блага, а иногда и социалистического рая. Кое-где диктатура становится семейным промыслом, наследственным институтом – даже в странах, величаемых народной демократией. Слава Всевышнему, человечество вроде стряхивает с себя реликтовый кошмар. Поредели ряды тиранов в Южной Америке, в Африке да и в Европе. Впервые объединилось против агрессии и насилия большинство мирового сообщества, нанеся тяжкий афронт «собеседнику Божьему» Саддаму Хусейну, любимцу наших чаятелей «железной руки». Однако же, усидев на вершине власти, он тотчас опять учинил народу кровопускание. И зазмеились слухи: отыскались-таки радетели, готовые помочь Хусейну и восстановить его военную машину. Точно так же – не без попечительства «добрых дядей» – все еще ратоборствует в многострадальной Камбодже вурдалак Пол Пот.
Диктатура особенно бесплодна в сфере духа. Вот и на далекой Глюэне – вернемся к предмету анализа – предержащим властям пришлось обратиться за интеллектуальным пособничеством к ненавистному им залетному землянину. Человек с Земли предложение отверг. Но верю, и на самой Земле, и в родном отечестве найдется все больше и больше людей, твердо говорящих «нет!» тирании под любой личиной.
Разумеется, я не склонен видеть в художественном произведении простую проекцию социальных коллизий, но первотолчок, особенно в сатире, часто исходит от них. Второй рассказ Мариана Ткачёва «На дистанции» – фантасмагория (где мне, фантасту, явственно видятся наши «цеховые» приемы). Здесь тоже как бы доведен до логического завершения конкретный аспект «реальной политики» – расстановка кадров, тех самых, которые – по Генералиссимусу – «решают все». Знаю, нет в Москве издательства «Красота», где происходит действие рассказа. И, наверно, ни в одной из столичных книжных фирм не директорствует более патентованный коновал. Но сколько за долгие годы литературной работы навиделся я профанов, ничтоже сумняшеся державших в длани бразды издательской колесницы! Подобно директору «Красоты» Хрустякову, взирали они на изящную словесность «сквозь призму коня». И так же, как в «Красоте», пели им аллилуйю иные «остепененные» искусствоведы. Но самое страшное даже не тягостный урон, наносимый коневодами книгоизданию. Я вижу в рассказе аллегорический образ Государственного Ведомства, перемалывающего с хрустом людей, их судьбы. Заезды, опять заезды, барьеры, повороты – и сердце человеческое, не выдержав, разрывается. Тут, пожалуй, одна из причин общественного протеста против ведомственного засилья, призывов к реформам, компетентному руководству. Увы, по всему судя, «административный бег» в эмпиреях власти продолжается.
Были (и остаются) у отжившей свой век бюрократической иерархии и всей нашей прежней системы ценностей литературные адепты, гимнопевцы. И из третьего ткачёвского рассказа «Всё ж силу слов пусть борет сила слов» я не без удовольствия узнал, какая судьба ожидает в сияющем будущем (о коем мы столько пеклись когда-то) лживые опусы, Ложный пафос. Прекрасна, на мой взгляд, идея Экстремального межгалактического трибунала, слушающего литературные дела. Нет, это – не судилище над авторами, что было бы в духе наших литпатриотов. Высокий суд беспристрастно и скрупулезно отбирает шедевры для хранения в Вечном Депозитории – духовной сокровищнице межзвездного сообщества цивилизаций. Здесь они доступны для обитателей ближних и дальних галактик, даря братьям по разуму счастье соприкосновения с Красотой, способствуя познанию и расцвету великого Искусства Слова. Никчемным, как проколотые воздушные шары, предстают перед трибуналом современный квазиклассик Юрий Кузьмич Мещерзанцев, его собрат по перу Побиек Протуберанский. Я ощутил бы даже некоторую неловкость за человечество, не пригласи наш автор на заседание и не представь он слово землянину Юсту Солину[25].
Кстати, само появление на вселенском ареопаге представителя земной цивилизации четыре тысячи (!) лет спустя, с головой выдает автора как убежденного оптимиста; пессимисты, чьи ряды множатся день ото дня, дружно предрекают Земле скорую гибель. Разоблачает он себя и в двух одесских рассказах – светлых, мажорных по своему настрою. Первый – «Письмо Татьяны» (в названии скрыта любезная автору книжная реминисценция) – знакомит нас с двумя маленькими мальчиками: так сказать, лирическим героем, сиречь самим автором, и Борисом – он, как правдиво указано в тексте, теперь знаменитый физик. Для меня их детство притягательно своей духовностью. Иначе не назовешь приобщение к книгам, музыке, театру и ощущение красоты слагаемых окружающего их мира: летних ли цветов, синего дельфтского фаянса или старинного фортепиано, парадной лестницы несравненной Одесской оперы, Приморского бульвара… Их мир полон добра:, всеохватная материнская нежность, строгая доброта бабушки, старомодно изысканная сердечность М.М., братская привязанность мальчуганов друг к другу… Этой духовности и добра хватило потом на долгие годы опасностей, лишений и тягот, потому что вскоре началась война с фашистами.
А сколько ребячества в повадках и поступках персонажей последнего рассказа – капитана Без-енко, истребителя, чудовищ, и его меланхолического приятеля. Перед нами типичная одесская история с футбольной горячкой в центре повествования. Мариан Ткачёв – великий знаток этой игры. В свое время он написал предисловие к роману турецкого сатирика Азиза Несина «Король футбола», где провозгласил примат южного (читай – одесского) стиля – иррационального и неистового. Есть в истории о капитане Без-енко и другие освященные традицией приметы: непринужденное (и уточним – безвредное) бахвальство, доверчивая красотка, постоянные уличные киносъемки, жареная камбала… И изложена она – тоже по традиции – тем самым «неправильным» языком, приводящим в ярость блюстителей филологической девственности.
Здесь будет уместно окончательное разоблачение нашего автора: да, он родился и вырос именно в Одессе. Отсюда конечно же присущая его прозе ирония – всеобщая черта одесситов. Виной ли тому южное солнце – жгучее и лукавое? Винноцветное море? Или длящееся который уж век здесь, на благодатном прибрежье, смешение разных кровей, наречий, нравов – реакция, рождающая самые острые, легковоспламенимые свойства человеческой натуры? Помнится, Мариан Ткачёв как-то в запальчивости утверждал, будто Вавилонскую башню строили поначалу в Одессе.
Нет, я отношусь к иронии вполне серьезно. Когда-то, пытаясь дознаться, в чем суть этого феномена, заполнил блокнот выписками, восходившими к эллинской мудрости. Любимейшей моей дефиницией стала фраза непреклонного идеалиста и романтика Фридриха Шлегеля: «Она (ирония. – А.С.), – говорит высокоученый немец, – самая свободная из всех вольностей, ибо благодаря ей можно возвыситься над собой, и в то же время самая закономерная, ибо она безусловно необходима».
Что ж, быть по сему!
Москва, май 1991 г.
Письмо Татьяны
– Вот тебе конверты, – сказала мама; у нее в консерватории начались каникулы, и она уезжала в Донбасс, в гости к тете. – Напиши мне сегодня же вечером первое письмо и брось завтра в ящик. Не успею я по тебе соскучиться, а оно – тут как тут.
Я поднялся на цыпочки – взглянуть, наклеены ли марки.
«Если нет, – решил я, – конверты невзаправдашние, и она просто хочет, чтобы я каждый день писал красивые буквы».
Но марки были: большие и разноцветные – с портретами папанинцев и географической картой, с дирижаблями и пароходом, из трубы которого валил густой сиреневый дым. Все точь-в-точь как у рыжего Изи с третьего этажа; только в его альбоме марки были со штампами.
«Друзья шлют из разных городов», – объяснял он нам, мне и Борису, с которым мы жили в одной квартире.
У Изи, хотя он ходил только в первый класс, были друзья повсюду; даже генерал Гинденбург и английская королева прислали ему на память марки со своими портретами…
– Почта поставит на эти марки штампы, – сказала мама, – а потом я привезу их тебе и подарю альбом. Начнешь собирать коллекцию.
…Коллекция! Я сразу понял, что именно коллекции мне не хватало все эти годы. Например, выезжаете вы из ворот верхом на палочке, а люди, идущие пешком, здороваются с вами и спрашивают:
«Скажите… Скажите, пожалуйста, куда это вы мчитесь так быстро?»
«Простите, – отвечаете вы на всем скаку, – простите, я очень спешу собирать коллекцию!»
Я даже почувствовал какое-то утешение в предстоящей разлуке с мамой. Тем временем она уложила свой чемодан, и мы втроем – бабушка, мама и я – присели на минутку, чтобы набраться сил перед дорогой на вокзал.
Я помогал маме нести чемодан два с половиной квартала. А бабушка несла провизию, потому что иначе она могла испортиться и маме пришлось бы голодать два дня и две ночи.
Потом мы сели в двадцать третий трамвай и стали ждать, пока ватман попьет воды с сиропом и получит сдачу. Бабушка, как всегда, очень разволновалась, и я испугался, что она сама поведет трамвай и ватману придется бежать за нами целую остановку.
Но тут зазвенел звонок, и мы покатили.
По-моему, на извозчике ездить куда интереснее: сидишь себе и видишь все и впереди, и справа, и слева. А из трамвая, даже если раз в год найдется место возле окошка, все равно видно только одну сторону и обязательно не ту, которую хочется. И потом извозчик может подъехать к самому вокзалу, а у трамвая не хватает рельсов, и он останавливается так далеко, что бабушка вообще не могла понять, зачем мы с ним связывались.
На вокзал пускали только по картонным билетикам. Их давала всем людям за деньги женщина, посаженная в стеклянную будку, чтоб они никогда не кончались. И хорошо, что за вход на вокзал берут деньги. Чем он хуже музея?
А здесь посередине еще фонтан с живыми рыбками! По залу впереди толпы с чемоданами ходила экскурсовод в красной фуражке и давала всем справки. Мы тоже походили за ней и узнали, на каком пути стоит наш поезд. По-моему, вместо номера перрона ей проще было припомнить, что у нашего поезда зеленый паровоз. У чужого он был черный. Мама объяснила, что паровоз зеленый – от скорости: скорый поезд – зеленый паровоз, медленный поезд – черный. Иначе люди не могли бы различать поезда: вагоны-то все зеленые. У мамы вагон был совсем новый, жаль только, он уезжал вместе с нею!
По перрону ходила женщина с лотком и вместо мороженого продавала цветы. Я достал из кармана все мои деньги и купил маме букетик, а она приколола его на платье с матросским воротником и перламутровыми пуговицами – мое любимое. Потом пришли мамины подруги и принесли ей большой букет. Но мой все равно был лучше!
Они почему-то вдруг загрустили. Тогда я прочитал им все слова, написанные на вагоне, и им опять стало весело. Но тут ударил первый звонок, и я сам загрустил. Лучше бы мама в этом новом вагоне приезжала сейчас обратно. Я так и сказал ей, но она решила все-таки уехать. Она поцеловала меня и шепнула мне на ухо про коллекцию. А потом еще дернула за нос – и совершенно напрасно, потому что все как раз смотрели в нашу сторону.
Конечно, женщины целовались до третьего звонка, и мы с мамой не успели даже поговорить. Она только крикнула мне: «Пиши!» Паровоз загудел, и вагоны тронулись. Стоило им разогнаться, как прибежал усатый мужчина с чемоданом. Он, наверно, только сейчас узнал у экскурсовода в красной фуражке номер перрона. Но машинист не заметил его и не дал задний ход. Тогда мужчина плюнул не в урну и пошел со своим чемоданом обратно на вокзал, а мы зашагали к выходу.
Я рассказал маминым подругам, какая у меня скоро будет коллекция, и они сразу напросились к нам в гости.
Дома я сообщил обо всем Борису. Борис пересчитал конверты, сосчитал дни, оставшиеся до маминого приезда, и результат перевел в альбомные страницы (теперь он знаменитый физик). Выходило, что писать стоит.
После обеда я взял первый конверт и долго разглядывал самолет с велосипедными колесами, прикидывая, куда лучше поставить печать, чтобы – во избежание аварии – не лишить аэроплан какой-нибудь важной детали. Решив, что безопасней всего пристукнуть расстилавшуюся внизу тайгу, где все равно нельзя приземлиться, я перебирал остальные марки, пока не отыскал подходящее для посадки место в сердце пустыни Каракумы, по которому мчались похожие на детские коляски автомобили.
Успокоясь на этот счет, я достал бумагу и карандаш и загрустил: о чем писать? Ведь маме известен был мой распорядок до самого вечера, она даже знала, что у нас будет на ужин. Я вызвал Бориса в коридор. Он предложил завтра отправить сразу два письма, разделив пополам то, что мама уже знать не могла. Но я опасался: а вдруг мама предупредила почту? Не зря же она на вокзале подходила к стеклянному окошку с надписью «Письма-телеграммы». Борис тоже почуял в этом подвох.
– Напиши тогда сегодня про паровоз и вокзал, – предложил он.
– Так ведь мама сама и уезжала!
– Ну-у, придумай что-нибудь… Что мы… Что нами все довольны. Или что я тяжело заболел, а папа сразу меня вылечил.
– Не могу, в письмах можно писать только правду. Это если на словах…
– Да-а?
– И потом, вдруг она захочет проверить. Еще огорчится.
– А может, написать, как Сея (это был его старший брат, ходивший уже в школу) набил себе шишку?
– На лбу? – спросил я с надеждой.
– Не-ет, на затылке.
Жалко. Это не так красиво… А-а у вас все здоровы?
– Да. На обед у нас сегодня был зеленый борщ, котлеты и компот из черешен – очень вкусный.
– Из черешен? – переспросил я.
– Ага, я спрятал целую чашку. Могу дать попробовать.
– Давай.
Компот был вкусный.
– Понимаешь, – сказал я с чувством, – я написал бы про ваш компот, но тогда я должен написать и про наш компот, а у нас сегодня был чай.
– Жалко, – вздохнул он.
Мы снова задумались и думали до самого ужина. Назавтра рыжий Изя узнал про мою будущую коллекцию и вылил со своего балкона на наш целый стакан воды. По дворовым законам это было объявлением войны. До обеда мы искали отобранную у нас рогатку. После мертвого часа сразу нашли ее и снова были обезоружены моей бабушкой, уважавшей Лигу Наций. Из двух разных углов мы напрасно взывали к лучшим ее чувствам. Бабушка не приняла мой отказ от вечернего умывания и чистки зубов и заперла на ключ карандаш и игрушки.
Улегшись в постель, я, как всегда, пересчитал для порядка звезды в балконной двери и вдруг вспомнил, что снова не отправил маме письма.
Утром, увидев на столе манную кашу, я понял: гонения продолжаются. Я очистил тарелку и начал переговоры. Добивался я вот чего: бабушка посылает маме письмо и объяснит, что я не мог написать ей вчера без карандашей; а я предоставлю для этого письма конверт с маркой. И сам я тоже отправлю сегодня письмо в отдельном конверте. Но бабушка положила мне еще каши и сказала:
– Я вообще сильно подумываю, не отнять ли у тебя эти марки. Потому что коллекции собирают только приличные дети.
– Не имеешь права! – воскликнул я, отодвигая тарелку. – Не имеешь никакого права! Никто не может отобрать у человека то, что уже подарено!
– Так, значит, никакого права? – спросила бабушка. – Говори, говори. Я люблю послушать про права, у нас в семье как раз не хватало юриста.
Она взяла конверты со столика и тоже заперла в шкаф.
Я вызвал Бориса в чулан рядом с ванной и рассказал ему про кашу и про конверты, а потом спросил у него напрямик, кто главнее – бабушка или мама? Он осведомился, с чем была каша, и, узнав, что с джемом, мечтательно сощурился.
– Ну, вот что, – сказал он наконец, – я думаю, раз бабушка это – мамина мама, значит, она главнее.
– А марки? – спросил я упавшим голосом.
– Ну, их же заперли, так что они не пропадут, – вдумчиво произнес он, достал из кармана горбушку и, сдув с нее разный мусор, предложил мне самый поджаристый край.
Я отказался.
Он съел хлеб, и мы приуныли.
Потом пришла мамина подруга Мария Михайловна, которую мы называли М.М. (Эм). Мы оба ее очень любили. В квартире у нее было столько чудесных вещей. У стены стоял старинный рояль с диковинными золотыми буквами и золотой короной. Когда, ужасно скрипя на повороте, мимо проезжал двадцать первый трамвай, за черным полированным деревом сердито гудели струны. Рядом на красивом мраморном столике сверкали канделябры – тоже из чистого золота. Когда мы с мамой приходили в гости, М.М. зажигала в золотых канделябрах белые, похожие на длиннющие эскимо свечи и угощала нас чаем с пирожными. А потом играла для нас музыку, сочиненную лукавым молодым человеком в кружевах и белом завитом парике, портрет которого висел на стене. От музыки этой у меня холодело сердце; мне чудилось, будто тысячи прозрачных сосулек звонко раскалываются в высоте и долго-долго падают в черную пропасть, где, не умолкая, гулко грохочет эхо. Огни на свечах качались из стороны в сторону, и молодой человек на портрете, улыбаясь, качал головой и глядел на меня с неодобрением. Наверно, потому, что он в мои годы уже сочинял музыку и мог вслепую играть на клавесине, у которого платком накрывали клавиши.
Вдоль стен стояла мебель на смешных гнутых ногах. Борис считал, что мастер выточил сперва из дерева огромный круг, потом распилил его на равные доли и сделал из них ножки ко всем этим столам, сервантам и стульям. За стеклянными дверцами синели расписные тарелки. Из было ровно двенадцать – по числу месяцев, и на каждой стояла погода, какая бывает обычно в этом месяце, и кавалеры с дамами разгуливали по тарелкам в любую погоду. Рядом высился голубой фарфоровый замок; маленькие башенки его были на самом деле солонка, уксусница, перечница и горчичница, а в большой башне помещались настоящие часы. Они тикали и показывали время. В другом шкафу лежали витые перламутровые раковины, в которых тихонько гудело море, и тяжелые стеклянные шары с распустившимися внутри цветами. А в уголке, у самой стенки, крылатый фарфоровый мальчик целовал зачем-то фарфоровую девочку.
На софе, покрытой цветным покрывалом, лежал огромный черный кот по имени Черт. Толстый и важный, он в ответ на мои заискивания брезгливо зевал, скручивая трубочкой свой розовый язык. А по всему дому носилась Делька (полное имя Корделия), большой рыжий эрдельтерьер, вышколенный для верховой езды…
Дом этот был нашим волшебным замком, а сама М.М. – доброй феей, осыпавшей меня и Бориса подарками и чудесами. Не подвела она нас и сегодня. Улыбаясь, она поправила пенсне, открыла сумочку и помахала перед нашими носами белым бумажным квадратиком.
– Ну-ка собирайтесь, кавалеры, – сказала она. – Это контрамарка в оперу. Днем дают «Онегина». Начало через час. Быстро надевайте камзолы и шпаги.
Покуда М.М. выслушивала бабушкин рассказ о моем зверском поведении и о том, что будет со мною и всей нашей семьей, когда задатки мои и наклонности разовьются в полную меру, мы успели – во второй уже раз – умыться и влезть в свои выходные костюмы. Конечно же, бабушка не забыла повязать на мне пышный шелковый бант, из-за которого весь двор называл меня Котом. И мы запрыгали по ступенькам, ловя на ходу последние наставления.
На улице нас ждал извозчик. Конь у него был почти белый, а фаэтон – чернее сажи, и спицы в колесах – тонюсенькие, как иголки. Слава богу, рыжий Изя стоял у ворот и видел, как мы рассаживались на сиденьях. Мы не торопились, потому что, когда часто разъезжаешь на извозчиках, это уже входит в привычку. Щелкнул кнут, и почти белая лошадь, услыхав, что нам надо в оперу, свернула на Успенскую и помчалась вниз, к Ришельевской. Акации убегали назад, туда, где ползли, догоняя нас, трамваи, и люди, сидевшие на балконах, смотрели на нас с удовольствием.
Возле статуй, толпившихся у входа, извозчик остановился, мы спрыгнули на тротуар, и я, как принц, подал М.М. руку, чтобы помочь ей сойти с подножки. Солнечные зайчики запрыгали перед ней по фиолетовым и красным цветам прямо к тяжелой, окованной медью двери. Створки раскрылись, и мы, втроем, побежали по зеркальному коридору, мимо колонн из замечательного прохладного на ощупь камня, по лестнице, которой до революции пользовался сам царь.
Едва мы уселись в своей ложе, начала гаснуть большая хрустальная люстра и зазвучала музыка. Все шло хорошо, пока не раскрылся занавес, потому что Бориса сразу заинтересовало, какое именно варенье варит Ларина с няней, а так как они пели совсем о другом, он обратился ко мне, а потом – и к М.М. Соседи стали шикать на нас, как рассерженные гуси, но он стоял на своем. Загадка эта мучила его, пока не начались именины у Лариных. Тут он сразу потребовал у сидевшего впереди мужчины, с бритой головой и большими прозрачными ушами, бинокль и замер, разглядывая стоявший далеко от рампы стол, за которым сидели и пели не занятые в танцах гости. Радостно вскрикнув, он сообщил, что узнает окорок, жареных кур и торт, а также бутылки с ситро. Тогда бритый мужчина взмахул ушами и попросил бинокль обратно. До самого конца именин Борис изучал столы невооруженным взглядом, возмущаясь, что никто из главных действующих лиц не присядет с гостями и не закусит как следует. Особенно он был недоволен Ленским, который на голодный желудок затеял ссору с Онегиным и сорвал праздник до того, как гостям подали чай с вареньем, сваренным в первой картине. Поэтому к трагической гибели Ленского он отнесся с полным равнодушием; тем более что тот прибежал второпях на место дуэли, не подумав даже о завтраке и не покормив своего секунданта. Тогда как Онегин явно успел перекусить вместе с месье Гильо.
Но предела возмущение его достигло после антракта, когда какие-то не обозначенные в программе люди созвали на бал кучу разодетого народа и не предложили им даже бутербродов. Сперва он, правда, надеялся, что Онегин, как человек, понимающий толк в жизни, подговорит генерала пустить в ход его никелированную саблю и силой оружия восстановит справедливость. Но потом он разочаровался и в Онегине и стал с нетерпением дожидаться конца, потому что М.М. обещала после театра угостить нас мороженым.
Для начала мы пошли на бульвар. Если вы собрались на прогулку, начинать полагается с бульвара. Это самое красивое место на свете! И я всегда завидовал двум каменным женщинам, которые, подмяв под бок большие часы, улеглись себе на крыше чудесного дома с колоннами и оттуда видели сразу и Дворец пионеров на другом конце бульвара, и пароходы, и лестницу. Александр Сергеевич Пушкин, наверно, тоже завидовал им; он повернулся спиной к ихнему дому и глядел на Дворец пионеров, куда он сто лет назад ходил в гости к графу Воронцову. М.М. – а она знала все на свете – считала этого Воронцова очень плохим человеком, и мы с Борисом радовались потихоньку, что памятник его загнали далеко-далеко от дворца, где он жил, в самый конец Дерибасовской, и ему не видать оттуда ни платанов с зубчатыми листьями и облезлыми, словно после скарлатины, стволами, ни старинной пушки, ни герцога Ришелье с протянутой рукой.
Покатавшись с М.М. на фуникулере, мы решили, что уже можно идти есть мороженое.
Мороженое мы ели не на улице, как маленькие, а в кафе на Ришельевской, где по стенам сверкали снега и льды и бегали белые медведи, стараясь привлечь внимание посетителей к смельчаку, ставшему обеими ногами на золотой круг с надписью «Северный полюс».
И ели мы не какое-то там фруктовое мороженое из бумажных стаканчиков, а пломбир с орехами и цукатами. Бориса особенно восхитило, что здесь к каждой порции подавали лимонад с подпрыгивающими колючими пузырьками, и он обещал, когда вырастет, зайти сюда и написать в висевшую возле кассы книгу большую благодарность.
М.М. положила на столик бумажные деньги. Тогда официант стал кланяться ей, как будто это он, а не мы, съел все пломбиры, и проводил нас до самых ступенек.
Хорошо, что обратно мы шли пешком. Иначе не видеть бы нам, как собачники поймали черного пса мадам Фамильян, – потому что, кроме него, им никто никогда не попадался, – а потом сама мадам Фамильян, как обычно, погналась за собачьей будкой, призывая на головы собачников и их толстой лошади разные взрослые болезни.
Но этого мало! Посреди двора стоял всем известный старик с мешком и тачкой, крича во всю мочь: «Ар-рые ещи пайем!»… И М.М. предложила нам выбрать у него по воздушному шару. Я взял зеленый, и он, конечно, лопнул, как только бабушка открыла нам дверь.
Вечером прибыло письмо от мамы. Она удивлялась, как это я до сих пор не написал ей, и напоминала про наш уговор. Я тут же потребовал назад конверты, карандаш и бумагу. Но бабушка сказала, что, может быть, сделает это завтра, и отправила меня спать.
Положив голову на подушку, я пересчитал звезды и стал думать над «Евгением Онегиным». Насчет театра у меня вообще была своя теория. Я знал: многие важные события происходят во время антрактов в глубочайшей тайне от зрителей. И приучился, вернувшись домой, представлять для себя все непоказанное в театре. Для начала я представил, как к Онегину попадает письмо Татьяны, и понял, ему было бы куда приятней получить письмо не из рук неумытого мальчишки, а благородно – в конверте с красивой маркой и штемпелем. Именно этим я объяснял его холодность. Потом я побывал на свадьбах: сперва у Ольги (М.М. говорила, что Ольга сразу после смерти Ленского вышла за улана), затем – у Татьяны. Само собой, у генерала все было поставлено пышней и богаче. За столами сидели знаменитые полководцы в эполетах и лентах. Они, гремя саблями, кричали «Горько!» и пили ситро за здоровье жениха и невесты. Потом все пошли в большую комнату танцевать экосез, а Татьяна, обмахиваясь веером, беседовала с присутствовавшим на свадьбе испанским послом. Посол довольно уже старый – лет тридцати или около этого – рассказывал ей про бои под Барселоной и про детей, убитых бомбами в Мадриде. И тут я не выдержал, подошел к ним, поздоровался и сообщил послу, что я и Борис, мы оба – за Республику и что я недавно отдал для испанских детей свою копилку с деньгами, которые целый год собирал на настоящий футбольный мяч. Посол погладил меня по голове и обещал как-нибудь заехать за мной и покатать на машине, а Татьяна печально улыбнулась и пошла танцевать со своим генералом. Вы представить себе не можете, до чего я жалел Татьяну! Она кружилась под музыку – красивая и нарядная, точь-в-точь как моя мама, и генерал, самодовольный и толстый, рядом с нею выглядел невыносимо. Онегин нравился мне куда больше: он был такой грустный и симпатичный, и ему все время не везло – прямо как мне. Его не развеселила даже поездка в дальние страны. Ах, если б он из своих странствий хоть раз написал Татьяне, этой бы свадьбе не бывать!
И вдруг я похолодел. Я вспомнил: а мамины-то подруги уговаривали ее выйти замуж. Тогда я не обратил на это никакого внимания, потому что мы с Борисом как раз переживали, не пропадут ли в пещере Том Сойер и Бекки, ведь им бы еще жить и жить! Теперь же я понял весь ужас создавшегося положения. Я должен был написать маме и не написал. Она там ждет не дождется моего письма и может с горя выйти за первого попавшегося старого генерала! Я представил себе все очень ясно. Вот они возвращаются с вокзала домой, и он тут же выходит на середину комнаты и, заложив руку за борт своего расшитого мундира, неимоверно громким голосом поет, как он безумно любит мою маму, а соседи, само собой, нервно стучат в капитальную стену.
Нет!.. Нет, этого нельзя допускать!.. Письмо должно уйти завтра, прямо – с утра. Поклянусь бабушке слушаться ее всю жизнь и добуду конверты и бумагу с карандашами. Ну, проживу паинькой день-другой; люди меня поймут.
Я проснулся очень рано, и бабушка обрадовалась, что успеет до базара накормить меня завтраком. Съев все без остатка, я принес клятву и объяснил бабушке, что по сравнению с пожизненным послушанием и конверты с марками, и карандаши, и бумага – все равно, что ничего. Вообще-то она дрогнула, но характер у нее был железный, и, подумав, она взяла себя в руки и сказала:
– Ну-ну!.. Звучит очень даже мило. А я люблю не только услышать, но и увидеть. Продержишься до вечера как полагается, получишь все обратно.
– Бабушка, миленькая! – взмолился я. – Вечером будет уже поздно. Ведь у меня пропадает день. Целый день!..
– Э-э, – отмахнулась бабушка, – что такое один день, когда человек решил стать примерным ребенком на долгие годы. Не задерживай меня, а то надо мной весь Привоз будет смеяться.
Что делать? Не мог же я выдать ей все про генерала, она бы небось сразу за него ухватилась, чтоб наладить военную дисциплину.
Бабушка захлопнула за собою дверь, и я слышал, как она, громыхая пустыми бутылками, спускалась по лестнице. Потом она прошла через двор и вышла за ворота.
Я вызвал Бориса. Мы думали очень долго – наверно, минут десять, – и вот что мы решили: карандаши надо взять из Сеиного пенала (в крайнем случае, он поколотит за это Бориса); а бумага есть в красной энциклопедии, где на самых последних листах почему-то ничего не напечатано. Надо вырвать два листа – на одном написать письмо, а из другого скроить конверт. Пока Борис возился с ножницами и клеем, я закончил письмо. Времени на подробности не было, я просто написал маме, что люблю ее по-прежнему, что соскучился по ней и жду. Борис прочитал все очень внимательно. Содержание в общем ему понравилось, только сильно расстроил неодинаковый наклон букв. Но я не огорчился: лист ведь был нелинованный!
Мы заклеили конверт. Я надписал адрес…
Не хватало одного – марки!
И тогда я решился. Я положил в карман мой пружинный пистолет, распахнул дверь в парадное (что строжайше нам запрещалось) и, оставив Бориса караулить у входа, поднялся на один этаж. Там я, помедлив, огляделся и нажал кнопку звонка.
Рыжий Изя лично открыл дверь. Увидев меня, он шагнул назад, огляделся и сжал кулаки.
– Здравствуй, – сказал я с заискивающей улыбкой. – Можно войти? У меня к тебе очень важное дело.
– Ха-ха! – воскликнул он. – Не имею дел с мелюзгой.
Я вытащил из кармана пистолет. Рыжий изменился в лице и сделал еще шаг назад.
– Мне во что бы то ни стало нужна марка! – Я улыбнулся ему как другу. – За марку я отдам тебе пистолет. Он совсем новый… И вот – две палочки с резинками.
Рыжий протянул руку, взял пистолет, зарядил его и выстрелил в мое отражение в зеркале. Резина, чмокнув, прилипла над переносицей. Я невольно потер лоб.
– Снип-снап-снурре! – заорал он. – Пурре-базе-люрре!..
Потом он потрогал насечку на рукоятке и спросил:
– Какая тебе нужна марка?
– Все равно, какую дашь.
– Все равно?.. А что ты с ней будешь делать? Альбомчиком обзавелся, тюлька?!
Я проглотил подкатившую к горлу обиду, набрал побольше воздуха и единым духом выложил все про письма, про погубленную мою коллекцию, про бабушкину несправедливость и старого генерала.
– Ха-ха! – снова воскликнул он. – А звону было на весь двор: альбомы, марки, штампы… Скажи лучше, где твой бант, котик – круглый животик?
Побелев, я шагнул прямо на него.
– Ха-ха! – сказал он потише. – Не волнуйся, котик. Ты лучше запомни: марки в коллекциях уже погашены, их клеят на письма только дураки.
– Погашены?.. Как погашены, а кто их зажигал?
– Никто, конечно, тюлька ты безмозглая! Это просто научное слово такое. «Погасить» – значит «поставить штамп». А тебе нужна чистая марка. Ясно?
Я молчал.
– Ладно, – взмахнул он пистолетом, – жди тут!
Да, рыжий Изя жил неплохо. В зеркале резинка с палочкой вместо моего лба торчала теперь прямо посреди распахнутой двери, и там за шелковыми портьерами виден был шкаф из красного дерева, и радиоприемник, и половина усатого портрета в золотой раме.
Рыжий, выйдя из другой двери, протянул мне две марки:
– Пошли «авиа», быстрее дойдет.
– Спасибо, – прошептал я, подавленный его благородством, повернулся и пошел к выходу.
Рыжий Изя со скрипом вогнал в дуло пистолета вторую палочку и вывел меня под прицелом за дверь. Но, защелкнув замок, он вдруг снова открыл его, вышел за мной на площадку и, оглядевшись, спросил тихонько:
– Думаешь, он и вправду бы пел?
На дистанции
– Табун античности и ренессанса!.. – прогремел в динамике голос Елены Ивановны, секретарши Самого (мы называли ее Е.И.). – Чесноков и Злотников, к директору!
Привычным движением отшвырнули мы стулья и ринулись к двери.
Марьстепа, наша уборщица, старушка с запоздалой сексуальной любознательностью, ударила в колокол, и мы помчались по длинному коридору, с ходу перескакивая через барьеры и фашины, связанные из хвороста.
Едва мы, раздувая бока, ворвались в директорскую приемную, Е.И. затверженным жестом засекла время и нажала алую кнопку электрического звонка. Вспыхнула яркая лампа под потолком, и в дверях, обшитых серым в яблоках дерматином, явился Сам. Как всегда: серый френч, лысина, золотые зубы – ничего лишнего.
– За сколько прошли? – спросил он.
– Чесноков – минута пятнадцать! – доложила Е.И. – Злотников на два крупа сзади!
– Что ж ты, Злотников, – насупился Сам, – старший, значит, редактор, а на дистанции себя не оказываешь. Да-а, со штатом у нас горе!.. Ну а ты молодец, – повернулся он ко мне, – далеко пойдешь! Правда, дыхание надо отработать. Помню, от нас в тридцать шестом… нет, в тридцать седьмом были на скачках два жеребца… Крамиркап – «Крах мирового капитала», значит, и Девясил. Всем вроде взяли – и статью, и мастью, и шаг размашистый. Только вот, тоже дыхание теряли.
Я и так знал с дыханием у меня плохо. Особенно сегодня. Никак не мог перевести дух. Перед глазами плыли, покачиваясь, темные круги. Потом все заволокла яркая радужная пелена, сквозь нее глухо, будто из-под воды, доносились до меня голоса.
Наконец пелена разошлась, набухая багряными складками – точь-в-точь театральный занавес, и показались два жеребца. Я сразу узнал их: это были Крамиркап и Девясил. Крамиркап носился по полю, перепрыгивая через барьеры и рвы, а Девясил надзирал за его эволюциями, поглядывая на стоявшие в траве бронзовые часы с пастухом и пастушкой, и бубнил голосом Самого:
– Что ж это?.. Слабо!.. Слабо… Ритму не держишь. Одно не выходит, другое…
Крамиркап же отвечал по-злотниковски:
– Да ведь все пришлось менять – абсолютно. Работаю за двоих. Но, честно говоря, боюсь, не пойдут эти лошадиные тома. Кому они…
– Ну, нет! – воспламеняясь, перебил его Девясил. – И слушать не желаю! Уши на корню вянут. Народу конь завсегда нужней и ближе, чем этот твой развратник Юпитер, или, значит, Мадонна на стапелях.
– Коннестабиле, – фыркнул Крамиркап.
– Как?.. Конь с табелем?!.
Девясил яростно грохнул копытом по циферблату. Земля раскололась, как тыква, и я почему-то обрушился в бездонную черную пропасть…
Что было дальше, не знаю. Открыв глаза, я увидел в вышине знакомый с детства желтый гипсовый плафон – амуры, не соблюдавшие диеты, цветы, арабески – и понял: я дома, лежу на спине на собственной кушетке. Повернулся бы на бок, и первого, кто возникнет в дверях, спросить: в чем дело?
Перед глазами снова поплыли круги. Меня накрыло с головой огромное хрусткое полотнище белой бумаги. Подо мною тоже лоснилась упругая белизна – похоже, высоченная стопа точно таких же листов. С трудом приподняв накрывшее меня полотнище, я опешил: это была страница перекидного календаря. Над моим носом разбегался циклопический чернильный росчерк: «ОТДАТЬ ЗЛОТН. ТРИ РУБ. ЗА ФУТБОЛ». Мой собственный календарь!
Я стал на колени, оперся на руки и медленно, как часовая стрелка, распрямился во весь рост. Календарный лист повернулся по никелированным кольцам и лег чистой стороной кверху. Я стоял на странице от третьего июля. Под ногами чернели огромные литеры: «СУББОТА ВОСХ. 3.51. ЗАХ. 21.16. ДОЛГ. ДНЯ 17.25»…
Подошвы мои, как по накатанной ледовой дорожке, заскользили по белому склону листа. Доехав до края, я присел и спрыгнул вниз.
Наверное, время вернулось вспять. Дальше все шло точь-в-точь как на самом деле в ту давнюю незабвенную первую субботу июля.
…Я закрыл за собой входную дверь и направился по коридору к нашей комнате. Марьстепа, дремавшая на стуле, приветливо открыла левый глаз и сказала:
– Здравствуй, Яшенька. Слыхал, к нам в «Красоту» наконец-то директора прислали.
«Красота» – это наше издательство. Мы печатаем книги по искусству, альбомы, репродукции и ужасно гордимся своей «Красотой». Особенно – Марьстепа. Соседние издательства «Цветоножку», «Помысел» и «Промысел» она ни во что не ставила и прямо-таки убивалась: там-то директора в полных чинах, а у нас который уж месяц И.О.
– Ну, как он из себя? Видели его?
Марьстепа открыла и правый глаз.
– Мужчина… – отвечала она убежденно. И добавила: – Оне хоть росточку и небольшого, а из себя очень даже ответственные. Пуговки на френче так и блестят. Чистый Багратион.
В полдень Багратион созвал всех в конференц-зал. Дамы разволновались: прошел слух, будто новый директор холост.
Он вошел скорым шагом и оглядел нас из-под ладони, словно мы разбрелись по бескрайним степным далям. (Я прекрасно отдавал себе отчет: да, вижу все это уже во второй раз. Но уповал и тревожился, точно впервые.) Подойдя к столу, он уперся руками в зеленое сукно скатерти и заговорил:
– Так вот, значит, давайте, товарищи, знакомиться. Поставлен я к вам директором. Фамилия моя Хрустяков, зовусь Никитой Васильичем. Образование имею естественно-научное в полном, значит, объеме ветеринарного техникума. И сразу был брошен на руководящую – директором конного завода. У меня одних лошадей было… – он сощурился, – двадцать семь табунов. Да персоналу голов сто. Есть и по книжной части опыт, есть… Трижды в комиссию включался по списанию, значит, литературы, не подлежащей хранению. Я этих книг повидал – стога!
Сами собой возникли перед ним на зелени стола бумажки в формат пиджачного кармана, и он легонько погладил их перстами.
– Ясно, бывают книги, которые и нужны человеку. Но много еще, товарищи, значит, – глаза его впиявились в бумажку, – ма-кула-туры.
Никита Васильевич перевел дух, как скалолаз, одолевший гранитную кручу, и повторил:
– Ма-кула-туры… Ее, само собою, можно в котел, и вари, значит, обратно белую бумагу. Да уж больно накладно выходит. И лес гектарами сводим, и деньги зазря летят, и, – глаза в бумажку, – полиграфические мощи.
Он согнал энергическим взмахом руки присевшую на лысину муху, полезно завершил движение указующим жестом и воскликнул:
– Вперед, во весь опор! Планы будем менять на скаку, чтоб и вал выжать, и народ порадовать, глядя сквозь призму коня. Возьмем эти самые альбомы и, значит, – глаза в бумажку, – монографии. Что за имена, за фамилии? А ведь хорошие есть, правильные живописцы-ваятели: Саврасов, скажем, Коненков или уж на худой конец Коровин. И за границей, глядь, нужные отыщутся имена. Конечно, не подголоски империалистские, не, – глаза в бумажку, – абстракционисты. Они и у нас закопошились. Эти вам коня намалюют с восемью ногами, и тот спотыкаться будет.
Тут усевшийся, как всегда, в первом ряду председатель нашего профбюро, кандидат искусствоведения Шанель-Смердюковский вскричал «Браво!» и загромыхал воздетыми к потолку ладонями. Натурально, аплодисмент его подхватили все пятеро действующих и вдовствующих завредакциями Огурцова, Нарцис-заде, Заполярная, Галушкина-Радиальная и Октаэдр, а с ними – молодежный вожак Святополк Бабин, образцовый график и семьянин. Следом отрывисто захлопал бухгалтер Веня Маннербейм – такая была у него линия. Первая красавица «Красоты» Инуля Облепихова (предмет тайных моих воздыханий) достала из необъятной сверхмодной сумки парижскую «косметичку», подсинила веки, прибавила румян и белил и, не моргая, уставилась на оратора.
А он, привычный к восторгам общественности, продолжал совсем по-домашнему:
– За каждого правильного живописца-ваятеля буду премировать бесплатным катанием на русской тройке. Самым ретивым работникам – участок дачный в Аксания-Нова. – Вздохнул и добавил после паузы: – Ну а когда не лошадь – персонально, не он, не конный спорт, пускай, значит, физкультура в целом будет у нас на первом плане. Классики, они нас чему учат? В здоровом, как говорится, теле здоровый дух. А ну как и у нас в державе, в родной столице нашей тоже учинят Олимпийские игры! Не все чемпионам к буржуям шастать. Вот тут мы и оторвемся от прочих разных издательств на целый круг. Кое-кого из них вовсе с дистанции снимут. И поплывут к нам призы с дипломами, премии. – Он кашлянул в кулак, голос налился металлом: – Чтоб достичь этого, придется, значит, попотеть. План, как сказано было, пересмотрим на скаку. Но не рушить цифру, количество, а уж оно само, когда надо, перейдет в качество. Встанут, понятно, и препятствия, брать их будем без штрафных очков. Вперед! Вперед, во весь опор!
Энтузиасты наши едва ладони себе не отбили. Да и по залу аплодисмент рассыпался – проняло-таки аудиторию. Шанель-Смердюковский потребовал слова.
– Товарищи! – воззвал он отлично поставленным искусствоведческим баритоном и поправил огромные в пол-лица очки, какие носят на плакатах вашингтонские ястребы. – Коллеги! Милые мои однокорытники! Бывают в жизни нашей переломные дни, когда и прошлое видится по-другому, по-новому, и будущее предстает вдруг во всей красоте и широте. Сегодня такой день! Но что уподобило его зарнице, осветившей все новым светом, взметнувшей ввысь приземленную нашу мысль?
Первая красавица «Красоты» Инуля Облепихова, смежив свои синие веки, дышала размеренно и звучно, как спящий ребенок. Друг мой Злотников поправил лацкан твидового пиджака и загнул один палец – он вел счет античным ораторским приемам в речи маэстро.
– Зарница эта, – продолжал Шанель-Смердюковский с прежним пылом, – речь Никиты Васильича, нового нашего директора. Вдумайтесь, возлюбленные собратья, оцените – «сквозь призму коня»! Вот она, высокая всепроникающая идея, единый, цельный критерий! А ведь без них было трудно и тошно. Что греха таить – было!.. Надо же – «призма коня»! Да это ключ к синтезу всех искусств. Слушал я Никиту Васильича, и меня осенило. Конкретно осенило, по-деловому: отчего бы нам не издать в «Красоте» знаменитое пушкинское «Что ты ржешь, мой конь ретивый?» – так сказать в триаде… нет, не в триаде, в тройке искусств? Текст Александра Сергеевича – литература; плюс рисунки (авторы под рукой) – вот вам живопись; плюс мини-диск с бытующей на этот текст песней (закажем фирме «Мелодия») – чем не музыка.
Он распустил и без того свободный вязаный галстук, свысока глянул в зал и адресовал подобострастную улыбку директору:
– В этой, сами понимаете, русской тройке наша «Красота», сиречь живопись, будет коренником! Зрительный ряд покажет воочию пророческий дар коня. Помните, как поучает он незадачливого своего господина? «Отвечает конь печальный: Оттого я присмирел…» Э-э… Далее…» – ужасы вражеского нашествия, личные утраты коня, гибель самого господина – агрессор сдерет с него кожу и «наместо чепрака» накроет ею «вспотевшие бока» скакуна-философа. Я вижу, друзья, эти ужасы на мелованном листе большого формата. Тут еще и явный антивоенный смысл!..
– Хороша русская тройка, – шепнул мне Злотников, загибая палец, – стих-то переводной… Из песен западных славян – Проспер Мериме, он их вроде сам и сочинил. Пушкин потом…
– Да и Пушкин ваш – эфиоп! – брякнул молодежный вождь Святополк Бабин, слышавший все вокруг.
Мы обомлели.
– А ежели, – восклицал Шанель-Смердюковский, – взглянуть «сквозь призму коня» дальше, дальше… «Песнь о вещем Олеге», «Холстомер», «Записки кавалерист-девицы» и тэдэ. Сколько лошадиного пафоса!.. И еще на меня снизошло – вслушайтесь, коллеги, в каждый звук: Конь и Человек… Конечеловек! Да ведь это – кентавр. Кентавр! А мы ломаем голову над эмблемой для «Красоты». Вот ее фирменный знак – КОНЕЧЕЛОВЕК!
Зал забурлил, захлопал. Шанель-Смердюковский, прижав руку к сердцу, согнулся в благодарном поклоне. Никита Васильич – лично – разок-другой привел в соприкосновение свои ладони, благосклонно кивая.
Тем временем на трибуне воздвигся Веня Маннербейм. И начал на старый лад: прошу, мол, выслушать старого бойца статистического фронта. Но уже во второй фразе отколол коленце в новом духе:
– Да, – повторил он, – старого бойца, а старый конь, как известно, борозды не испортит.
И сорвал-таки аплодисмент. Директорские ладони – сам видел – соприкоснулись трижды. Шанель-Смердюковский тотчас вскричал:
– Неслабо!
А Маннербейм внес свое конкретное, деловое предложение: мерою трудовых затрат наших сотрудников при начислении им зарплаты считать лошадиную силу. Маэстро снова воскликнул:
– Неслабо!
Директор кивнул.
Но тут черт дернул за язык Святополка Бабина, и он подал реплику с места: лошадиные силы эти, дескать, давно устарели; у россиян вместо них киловатты и ватты.
И пошло-поехало! Шанель-Смердюковский обозвал Святополка зарвавшимся технократом. Даже красотка Инуля подала свой ангельский голос. Надо бы, сказала она, тиснуть эти самые ватты у Бабина на лбу, как на электрической лампочке – и там, и тут вакуум.
Все хорошо бы, но вдруг послышался дробный стук – ну прямо барабан при шпицрутенах. Зал замер. Никита Васильич грозно стучал по столу.
– Ваты захотелось, – прошептал он в гробовой тишине. – Мягко стелите…
Отбушевали страсти. Бабин, облобызав Шанель-Смердюковского и Инулю, отрекся от чуждых стандартов. А директор все стучал и стучал. Зачем? Почему?
Я приподнялся – разглядеть, что происходит. Скрипнула кушетка, одеяло встопорщилось. Закачались амуры на потолке… Стучали в мою дверь!
– Войдите, – сказал я чуть слышно.
Дверь приоткрылась. В нее, наподобие Манилова с Чичиковым, протиснулись Злотников и врач. Но вместо медоточивых любезностей обменивались колкостями.
– Ну, молодежь! – глуховато басил доктор. – Где воспитание, такт?
– Сущие медики, – парировал Злотников, склоняя вознесенную на метр девяносто пять русую голову.
Врач – Виктор Семенович Табак (именно Та́бак, а не Таба́к), знаменитейший кардиолог, с непостижимым изяществом носивший на ладном костяке своем темные костюмы в полоску, изгибом рта придал угловатому волевому лицу выражение крайней брезгливости и дернул отвислым пористым носом:
– Даю вам, почтеннейший, на общение с больным полторы минуты. Дольше вас и здоровый не вынесет.
Виктор Семенович давно пользовал маму и тетку, теперь, стало быть, взялся за меня.
– А здоровых при нынешнем расцвете медицины, – отвечал Злотников, – днем с огнем…
– Осталась минута ровно, – перебил его Виктор Семенович, извлекая из элегантно потертого портфеля тонометр и прочие принадлежности культа.
– Доктор, – настойчиво зашептал я, – мне надо с ним поговорить. Работа…
– Вам, дорогуша, полезнее не говорить, а слушать, – и обернулся к Злотникову: – О работе ни-ни… Ваши сорок секунд!
– Да вы сами витийствуете, – вспыхнул Злотников, – словечка не вставить!
– Ибо речь моя совершенна, – изрек кардиолог.
– Полминуты!
«Ну, как там, в „Красоте“»? – спросил я взглядом для экономии времени.
– Распалась цепь времен! – конспиративно поведал Злотников. – Дерби, скачкам, конкурам – конец. Третьего дня Сам отчалил.
«И Спектор снова И.О.?» – спросил я взглядом.
– Спектор – И.О., – подтвердил Злотников. – Кентавра зарезали. Марьстепа в трауре. Инуля продала абонемент в милицейский манеж.
– Что за чушь? – прошипел Виктор Семенович и, глянув на загадочный агрегат, украшавший его левое запястье, воскликнул: – Гонг!
– Воздастся каждому по делам его, – предрек Злотников, затворяя за собой дверь.
Доктор резиновой грушей накачал воздух в обмотанную вокруг моего плеча манжетку, потом выпустил его, ловя шумы по воткнутым в уши отводам фонендоскопа и любуясь шустрым столбиком ртути на шкале. Он прослушал мое сердце и легкие, пощупал пульс. Задал непонятно к чему клонившиеся вопросы и сам большей частью на них и ответил, стараясь под конец раздавить мне селезенку и печень.
– Все ясно, дорогуша, – сообщил он, пряча в портфель свои причиндалы. – Учтите, у вас был гипертонический криз, о чем я известил, понятно, Анну Давыдовну, вашу матушку. Здоровья это ей не прибавило, но и не выбило из колеи. Когда дело касается вас, она ко всему готова. Правда, по ее мнению, лучше бы вы женились. Учтите на будущее. Mais revenons а nos moutons[26]. Вы, дорогуша, в общем-то молодцом.
Он откланялся и вдруг запел:
– Так внима-а-айте!.. (Первую фразу из арии Дулькамара.) – И тотчас спросил: – Узнали?
– «Любовный напиток», – сказал я.
– Именно, именно, дорогуша!.. Гаэтано, волшебник Гаэтано!.. Внимаете? Прелестно! Запоминайте: лежать… Лекарства неукоснительно – подробнейшая роспись вручена мною Анне Давыдовне… Читать разрешаю через три дня – неподолгу. Принимать великанов – через пять, по получасу, не более. Великаны в больших дозах противопоказаны… Вы ведь не курите?
Я покачал головой.
– Прелестно! Через три недели будете здоровее прежнего. Марьстепа еще не скоро наденет по вас траур. – Он сделал строгое лицо и поклонился: – Честь имею.
Минуту спустя под гулкими сводами прихожей послышалось:
– Итальянок шестьсот было сорок, Немок было две сотни и тридцать, Сотня француженок, турчанок девяносто, А испанок так тысяча три, тысяча три, тысяча три!«Вольфганг-Амадей! – воскликнул я про себя. – Волшебник Амадей…»
Ровно через три недели я закрыл за собой входную дверь «Красоты» и направился по коридору к нашей комнате. Марьстепа, дремавшая на стуле, приветливо открыла левый глаз и сказала:
– Здравствуй, Яшенька! – Потом, открыв и правый, спросила: – Как здоровье твое?
– Вроде поправился.
– Хвори-то нынче на молодых перекинулись. Подумать страшно!.. А у нас горе какое – слыхал, небось? Никиту Васильича от нас взяли. Опять под И.О. ходим.
– Куда же его?
Марьстепа возвела очи к потолку:
– Наверх, говорят, на повышение. А к нам, слышь, контр придет, адмирал. Заживем, Яшенька, на морской лад.
Тут увидал я: над стулом Марьстепы вместо «Купания красного коня» повешен «Девятый вал». И в коридоре – хоть шаром покати – ни фашин, ни барьеров. Да-а…
– Ступай, милый. – Марьстепа закрыла правый глаз. – Дружки заждались. Только и слышно: скоро Чеснок придет, завтра Яшеньку ждем…
Распахнув нашу дверь, я крикнул:
– Свистать всех наверх!
– Уже в курсе? – спросил, целуя меня, Злотников. – Инулю видел? Нет? Обрати внимание, волосы в цвет морской волны перекрасила. А Шанель-Смердюковский, гад, на профбюро в штормовке явился. «Я, говорит, с детских лет маринист». Профиль «Красоты» предложил изменить, не меняя курса. Эмблему новую выдумал – морского конька.
Я обошел все комнаты, собирая, как писали в старину на Востоке, мед благожелательства. Святополк Бабин вышел со мною во двор: адмирал, может, нам еще и не обломится. «Помысел» тоже кукует без директора. Верные люди доносят, будто тамошние активисты обоего пола ходят в тельняшках и клешах, в столовой у них каждый день макароны по-флотски, и самодеятельность разучивает «Севастопольский вальс».
– Ждут, получается, – жарко зашептал мне в самое ухо Бабин, – питают надежду. Что делать, ума не приложу.
– А ты их вздерни на рее, – посоветовал я, – всех до единого.
– Ну, ты даешь, – обиделся он. – Где такую рею достать?
В издательстве, помня о недавнем моем недуге, делами меня не перегружали. Да и какие дела в начале квартала? Тем более, с планом и профилем оставались неясности, неувязки. Потом курьерша наша ушла в аспирантский отпуск, и меня приспособили к доставке наиважнейших бумаг. Маннербейм оторвался даже от боев на статистическом фронте и вручил мне бесплатный проездной билет на все виды транспорта. Я, сразу ощутив себя чуть ли не обладателем персональной «Волги», начал из скромности ходить пешком и на свежем воздухе очень окреп. К осени даже загар приобрел – морской.
И вот однажды мне поручили доставить документы в Главное управление. Вернее, не просто доставить, а зарегистрировать и согласовать в двадцать первой, семидесятой и шестьсот второй комнатах. Я и пошел, благо погода стояла отличная: любимое время мое – бабье лето.
Открыл тяжеленную, окованную бронзой главуправскую дверь, и начались чудеса. Привратник с зелеными петлицами, увидев меня, побагровел от гнева и заорал:
– А-а, наконец! Явился, не запылился! Давай на старт, с утра заезд составить не можем!
Я огляделся. Поперек широкого коридора была натянута веревка, вдоль нее теснились люди – вроде меня с пакетами. В неглубокой стенной нише золотом отсвечивал сигнальный колокол. При нем находился специальный человек, тоже с петлицами.
Привратник для верности пересчитал нас, покосился на часы и взмахнул рукой.
Громыхнул колокол. Освобождая путь, отлетел к стене конец тугой веревки.
Пришел я в себя уже на дистанции и обнаружил, что иду широкой ровной рысью. Впереди скакали двое.
Поднажал… Обошел одного… Начались препятствия. Второй стал цеплять барьеры и отстал.
Я перемахнул через последний барьер и ров с водой.
Господи, что я делаю? Зачем? Почему?..
Вот уже рядом неоновые буквы «ФИНИШ». Внизу помельче: «Регистратура. Ком. 21»… Под ними дверь, в двери окошко полукруглое с полочкой. Сую туда пакет. Покуда на него наносят входящий номер, отмечаю время, осматриваюсь.
Дальше между мраморными колоннами коринфского ордера видны несколько трасс. Вон и моя – на стрелке обозначен семидесятый кабинет.
Позади, за спиной слышен топот… Все ближе… Ничего, я в отрыве!..
Выхватываю из окошка пакет и мчусь. Топот за спиной отстает. Затихает…
Вперед!.. Куда??? Зачем???
Вперед, ходу! Ходу!
В конце коридора зажигаются буквы «ФИНИШ-И»… «Всеобщие согласования. Ком. 70»…
Вперед!..
Что это? На ногах пудовые гири повисли. Нечем дышать…
В глазах туман… Буквы расплываются…
ФИ… Н… И… ф… и… н…
Всеобщий порыв смеха
– Миллионы лет здоровья и силы Великому Гордру, нашему солнцу сверкающему, месяцу сияющему, светочу блистающему и фонарю озаряющему! – провозгласил портье, вручая мне ключ от номера и почту (таково было полное общепринятое приветствие здесь, на Глюэне, самой большой из планет Красного гиганта ИРС+10216 в созвездии Льва).
– Миллион лет… – буркнул я (это было краткое приветствие) и прошел в свои комнаты.
Почту – субботний номер мыслей Великого Гордра, путеводители по местам, связанным с его жизнью и деятельностью, и еще какие-то раскрашенные брошюры – я бросил на стол, уселся в кресло и закурил. Тотчас один из двухсот спрятанных в стенах динамиков (здешний год насчитывает двести дней) любезно поведал мне все, что Великий Гордр изрек о сиденьях, седалищах и употреблении табаку, и напоследок воскликнул:
– Миллион лет здоровья и силы!.. – и так далее, вплоть до фонаря.
– Миллион лет, – прошептал я и обвел взглядом гостиную.
В глаза мне бросился упавший на пол большой продолговатый конверт, такие обычно служат тарой для судебных повесток и приглашений на обеды. Я поднял его и вскрыл. Внутри лежал белый картонный бланк. На нем хитрой типографской вязью сообщалось, что некто Вург, Эсдэкр (Старший дегустатор крамолы), ожидает меня завтра утром в комнате № 7241 на девяносто первом этаже Министерства Предупреждения перемен (сокращенно – Министерства Двух Пэ).
Фотоглаз, помещавшийся в центре раззолоченного лепного плафона, радостно мигнул, запечатлевая бланк на пленку, и сразу забубнил динамик:
– Министерство Двух Пэ – это всеслышащее ухо, всевидящее око и вездесущая рука нашей самой великой планеты Вселенной… Великий Гордр, «Полнейшее собрание мыслей», том единственный, страница первая…
Стараясь не слушать бархатный голос вещателя, я перечитал вызов и опять ничего не понял. Правда, дома друзья предупреждали меня о странных порядках на Глюэне, но я, как всегда, оставил их слова без внимания. Мне нужен был материал для веселых рассказов о животных ближайших галактик, которые я сам хотел иллюстрировать. На остальное было наплевать. А Глюэна славилась своими осьминотами – чудными тварями, заинтриговавшими весь космос.
Перед вылетом сюда я разузнал, что смог, об этих осминотах. Оказывается, они принадлежат к семейству не парнопроходных инфузавров и с виду похожи на земных тюленей, но быстрее и ловче их двигаются по суше и поражают своей музыкальностью. У осьминотов абсолютный слух, чистый приятный голос, и они даже в естественных условиях прибегают (особенно в период течки) к классическому многоголосью. Они легко приручаются, охотно изучают в неволе сольфеджио и нотную грамоту и сносно болтают по-человечьи. С достопамятных времен жили они среди людей, о чем свидетельствуют рисунки пещерных глюэтян, фольклор и древние летописцы. Императоры и вельможи имели обыкновение держать осьминотов у себя во дворцах в роскошных бассейнах, выложенных драгоценными камнями, и наслаждались их пением. Многие музыканты дико завидовали осьминотам.
Четыреста лет назад придворный капельмейстер Ксалр, отчаявшись превзойти одного выдающегося осьминота, отравил его и попытался присвоить его творения. С годами круг лиц, содержавших осьминотов, расширился. Появились даже смешанные хоры людей и осьминотов. Для их концертов сооружались особые водоемы. Казалось, против земноводных баловней судьбы бессильны социальные потрясения и даже само время.
Но вот Великий Гордр, встревоженный чрезмерной плавностью прогресса, возвестил начало эры Противоречий. И всем сразу стало ясно: корень зла – в музыке. На местах вспыхнули стихийные дискуссии меломанов, переросшие вскоре в общепланетарную полемику. Традиционалисты, поборники исконных классических жанров (сюда относилось и пение осьминотов) были разгромлены в пух и прах. Правда, добавлю я, справедливости ради, часть их подверглась аннигиляции еще до начала дискуссии, дабы уравновесить силы противоборствующих сторон. Старая музыка искоренялась повсюду. А сами осьминоты были осуждены бесповоротно как наемные певцы давно низвергнутых эксплуататорских классов. В ходе полемики выяснилось, что мясо осьминотов несъедобно. Именно это открытие, утверждают комментаторы Великого Гордра, стало импульсом для создания одного из глубокомысленнейших Гордровых афоризмов: «Неудобоваримый в большом неудобоварим и в малом.»
Итак, пение осьминотов было запрещено. А со временем к музыке в целом отношение сделалось сугубо отрицательным как к причине всяческих шатаний. Исполнялись теперь одни лишь кантаты и песни о Великом Гордре. Да и те запечатлены были на особых сверхтвердых кристаллах с перестроенной решеткой и давались в записях. Петь же или играть на музыкальных инструментах самим людям было непристойно и опасно. Зоологи, прежде видевшие в осьминотах венец природы, тотчас провозгласили их, а заодно и всех вообще инфузавров, захиревшей боковой ветвью эволюции. Археологи снова зарыли в землю знаменитую древнюю статую «Царь внемлет пению осьминота в объятиях юной супруги». Физикам, затеявшим симпозиум о парамагнитном резонансе, было предложено впредь обходиться без музыкальных терминов.
Осьминотов, уцелевших после дискуссии, вывезли в отдаленные горные озера. Там устроен был заповедник для инопланетных туристов. Они наслаждались пением осьминотов, оставляя правительству Глюэны доход в твердой космической валюте. Прислуга для заповедника подбиралась из глухонемых. Передавали, будто временами то тут, то там возникали тайные общства меломанов, мечтавших о возрождении классики и об амнистии опальным животным. Но все их комплоты разбивались о неизменную бдительность властей…
Таковы были мои сведения об осьминотах, когда я приземлился в космопорте глюэнской столицы Эльеры, и за время, проведенное в городе, я их нисколько не обогатил. Ученые больше не изучали этих животных, писатели не писали о них, художники их не рисовали. И никто не хотел о них разговаривать.
Единственную для себя пользу извлек я из беседы с членом здешней Академии Всех Возможных Искусств, художником-лауреатом Кьяром. Он тайком воспроизвел на желтоватой пленке жира, подернувшей блюдо со студнем, две старинные жанровые картины, изображавшие концерт осьминотов. Студень этот живописец потом съел.
Через три дня я выехал в заповедник и оставался в горах почти месяц. Рисовал осьминотов, записывал их песни, набросал вчерне первые главы книги. В Эльеру я вернулся только вчера и, хоть убей, не мог припомнить за собой ни малейшей крамолы.
Отказавшись от ужина, я улегся в постель и заснул. Ночью мне приснился Эсдэкр Вург, отвратный карлик в мундире с золотым шитьем. Он подвел меня к окну и с предупредительной улыбкой выбросил с девяносто первого этажа. Падал я ужасающе медленно. И всякий раз, когда я пролетал мимо очередного этажа, из окна высовывался человек в мундире и молниеносно налеплял на меня бланк. Внизу меня уже ждал Вург. Он пересчитал бланки и, судя по всему, обнаружил какие-то неполадки. Тогда он снова вознес меня в свой кабинет и вытолкнул за окно. Я падал, а он дожидался меня внизу и опять повез наверх…
Проснулся я весь разбитый, с головной болью. Наскоро поел и отправился по вызову.
* * *
Старший дегустатор крамолы Вург, рослый мужчина в цивильном платье, ответил на мой поклон полной формой приветствия и придвинул мне кресло. Он спросил мое имя и без того известное ему из вызова, помолчал и потом осведомился, зачем я прилетел на Глюэну.
– Я пишу книгу о диковинах космической фауны, – отвечал я дегустатору. – Меня заинтересовали ваши осьминоты.
После «ваших осьминотов» он протестующе поднял руку, как бы напоминая: нет-нет, они не являются ни родней его, ни собственностью; и торопливо сказал:
– Но, как видно из наведенных нами справок, вы никогда не занимались научной деятельностью и не опубликовали ни единого труда по зоологии.
– Вы правы, меня интересуют лишь некоторые стороны жизни животных. Точнее – комические стороны. Я своих зверушек всегда очеловечиваю. Это заметили даже критики.
В глазах дегустатора мелькнуло нечто похожее на торжество.
– А какова, собственно, цель такой книги? – спросил он.
– Цель?.. Н-ну, развлечь читателя. Насмешить его, если угодно.
– Угодно… Стало быть, вы не отрицаете – конечной вашей целью является смех? – Дегустатор весь напрягся.
«Сейчас, – подумал я, – позвоночник его зазвенит, как струна». И ответил:
– Нет, не отрицаю. И не только конечной, но и начальной тоже.
– Миллион лет!.. – высунув длинный фиолетовый язык, Эсдэкр облизнул губы. – Это первый в моей практике случай, чтоб человек вот так – с ходу – во всем сознался! Остается лишь кое-что уточнить, детали…
– Слушаю вас, – отвечал я в полном недоумении.
– Когда вы смеялись в последний раз?
– Я-я… право н-не помню.
– А мы вам напомним. В последний раз вы смеялись вчера, в два часа пополудни, не так ли?
– М-м… Пожалуй…
– Прекрасно! И с кем вы смеялись?
– Э-э, – забормотал я, почуяв неведомую беду.
– А мы вам и тут поможем. Вы смеялись с членом Академии Всех Возможных Искусств Кьяром.
– Но-о…
– Не увиливайте. От фотоглаза никому не скрыться. У академика Кьяра улыбка превысила дозволенный «оскал учтивости» на целых восемь зубов.
Я оторопело взглянул на него.
– Извольте полюбоваться…
На стене зажегся экран: в номере отеля я наливал художнику вино и что-то оживленно ему рассказывал. Слушая меня, он улыбался грустной еле заметной улыбкой. В нижнем углу экрана вспыхнуло табло с цифрами.
– С лауреатом все ясно, – бодро продолжал Эсдэкр, – четыре секунды смеха по хронометру. Нас интересует мадам Кьяр. Фотоглаз, увы, ее проморгал, а звукозапись нечеткая, потому что вы говорили слишком громко. Не вздумайте обманывать, это бесполезно! Вспомните, смеялась мадам вместе с мужем или не смеялась?
– Нет.
– Вы уверены?
– Уверен…
– А их сын Глукк шести лет?
– Нет, и он не смеялся.
– Вы уверены?
– Уверен. Он плакал, потому что ему не дали вина.
– Вообще-то на фонограмме есть детский плач. Но бывает и смех сквозь слезы. Недурная форма конспирации, как по-вашему?
– Не знаю.
– Не знаете чего?
– Ничего не знаю.
– Бросьте, вы гораздо умнее, чем кажетесь!
– У меня это – врожденное.
– Хм… Ну а с кем вы смеялись до отъезда в заповедник.
– До отъезда я хохотал в одиночестве.
– Неправда!..
Снова вспыхнул экран. Я показывал двум глюэнским писателям свои старые карикатуры. Они ухмылялись – тоже чуть заметно, но все равно шире, чем узаконенный «оскал учтивости», сказал дегустатор.
– Сколько раз они смеялись?
– Я не считаю это смехом!
– Хорошо. Сколько раз они делали то, что вы не считаете смехом?
– Один-единственный.
– Неправда!
И опять засветился экран… Я покрылся холодным потом.
– Над чем они смеялись?
– Я не могу назвать это смехом!
– Ладно… Над чем они делали то, что вы не можете назвать смехом?
– Они… Я думаю, над моими карикатурами.
– Карикатуры, это вон те рисунки?
– Да.
– А что в них смешного?
– Видите ли, карикатуры и рисуют-то, чтобы смешить людей.
– Почему вы не заявили о них на таможне?
– Я предъявил свой багаж для досмотра.
– Да, но вы не указали, в чем их назначение. И таможенники решили, это – реалистические изображения землян. В протоколе прямо сказано, – он взял со стола какой-то листок и прочитал вслух: – «Портреты землян, индивидуальные и групповые, архитектурные пейзажи»…
– Моя вина, если у ваших таможенников нет чувства юмора?
– У них есть все чувства, положенные мужчине и офицеру! – Дегустаторский голос постепенно наливался металлом. – Вернемся-ка лучше к делу. От души ли смеялись ваши собеседники?
– Что такое вообще душа? Я атеист.
– Не надейтесь сбить меня с толку! Ставлю вопрос по-другому. – Он постукивал костяшками пальцев по столу в такт слогам. – Ис-крен-не ли сме-я-лись ва-ши со-бе-сед-ни-ки?
– Я не считаю…
– Хорошо, – перебил он. – Искренне ли они делали то, что вы не счи…
– Черт подери! – заорал я. – Землянин я! Понимаете, зем-ля-нин! И не знаю ваших порядков! Объясните наконец, в чем дело?
– Что ж, – сказал Эсдэкр, – теперь можно и объяснить. Год назад у нас началось всеобщее публичное обсуждение законопроекта о реформе смеха.
– Ничего не слыхал об этом.
– Разумеется! Все публичные обсуждения у нас всегда проходят тайно. На время обсуждения смех был объявлен нежелательным, и гражданам вменялось в обязанность от него воздерживаться. А две недели назад законопроект был утвержден и обрел юридическую силу.
– Но я сидел в заповеднике и ничего не знал!
– Они знали.
– Это же я, я их смешил! Понимаете – Я?!
– Каждому – свое. Вы за подстрекательство к смеху подлежите немедленной высылке.
– Скажите, – силы меня покидали, – что вы имеете против смеха?
– Имею! – возмутился Вург. – Я вообще бессребренник! Просто смех, как и любая реакция индивидуума, должен быть коллективным. – Он говорил резво, будто по писаному. – Представляете, если люди станут смеяться над чем угодно, с кем вздумается и когда попало?! Само собой, мы консультировались с наукой и знаем, смех способствует важным биохимическим процессам в организме. Закон гарантирует каждому необходимую дозу здорового смеха. Но это уже качественно новый смех: во-первых, он узаконенный, – Вург загнул палец, – во-вторых, – организованный, и, в-третьих, как бы это вам объяснить… У нас нет разрыва в смехе между разными слоями народа. Простой рабочий смеется теперь по тем же дням, в те самые часы и ровно столько же времени, сколько министр или сам Великий Гордр.
– В те же часы… и ровно столько?..
Да. Два раза в неделю, в восемь часов вечера, по всей Глюэне проводится Всеобщий порыв смеха. Смех – индивидуальный или коллективный, осуществляемый в любое другое время – незаконный и карается со всей строгостью. – Он внушительно посмотрел на меня. – Что представляет собой Всеобщий порыв смеха?.. Перед началом Порыва народ выходит на улицы – все без исключения. Появляется смеющийся лик Великого Гордра. Люди приступают к смеху, каждый мо…
«Нет, – почувствовал я, – больше не выдержу!» И встал. Дегустатор запнулся, потом сказал:
– Впрочем, сегодня вечером вы сами увидите Всеобщий порыв. И не забудьте, завтра утром вы должны покинуть Глюэну. Билет и паспорт для вас заказаны.
Я рассмеялся ему в лицо, поклонился и направился к двери.
* * *
Без десяти восемь я вышел из гостиницы. Улицы были затоплены народом. Все глядели на небо. Я с трудом протолкался в середину сквера и тоже стал смотреть вверх.
Пророкотали фанфары. В воцарившейся тишине на небе фосфорическим светом засиял лик Великого Гордра. Он усмехнулся…
И вдруг, как разорвавшаяся бомба, грохнул смех.
Смеялись по-всякому: со вкусом, зажмурив глаза и поглаживая себя по животу; визжали, содрогаясь всем телом и утирая слезы; хихикали тоненько и сладострастно; ржали громоподобно, побагровев от натуги. В колыбелях блаженно улыбались младенцы, пуская радужные пузыри слюны. А из-за угла, с плаца, где были построены войска, доносился мощный лающий хохот.
Миллиарды глюэнтян сливались воедино с Великим Гордром во Всеобщем порыве смеха. От гула гогочущих глоток шатались дома. Стрелки моих часов дрожали, как былинки на ветру.
Через тринадцать минут все кончилось. Погас портрет, и, словно отрезанный бритвой, умолк смех. Но никто не расходился. Началась передача «В мире Великого Гордра». Глюэнские психологи открыли, что, насмеявшись вволю, люди с особой серьезностью воспринимают официальные сообщения.
По небу бежали серебристые буквы: «Новости науки и искусства»…
…ИДЕИ ВЕЛИКОГО ГОРДРА – ДВИЖЕТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ!!! Ученые Эльерской обсерватории имени ВЕЛИКОГО ГОРДРА в соавторстве с ветеринарами-конногвардейцами доказали: подлинной причиной разбегания галактик является непрерывная эманация Мысли ВЕЛИКОГО ГОРДРА, распространяющейся по вселенной со скоростью света. Все же идущие к нам из космоса излучения суть избытки Мысли ВЕЛИКОГО ГОРДРА, возвращаемые мирами, не способными пока воспринять Учение ВЕЛИКОГО ГОРДРА в полном его объеме. Совершено параллельное открытие: корень землетрясений, извержений вулканов, тайфунов и прочих катаклизмов на нашей планете в том, что Глюэна давно уже слишком тесна для Гения ВЕЛИКОГО ГОРДРА…
…Ознакомившись с этими открытиями, Сенат обратился к народу с призывом: «Откажемся еще на 200 лет от излишней одежды и пищи, чтобы предоставить Министерству Справедливых войн средства, необходимые для утверждения Идеалов ВЕЛИКОГО ГОРДРА во всех мирах!..
…ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА!!! Вчера на исходе дня ВЕЛИКИЙ ГОРДР наградил Эльерскую обсерваторию имени ВЕЛИКОГО ГОРДРА Орденом ВЕЛИКОГО ГОРДРА самой первой степени…
…ЧИСЛЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ВЕЛИКОГО ГОРДРА!!! Главный биохимик Гмор, пользуясь методом патологической алгебры, запрограммировал «Слово ВЕЛИКОГО ГОРДРА о Самом Себе» и вычислил: Мудрость ВЕЛИКОГО ГОРДРА равна 10317 умов обыкновенных вождей…»
Вдруг каким-то боковым зрением я заметил отделившуюся от толпы фигуру. Обернулся и увидел человека, полускрытого растениями, украшавшими вход в гостиницу.
Он смеялся! Смеялся, глядя на небо… Блики от серебристых букв скользили по его белым зубам. Я не верил своим глазам: он смеялся почти на виду у всех, в двух шагах от сцементированной темной массы, по краю которой зияли разинутые рты и глубокие отблескивающие стеклом глазницы.
Я шагнул к дверям и заслонил собою смеющегося. Минуту спустя он поднял на меня усталые глаза, отсвечивающие озорными искорками, поклонился, быстро сошел на тротуар и слился с толпой.
* * *
– Шесть часов утра!.. Шесть часов утра! – дурным голосом завопил динамик. – Я – Воскресный вещатель.
Вспомните, что говорил Великий Гордр о шести часах утра!..
Потом, на всякий случай, вещатель провозгласил цитату о том, что шесть часов – это куда лучшее время, чем пять утра или семь, для того чтобы встать с постели и начать новый День. Далее Воскресный вещатель отечески произнес:
– Десять минут на физиологию и гигиену!
Я не обязан был соблюдать здешний распорядок. Проверив, все ли уложено в чемодан, я включил квантовую бритву. Но едва покончил с левой щекой, снова ожил динамик:
– А теперь выйдите на середину комнаты! Военнослужащим и семейным построиться по росту!.. Та-ак, хорошо!.. На изображение Великого Гордра – равняйсь! Смирр-на-а! Песню «Благословенный светоч наш» запевай!..
Конечно, и сам вещатель затянул на два голоса глюэнский гимн. Это было похоже на дуэт блуждающих в тумане пароходов. С улицы – из окон и дверей – доносился хор вторивших им глюэнтян.
Порадовав меня после гимна небольшой паузой, вещатель снова ожил.
– Внимание! – объявил он строго. – Не забывайте: до девяти утра Министерству Двух Пэ должно быть сообщено обо всех недозволенных действиях, сомнительных поступках, зловредных словах и крамольных снах!.. Как обычно по воскресеньям, жильцы нечетных номеров обличают жильцов четных, дети – родителей, мужья – жен!..
До отъезда из гостиницы оставалось еще минут сорок. Я вызвал дежурного робота.
– Возьми чемодан, – сказал я ему, – спусти его на лифте и отнеси в кафе к крайнему столику рядом с дверью.
Сам я не спеша сошел пешком по лестнице. Робот ждал меня у входа в кафе. Я опустил монету в отверстие на его затылке. Он тут же сплюнул мне на ладонь сдачу. Чаевых здесь не брали.
Отворив массивную дверь, я увидел около столика свой чемодан, а за столиком – Старшего дегустатора крамолы Вурга, поднявшегося мне навстречу.
– Миллион лет, – сказал он.
Понимая, что неофициальная краткость его приветствия – это особая любезность, я ответил еще одним «миллионом» и пригласил его садиться.
Мы заказали бутерброды с копчеными червями и кофе.
– Чему обязан? – спросил я, взглянув на Вурга.
– Видите ли, – отвечал он с непонятным смущением. – У меня к вам дело. То есть, не у меня лично… у всех… Хм… И не у всех… вообще… а у всех нас… нас… как таковых…
Я помалкивал.
– Под «нами», – продолжал он, – я имею в виду всех… кто соответственно облечен…
– Вы хотите сказать, что говорите от имени властей, – я решил докопаться до сути сам, – но разговор наш носит как бы частный характер?
– Вот именно! – приободренный, он едва не расплылся в улыбке.
– Ну и в чем же дело?
– Не смейтесь, дело в смехе. Вы были правы: у нашей таможенной службы нет чувства юмора. Но, – он быстро огляделся по сторонам, – его нет и в других… департаментах…
«Уж не сколачивает ли он юмористическую фронду? – подумал я. – Свою смехотворную оппозицию»…
– Юмора нет не то что у штатных или добровольных осведомителей, но даже у Старших дегустаторов крамолы и, – он опять осмотрелся, – …и выше. Мы беззащитны перед смехом. Любой из нас ежеминутно может проморгать что-нибудь смешное. А там – греха не оберешься. Подпольные смехачи появятся, как грибы после дождя. Были… были и на Глюэне люди, понимавшие толк в смехе, но их всех до единого подвели под новый закон. Если кого теперь и выпустить, положиться на них нельзя.
Он вздохнул.
– Но какое все это имеет отношение ко мне? – спросил я.
– О, вы… у вас-то есть чувство юмора!..
Я поклонился, едва не угодив носом в свой кофе.
– Вам, – продолжал он, – ничего не стоит вовремя и в любой форме распознать смешное. Вы были бы нам очень полезны, скажем, на посту начальника ОВЭЭС – Отдела Выявления смеха в Министерстве Двух Пэ.
Я безмолвствовал, ошеломленный его неожиданным ходом.
– Работа, понимаете сами, чистая. Попросту говоря, научная… академическая…
Я молчал.
– Ну и конечно, двойное жалованье, гатем и все – как полагается…
И опять я не ответил. Он после паузы продолжал с некоторым уже удивлением:
– Вы сохраните земное подданство и…
– Нет! – резко сказал я. – Нет, мне это не подойдет.
– Но отчего? Вы сможете писать свои книги и вообще использовать досуг, как вам будет угодно.
– Нет-нет! И давайте закончим этот разговор.
– Не торопитесь. Подумайте все-таки…
– Я опоздаю на звездолет!..
– Будьте спокойны, без вас он не улетит.
– Нет, я отказываюсь – решительно!
– В таком случае, – произнес он казенным голосом, – мне велено препроводить вас до космопорта…
* * *
Гравилет Вурга, большой и черный, как мировая скорбь, за четверть часа домчал нас до космопорта – исполинской башни из поляризованного стекла, в котором переливались всеми цветами радуги голографические изображения Великого Гордра. У входа молодые глюэнтяне старательно мазали нечистотами гравилет ЧИПП (чрезвычайного и полномочного посла) Фаогорголии, соседней планеты, отказавшейся заменить свой древний гимн песней «Благословенный светоч наш». В сторонке другие юнцы и девицы проделывали ту же операцию над самим послом, его женой и шофером.
Зажав пальцами ноздри, я торопливо обогнул политических демонстрантов и подошел к стойке контроля. Формальности отняли удивительно мало времени. У меня конфисковали все, кроме одной смены белья, и взамен каждой вещи выдали по тому творений Великого Гордра, правда, роскошно переплетенных и иллюстрированных.
В салоне фотонного звездолета я огляделся. Пассажиров было мало, некоторые из них как-то подозрительно пахли. Я занял место у окошка, поближе к плафону кондиционера. Вошла стюардесса с «оскалом учтивости» на лице и сказала, не переводя дыхания:
– Экипаж рад приветствовать вас на борту звездолета вы покидаете планету Великого Гордра прозревшими и духовно обогатившимися и конечно пожелаете снова ступить на ее передовую почву несите повсюду свет Великого Гордра застегните пожалуйста ремни напоминаю смеяться в корабле воспрещается благодарю вас.
Я защелкнул на животе металлическую пряжку и откинулся на мягкие пружинящие подушки.
А ВСЕ-ТАКИ ТОТ ЧЕЛОВЕК СМЕЯЛСЯ!..
История про капитана Без-енко – истребителя чудовищ
История эта началась и закончилась в большом портовом городе некой тропической страны, на берегу одного из океанов. Она правдива от первого и до последнего слова – ручаюсь вам головой. А ежели мало одного залога, к нему, я уверен, приложат свои головы все прочие очевидцы.
Неподалеку от порта стояла гостиница, воздвигнутая в эпоху колесных пароходов и шляпок с вуалями. Не было в ней кондиционеров и вообще никаких электронных удобств. Но зато там были крысы.
И жил в этой гостинице на одном со мной этаже капитан Без-енко. Он привел сюда морской буксир и теперь обучал экипаж из местных жителей сложному искусству кораблевождения. В молодости была у него пышная шевелюра, но потом он выгодно обменял ее на усы кукурузного цвета и просторный живот – из тех, что у нас в Одессе называют «накоплением» или «арбузом». Я говорю «у нас», потому что Без-енко оказался моим земляком и даже почти соседом. Мы радовались такому фатальному совпадению, и нас было, что называется, водой не разлить – особенно по вечерам в баре, где изнывали в грязном аквариуме позолоченные рыбки.
Давно лишенные информации о ходе футбольного первенства, мы жили голой теорией, а она сулила победу одесскому «Черноморцу». Без-енко был экстремистом. Он презирал меня за то, что я довольствовался в мечтах третьим местом («Черноморец» к концу первого круга был на восемнадцатом и последнем).
– Можешь подавиться своей «бронзой», – говаривал он обычно.
Ему нужно было «золото» или, по крайности, «серебро». По вечерам он изучал полупустую таблицу, ориентировочно прибавляя Одессе очко за очком.
И вот, когда он довел наконец «Черноморец» до «золота», минуя острые рифы поражений и унылые ничейные штили, грянул гром.
Гром этот был типографский. Пришли газеты сразу за несколько месяцев. Репортажи со стадионов были хуже некрологов. Я заполнял таблицу и решил наложить на себя руки. Но мне захотелось проститься с Без-енко: он получил те же газеты.
Без-енко с секстантом в руке опирался на стол, как Луи Каторз на знаменитом портрете.
«Замерял падение нашей звезды», – подумал я и спросил:
– Ну, что ты имеешь сказать?
Он безмолвствовал. Мне стало его жаль даже больше, чем себя.
– Не убивайся, – сказал я. – Еще не все потеряно. Если киевское «Динамо» потерпит поражение во всех оставшихся матчах и потом дополнительно семь раз обыграет самое себя, а все другие команды половину своих очков отдадут «Черноморцу», то мы смело берем «серебро»…
Он поднял на меня страдальческие глаза и вдруг явственно произнес:
– Мне бы стрихнинчику.
«Готов!» – решил я и на всякий случай отошел к двери.
– Можешь на меня положиться, – продолжал он, – я этого так не оставлю.
– Чего «этого»? – Я перенес одну ногу в коридор и чувствовал себя уверенней.
– Они жрут мой курс, – туманно ответил Без-енко и заплакал скупыми морскими слезами.
– Старайся поменьше думать об этом. Они приналягут и все поставят обратно, на место.
Он вздрогнул.
– Хотел бы я видеть, как им это удастся?
– Подожди, – мягко, как ребенку, сказал я. – Подожди и увидишь. Кто знает, может, они уже взялись за дело…
Без-енко опять вздрогнул, подскочил к письменному столу и распахнул настежь дверцу. За нею лежали толстые, сложенные стопкой тетради. У верхней, с надписью «Навигация» и римской единицей, кто-то аккуратно по дуге отъел весь правый угол.
«Девятка!» – невольно подумал я и спросил:
– Зачем ты ее порезал?
– Это я? – Он помедлил и огляделся по сторонам. – Крысы… Тут у меня выступала семейка – мама и три дочки… Можно сказать, грызут науку!
Оказывается, вчера вечером в номер к нему пришли четыре крысы и сразу накинулись на конспекты. Капитан потребовал у портье мышеловку, но тот не понял и принес дюжину пива. Так они коротали время: Без-енко пил пиво, а крысы жрали тетрадь. Он пробовал их отогнать. Но они не спеша уходили к дыре в полу и, едва капитан возвращался к пиву, принимались опять за свое.
– Это хамки! Они делали мне Варфоломеевскую ночь, – пожаловался Без-енко.
Мы бросились к директору. Но директор сослался на утвержденный свыше список инвентаря и мышеловки не дал. А когда я сказал, что в списке нету и крыс, он дико разгневался и закричал, что крысы, мол, появились в отеле помимо директорской воли и спроси, они разрешения, он им бы его не дал. Тогда я зашел по другому краю и пробил вопрос насчет сохранности имущества постояльцев и разных гарантий – словом, всего, что было написано на табло, висевшем внизу, у правого уха портье. Но он отбил мой вопрос за боковую линию, ибо юридические гарантии имеют силу над людьми, а не безответственными грызунами. Отбил – и сделал рывок к моим воротам, с улыбочкой предложив опротестовать москитов и мух. Само собой, я перешел в контратаку, но директор снял телефонную трубку и объявил, что матч окончен.
Без-енко был невменяем.
И началась мистика. Крысы ели конспекты. Каждый вечер они приглашали к Без-енко друзей и родственников. Через неделю капитан знал их всех в лицо. Он бегал к директору с ошметками тетрадей, но ничего не добился.
Тогда мы выклянчили у судового врача мышьяк. Без-енко накупил разных деликатесов, напоил их отравой и аппетитно разложил возле стола.
Крысы к угощению не притронулись.
– Офсайд? – спросил я его утром.
– Чуют… – оперным шепотом ответил Без-енко и, помолчав, добавил;
– Они подслушали, когда мы договаривались за мышьяк. Я от этих разносчиц холеры всего жду.
По его расчету выходило, будто крысы свободно понимают человеческую речь и зря мы не называли мышьяк по науке, латинским словом. Названия этого я не знал, да и Без-енко тоже его не помнил.
Но он сказал, что ничего бы от нас не отпало, если б заглянули в справочник. Все равно пригодилось бы потом для кроссвордов. Я почувствовал раскаяние. Но тут меня осенило.
– Слушай! – закричал я. – Ведь русского-то они знать не могут…
– Не терзай мне зря сердце, – сказал Без-енко. – Каждый раз, когда мой взор падает на вас, молодых, я плачу от боли. Ваши мысли, как те часы, крутятся в одну сторону. Крысы, запомни, сынок, ходят под всеми флагами и слышат все языки…
Он довел свое рассуждение до высшей точки, заявив, будто крысы, общаясь между собою в портах, свободно могли создать всемирное лингвистическое сообщество, и допустил наличие особого языка.
– Что-то вроде эсперанто, – сказал он.
Я не стал возражать и осведомился о его планах.
– Пускай блюда полежат, – ответил Без-енко, – вдруг они захотят расширить меню…
Но крысы довольствовались одним блюдом.
Наконец наступил кризис. Раньше грызуны отставали от слушателей капитана и жрали лекции, так сказать, постфактум, теперь же они обошли студентов. Близилась катастрофа.
Капитан попробовал сыграть с ними по-честному. Он убрал с поля отравленные харчи и заменил их доброкачественными и свежими. Далее он произнес речь. Я тоже присутствовал. Незаинтересованный свидетель, по идее Без-енко, придавал больше весу его словам.
– Мадам, – обратился он к старой крысе. – Мадам, и вы, девочки! Вы сделали меня всухую. Что б я так жил, если у меня рука поднимется на ваше здоровье. Кушайте, не стесняйтесь. Питание – люкс! И вы будете иметь его три раза в день, или пусть «Черноморец» вылетит из высшей лиги и станет ниже «Молдовы»…
Упоминание о «Черноморце» я принял как знак духовного возрождения капитана.
– Подумайте сами, мадам (он особенно уповал на старуху!), разве можно сравнить эту старую измызганную бумагу с бисквитиками и ветчинкой? Зачем вам изнурять свой желудок? Кушайте калорийную пищу и плюньте на мои конспекты! А я буду учить по ним людей. И все останутся довольны…
Чтобы развеять их опасения, мы с капитаном надкусили все бисквиты и перепробовали ломтики ветчины.
Я покинул его во власти надежды.
Назавтра оказались съеденными еще четыре главы. Деликатесы лежали нетронутые.
– Они мстят за мышьяк, реваншистки, – тяжко шептал капитан. – Но мое терпение тоже имеет конец!
И он удалился с видом решительным и мрачным.
За обедом я попытался вернуть капитану былую форму, сообщив о победоносной ничьей, сделанной «Черноморцем» неделю назад. Для этого мне пришлось звонить в столичный пресс-центр и выложить изрядную сумму.
Но мяч прошел выше ворот: Без-енко выслушал меня равнодушно, как мидия.
Только за кофе он вдруг оживился и начал ставить вопросы по военному делу и баллистике. Тут я был на высоте. Я пересказал своими словами пару популярных статей о сокрушительной мощи ракетно-ядерного оружия. Все примеры я изложил как лично мною увиденное и пережитое. Но Без-енко интересовало архаичное вооружение. И он то и дело сворачивал на царь-пушку и всякие мушкетоны и фальконеты.
Вечером я зашел к нему поделиться алгоритмом, основанным на нашей ничьей. У меня не было под рукой приличного компьютера, но даже конторские счеты выдали виды на «бронзу».
Капитан был чем-то взволнован и не мог уследить за моими выкладками.
– Слушай, – сказал он осипшим от напряжения голосом, – оставайся у меня ночевать. Я тебя удивлю!
Но я с детства не любил удивляться. Я сообщил, что мне до зарезу надо отправить письма не позже завтрашнего утра, и ушел восвояси.
Ночью гостиница проснулась от страшного грохота. Я решил, что началось извержение вулкана. По преданию, он молчал уже десять тысяч лет, с тех пор как в его огнедышащий кратер сошла девица, которую мракобесы-родители насильно просватали за нелюбимого, но очень богатого старика. Я даже подумал, что в сущности было бы глупо обижаться на этот вулкан: шутка ли – десять тысяч лет!
Все выскочили в коридор и увидели, как возле капитанского номера сизыми клубами стелется дым. Я распахнул дверь. Без-енко стоял посреди комнаты, опершись на какой-то отливавший металлом очень продолговатый предмет. В дыму я увидел изрешеченный стол, лужи крови и бившихся в агонии крыс.
– Готовы! – поведал нам Без-енко. – Всю семью скосил с первого залпа!
Он старался держаться скромно, по-геройски.
Пока прислуга выносила трупы, капитан, не выпуская из рук гигантской двустволки, доложил потрясенным соседям, как разворачивалась битва. Для начала он ударился в историю, упомянув всех прославленных снайперов – от библейского Давида и Вильгельма Телля. Капитан указал, что все они стреляли из родственных или корыстных побуждений и далеко им до него, Без-енко, отдавшего свой не знающий промахов талант на службу науке.
Затем он перешел к стратегическому анализу. Учитывая тяжесть своего оружия и маневренность неприятеля, капитан решил навязать ему позиционный бой. Особое внимание уделялось воинской тайне. При крысах он не проронил ни слова о предстоящем деле, а ружье замаскировал казенной простыней и старыми газетами. Стволы были направлены прямо на дверцу стола, скрывавшую недоеденные конспекты.
– Прицел я навел гениально, – застенчиво улыбнулся Безенко, – выверил все по девиационным таблицам…
Затем был приподнят край простыни, вставлены патроны, набитые крупной дробью, взведены курки. В двадцать ноль-ноль по местному времени Без-енко предпринял завершающий маневр: провертел в газетном листе, как раз напротив спуска, дыру и вставил в нее палец.
– Они все же что-то учуяли, – признал капитан, – и выслали головной дозор – саму хрычовку с племянником. Но мой каштанчик был даже ей не по зубам…
Дозор ничего не обнаружил, и подошли главные силы. Когда противник сконцентрировался вокруг стола, капитан открыл огонь.
– Скосил всю семью с первого залпа, – повторил Без-енко.
Он сделал паузу, чтобы мы смогли оценить такой триумф. Но ею, нарушив правила, воспользовался директор отеля. Он бросил увесистое свое тело в бурный поток капитанского красноречия и перегородил его напрочь. Голос директора звучал могущественно и гулко, словно эхо пароходной сирены в пустой металлической бочке.
Он оплакивал простреленный стол – оплакивал как центра нападения, переманенного в чужую команду, как боевого коня, не раз проносившего вас невредимым сквозь пламя и пули и скоропостижно умершего от мигрени…
Столу этому не было цены! На него пошло дерево, выросшее в доисторическую эпоху. Потом эволюция сделала финт, и дерево оказалось уникумом мировой флоры. Ему даже не с кем было опылиться ни прямо, ни перекрестно. Тысячи лет оно мучилось и не могло умереть, ожидая, когда же придет столяр и сделает из него что-нибудь для нашей гостиницы.
Обрисовав благородство сырья, директор начал характеризовать стол как произведение искусства…
Женщины рыдали вместе с ним. Мужчины дымили сигаретами. И тогда он ударился головой о стену, прикрытую мягким ковром, и, напрягая иссякшие силы, заговорил о компенсации.
Едва была названа сумма, все в ужасе разбежались. Все, кроме Без-енко, не понимавшего на местном языке ни словечка, и меня: я не мог бросить капитана на поле, когда по его бюджету собирались пробить пенал.
– Потолочная была речь у шефа, – улыбаясь, сказал Безенко. – Хотя я не все усек, но чудак явно обезумел от счастья, что я выступил у него в гостинице. Ты уловил: он отвалит сумасшедшие деньги, чтоб только я не переехал отсюда. Для буржуя реклама – всё!
Я тактично развеял Без-енковы заблуждения и оставил его наедине с двустволкой.
Утром мы постучались в директорский кабинет. После вчерашнего надгробного плача шеф напоминал проколотый мяч. Он взял у капитана деньги (за ночь сумма похудела на две баранки) и сунул их в карман.
Зная филологическую невинность Без-енко, я сказал ему в переводе с латинского:
– Так проходит мирская слава…
С того самого дня Без-енко ни о чем, кроме опасностей и риска охоты, говорить уже не мог. Крысы в его рассказах обретали черты кровожадных и мощных хищников, в единоборстве одолевающих человека.
– Чтобы вы могли себе вообразить, – начинал он обыкновенно, – какая сила у крысы, учтите: слоны боятся мышей. А кто, я вас спрашиваю, мышь против крысы?!
В присутствии дам он украшал свою речь блестками эрудиции.
– Интересно, что вы ответите, – говаривал он, – когда узнаете, что слово «крыса» пошло от древнеиндийского «крудхьяти»? И это значит ни больше ни меньше как «гневаться»! А веселенькие истории старого Брэма, от которых волосы встают дыбом?!
Он отсылал своих слушательниц к энциклопедиям – Детской, Большой и Малой – но прежде, чем приступить к чтению, рекомендовал им поставить по одну руку бром, по другую – валерьяновые капли и вызвать «скорую помощь».
Потом Без-енко стал держать курс на тигров. Он решил, что они тоже достаточно сильны и свирепы. Капитан изучил все их повадки и любил перечислять части тела и органы тигра, попав в которые пуля приносит смерть – мучительную или мгновенную. Денно и нощно домогался он, чтобы я сопровождал его на предстоящей охоте. Я понял: смерти не миновать – от когтей ли зверя или от капитанского красноречия, – и дал свое согласие.
Тигров там было столько, что они иногда забегали в партер городской оперы. В парламенте поднимался даже вопрос о создании специальных ферм, где тигров откармливали бы на мясо, стригли с них шерсть, доили и приучали к упряжке. План этот увязывали с оздоровлением государственных финансов. Но едва Без-енко закончил свои приготовления, он узнал, что на отстрел каждого хищника (а капитан планировал истребить все поголовье) необходимо личное разрешение премьера. «Конечно же, – утешал он меня, – при моих заслугах разрешение будет получено»… Бог знает, сколько раз на день бегал он к почтовому ящику, но, увы, бумага запаздывала.
И я уехал, так и не сходив с капитаном в кромешную тьму джунглей.
Следующим летом я проводил отпуск в Одессе. Однажды, отобедав у родственников, я шел, как положено, на ужин к другим родственникам, но вдруг на середине пути подумал: «А ведь у Приморского бульвара вроде снимают кино»… И решив, что для пищеварения совсем неплохо взглянуть на симпатичных артисток, освещенных современной аппаратурой, я прошел по Сабанееву мосту, пересек площадь и, обогнув морские кассы, застыл, пригвожденный к тротуару… Возле входа во Дворец моряка красным по белому было написано:
КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ
«ОХОТА НА ТИГРОВ»
Предыстория вопроса!
Моральный и физический облик этих хищников из семейства кошачьих!
Тигр как мишень!
Личные воспоминания!
Лекция капитана дальнего плавания
О.О. БЕЗ-ЕНКО
Вход и выход бесплатный. Начало в 18.30
«Без пяти семь!.. – пронеслось у меня в мозгу. – Уже пропустил «Моральный и физический облик»… Надо позвонить тетке, предупредить, что я задержусь».
У кого есть «свои» в Одессе, тот знает: к столу выходят минута в минуту, как судьи на поле… А в кармане ни одного медяка! Пока я ездил на такси выменивать двухкопеечные монеты и потом объяснялся из автомата с теткой – мне пришлось поклясться маминым здоровьем, что я не попал под машину и дома у нас все в порядке, что я не брезгую жареной камбалой, а, наоборот, люблю ее больше жизни, – лекция кончилась.
Публика повалила на бульвар. Я увидел в толпе жутко красивую девушку по имени Света, с которой только сегодня утром познакомился на пляже и готов был ради нее на все. Расталкивая взопревших поклонников тигриной охоты, я бросился к ней и услыхал, как она говорила подруге:
– Вот это – мужчина! Какая сила воли!.. Наши пижоны не годятся ему на подметки…
Я повернулся и тихо пошел назад, к Сабанееву мосту, туда, где меня ждала ненавистная с детства жареная камбала.
Всё ж силу слов пусть борет сила слов[27]
Знаменитый почти всемирно писатель-фантаст Юрий Кузьмич Мещерзанцев, приняв бальзаковскую порцию кофе, как всегда по утрам, уселся за неоглядный письменный стол и попробовал написать нечто. Но нет, не смог. И так уж который месяц!
Гневно глянув на пустующий лист бумаги, он зажмурился и – сработала изжитая вроде привычка – нажал указательными перстами на глазные яблоки, большими энергически потирая виски. Тщетно! А ведь было же, было время, когда прием этот («кунштюк Мещерзанцева» называли его) действовал безотказно. Меж зелеными и красными кругами, проплывавшими за со-мкнутыми веками, возникали смутные образы неземных существ и пейзажей, а в ушах, подобно прибою, рокотали нездешние голоса, изъяснявшиеся на загадочной космолингве, и в ней день ото дня открывалось все больше понятных слов. Мещензанцев даже истолковал навершие своего организма как некое приемное устройство, улавливавшее из космоса кванты информационного потока. И скромно поведал об этом на страницах дружественных изданий, читательских конференциях, обещая дознаться: где, в котором из членов его тела сокрыт передатчик. А там – проще простого всем миром наладить обоюдную связь с томящимся во мраке универсума Вселенским разумом.
Восторженные собратья взвились, загудели, проча Кузьмича кто в писательские секретари, а кто и в генеральные секретари ООН.
Лишь теперь осознал Мещерзанцев: да, тысячу раз был он прав, всю жизнь холя себя и любя прочной любовью, избегая малейшего риска, волнения, неудобства. Не мерз в палаточных городках новостроек, не ковал, не пахал, не сеял, не летал в стратосферу, даже доносы строчил редко – только на самых-самых… Не пошел и на войну – не отступал по первоначалу от двоедушного врага, а потом с предвечным молодечеством не загонял назад в звериное логово. Правда, один или два раза (из-за точной цифры биографы Мещерзанцева грызутся по сей день, а документы, само собой, засекречены) – так вот, один или два раза он выезжал на фронт вместе с представителями героического рабочего класса и героического крестьянства Энской области и где-то в армейских тылах вручил героям-фронтовикам подарки и теплые вещи. Отсюда некоторые биографы Мещерзанцева делают смелый вывод: поездки (поездка —?), мол, состоялись в зимние месяцы. Но мы истории не пишем… Важнее другое: все, чего не совершил, не сковал, не засеял, не отвоевал сам, лично, Юрий Кузьмич, сделали за него герои его книг. И сделали по-нашенски – споро, добротно, не щадя живота. За то и пожалованы были Мещерзанцеву свыше награды, премии, ордена, пайки.
А когда подоспела наконец долгожданная победа и началась тяжелая борьба за мир, тут и Кузьмич не стерпел, ввязался-таки в баталию, предпочитая, как учил Генералиссимус, бить врага на его территории. Бесстрашно брал от писательской казны билеты, суточные и смелым маневром в салоне воздушного лайнера достигал чужедальних столиц. Пламенные речи мещерзанцевские изобличали поджигателей новой войны, открывая несчастным народам, кто их единственная надежда и опора. Он был отважен, непреклонен, всем прочим театрам боевых действий предпочитая банкетные залы. И враги мира, парализованные красноречием Юрия Кузьмича, не могли нанести никакого вреда его естеству, бесценному, уникальному средству общения с иными мирами.
«Умница, молодчина! – нашептывало его подсознание. – Уберег, прирастил нашу плоть. Доброй едою, вином усугубил диэлектрические ее свойства». По совету подсознания, он предоставил свой организм дружественным ученым на предмет скорейшей локализации органа-передатчика; претерпел анализы, просвечивания, диету. Увы, загадочный член не открылся и дружелюбным ученым. Тогда консилиум постановил: сменить диету и облучать Мещерзанцева пучками нейтрино – а ну как всепроникающая эта частица, мечущаяся из конца в конец Вселенной, запустит в дело физиологическую электронику. Его уложили в опутанный пестрыми проводами массивный металлический саркофаг и подвели из ускорителя пучки нейтрино. Потом извлекли на волю, обвешав датчиками, поворачивали, щупали, взирая на мерцающие дисплеи: ни черта! Ноль!
«Ладно, – вздохнул тогда Мещерзанцев, – перейду опять на прием». Пальцы к глазам, к вискам, круть-верть – ни черта. Диета ли новая подвела, или нейтрино, не включив передатчик вырубили приемник? Разгадать секрет не удалось. Ах, сколько раз день за днем пытался он снова подключиться к космической информации! Не щадил ни себя, ни близких. Месяц, два, полгода, год… Наконец, он пошел на смертельный риск: поднявшись на плоскую надежно огражденную крышу своей дачи, пытался оттуда, из поднебесья, наладить контакт. Ноль!.. Бросил диету, жрал что попало и к рюмке прикладывался. Дружественную науку вытолкал взашей. Все без пользы.
А тем временем писательский секретариат обновился без Мещерзанцева. И Генеральная Ассамблея ООН собралась и избрала кого-то другого. Вот тут-то Вселенная, открытая прежде во всех измерениях мещерзанцевскому взору и слуху, пожухла, скукожилась. Не стало вдруг больше простора для стартовавших прямо с зелени неоглядного письменного стола звездолетов с научно-освободительными экспедициями на борту. И уцелевшие на отдаленных планетах эксплуататоры всевозможных биологических, социальных типов получили наконец передышку.
Самое слово «космос» внушало Мещерзанцеву отвращение. Он прервал работу над четырьмя романами. Богатырь, колосс, чье собрание сочинений – приз победителям телевикторины «Что? Где? Когда?» – проносили перед камерой семь рослых мужчин, титан слова больше не напрягал мышцы и мозг. Умолкла его пишущая машинка, считавшаяся единственным действующим вариантом perpetuum mobile. И тотчас прохудился озоновый слой над Антарктидой. Погасла только что открытая сверхновая звезда в Магеллановом Облаке. Запылали леса в Пиренеях и на Урале. Во Флориде выбросилось на берег стадо китов. А в Москве попали под суд сто скупщиков макулатуры. И опять же в главном зоопарке Страны Советов скончался проживавший там с одна тысяча восемьсот девяносто второго года орел Кузя…
Кто сказал, что литературные критики глухи и слепы?! Неправда, именно они узрели, услышали и осознали случившееся. Профессор Велемудрин тот прямо обратился в печати к Мещерзанцеву, намекая на разразившиеся уже и грядущие роковые последствия его немоты для Отечественного Слова, судеб России и Матушки-Земли.
Но корифей молчал! Безмолвствовал космок. И умолк со временем Велемудрин со товарищи.
Тягостную паузу эту, как всегда, разрешил случай. Завязав с сочинительством, Мещерзанцев выехал из столицы в дом творчества. Там, само собою, встретил он давнего друга, поэта и эссеиста Побиска Протуберанского (Ивана Петровича Шмарина). Гуляя меж дружественными древесами в виду ампирных портиков и выгнутой подковою галереи, Юрий Кузьмич поведал другу о своих творческих трудностях.
– Ты, Юрашка, не кручинься, – отвечал стихотворец, принюхиваясь к исходившему от Мещерзанцева пьянящему духу парижской туалетной воды. – Дался тебе этот космос, о нем нынче только ленивый не пишет. Ухватись-ка, брат, за фантастику с другого конца. Зачем тебе с Земли-Матушки вспархивать? Все одно нам лучше нигде не будет. По ней, кормилице, и летай – из нынешней, как говорится, эпохи в былые да последующие.
В угасших очах мещерзанцевских проскочила искра. Он скосил их на петуший профиль Побиска.
– Милое дело! – вскричал распаленный собственной мыслью Протуберанский. – Я тут внучонкино чтиво листал, «Машина времени» называется. Вроде британец какой-то накарябал. Да ты не смущайся, идею небось он у нашего брата и спер. Тем паче, внучок сказал, и наши, молодые да ранние, идейку эту в оборот пустили. – Уловив косой взгляд собрата, он продолжал на прежнем запале: – Тебе, Юрушка, сосунки не препона, всех подомнешь своим весом. В классики выйдешь, поверь, брат!..
Поверил, подмял – только косточки юные похрустывали. И в классики вышел с быстротою неимоверной. Протуберанский сам диву давался. А суеты было, шуму! Восторженные братья истово чеканили на «эриках» и «оптимах» славословия, приветы. Один Велемудрин выводил хвалебные словеса по-старинному – перышком. Ученики же его, глядя в писания профессорские, как хористы в ноты, пели Мещерзанцеву аллилуйю с трибун и печатно. Сам академик Брянченко, даже на даче читавший только классику, обнародовал статью о мещерзанцевских творениях, объявив их редкостным сплавом реализмов социалистического с мифологическим при «легирующей» (sic!) добавке глубокой научной методы.
Одно плохо: читатели упорно держались в стороне от этого бума. Будто и не для них радели сочинители и профессура. Слепцы, они не покупали книг Юрия Кузьмича – даже на вокзалах, в аэропортах и на курортах. Тут книготорги с ума посходили – не шлют заказов и баста. Горят тиражи трех изданий. Свои человечки ходили, звонили наверх. Нет, и впрямь, наверно, наступили новые времена, мы, отвечали им сверху, давить не будем, пусть товарищи сами решают. Надумали было радетели распродажи с участием автора учинить – душевный творческий разговор, автографы. Поначалу (сыскалась заручка) даже телевидение приглашали. Раструбили, растрезвонили. Все всуе! Приходить иногда люди приходят – жидковато, правда; но чтоб купить книгу – ни в какую. Стоят, глазеют, как бывало на покойного орла Кузю. Иные, кто понаглее, даже спрашивают: «Для кого, интересно, вы, Юрий Кузьмич, пишете? Неужто лесов вам родных не жалко?» Гонорарами интересуются. Едва успели телевидению дать отбой. А то ведь штабеля нераспроданных книг и диалоги у прилавка запечатлели бы, бенефис писательский чуть в «острый сигнал» не переделали.
Был, правда, один-единственный случай. Пришел в магазин человек – чернявый с виду, не то кавказец, не то иудей, – купил с ходу двадцать книг мещерзанцевских, завернуть просит. Юрий Кузьмич фломастер достал из кармана, но покупатель автографа не востребовал. На расспросы же отвечал: книги, мол, все снесет в макулатуру за талон на «Трех мушкетеров» Дюмапэра. Так, подлец, и объявил: «пэра»! Мещерзанцев – человек опытный, лезть в бутылку, конечно, не стал. Разузнал сердечно, кто таков, где трудится. А назавтра настрочил письмо на работу негодяя со всеми положенными словами: «патриотизм», «чистота идейная», «низкопоклонство». Налепил на конверт марку и сказал, как отрезал: «Честь имею!»
– Честь имею! – протрубил чей-то голос.
Мещерзанцев встряхнулся, открыл глаза и узрел на другом берегу стола незнакомца, махавшего ему рукой – так машут с причала матросские жены подплывающему кораблю.
– Честь имею! – повторил незнакомец. – Я – Теобор Тракеан, экстемпоральный судебный исполнитель. Прошу принять повестку.
И пустил рикошетом по сочной зелени столешницы прямоугольную белую пластинку – прямо на Мещерзанцева. Тот прихлопнул ее ладонью. Пластинка была гладкая, приятная на ощупь. «Слоновая кость!» – подумал писатель. На белой поверхности виднелись какие-то буквы, цифирь. Вздев на нос очки, он прочитал:
Мещерзанцеву Юрию Кузьмичу
– ЭМТ ̶
Экстемпоральный Межгалактический Трибунал
Повестка № 1
(абсолютный шифр 10–15 312 z-xy)
Ответчику: Мещерзанцев Ю.К.
Истцу: Совет по Непреходящим Духовным Ценностям
Надлежит явиться на слушание дела по иску «О целесообразности хранения книг Мещерзанцева в Вечном Депозитории Межгалактической Федерации»
Заседание ЭМТ состоится в 2 часа пополудни 28 числа 12 месяца 5983 года по земному летоисчислению (31 квазичас, 17 период, 214 341 цикл)
Защита: выбор ответчика
Место слушания: выбор ответчика
Примечание: экстемпоральный судебный исполнитель одновременно с вручением повестки вводит в мыслеорган ответчика телепатические записи следующих материалов: а) исковое заявление, исходные документы, проект решения ЭМТ; б) полный текст законов о статусе и защите культуры (Межгалактический генеральный кодекс – XXIV, 1-217).
Дважды пробежав глазами четкие черные строчки, Мещерзанцев бросил повестку на стол, брезгливо оттопырив нижнюю губу:
– Принять отказываюсь! Категорически!
– Поздно, повестка принята, – бесстрастно отчеканил Теобор Тракеан. – Как только вы дочитали ее, в космос ушел кодированный сигнал, а в мыслеоргане вашем закрепилось согласие на явку. Главный компьютер ЭМТ обеспечит вам к нужному сроку свободное время, отличное самочувствие и – что особенно важно – ясность мысли и памяти. Прогрессирующий склероз ваш, досточтимый Юрий Кузьмич, плохой на суде помощник.
Мещерзанцев, удрученный, махнул рукой: ничего, мол, не попишешь. Но исполнитель, игнорируя его жест, продолжал:
– Бляшки, отложения всякие со стенок сосудов ваших будут удалены; эластичность, просветы – все придет, как говорится, в ажур. Мы постараемся дополнительно…
И Юрий Кузьмич, сам не ведая почему, вдруг проникся твердой уверенностью: да, постараются; все выйдет – не будет склероза, будет ажур. Будет! Он чувствовал: в нужных центрах, сферах его мозгового пространства, накапливаются понятия и факты, обещанные повесткой. Одно оставалось неясным.
– А как прикажете понимать, – осведомился писатель с грубоватой прямотой гения, – как прикажете понимать пункт «защита»? Да и следующий пункт тоже? «Выбор»… Из кого выбирать придется? И трибунал ваш так-таки в любом месте и соберется?
Теобор пояснил безо всяких юридических уверток:
– В защитники можете взять кого угодно, любого устраивающего вас землянина – из современников ваших. А пожелаете, представителя любой цивилизации, состоящей на пять тысяч девятьсот восемьдесят третий земной год в Межгалактической Федерации. – И, видя в глазах Мещерзанцева не рассеявшееся до конца недоумение, добавил: – Вовсе не обязательно брать в защитники юриста. Тут нужен скорее не законник, а знаток литературы, прежде всего вашего, Юрий Кузьмич, творчества. Ведь немало людей писало о вас, и есть…
«Как же, как же!» – с неожиданной горечью вскричал про себя Мещерзанцев. Напыщенными, пустыми вдруг показались ему так радовавшие когда-то хвалебные статьи, публичные панегирики; привиделись лица панегиристов, лукавые, корыстные их ухмылки.
– …Писало о вас, и есть даже монографии, – не унимался Теобор Тракеан. – Пожалуй, коллеге и современнику лучше удастся отстоять ваши шансы. Его преимущества – конкретика, живое ощущение силы древнего искусства. Ну а категории Вечности, Совершенства, Абсолюта ближе моим компатриотам по галактическому кольцу, существующему сотни тысяч лет.
– Н-но мой соб-брат, – Юрий Кузьмич вдруг стал заикаться, – Отчего же не сможет! Выбранному вами защитнику тоже введут в мыслеорган необходимую информацию, и медики наши над ним поколдуют. Будет вполне, как у вас говорят, на уровне.
– К-когда н-надо выб-брать?
– Лучше всего сегодня, сейчас. Сократится расход энергии на установку моего экстремального поля, за счет чего увеличится лимит времени на слушание дела. Мало ли что может понадобиться?
– Н-ну а место?
– Любое! Экстемпоральный тоннель будет выведен в указанный вами пункт, лишь бы координаты его совпали с одним из пространственно-временных узлов нашей сети связи.
Прошу, не стесняйтесь. Гавайские острова? Ницца? Монте-Карло?
– А н-нельзя прям-мо тут… у м-меня?
– Извольте. Дома, как у вас говорят, и стены помогают. Наша беседа транслируется в Центр. Минутку, сейчас там рассчитывают темпоральные совмещения… Итак, дело слушается завтра.
– Как! – воскликнул Мещернзанцев. – Завтра?!
– Успокойтесь. Событийный коэффициент времени вам увеличат: все, что наметили, пожелали, успеет случиться.
– Завтра, – прошептал Мещернзанцев.
– Полно, – сказал Теобор Тракеан. – Выберите уж заодно и защитника.
Сосредоточившись, Юрий Кузьмич вдруг ощутил в себе неведомую прежде силу: люди, события, отдельные факты и обширные тексты всплывали в памяти с пугающей четкостью, соединялись, выстраивались, расходились – послушные малейшему его желанию. Он восхищался и горевал. Да, горевал оттого, что в лучшие годы свои не обладал такой победительной умственной силой: сколько бы написал и как написал бы! Но, удручаясь, успевал с ледяным спокойствием вглядываться в рожденные памятью фантомы, и они, словно в наведенном искусной рукою фокусе, становились резче, ярче. Он видел теперь насквозь своих собратьев по перу, дружественных мыслителей, случайных знакомых. И сокрушался, отчего прозрение пришло так поздно! Наконец, махнув рукой, назвал человека, чаще других являвшегося его умственному взору:
– Протуберанский!
* * *
Назавтра Мещерзанцев проснулся в прекраснейшем настроении. Каждая клетка тела вскипала бодростью. Кофе он выпил, лишь отдавая дань традиции. Нет, не обманул судебный исполнитель – все дела, отмеченные в «поминальнике» вчерашним и сегодняшним числом, совершились чуть ли не сами собой ко вчерашнему вечеру. Даже гонорар – он ждал его через месяц – перевели вчера. Это и есть полный ажур!
Позвонил Протуберанский и сказал:
– Я в курсе, буду заранее.
Юрий Кузьмич вознамерился было перелистать свои творения, кое-что освежить, подытожить. Достал их из застекленного шкафа. Оказалось, он помнит каждое наизусть.
Его обуяла смутная тревога: они больше не казались ему прямыми шедеврами.
Он закрыл глаза и вдруг увидел воочию Вечный Депозитарий. Светлые залы возносились до семисотого этажа; всюду серебристые полки, забранные ячеистыми сотами, в каждом гнезде сверкающий кристалл с записями шедевров. К некоторым полкам приникли считывающие устройства – где-то в иных галактиках читали мчащуюся по лучу запись. Мелькнула мысль: «Нет, не стать моим книгам ясным алмазом!» И противления почему-то не вызвала. Вчера, прощаясь с Теобором Тракеаном, он спросил, нельзя ли с ходу, не вникая, увидеть хоть один шедевр русского писателя, представленного в Депозитории? Тот поднял руку, взял из воздуха сканер и, поиграв кнопками, зажег на экране строки:
Река времен в своем стремленье Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей…«Не может быть! – снова горько вскричал про себя Мещерзанцев. – Не может быть».
…А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, – То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы!Обновленная память мещерзанцевская тотчас услужливо назвала имя, отчество, фамилию – Гаврила Романович Державин, ни разу не востребованные у нее, у памяти, после школы: уж больно старомодными, скучными – до зевоты – казались его стихи. Вспомнилась зачем-то сама школа на берегу величавой сибирской реки, за которой по осени золотыми, багряными факелами полыхали березы с осинами в темной зелени пихт, сосен, елей не замученной еще людьми тайги. Потом – и висевшая в классе на стене у окна засиженная мухами репродукция знаменитой картины: перед Державиным читает свою оду тоненький как тростинка отрок с вознесенною ввысь рукою… Ох, как не любил кучерявого этого отрока (особенно в последующей взрослой его ипостаси) профессор Велемудрин! Каких только пакостей не привнес тот, по убеждению профессора, в российскую поэзию: и генетическую память – эфиопскую или того хуже; и пустые философствованья западного толка – с богохульствами, подрывом устоев; мерзопакостную эротику французскую; слог, чуждый исконному ладу великого языка россов.
Внемля вполслуха пояснениям Теобора: мол, знаменитые эти вирши, начертанные золотом на фасаде Депозитория, есть доказательство торжества творческого разума над временем и судьбой – пускай вопреки авторской мысли, Юрий Кузьмич отчего-то терзался вопросом: за что же, за что Гаврила Романович, удостоенный сияющего кристалла, так возлюбил кучерявого? Но подсознание шептало: «Прав, прав певец Фелицы! И кудрявый арап тоже там, в Депозитории, куда и близко не подпустят профессора Велемудрина»… Дослушав свое подсознание, Мещерзанцев вознамерился было узнать у судебного исполнителя: кто из ребят из стальной обоймы закристаллизован? Не может же быть…
Взорвался неистовой трелью дверной звонок. Прибыл Протуберанский. Он трижды впился в хозяйские уста и, хохоча заранее, изложил новейший сексуальный анекдот о пирожках и ватрушке. Посмеялись, перебросились новостями: морозов вроде нечего ждать и к Новому году, так все и будет киснуть; бумага из Союза насчет прибавления гонораров в Совмине застряла – похоже – навсегда; от драматурга Подвенечного опять жена к народному артисту ушла, он, говорят, грозится новый театр спалить… Подступавшее судоговорение упоминалось лишь по касательной: закон-де и через тысячу лет будет как дышло; слава, пусть даже вечная, не светит и не греет… Побиск Протуберанский, чуть было не закончивший в свое время истфак, даже воскликнул:
– Sic transit gloria mundi!
Но за всем этим чувстовалось – жажда бессмертия занозой сидит в литераторских мозгах. И не в силах извлечь ее корифеи постановили отобедать. Кто их осудит? Обед и сам по себе расчудесное дело, а тут ведь сил поднабраться надо, воспарить духом. Шутка ли, космический трибунал!
Распахнули холодильник. Ульяна Порфирьевна, супружница мещерзанцевская, отбывая с внучкой на дачу, набила его снедью – здесь тебе и разносолы, и серьезные блюда, и фрукты румяные. Юрий Кузьмич, со вчерашнего дня настроившись на возвышенное, тотчас поклялся в душе любить до гробовой доски одну лишь жену Ульяшу и завтра же поутру отречься от молоденькой (слаб человек) и прыткой любовницы Антуанетты – Таньки из Дома кино.
Закуски сразу метнули на стол. И пестревшие на клеенчатой скатерти овощи и плоды, причудливо слитые с античными масками (трофей, привезенный Ульяшей из Рима), стушевались, поблекли рядом с живой плотью фиолетово-юных томатов, пупырившейся зеленью огурчиков, янтарем лука, угольной чернотой «кавьяра». Протуберанский уже и уста отверз – прочесть по памяти из державинского «Вельможи»:
На то ль тебе пространный свет, Простерши раболепны длани, На прихотливый твой обед Вкуснейших яств приносит дани…Но, опомнившись, промолчал. И то – зажигавшему газ под кастрюлей и сковородками Мещерзанцеву ох как далеко до ясновельможного царедворца (всего-навсего член двух правлений, пяти редколлегий, трех советов), да и яства ему поставляет вовсе не целый свет, а один-разъединственный магазин, куда сам Побиск тоже вхож.
Зато он углядел в морозильнике бутылку «Столичной» и предложил спрыснуть успех предстоящего дела. Хозяин, сославшись на древние суеверия, торжествовать неодержанную победу отказался. Хотя, по правде, не поверия удержали его, скорее – боязнь растерять во хмелю кипенье ума, вдохновение, окрыленность. Воспламенившийся стихотворец решил пить один и за благопожеланиями (нет-нет, о трибунале ни слова!) и переменою блюд выкушал водку до дна.
Корифеи убрали грязную посуду, и Мещерзанцев, предложив «подессерствовать», воздвиг посреди стола расписанное синими рыбами фаянсовое блюдо (трофей, доставленный Ульяшей из Нидерландов) с огромной золотистой дыней, обложенной пепельно-ржавым сушеным инжиром, оранжевою хурмой, фиолетовыми виноградными гроздьями (все было куплено на Центральном рынке). Рядышком встали замысловатые серебряные ковши с финскими конфетами и печеньем, а у самого края столешницы – позолоченные тонкие лилии фарфоровых чашек японской работы. Писатели выпили по чашечке кофе и отщипнули по виноградинке, ибо всей этой роскоши Юрий Кузьмич назначил другое употребление. Он мечтал пригласить на кофе членов вселенского трибунала. Были, конечно, сомнения. По первому «космическому» периоду его творчества он знал, на разных планетах питание неодинаково, всюду – свое меню. И земным космонавтам – а он беспрерывно засылал их в другие миры – ни разу не удалось напрямую выпить и закусить с аборигенами. Но сегодня он лелеял надежду на пищевой контакт. Даже коньяк поставил на перекрывшую клеенку парчевую скатерть в окружении низких сферических рюмок венецианского стекла – именно из них истинные знатоки пьют благородный напиток.
После кофе прилегли отдохнуть – Мещерзанцев на софе, Протуберанский на диване. Разговаривали мало: с приближением урочного часа одолевала тревога и робость.
Тринадцать тридцать. В геометрическом центре хозяйского кабинета повисли две шаровые молнии – голубая и красная – возвещенный Теобором Тракеаном центр координат. Писатели, покинув ложа, перешли в кабинет, уселись в глубокие кресла и задымили: романист курил коллекционную трубку «данхил», поэт – крепчайшие французские сигареты «житан». Оба воззрились на глухую стену против окна. Именно там, как уведомил их исполнитель, раскроется шлюз экстемпорального тоннеля.
Тринадцать сорок пять. Стена исчезла, прямоугольник ее заняли сомкнутые челюсти створок. Окно заслонил непроницаемый щит. На нем сразу вспыхнули два часовых циферблата – земного и среднего космического времени. Рядом замерцали цветные экраны, по ним потекли цифры, символические знаки, рубленые строки текста. Дверь из кабинета в коридор тоже перекрыл щит. Паркетный пол, стены со штофными обоями, беленый потолок сплошь затянул герметизирующий слой прозрачной низкомолекулярной пленки. По углам налились серебром бактерицидные лампы. Воздух стал суховат, почему-то запахло сиренью. Исчезла массивная бронзовая люстра, в вышине возник светящийся икосаэдр.
Тринадцать пятьдесят пять. Клинок света рассек шлюзовые створки, они разошлись с неправдоподобной легкостью. В проем проплыли пять капсул с членами трибунала. От Равноправных Штатов Тау Кита – архипастырь Тд Глд… От Галактических Союзов туманностей Крабовидной и Андромеды – координаторы Аас Оос и Кьюл Феан… От Планетарной Лиги созвездия Льва – демиург Жэ Зэ И… наконец, от Содружества ННТ (Населенных Небесных Тел) галактики R-296/2* – принцепс Арко Струго, председатель трибунала…
(*СНОСКА. О галактике R-269/2 судебный исполнитель Т. Тракеан, сообщая ответчику и защите состав трибунала, информировал их особо. Вселенная, по Т. Тракеану, возникла в результате «большого взрыва», когда сверхуплотненная в некой «точке» праматерия – при сверхтемпературах и сверхдавлениях – стала стремительно расширяться, воплощаясь в кванты излучений, элементарные частицы скоплений галактики миллиарды лет «разбегаются» в пространстве. Но на крайних пределах возникает обратный процесс: галактики «сбегаются» к центру, материя «схлопывается» в сверхуплотненной точке. Затем следует новый «большой взрыв», «разбегание» – очередная Вселенная.
Однако иной раз галактики с отдаленной периферии не успевают вернуться к центру, в «точку схлопывания». Старые галактики остаются в новой Вселенной, как бы получая в ней право убежища; а существующие в этих галактиках цивилизации, отбывая еще один исторический срок, достигают немыслимого расцвета.
R-296/2 – как раз такая галактика. Содружество ННТ по всем статьям опережает прочих членов Межгалактической Федерации, и приоритет этот зиждется на незыблемой правовой основе – универсальных законах мироздания.
Вот почему представители R-296/2 заседают в каждом полномочном либо координационном органе Федерации, возглавляя абсолютное их большинство. От этого, подчеркнул Т. Тракеан, проистекает огромная польза.)
Вслед за капсулами через высокий золотистый порог шлюза переступил шестой член трибунала землянин Юст Солин, главный вершитель дел…
Человек из 5983 года! Мастера слова, позабыв на миг о судилище, глядели на него, не моргая. Мещерзанцев даже протер очки. Землянин был молод, высок, худощав. На загорелом лице выделялись серые с прозеленью глаза, зачесанные назад густые каштановые волосы открывали высокий выпуклый лоб. Облегавший тело костюм удивительной синевы горбом пузырился за плечами.
– Ну и мода! – гневно прошипел Побиск, выдающийся в прошлом борец против неправильных штанов и причесок.
А Юрию Кузьмичу пришелся по душе синий костюм Юста Солина – ладный, будто скроенный единым движением из цельного полотнища, стянутый струящимся серебряным поясом, и серебристые сапожки с низкими раструбами. Двигался Солин изящно, непринужденно. Подойдя к выросшему вдруг из пола раскидистому пластинчатому креслу, отливавшему медью, он уселся поудобней и, протянув руку, взял из воздуха персональный сканер. Нет, он определенно нравился Юрию Кузьмичу, подумавшему: «Славный они, должно быть, народ».
Через проем проплыли еще две капсулы с истцами – членами Совета по Непреходящим Духовным Ценностям… Аола Као (из созвездия Лебедя) – единственная дама в составе трибунала… Воло Браго – опять же от галактики R-296/2…
Капсулы, сохранявшие атмосферу и температуру, привычные для обитателей столь разных миров, изготовлены были из металлиризированного стекла и снабжены особыми светофильтрами. Разглядеть восседавших внутри высоких особ, казалось, почти невозможно. Но вот за лиловатыми стенками шестой капсулы Мещерзанцеву с Протуберанским удалось проследить женственные извивы щупалец прекрасной Аолы Као. В первой – сквозь клубы желтого пара проступали кубические черты архипастыря с Тау Кита. А в пятой и восьмой капсулах сверкали багровыми ромбами трехглазий посланцы славной R-296/2. Остальные остались невидимы.
Все капсулы выстроились дугой вдоль неприметно сомкнувшихся створок; между пятой и седьмой сидел в своем кресле Юст Солин.
В центре же судебного зала (бывшего мещерзанцевского кабинета) за неоглядным столом помещались ответчик с защитником. Протуберанский протянул вперед руку, желая, наверное, подать Юсту Солину какой-то человеческий знак. Но в раскрытой ладони его тоже оказался небольшой ящичек со светящимся экраном.
«Это еще что такое?!» – мысленно возмутился поэт. И на экране выскочило: «Это еще что такое?!»
– Э-э, да он записывает мысли! – возопил Побиск.
«Да, я записываю мысли, – ответил ящик и, помигав экраном, добавил: Записываю, храню в памяти, выдаю по первому требованию… Ваш персональный помощник. Сканер… Каналы связи – зрительный, телепатический».
Мещерзанцев, ревниво сверкнув очами, простер руку и обрел точно такой же аппарат.
На часах – земных и космических – высветились цифры «14» и «31».
«Вот оно – слиянье времен! – выдал образ мозг романиста. – Хмурый декабрь одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего прижимает к груди распустившийся через четыре тысячелетия предновогодний день»…
Громыхнул невидимый гонг.
Над капсулами и креслом землянина зажглись овалы индикаторов. Протянувшийся во всю стену книжный шкаф завесили цветные сполохи ЭОС (экрана обратной связи). На нем по ходу дела будут демонстрироваться волеизъявления галактических аудиторий. Щелчком возвестил о готовности тотальный традуктор, переводивший синхронно со всех на все языки.
Председатель трибунала Арко Струго, принцепс Содружества Населенных Небесных Тел (галактика R-296/2) произнес древнюю формулу:
– Истина! Только Истина! Ничего, кроме Истины!
Процесс начался.
Прения открыла от имени истца кавалерственная посланница Аола Као.
В памяти Мещерзанцева фотографически отпечатались фрагменты записи судоговорения, светившейся на экране его сканера, и принятые по телепатическому каналу мысленные реплики его самого и Побиска.
(Первый фрагмент записи).
«Истец: – Литературные наследия, отдельные опусы выставляются на вакансии Вечного Депозитария через четыре тысячи лет после заключительного прижизненного пика изданий соискателя…
(Реп. Ответчик: «Как заключительного? Значит, издания, тиражи, гонорары побоку?..»).
– …Выводится коэффициент частоты изданий – КЧИ за 100, 200, 1000, 4000 последующих лет. У данного соискателя КЧИ соответственно: (100 лет) 0,001, (200) 0, (1000) 0, (4000) 0. Число ссылок – ЧС и число цитирований – ЧЦ за те же промежутки времени соответственно: (100 лет) ЧС=1, ЧЦ=2; (200) ЧС=1, ЧЦ=0; далее везде 0…
(Реп. Ответчик: «Господи!»)
(Реп. Защита: «Жаль Юрушку, но справедливость она… Против статистики нет приема».)
– …Далее творческий цикл. От дебюта до первого пика – 9 лет, 7 изданий. Первый пик: длительность – 12 лет, 20 изданий. Пауза между пиками – 4 года, 0 изданий. Второй пик: длительность – 10 лет, 32 издания. Общий итог – 58 изданий.
Председатель: – Сторепот[28]. По вашим данным (7 + 20 + 32) общий итог равен.
Истец: – Ошкомпра[29]. Для второго пика верно – 19 изданий. Общий итог прежний – …Председатель: – Супрйз[30].
Истец: – Супрйз. Далее – хронограф. Дебют соискателя – 1948 года (новая эра, первичное земное летосчисление), возраст дебютанта – 30 лет. Возраст соискателя – 65 лет.
Защита: – Высокий суд! Не пудрит ли нам истец… Прошу прощения, прелестная мадам… мозги своей цифирью?
Председатель: – Сторепот. Коллега Аола Као – мадемуазель.
Защита: – Тем лучше! Э-э, прошу извинить… Но какой следует вывод из этого статистического потопа? Писателя… то есть соискателя, издают. И издают широко! Значит, он признан народом. Он любим, славен, увенчан премиями, орденами. Его книги нужны людям, учат правде, зовут на подвиги. Он создал типические образы своих современников, высокие ориентиры в жизни, в труде и борьбе. Читатель его увидел воочию светлое будущее. Вот почему наша партия, правительство…
Юст Солин: – Сторепот. Высокий суд! Мы, земляне, и сегодня, через тысячи лет, со стыдом и болью воспринимаем подобные книги и речи. В них звучит эхо тяжкого, скорбного времени в истории прекрасной страны – России. Они – порождение чудовищного закрепощения духа, террора и лжи. Сколько лет неустанного труда, целительства душ, утверждения добра потратил потом народ, очищая, преображая свою жизнь! Да, были и тогда честные писатели и поэты, нелегко, подчас трагически сложились их судьбы. Данный соискатель отнюдь не таков. Раскройте его книги первого пика – космического. Здесь не только извращена и оболгана земная жизнь; нет – и в другие миры переносит он бессмысленное изуверство классовых войн, ложные утопии. Его человек – муравей, общество – муравейник. Зло обретает вселенскую мощь. Один лишь пример. Прошу перевести в зрительный ряд сороковую главу романа «Землянин, ты мой брат»…»
(Конец записи.)
В массивной раме экрана метались толпы зеленокожих антропоидов с четырьмя глазами и ушами на затылке. Над ними реяли красные флаги. Из цилиндрического стеклянного небоскреба выволакивали аборигенов в белых мундирах с золотыми шевронами и заталкивали в колесные транспортные средства. Сканер зажег титры: «Штурм резиденции правительства. Арест министров, чиновников». Следующие кадры были сняты с высоты птичьего полета. Колесные транссредства, выехав из города, мчались по целине среди серо-буро-малиновых кактусов прямо к гигантскому каньону и на полном ходу рушились вниз с обрыва. «На мирной планете Плупитер, – пояснил сканер, – давно было ликвидировано все оружие. Пришлось разработать новые способы уничтожения правящей верхушки». На экране появился громадный звездолет, он стоял вертикально на выпущенной из кормы треноге. В тени звездолета, среди серо-буро-малиновых пальм, сидели кружком на складных брезентовых стульях четверо землян и десяток зеленых аборигенов. Один из землян водил указкой по разостланной на песке карте…
Размазавшись по широченному экрану обратной связи (ЭОС), гневно махали щупальцами черно-муаровые спруты с планеты Бомкомбр (Плеяды). В левом нижнем углу ЭОС замигала строка: «Против соискателя – 1 млрд 523; за соискателя – О»… Потом на ЭОС взгромоздились желтые кубари («Тау Кита», – подсказал сканер). Они тоже были против.
Юст Солин поднял руку. ЭОС погас.
По экрану сканера побежал текст.
(Второй фрагмент записи.)
«Юст Солин: – У соискателя есть и обратные сюжетные ходы. Чего стоит рассказ «Космический красноармеец»! Марсианин, член экспедиции, посланной на Землю, опустившись где-то возле Урала, попадает в район боевых действий. Идет Гражданская война; белые наступают, красные держат оборону. Уверовав в идеалы пролетариата, наш марсианин подобрал винтовку и вступил в Красную армию. Силы противников неравны, положение красных критическое, марсианину стыдно их покинуть. Энергетический ресурс его защитно-транспортной системы иссяк, он погиб за правое дело…» (Конец записи.)
У Мещерзанцева опять зарябило в глазах от бушевавших на ЭОС представителей далеких миров. А Юст Солин «понес» второй пик его творчества – путешествие во времени. Особый гнев оратора вызвали романы «Ахилл – вождь россов» и «Этрусская царевна», где бросались в глаза злонамеренное искажение истории и раздувание националистического пламени.
Юрий Кузьмич, взяв слово, попытался втолковать трибуналу, что есть исторический процесс и какие именно народы движут историю вперед, а какие – вспять. Но понят не был и удручился.
После чего истица Аола Као завершила наконец свой статистический экскурс, клонившийся к его, Мещерзанцева, поруганию. Чрезмерно велик-де коэффициент повтора изданий (КПИ): одни и те же 5 опусов вышли 32 раза. И коэффициент комплиментарности критики (ККК) слишком высок – 7:1, при объективности оценок всего 3,17 %.
Это, тотчас объяснили ответчику с защитой их персональные помощники – сканеры, – намного ниже проходного балла. Одна остается надежда – универсальные индексы (УИ – число изданий на других планетах). Но тут истица провозгласила последний показатель: УИ равен нулю.
«Ну, и хрен с ним, с УИ!», – подумал удрученный соискатель. Мысли Протуберанского, однако, двинули вовсе не в ту степь. «Ты, медуха, – ярился Побиск, – гонорары бы лучше Юрушкины сочла с этих двух пиков!» И, видимо, потрясенный примерещившейся суммой, он позабыл вмиг долг защитника, отринул стыд.
(Третий фрагмент записи.)
«Защита: – Значит, до УЯ дошли! Все как на ладони – не светит другу моему вечный кристалл. И поделом! Да ведь свет на нем клином не сошелся. Вы на меня гляньте, может, и у меня последний пик в этом году кончился. Вон вышла книга месяц назад – тощенькая, а больше нигде, ни в каком плане не состою. Меня, меня – Побиска Протуберанского разберите!..» (Конец записи.)
И пошло-поехало. Лопнула вся процедура. Тотальный традуктор от стыда раскалился докрасна. А тут еще персональные сканеры Мещерзанцева и Побиска, расплевавшись, разили друг друга токами высокой частоты.
Едва удалось председателю Арко Струго вернуть заседание в законное русло. Выступил второй представитель истца, Воло Браго. Он напал на соискателя с эстетических позиций: скудость языка, убожество метафор, характеры однолинейны, в текстах сплошные штампы… Зарезал, сноб, без ножа!
Зачитан был проект приговора: соискателя отвергнуть. Объявили голосование. Над семью капсулами и креслом землянина Юста Солина зажглись красные огни индикаторов: отвергнуть!
Странное дело, Мещерзанцев вдруг нашел приговор справедливым. От последнего слова, махнув рукой, отказался. Заявил лишь официально: никогда, мол, больше писать не буду и переизданий не допущу; к защитнику своему претензий не имею, нервный его срыв прощаю от души.
И пригласил трибунал в полном составе испить кофею.
Но тут все начало гаснуть, удаляться, таять. Кабинет Юрия Кузьмича обретал привычный вид. Протуберанский трижды впиявился в хозяйские уста.
Пищевой контакт не состоялся.
* * *
Наутро Мещерзанцев проснулся в странном расположении духа. Вслушался в организм. Вроде вчерашние обретения остались при нем: бодрость, бурление крови, готовность свернуть горы. Не было лишь дивного парения духа. А память – обновленная – начала вдруг прокручивать ход злосчастного трибунала.
И обнаружилось: приговор уже не казался ему таким справедливым. Все движение дела виделось теперь по-иному. Аргументы обвинения явно преувеличены, подтасованы. «Как они яростно, злобно накинулись на меня, – размышлял Юрий Кузьмич, – будто распять желали. Да, вот оно: никакие они небось не братья по разуму! Демоны, бесы! Оттуда – из проклятого ветхозаветного бытия…» Ах, как сожалел Мещерзанцев, что не властен вызвать их снова, вселить в свиное стадо и обрушить в бездну! Но пособнику их не уйти от праведной мести!
Тотчас, не заглянув даже в сортир, стал он названивать профессору Велемудрину, прочим нужным человечкам. О вчерашнем, само собой, речи не было, поводы выдвигались сугубо творческие: мы, мол, и они… Постановлено было Протуберанского разоблачить, растоптать, уничтожить. «Попомнишь ты Юрушку!» – ухмыльнулся Кузьмич.
Затем решил двигать переиздания свои и новое (что ни напишется) пристроить. Обзвонил редакции, издательства; прочно условился насчет заявок, договоров, авансов. Покончив со звонками, ощерился:
– Вот, выкуси! Печатался, печатаюсь и печататься буду на всю катушку!
Наконец прошествовал в сортир, воссел на бархатистый круг черного унитаза. Стены и пол, облицованные черною же плиткой, будто бездонное зеркало, отразили раздобревшие телеса корифея. Постоял под занозистым душем. Фыркая, обтерся махровой простынею и пожаловал на кухню.
Распахнул холодильник, извлек закуски, поставил на плиту сковородки. Стол соорудил изысканный, как для дорогих гостей. Обозрел угощение благосклонным оком, но супружеского экстаза не ощутил. «…Кесарю, – подумал он, – кесарево».
К кофе плеснул себе коньяку марочного. И отхлебнув из венецейского стекла первый пряный глоток, набрал, нажимая кнопки, мало кому известный номер в Доме кино, дождался томного «алло» и сказал:
– Антуанетта, лапушка! Это я…
Несколько примечаний
Предисловие
Стр. 111 – цитата из Фридриха Шлегеля дана по русскому изданию: Шлегель Ф. Критические фрагменты. – Эстетика. Философия. Критика. Том 1. М.: Искусство, 1983. С 287.
Письмо Татьяны
Стр. 112 – «папанинцы»: то есть члены возглавлявшейся И. Папаниным советской экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс-1» (1937–1938).
Стр. 112 – «ватман»: от английского Wattman, так называли в Одессе вожатых трамвая; пришло это иностранное слово в одесский говор потому, что первые линии трамвая, пущенного в 1910 г., построены были бельгийской компанией. До сих пор переулок у трамвайного депо сохранил название Ватманский.
Стр. 113 – «экскурсовод в красной фуражке»: то есть дежурный по вокзалу.
Стр. 117 – «лестница»: знаменитая Потемкинская лестница, построенная в 1837–1841 гг. по проекту архитектора Ф. Боффо; соединяет Приморский бульвар с портом.
Стр. 118 – Дворец пионеров: бывший Воронцовский дворец, построенный Ф. Боффо в 1826–1827 годах уже после отъезда А. Пушкина из Одессы.
Стр. 118 – «…герцога Ришелье с протянутой рукой»: речь идет о памятнике герцогу Арману Эмманюэлю дю Плесси де Ришелье (1766–1822 гг.), внучатому племяннику знаменитого кардинала. Эмигрировав после революции в Россию, он в 1805–1814 годах был губернатором Новороссии и градоначальником Одессы. Бронзовая скульптура И. Мартоса изображает герцога в традиционной позе древнеримского оратора с простертой правой рукой и свитком – в левой.
Стр. 119 – «Ар-рые ещи пайем!»: «Старые вещи покупаем!» Этим кличем извещали о своем приходе довоенные одесские старьевщики.
Стр. 120 – «Привоз»: один из главных городских рынков.
Стр. 121 – «Снип-снап-снурре! Пурре-базелюре!»: приговорка Сказочника из пьесы Е. Шварца «Снежная королева».
На дистанции
Стр. 123 – «Девясил»: род многолетних трав, которые используются для изготовления лекарств; название произошло, вероятно, от «дивосил» (обладающий дивной силой).
Стр. 126 – «Маннербейм – …такая была у него линия». – здесь обыгрывается сходное звучание фамилий персонажа рассказа – Маннербейма – и финского фельдмаршалла Маннергейма (1867–1951 гг.), под чьим руководством до Второй мировой войны на границе с СССР была построена система укреплений – линия Маннергейма.
История про капитана Безенко – истребителя чудовищ
Стр. 149 – «пенал»: вульгаризм, образованный от слова «пенальти» (11-метровый штрафной удар в футболе).
Стр. 150 – «крудхьяти»: одна из предполагаемых этимологий русского слова «крыса» – древнеиндийское слово «krudhyati» («гневается»). См. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, Т. 2, С 389.
Каким он был среди друзей
(По электронной почте)
Бирбраир-старший – Борис Львович:
Речь пойдет о школьных и немного студенческих годах Марика.
Марик обладал удивительной способностью благотворно влиять на людей. Вот пример. В Одессе у нас во дворе жил очень хороший парень по имени Котик, у которого была скверная привычка заканчивать почти каждую фразу матерной бранью. Однажды Марик дождался, когда тот забыл ее произнести, и спросил: «Котик, а где твое, – еб твою мать?» Последовало словоизвержение, но после этого в тот день брань не прозвучала. А в следующие дни мы заметили, что брань звучит все реже и реже и наконец прекратилась совсем.
А прозвища, которые давал Марик, прирастали намертво. После истории с «шипами и розами» (ее инициатором был Калина, так что, если интересно попроси его изложить ее) Марик вынужден был заканчивать школу в Кишиневе. Там среди его приятелей был Алик Зай-дман, которого Марик не знаю почему прозвал Куся. Окончив школу Куся поступил в Одесский электротехнический институт связи, но прозвище последовало за ним и туда и оставалось все пять лет учебы. Я не знаю, где он сейчас и что с ним, но не сомневаюсь, что и теперь друзья, родные и близкие продолжают называть его Куся.
А вот еще. В шестом классе и до конца школы с нами учился Леня Спекторов, отличавшийся редким упорством и настойчивостью. Окончив школу Леня поступил вольнослушателем на птичьих правах на исторический факультет Одесского университета. Окончив первый курс и сдав экзамены, так и не будучи зачисленным студентом, Леня поехал в Москву попытаться добиться перевода в МГУ. Петровский (тогдашний ректор МГУ), к которому он попал на прием, обомлел от подобной наглости (еще бы, экстерн из Одессы добивается перевода в МГУ на полных правах!) и выставил его за дверь. После этого Леня начал непрерывно звонить в приемную ректора, в Министерство высшего образования и в отдел вузов московского горкома партии и своими звонками парализовал работу этих трех учреждений, потому что из-за его звонков эти люди не могли связаться между собой. Так продолжалось все лето, близился сентябрь, Леня собрался домой и для очистки совести позвонил в приемную ректора. И вдруг ему говорят: «Подождите до завтра, завтра будет решение». И 30 августа последовал приказ Петровского о переводе Лени полноправным студентом на второй курс истфака МГУ. Там он увлекся историей Французской революции, за что Марик прозвал его Дантоном, и это прозвище оставалось за ним до самой трагической гибели, когда он, будучи уже гражданином Германии, приехал в Москву повидаться с друзьями и был сбит машиной какого-то нового русского.
И в заключение вот рассказ Марика о появлении на нашем горизонте Леши Симонова. Во время вводной лекции на первом курсе отделения восточных языков истфака МГУ Дега Деопик сказал: «Извините, если я буду говорить нечетко». Из аудитории последовала мгновенная реплика: «Что-что?».
Гатчина, 2012 г.
Воспоминания о Марике Ткачёве, а как оказалось – о собственной молодости
Теодор Гладков:
Никогда ранее я не писал воспоминаний ни о ком, хотя был знаком со многими знаменитыми, иногда даже выдающимися, людьми, уже покинувшими наш земной мир. Надеяться на встречу с ними на небесах мне, атеисту, не приходится. Потому живут они для меня только в прошлом, уже достаточно далеком.
Совсем другое дело – вспоминать фактически своего современника. Марик был моложе меня всего лишь на неполный год, и смерть его случилась совсем недавно. Столь недавно, что порой ловишь себя на том, что давно не звонил ему. Это раньше, чем поймешь, что звонить никуда не надо. Можно зачеркнуть номер телефона в записной книжке. Однако вернусь к тому, с чего начал. А именно: вспоминая друга из далекого далека, фактически оказывается, вспоминаешь самого себя в связи с ним. На самом деле он выполняет роль того самого топора из русской народной сказки, из которого солдат щи варил.
…Итак, я пришел на Моховую в левое крыло административного корпуса, если смотреть от грандиозной Манежной площади, еще не изуродованной по прихоти нынешнего мэра и жадности торгашей рублевского клана. Здесь сейчас какая-то сберкасса, а тогда располагался философский факультет Московского университета имени М. В. Ломоносова с его знаменитым Круглым залом. В общем-то, ничего знаменитого в нем не было, просто большая круглая комната-аудитория, в которой с трудом находили место на общих лекциях немногим более сотни студентов с одного курса. Философский, кажется, был самым малочисленным из всех факультетов МГУ. На противоположной стороне улицы Герцена, здание было угловым, располагался исторический факультет.
Поступавших на первый курс факультетов, прежде всего гуманитарных, в 50-е годы очень условно можно было разделить на три потока: демобилизованных из армии ребят-фронтовиков лет по двадцать пять, а то и тридцать; москвичей-десятиклассников, в основном восемнадцати лет от роду: в школы тогда принимали в восемь лет, а не в семь, как ныне, и до войны наше поколение успело закончить один – два класса; и тех же обладателей новеньких аттестатов, но уже с периферии – так тогда было принято называть иногородних – «с периферии».
Эти три группы, как помнится, значительно отличались друг от друга не только по возрасту и жизненному опыту, но, что было весьма заметно, по менталитету, хотя словечко сие тогда в нашей лексике не присутствовало.
Однокурсники из числа бывших фронтовиков быстро сплотились, заняли «командные высоты» – стали старостами групп, иногда даже членами партбюро. Они, как правило, одевались почти что одинаково – в потертые кители и гимнастерки со следами открепленных погон и свинченных орденов. Сами ордена в нашей студенческой среде носить тогда было не принято, а День Победы – 9 Мая – государственным праздником не являлся и был обычным рабочим днем. Помнится, один только казах, кажется с юридического факультета, носил «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Но на Моховой его больше знали как тогдашнего мужа популярной певицы Розы Баклановой.
Однокурсники из провинции отличались либо чрезмерной застенчивостью, либо чрезмерной развязностью, за которой скрывалась та же самая застенчивость и растерянность провинциала. Курсу к третьему различия между нами этого рода стирались. На первый план выходили иные, уже не групповые, но индивидуальные.
Я был типичным восемнадцатилетним москвичом, уже хорошо знавшим, чем отличается «Коктейль-Холл» на улице Горького от «Кафе-Мороженого». Марик Ткачёв – провинциалом, если считать глухой провинцией славный город Одессу. Марик (по паспорту Марианн) был именно одесситом, таковым оставался до последних своих дней, умудрившись при всем том стать и настоящим москвичом. «Провинциалы» отличались еще невероятной пропорцией медалистов – кстати, в те годы школьные медали и в самом деле изготовлялись из настоящего золота и серебра (как и медали чемпионов и рекордсменов СССР). Эта загадка легко разгадывалась: оказывается, дети местного начальства непременно получали на память о веселых школьных годах медаль какого-нибудь достоинства, в зависимости от ранга родителей.
На весь университет прославилась «золотая медалистка» с философского факультета, некая Нила Киселева. На первой же зимней сессии на вопрос, что такое Ренессанс, она, безмятежно и не задумываясь, ответила: «Так звали кобылу Дон Кихота». Побледневший профессор только и нашелся, что поправить: «У Дон Кихота была не кобыла, а жеребец…»
Отец Нилы был первым секретарем одного из подмосковных райкомов партии…
Много позднее, лет через тридцать, узнал, что Марик Ткачёв тоже был медалистом, хоть «с периферии», но настоящим. И получил медаль вопреки тогдашним установкам наркомпросовского начальства, потому как подвергся в старших классах гонениям за вольнодумство. В те годы за оное можно было не только не получить медаль, но обеспечить себе вполне реальный срок лишения свободы. Не говоря уже о полной невозможности поступления не только в престижнейший Московский университет, но даже в самый захудалый учительский институт далеко от Москвы. Существовали тогда из-за дефицита педагогических кадров такие двухгодичные учительские институты. Они давали право преподавать в младших классах средней школы. При благоприятных условиях такой учитель мог поступить на третий курс нормального педагогического института.
Марика я впервые увидел в Сокольниках. Здесь, неподалеку от идиотского здания Дома культуры им. И. Русакова, построенного в годы засилья конструктивизма в виде гигантской шестерни, находился небольшой стадиончик, кажется, ДСО «Наука», где мы, студенты МГУ, сдавали нормы комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). Сдача этих норм входила в учебную программу младших курсов на правах зачета в экзаменационную сессию. Здесь же проводились соревнования на первенство университета по футболу и легкой атлетике.
Вышло так, что мы, философы, сдавали некоторые нормы одновременно с историками. Мой одноклассник, даже «однопартник», Сережка Поляков поступил как раз на истфак и, естественно, свел меня с некоторыми ребятами со своего курса. Помню тогдашнюю знаменитость – Булата Кулова, который сочетал учение на истфаке с игрой в линии нападения в футбольной команде мастеров популярнейшего московского «Спартака».
Тогда-то Сережка (в школе он был славен афоризмом, что «тонна знаний не стоит килограмма здоровья», что не помешало ему с годами стать доктором исторических наук и профессором того же МГУ) познакомил меня с «Марабу». Такая студенческая кличка была у Марика Ткачёва. Почему «Марабу» – понятая не имею. Ничего общего с этой породой попугаев у Марика не было. Разве что – одежда. В пору широко распространенных мрачного булыжного цвета лыжных байковых костюмов, в которые поголовно одевались, благо те были дешевыми, студенты мужского пола, Марик выглядел щеголевато, недопустимо, с тогдашней пуританской точки зрения, ярко.
Он носил шляпу! Только что появились в продаже дорогие чехословацкие широкополые велюровые шляпы трех цветов: болотного, темно-синего и мышиного! Шляпу Марик носил до своих последних дней, шляпу, а не модную бейсболку. Тогда, ныне уже забытую велюровую, а в последние годы – немецкого фасона, маленькую, в клетку, скорее похожую на панамку…
У него была запоминающаяся внешность: невысокого роста, с длинными волосами (тогдашние стиляги носили их гораздо длиннее, с высоким коком впереди, к тому же блестящим от бриолина), ярко голубые, немного навыкате глаза. Движения несколько замедленные, потому казались странными. Представить его бегающим или прыгающим через планку было просто немыслимо. Диву даюсь, как он сдавал эти окаянные нормы, завалить их означало лишиться стипендии.
Спорт Марик любил, но – только как зритель, ни в коем случае не как физкультурник, тем более спортсмен. Как все одесситы, он самозабвенно болел за футбольную команду родного города, особенно когда она время от времени прорывалась в высшую лигу. В последние годы существования СССР это была команда «Черноморец». Ткачев прямо-таки ненавидел руководство киевского «Динамо», особенно ее именитого тренера Валерия Лобановского, которые делали из этой весьма прагматичной команды фактически сборную Украины. При этом беззастенчиво грабили, переводили в Киев игроков лучших футбольных команд республики, в том числе из Одессы, города, в котором наряду с Петербургом и Москвой зародился отечественный футбол.
Марик не любил делиться даже с близкими друзьями (я входил в число друзей примерно второго эшелона) своими семейными делами, тем более грустными. Но нежно любил одесских родственников, особенно тетушку Люсю. Тетушка, как и Марик, была страстной болельщицей футбола. Время от времени она наезжала в Москву, и ее знавали все его московские приятели. Была она настоящей одесситкой, с манерами и речью, словно сошедшими со страниц Бабеля.
Как-то звонит Марик и начинает со слов: «Я, конечно, дико извиняюсь…» Он всегда начинал с этой фразы, когда хотел собеседника о чем-то попросить. Оказывается, у Марика сломался телевизор. А в этот день состоялся, кажется, полуфинал первенства мира по футболу. И тетя Люся, пребывавшая тогда в Москве, и сам Марик никак такое событие пропустить не могли. Тогда он жил на Малой Грузинской неподалеку от меня и, дико извиняясь, спрашивал моего разрешения посетить меня – вместе с тетей Люсей – на предмет просмотра вышеназванного матча. В голосе Марика было столько нескрываемой мольбы и надежды, что отказать ему, а также, разумеется, тете Люсе, я никак не мог. Тем более что я и сам собирался матч посмотреть. А смотреть футбол, как известно, в компании всегда интереснее, нежели в одиночку.
Потом мы долго и эрудированно обсуждали все перипетии игры. Пришли к двум неоспоримым и очевидным выводам. Во-первых, и мы свободно могли бы стать чемпионами мира, во-вторых, нечего нам было на такие чемпионаты и соваться со своей дворовой командой. То ли дело когда-то в Одессе играли…
Вернемся, однако, в 50-е.
Что волновало, интересовало тогда московское студенчество, кроме, разумеется, ботинок на толстой рифленой подошве, прически «утка» и ярких галстуков с попугаями и пальмами, записей американских джазов и песен Петра Лещенко «на костях»?
Объявили о созыве XIX съезда партии и проведении традиционной предсъездовской дискуссии. Поднялся жаркий и «глубоко принципиальный» спор: как следует теперь именовать партию коммунистов: КП СССР или КПСС? Победила вторая версия, хотя новое название, мягко говоря, несколько коробило слух. Появился анекдот – за него могли дать лет пять мордовских лагерей.
На Западной Украине мужик подает заявление в партию: «Прошу принять меня до КП».
В райкоме ему нравоучительно подсказывают: «Надо писать: в КПСС». «Ни, – говорит мужик, – в СС я вже був».
Потом общество раскололось надвое после появления в «Новом мире» статьи Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» и романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».
Спорили до смертоубийства.
Потом нам разъяснили, что само слово «искренность» означает понятие буржуазное, антипартийное и антисоветское, а повесть «некоего» Дудинцева вообще злостная клевета, не на ту мельницу льет воду и вообще… Тогда же появилась присказка: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь».
Саксофоны были вообще запрещены – народу разъяснили, что это типичное и острое оружие классового врага… Логика безукоризненная. Появились комсомольские дружинники, которые отлавливали стиляг на улицах, стригли им коки и распарывали ножницами слишком узкие, на их взгляды, брюки.
Марик, наученный школьным опытом, в спорах отмалчивался, или скромно замечал, что любит не джаз, а… Моцарта. Последнее было сущей правдой. Моцарта он обожал всю жизнь. Позднее держал на пластинках и кассетах все сочинения гения.
По окончании МГУ наши пути разошлись, и лет на двадцать я его просто потерял. Как, впрочем, большинство университетских однокашников. Тем более что мы были с разных факультетов и фактически знакомы лишь шапочно.
Встретились уже в Союзе писателей СССР на улице Воровского, ныне снова Поварской. Я был первым заместителем председателя творческого объединения детских и юношеских писателей, а Ткачев работал референтом в Иностранной комиссии Союза писателей СССР. Ведал связями с писателями стран Индо-Китайского региона, в первую очередь – Вьетнама. Как переводчик с вьетнамского был принят в СП СССР.
Мы заново познакомились и дружили уже до конца его жизненного пути… Поводом для новой и основательной встречи стала моя первая поездка во Вьетнам еще в годы американской агрессии в этой стране. Слово «поездка» чисто условное. На самом деле вначале был перелет Москва – Владивосток, затем плавание на сухогрузе «Раздольное» в течение 24 суток до Хайфона и только потом, собственно говоря, поездка на автомобиле по знаменитой, насквозь простреливаемой американскими истребителями, дороге № 4 Хайфон – Ханой. Во время плавания состоялась весьма нежелательная встреча нашего судна с американским штабным авианосцем «Райт» – до сих пор храню сделанные мною фотографии этого знакомства.
В ту первую поездку я познакомился с ответственным секретарем тогдашнего Комитета дружбы со странами Индокитая Григорием Локшиным, корреспондентами московских средств массовой информации во Вьетнаме Мишелем Ильинским, Сережей Афониным, Леней Кричевским, Андреем Левиным и другими.
С Мишелем мы дружим уже сорок лет. Все встречаемся – кто жив – каждый год в гостях у московских вьетнамцев на встрече вьетнамского Нового года «Тэт», на собраниях и конференциях Общества дружбы Россия – Вьетнам. Увы, Марика на очередной встрече уже не будет.
Надо сказать, что названные мною москвичи, как и многие неназванные, были либо коллегами Марика по МГУ, вроде в будущем ответственного работника ЦК КПСС Игоря Огнетова и других ведомств, как, скажем, почетный президент нашего общества Женя Глазунов, либо его студентами. Не могу не назвать Женю Кобелева – первого советского студента, учившегося по плану обмена во Вьетнаме, автора монографической книги о Хошимине.
Для меня и по сей день загадка, почему, поступая на восточное отделение истфака (не утверждаю, что это точное название) Марик выбрал именно труднейший вьетнамский язык (наряду со вторым европейским – французским). Остро востребованными тогда были, разумеется, китайский, особенно после провозглашения КНР, и отчасти корейский, поскольку началась война на Корейском полуострове.
Как бы то ни было, Мариан Николаевич Ткачёв со временем стал, с моей точки зрения, лучшим в Советском Союзе знатоком вьетнамской культуры, особенно литературы. Удивительное дело, он полюбил и, что уж совсем невероятно, блистательно перевел на русский язык средневековую вьетнамскую литературу, меж тем как классические произведения той эпохи лишь считаные высокообразованные вьетнамцы способны прочитать. Для ясности – кто в нашей стране сегодня в состоянии прочитать в оригинале, т. е. не в пересказе, по сути, в переводе «Слово о полку Игореве» или «Повесть временных лет»? Только специалисты.
Поэт сказал: «…большое видится на расстоянии». В принципе это верно. Однако уже сейчас, когда мы еще не привыкли говорить о Марике в прошедшем времени, можно утверждать: он был одним из самых талантливых представителей отечественной школы художественного перевода вообще, независимо от того, о переводах с какого языка ни шла бы речь…
До сих пор и дети, и взрослые обожают переведенную им сказку То Хоая «Приключения кузнечика Мена». Список переведенных книг впечатляет: Нгуен Хонг «Воровка», Нгуен Динь Тхи «Вперед, в атаку!», Тхань Тинь «Капли морской пены», Ван Линь «Дальние края» и, разумеется Нгуен Туан, в том числе том избранных произведений, вышедший в нашей стране еще при жизни классика.
Потому в писательских и вообще творческих кругах Вьетнама имя Ткачёва – настоящая легенда, владеющие русским языком вьетнамцы называют его исключительно по имени-отчеству – «Мариан Николаевич» – хотя произношение этих слов дается им далеко не просто. Разумеется, авторы, ставшие близкими друзьями, были с ним на «ты».
Надо сказать, что скромный, не по современному вежливый и обходительный Мариан бывал чрезвычайно упорен и настойчив в привлечении тех советских писателей, кто побывал в годы «той» вой-ны в сражающемся Вьетнаме, к работе Совета по вьетнамской литературе, который он же создал и которым руководил. В том числе, к примеру, такого маститого, как Константин Симонов. С его сыном Алексеем, известным кинорежиссером, а ныне президентом Фонда защиты гласности они стали ближайшими друзьями.
В Литературном институте Ткачёв вел занятия с вьетнамскими студентами, стажерами и аспирантами. Обычно таковых было четыре-пять человек, но на его семинары приходили и другие вьетнамцы из различных московских вузов, а также некоторые сотрудники посольства и торгпредства. По его приглашению я, как и некоторые другие коллеги, провел в разные годы несколько таких семинаров – в основном о военной и приключенческой литературе.
Недавно в Москве проходил слет иностранцев, закончивших советские вузы, кто десять, а кто и сорок лет назад. Один вьетнамец, уже немолодой писатель, позвонил мне – помнит, оказывается, эти организованные Ткачёвым встречи.
Число друзей Ткачёва и его личный авторитет в Индокитае просто не поддаются измерению. В этом не раз я мог убедиться лично: мне довелось бывать вместе с ним и во Вьетнаме, и в Лаосе, и в Камбодже.
Марик обожал классика вьетнамской литературы Нгуен Туана – «старика Туана», как его заглазно называли друзья. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с этим мудрым, удивительным человеком, к слову, высокообразованным, что не так уж часто встречается и в московской писательской среде. Марик не просто дружил со стариком, он его весьма успешно переводил, сделал великолепную прозу Туана доступной и для русскоязычного читателя.
Однажды, в феврале 1986 года. мы с Мариком навестили старика в его более чем скромном, а если честно – то бедном жилище неподалеку от железнодорожного вокзала в Ханое. Пришли с подарками – голодновато тогда было во Вьетнаме, принесли с собой вовсе не сувениры, а мясные консервы, чай, мыло, сахар и тому подобное. Надо было видеть, с каким достоинством, словно невзначай, Туан небрежно задвинул посылку ногой под кровать… И не поставил нас в неловкое положение словами благодарности. В свою очередь налил нам и себе граммов по тридцать настоящего французского коньяка – последние капли из пузатой бутылки, которую он сохранил еще со времен французского Индокитая.
Незадолго до того большая группа деятелей литературы и культуры – в основном участников Сопротивления и Освободительных войн – была награждена орденами. Марик попросил и Туана показать свой новый орден. Старик досадливо отмахнулся. Оказывается, его сильно и расчетливо обидели: наградили самого крупного в стране писателя орденом Независимости… низшей, пятой степени!
Ткачёв, как только узнал об этом, неожиданно заявил:
– А ведь тебя правильно наградили, Старик!
– Как так?! – взметнулся Туан.
– Очень просто: орден Независимости первой степени давали тем, кто полностью зависел от начальства. Второй степени – кто хоть чуть-чуть проявлял какие-то вольности. И то с разрешения… А ты не зависишь ни от кого, и не скрываешь этого. Стало быть, тебе положен орден пятой степени. Просто надо читать «Независимость» как «Зависимость»…
Старик расхохотался, настроение его явно улучшилось, и мы допили свои рюмки…
Этой встрече предшествовал забавный эпизод. Мы прилетели в Ханой из Вьентьяна (Лаос) поздним, очень темным вечером. Расположились в старом, еще французами построенном отеле, который европейцы по давней привычке называли «Метрополем». В одном из номеров именно этого отеля Грэм Грин написал свой знаменитый роман «Тихий американец».
Заняли огромный номер – с высоким потолком, непременной антимоскитной сеткой над кроватями, которым за их размер больше подошло бы пышное название «ложе».
Я стал принимать душ – и слышу напуганный голос Марика: «Как ты можешь? Ведь это холодная вода!» Вид человека, обливающегося холодной водой, был для него невыносим. Хотя назвать холодной ту воду, что нехотя стекала из душевой насадки, можно было только при богатом воображении.
Улеглись, начали было засыпать, как… Загремела пальбастрельба, замельтешили за окном огненные вспышки. Мы вскочили с постелей, в холодном поту, разом перенеслись лет на двадцать в прошлое.
Неужто снова началось?
И рассмеялись облегченно. Вспомнили: да ведь сегодня «Тэт», праздник Нового года!
Спать уже не хотелось, да и как тут заснуть. Встали, оделись, пошли гулять по оживленному ночному Ханою, освещенному огнями традиционных фейерверков. Улицы были заполнены веселыми людьми, в многочисленных храмах не протолкнуться. «Тэт»!
В следующий прилет в Ханой мы с Мариком посетили уже не дом Туана – огромного писателя и человека, а его могилу.
Хочу особо отметить, что Мариан Ткачёв был поразительно интеллигентен, абсолютно лишен хотя бы тени налета уличного воспитания, столь характерного для нашего поколения, независимо от социального статуса родителей и места проживания. Наше детство и подростковые годы пришлись на войну, и это говорит о многом в нашем характере. И о хорошем, и о плохом. Но вот представить Марика, к примеру, подравшегося с кем-нибудь, я просто не могу. Тем не менее могу засвидетельствовать, что при встрече с реальной опасностью, когда речь шла не о гипотетическом фингале под глазом, но о реальном осколке мины или ракеты или о пуле снайпера, он вел себя не просто спокойно, но даже невозмутимо.
Это отмечают весьма привычные к такой опасности советские журналисты, работавшие во Вьетнаме в самые тяжелые годы американской агрессии. Помню, мы с Марианом как-то находились в провинции Лонгшон, на севере страны, в момент отражения вторгшихся на территорию ДРВ китайских войск. Тогда один из наших советских спутников по поездке просто отказался отправиться во фронтовую полосу. Осуждать его Марик не стал, всего лишь пожал плечами. Помнится, тогда его беспокоили не различные взрывоопасные предметы или канонада, а погода – было дождливо и холодно, а мы оказались одеты легкомысленно не по погоде и обстановке… О взрывоопасных предметах я упомянул не просто так. Уходя, китайцы оставили множество завлекательных «бесхозных» вещей: детские игрушки, зажигалки, фляжки, фонарики… Дотрагиваться до них было смертельно опасно: все они были заминированы. Взрослые это понимали, но вот дети…
Кто плохо знал Ткачёва, могли думать, что это постоянно рефлексирующий, пессимистично настроенный человек, едва ли не мизантроп. Между тем он был наделен много выше среднего чувством юмора явно одесского происхождения, настоенного к тому же на великолепном знании литературы и искусства вообще. При подходящем случае и в подходящем обществе обычно тишайший Марик мог вдруг взорваться, ошеломить репризой, остроумнейшим замечанием, прямо-таки заражающим приступом веселья. И вернуть его обратно в меланхолическую задумчивость было уже невозможно… Сие могло оборваться внезапно, столь же неожиданно, как и началось.
Примечательно, что единственный сборник его собственных рассказов-притч вышел в Америке благодаря расположению обосновавшегося там давнего друга под многозначным названием «Всеобщий порыв смеха».
На Центральном телевидении некогда существовала весьма популярная юмористическая передача «Вокруг смеха», которую вел замечательный поэт-пародист, ныне, увы, покойный Саша Иванов. В ней принимали участие тогда молодые, но остроумнейшие люди – Гриша Горин, Аркадий Арканов, Роман Карцев, Виктор Ильченко, Геннадий Хазанов… Убогих смехачей уровня нынешних «новых русских бабок», к ней и на пушечный выстрел не подпустили бы. Но вот застенчивого, чаще всего грустного Ткачёва на передачу пригласили, кажется, по рекомендации Аркадия Арканова, который году в 1967-м тоже в сопровождении Марика побывал в воюющем Вьетнаме, о чем и рассказал в популярнейшем журнале «Юность», где тогда работал.
Не чурался Марик иногда – весьма редко и в компании только «своих» – принять участие, как он сам выражался, «в некотором гусарстве». Марик любил своих друзей… Помню, мы целеустремленно ходили по бесчисленным лавочкам торговых улиц Ханоя – по непременному настоянию Марика искали халат в подарок нашему общему другу Аркадию Стругацкому. Я уже отчаялся, но Марик настойчиво продолжал, как мне казалось, напрасные поиски. Аркадий был мужчиной весьма внушительной комплекции во всех измерениях. Во Вьетнаме таких просто не существовало и одежду соответствующую не шили. После долгих блужданий нашли-таки один-единственный халат – яркий, из натурального шелка, расшитый вручную золотыми драконами. Хозяин лавки был безмерно счастлив, что избавился от халата, продать который уже отчаялся, и отдал его нам за треть истинной цены.
Аркадий Стругацкий по образованию был японистом, любил восточные вещи и разбирался в них, потому был подарку рад безмерно.
Марик знал, хотя я ему об этом никогда не говорил, что немного увлекаюсь, очень скромно, нумизматикой. И вдруг подарил мне на день рождения старинную вьетнамскую монету с квадратным отверстием в центре, не забыв приложить записочку, в какую эпоху данная монета была выпущена.
Много друзей Марика к середине 90-х эмигрировали, в том числе в США. Однако, я никогда не слышал от него даже намека на желание покинуть страну, а возможности такие имелись, да, ему, видимо, такие мысли в голову приходили. Думаю, многократные поездки во Вьетнам, Лаос, жестокие бомбардировки их городов и сел американскими самолетами показали ему иное лицо США, разительно отличающееся от впечатлений тех новых переселенцев, что восторженно взирали на лик статуи Свободы.
В Америке он бывал по приглашению старого, еще школьного друга Саши Калины, крупного инженера-изобретателя, ставшего в Сан-Франциско миллионером, не как биржевой маклер или коммерсант, но как основатель инженерной фирмы.
…Это был август, трагический август 1991 года. Мой день рождения. Мы сидели у меня на Малой Грузинской в некотором отдалении от Белого дома: Леша и Наташа Полянские, мы с моей женой Маритой и Марик с Инной, только что вернувшиеся из США. Рассказывали, что в полете ничего не знали о происходящем в Москве. Когда ехали на автобусе из Шереметьева, видели колонну танков, направлявшихся в город, но ничего не поняли. Обо всем узнали уже от нас. Потом мы все шестеро пошли на Садовое кольцо, положили цветы на то место, где погибли трое ребят, ставшие последними в истории нашей страны Героями Советского Союза.
– Да как он мог, это ничтожество! – недоумевал Марик.
Я знал, что он имеет в виду. Вернее, кого – Геннадия Янаева, вице-президента СССР. Совсем недавно в Доме Дружбы состоялось какое-то собрание Общества советско-Вьетнамской дружбы. Ожидался приезд самого Михаила Горбачева. Но вместо него приехал вице-президент и сразу прошел в президиум. Два часа он просидел, не шевелясь, с каменным лицом, не опуская устремленных куда-то вдаль немигающих оловянных глаз. Потом, по-прежнему не проронив ни слова, пожал механически руки президенту Общества космонавту Герману Титову, Послу ДРВ и отбыл… И это – второе лицо в великом государстве?
…Семья у Мариана Ткачёва не сложилась. Так уж получилось. Ее распад навсегда оставил в его душе незаживающую рану. Друзья знали об этом и лишних вопросов не задавали. А потом ему неслыханно повезло. Он встретил Женщину. Сразу признаюсь: я никогда не встречал столь дружную и счастливую пару, как Мариан и Инна. Она была высококвалифицированным врачом-акушером, настоящей знаменитостью в Москве, ее прямо-таки обожали тысячи родителей, чьих сыновей и дочерей приняла Инна Ивановна.
Была она маленькой хрупкой женщиной с огромными темными глазами. Почему-то Мариан и Инна называли друг друга «Бовинами», хотя в отличие от незабвенного публициста и посла в Израиле Александра Евгеньевича упитанностью не отличались.
Увы, Инна Ткачёва лишь на несколько месяцев пережила мужа. Она погибла в автомобильной катастрофе под Иркутском… Мы восприняли это как судьбу – словно супруги не могли надолго расстаться друг с другом.
И последнее… Мариан Ткачёв был на редкость порядочным человеком, как выражался один из героев И. Ильфа и Е. Петрова: «Таких людей уже нет, а скоро их совсем не будет». Я не верю в абсолютно безгрешных людей. Недаром гласит поговорка, что и на солнце есть пятна. Возможно, и в семье Ткачёвых имелись какие-то «скелеты в шкафу». Возможно. Ничего утверждать не хочу. Однако представить, что Ткачёв был способен сознательно совершить плохой поступок, не могу.
Потому никогда не забуду моего безвременно ушедшего друга. Самое тяжкое обвинение, которое Мариан мог предъявить это с удивлением и растерянностью произнести: «Как ему не стыдно…»
Москва, октябрь 2007 г.
Учитель, старший брат, друг на всю жизнь
Фам Винь Кы:
Российский писатель Мариан Николаевич Ткачёв связал свою жизнь с Вьетнамом и вьетнамцами, с которыми поддерживал самые тесные и длительные отношения. Я – один из них. Дружбу между нами, которая зародилась в те годы, когда мы оба были еще очень молоды, мы с нежностью пронесли через всю жизнь, невзирая ни на какие трудности и препятствия. Чувства учителя и ученика, старшего и младшего брата, которые связывали нас более полувека, – это мое счастье и моя гордость, но я сейчас о другом.
Для этой памятной книги[31] многие деятели искусства и литературы нашей страны написали взволнованные страницы воспоминаний, в которых искренне и с разных точек зрения нарисовали портрет Мариана Ткачёва – талантливого и душевного друга Вьетнама. Если написанное мною прибавит хотя бы пару новых черточек, которые украсят созданный портрет, прольют дополнительный свет на человеческие качества, жизненный путь и заслуги этого человека перед литературой нашей страны, то я буду считать свою задачу выполненной.
Как будто сегодня, я помню первое мое впечатление о нем, когда летом 1955 года он появился в нашем вьетнамском интернате в Москве (мы называли его Мак-ты-кхоа). Тогда было в ходу кем-то придуманное выражение «красные семена», так называли вьетнамских детей, которых в годы войны Сопротивления французам отбирали для отправки на учебу в социалистические страны, и прежде всего в Советский Союз – бастион мировой революции. Около сотни нас – вьетнамских учащихся из числа этих самых «семян» заботливо и тщательно «выращивали» в большом ухоженном особняке в старинном центре необъятной Москвы. В нашей школе была дирекция и более десятка учительниц, которые каждодневно занимались с нами, не считая обслуживающий персонал. Примечательно, что среди них были несколько человек, которые прекрасно знали французский язык; они были присланы в нашу школу потому, что советские друзья считали, что раз мы из страны, которая является колонией Франции, то мы наверняка должны знать французский, поэтому наши учительницы через этот язык-посредник пытались общаться с нами и преподавать нам русский язык. Но все мы были детьми участников войны Сопротивления, мы не знали ни одного французского слова, поэтому в конце концов оказалось, что несколько учительниц фактически остались без работы и их перевели в другие места. На смену им, чтобы помочь нам учить русский язык, руководство школы приняло одного молодого человека с высшим образованием, да к тому же немного знавшего вьетнамский язык, что было очень редким явлением в СССР той поры. Этим молодым человеком и был Мариан Николаевич Ткачёв.
Первое мое впечатление, когда я увидел его, – он не был похож на русских, которых мы знали и с кем ежедневно общались. Он не был похож на них ни обликом, ни манерами. Что-то в нем было застенчивое и одновременно экстравагантное, в нем было больше аристократического, чем простонародного, больше от артиста, чем от служащего, больше ретро, чем современного, что-то такое не совпадающее с окружающей социальной средой, что-то выходящее за рамки типичного советского человека, у которого нам полагалось учиться и следовать примеру, образец которого символизировали директриса нашей школы, завуч и наши учительницы. Если к его весьма оригинальной прическе, о которой многие писали и говорили, – постепенно привыкали и потом уже не обращали на это внимания, то другие его особенности создавали немало проблем на его жизненном пути, чему я был свидетелем, будучи еще подростком и еще практически ничего не зная о советском обществе.
Мы с ним подружились, когда он уже не работал в нашей школе, а приходил пообщаться со мной, и каждый раз мы очень долго беседовали; однажды, когда он ушел от меня, дежурная по школе – в тот день завуч – пригласила меня в свой кабинет и сказала:
– Послушай, Кы, мы видим, что ты очень любишь Мариана Николаевича. Конечно, дружить с кем-то – это твое право, но я должна тебе сказать, что Мариан не является комсомольцем, а ты сейчас готовишься вступить в комсомол, не так ли? К тому же он еврей, – и на ее губах появилась саркастическая улыбка.
В тот период в нашей школе была создана первичная организация Союза трудовой молодежи; я как сын погибшего революционера, естественно, считал необходимым быть в рядах Союза, однако, чтобы стать его членом, нужно было хорошо выполнять задания, которые поручала организация, но эти задания (к примеру, следить, не возникли ли в классе любовные парочки – это категорически не позволялось) я считал, что никоим образом не должен выполнять, (Почему запрещается любить? Можно ведь и любить, и хорошо учиться, стать знающим специалистом, а потом всеми силами служить Родине, не так ли?) и не выполнял. Если Мариан, рассуждал я, пока не комсомолец, как и я сейчас, значит, у него были какие-то мелкие провинности или он с чем-то не сумел справиться в организационном плане, вот как я, например. Но разве можно считать его плохим человеком? А то, что он еврей, – почему такая дискриминация по отношению к евреям? И когда Мариан в очередной раз пришел к нам, я его спросил обо всем этом.
– Твоя завуч не совсем точна, – сказал он. Мой отец – русский, а мать – еврейка; согласно документам, я русский, вместе с тем сам себя ощущаю ближе к евреям, потому что с детства рос в семье матери, так как мои родители рано развелись. Откуда в школе знают, что я наполовину еврей, мне непонятно, я никому об этом не говорил. Но именно это стало причиной того, что они так решительно расстались со мной. На самом деле я мог бы продолжать работу в школе и одновременно помогать иностранному отделу Союза писателей; там много работы, только когда приезжает делегация вьетнамских писателей. Но они не захотели больше иметь со мной дело. Я представил им Леню Спекторова, он очень хороший парень, любит тебя и очень хочет работать в вашей школе, чтобы благодаря общению с вами улучшать свой вьетнамский язык. Но он-то как раз стопроцентный еврей, поэтому и он получил отказ.
Леню Спекторова я хорошо знал и очень любил. Тоже одессит, друг Мариана с детских лет, вместе они учились на историческом факультете МГУ имени Ломоносова; потом Мариан уговорил его вместе начать учить вьетнамский язык и изучать Индокитай; впоследствии он блестяще защитил кандидатскую диссертацию по истории Камбоджи, много лет работал главным редактором Государственного издательства словарей, был организатором и редактором практически всех русско-вьетнамских и вьетнамско-русских словарей, которые в советское время издавались этим издательством. В то время, о котором я рассказываю, Леонид был безработным и часто вместе с Марианом приходил в нашу школу и много общался со мной. Он не был так силен в иностранных языках, как Мариан, и вьетнамский ему труднее давался; и, в отличие от Мариана, он не увлекался литературой и был лишен артистического духа, но это был невероятно добрый человек, поистине золотое сердце, которое мне посчастливилось встретить в жизни. И вот такого человека не брали на работу только потому, что он был евреем. Такие истории не могли не посеять в моей еще юной голове некоторые сомнения в истинной сущности советского общества. Советский Союз сегодня – это Вьетнам завтра, это же все-таки образец для всего прогрессивного человечества. Почему же здесь такие жестокие несправедливости?
Но вернемся к Мариану. Мы так быстро сдружились скорее всего потому, что у нас было много общего. Например, оба мы были лишены так называемого «общепринятого стиля поведения», того, что является исключительно важным для руководящего состава сверху донизу. Я знал наверное, что Мариан, проработав в нашей школе три года, так и не узнал имена всех школьников, не побеседовал хотя бы раз со многими из нас. И это отнюдь не потому, что он нас игнорировал, как сын нашей директрисы, по возрасту его сверстник, который часто навещал свою мать, но никогда не снисходил до общения с нами. Учитель Мариан, несомненно, любил нас, но он никогда не приходил к нам, чтобы только похлопать по плечу и сказать пару ничего не стоящих фраз, напротив, если мы его о чем-то спрашивали, то он всегда заботливо и обстоятельно отвечал. Если Учитель любил кого-то, то любил горячо, если заботился о ком-то, то заботился от души. Как сейчас помню, в 1956 году я впервые почувствовал симпатию к нему, когда однажды вечером, закончив уроки, я зашел в актовый зал, где стояло пианино, и прошелся по его клавишам. В это время Мариан проходил мимо, остановился и участливо спросил:
– Ты любишь музыку?
– Очень, только пою ужасно, голос хриплый, как у селезня, да вы это знаете. Я хотел бы играть на пианино, но некому меня научить.
– Здесь, как и во всех обычных школах, учат только петь, играть на музыкальных инструментах не учат. Если хочешь играть на пианино, тебе надо пойти в Дом пионеров. Но это сложно. Я вот тоже не играю на пианино, хотя в детстве мама меня учила. Но это ничего. Главное – любить музыку и уметь наслаждаться ею. А ты Моцарта любишь?
– Первый раз слышу это имя.
– Вот как. Ну, тогда так. В этом году весь мир отмечает 200-летие со дня рождения Моцарта. В течение года наше радио будет регулярно передавать его произведения, обычно вечером. У меня есть программа на месяц. В те дни, когда я буду дежурить и будет передаваться музыка Моцарта, я позову тебя в актовый зал, мы включим радио и вместе будем слушать. Надеюсь, тебе понравится. Моцарт – это потрясающе. Я его очень люблю.
Вот так, шаг за шагом, он ввел меня в мир искусства, в мир красоты еще до того, как я настолько овладел русским языком, чтобы наслаждаться русской литературой и произведениями писателей других стран, переведенных на русский язык. Впоследствии Учитель, который действительно обожал классическую музыку, не раз просил школьное начальство отпустить меня с ним на концерты симфонических оркестров и самобытных исполнителей. А я знал, что богатым он отнюдь не был. Зарплата низкая, опять же страсть к книгам, часто он отказывал себе в еде, чтобы купить книгу (благодаря этому к старости он имел богатейшую личную библиотеку). В то бедное время, я помню, он целый год носил старое пальто с прорехами, а летом послал его матери в Кишинев, чтобы она его заштопала, и потом продолжал его носить, хотя плечи и рукава уже совсем протерлись; и в то же время он водил меня на концерты и в театры, покупал мне книги, которые, как он считал, я должен был прочесть. Когда я поступил в институт, он увидел, что у меня слишком легкое пальто, и заставил меня взять у него его единственный джемпер. «Ты человек южный, тебе холод труднее переносить, чем мне».
У него был изысканный художественный вкус, но весьма необычный, особенно в литературе, мне многое не подходило. Так, он обожал французских и английских классиков: Вольтера, Стендаля, Анатоля Франса, Стерна, Диккенса, Оскара Уайльда… в основном за их остроумие и образный стиль. Я же был очарован русскими классиками, однако он преклонялся только перед Пушкиным, Лермонтовым и частично Гоголем; что касается Толстого и Чехова, то к ним он был равнодушен, а Достоевского вообще не воспринимал. Мы не раз спорили друг с другом, но ни один не смог убедить другого. Впоследствии он изменил свое отношение к Толстому и Чехову, но, что касается Достоевского, по-прежнему «держался в отдалении». «Я знаю, что этот писатель велик, но перечитывать его не могу». Тем не менее, зная, что мне этот писатель симпатичен, он купил его Полное собрание сочинений и подарил мне.
Когда Мариан еще работал в нашей школе, то именно я передал ему книгу То Хоая «Приключения кузнечика Мена», которая мне очень нравилась. «Переведите эту книгу для русских детей», – сказал я. Спустя несколько лет, когда он уже перешел на работу в Союз писателей, он однажды сообщил мне: «Послушай, Кы, я подписал договор с издательством и должен, засучив рукава, взяться за перевод «Приключений кузнечика Мена». Я внимательно прочел эту книгу и несколько мест мне не совсем понятны, ты поможешь разобраться?». – «Разумеется, несите книгу, я все объясню». – «Но знаешь, здесь меня не любят, скажут, что я тебя эксплуатирую». – «Так как же быть?». – «Давай так, в воскресенье я приду и попрошу разрешения погулять с тобой. Мы спустимся в метро, там тепло, есть где посидеть, только шумно, когда поезд идет. Но к этому быстро привыкаешь, там мы с тобой и поработаем».
Так мы и сделали. Чем больше я разъяснял ему вьетнамские слова и выражения, тем больше мне нравилась эта работа, и я уже мечтал о том, что, когда буду переводить русскую прозу, я все непонятное буду спрашивать у своего старшего друга (когда я поступил в институт, я именно так и делал). Поглощенный работой, он вдруг спросил:
– Кы, ты в каком году родился?
– В сорок втором.
– Значит я старше тебя на десять лет. У тебя братья, сестры есть?
– Есть двое младших, я в семье старший. А у вас?
– Я у мамы единственный! У моего отца другая семья, там у него двое детей, но я не поддерживаю никаких отношений с ним и не считаю этих детей, родных мне по отцу, своими братьями. Мы разорвали узы братства!
– Как интересно! Словно Лыу Би с Куан Конгом и Тхыонг Фи (вто время я очень увлекался «Троецарствием»).
И мы продолжали свою работу.
После «Кузнечика» там же в метро, я помогал ему с переводом других вьетнамских авторов. Когда они были изданы, я из любопытства сравнил перевод с подлинниками и увидел, что многие места переведены интереснее, остроумнее оригинала, богаче с точки зрения творческого воображения. Когда я сказал ему: «Это же гораздо больше, нежели перевод, – это пересказ», он с серьезным видом ответил: «Но авторы согласились, чтобы я так сделал! У меня есть их доверенности».
Я высоко ценил литературный талант Мариана, знал о том, что он вынашивает мечту стать настоящим писателем, поэтому мне хотелось, чтобы он поскорее получил возможность распрощаться с переводческой работой и все силы бросить на то, чтобы творить. К тому же я понимал, что литература Вьетнама не настолько богата (ведь есть такие вершины, как литературы Китая, Индии, Японии, Бактрии), чтобы посвятить ей всю свою талантливую жизнь. Его близкие и друзья (а у него было много друзей разных профессий: художники, артисты, режиссеры, корреспонденты, физики, инженеры, не считая писателей) – все они ценили его литературный талант, интеллигентность и художественный вкус и хотели, чтобы он занялся более важным делом. Все они считали, что переводы вьетнамской литературы – это лишь первый шаг на его пути наверх. Помню, в начале 60-х годов на праздновании его дня рождения несколько его друзей (а я тогда уже входил в их число) сочинили веселое поздравление в стихах, в котором вовсю превозносили «вьетнамский язык, приносящий хороший доход», благодаря которому все собравшиеся могут «смаковать роскошное вино», однако желали своему талантливому другу поскорее повстречать «зеленоглазую миллионершу», которая бы сняла с его плеч тяжкий груз зарабатывания на жизнь, чтобы круглый год он мог флиртовать с музами искусства… Мариан сымпровизировал очень смешной ответ им… По правде говоря, именно он был душой всей компании друзей. Он юморил больше всех; когда у него были деньги, он любил ссужать ими друзей; опять же он знал массу забавных, неожиданных игр. Он очень ценил мужскую дружбу (ни одна женщина не проникла в этот наш кружок!). Он считал, что имеется большая разница между понятиями «приятель» и «друг». Может быть много приятелей, говорил он мне, но не может быть много друзей. В отношении друзей он всегда был открыт сердцем и совершенно бескорыстен, но и сам требовал от них того же, и если вдруг он разочаровывался в каких-то друзьях, то очень долго страдал и, как правило, порывал с ними и не возобновлял прежних отношений. Причем не важно, какой национальности они были. Национальный фактор при выборе друзей для него не играл никакой роли, и в этом он тоже был полностью бескорыстен, не строил никаких расчетов, кто ему нравился, с теми он и дружил по-настоящему, и делал для этих людей то, о чем они даже не просили. И я тому живой пример. Побратавшись со мной, он повез меня на родину матери, познакомил с ней, с бабушкой, с тетями, с их близкими и дальними родственниками. Поначалу его близкие не сразу прониклись его чувствами, чтобы любить и меня, но постепенно они поняли: узы братства со мной были какой-то глубинной потребностью их любимого Марика, и тогда они всем сердцем полюбили и меня. Вскоре после его кончины его жена Инна попросила меня приехать и помочь ей разобраться с его библиотекой на вьетнамском языке; во время этой работы я обнаружил картонную папку с надписью «Письма Кы», в которой хранились все мои письма, еще со времени моей учебы в школе, – и ему, и его уже ушедшим в мир иной матери и тетям, каждое в отдельном конверте. Я с ужасом подумал: я ведь тоже получил много писем и от него, и от его матери и теток, но разве я их сохранил! Теперь об этом поздно сожалеть, осталось только ругать себя: оказывается, я не испытывал таких нежных чувств к Марику и его родным, а вот они действительно любили меня…
Но вернемся к его первым шагам в литературном деле. Ясно, что и сам Марик не представлял тогда, что свяжет всю свою жизнь с Вьетнамом и вьетнамской литературой. Он вынашивал много творческих планов и начиная с 60-х годов пробовал силы в целой серии рассказов, которые отличались явными признаками творческого таланта, горячим темпераментом, смелыми идеями, несколько этих рассказов включены в настоящий сборник. Вспоминаю, что в середине этих 60-х годов, когда я досрочно, не окончив института, был отозван на родину и по распределению организации должен был заниматься делами, далекими от русской литературы, которую я страстно любил; это был период, когда политические разногласия между нашей страной и Советским Союзом становились все более острыми, и всякий раз, когда Марик приезжал к нам в составе делегаций советских писателей, даже встретиться с ним мне было очень трудно (вспоминаю, как один мой начальник предостерегал меня: «Мариан – это агент ЦК КПСС!», но я-то хорошо знал, что он, будучи «белогвардейским» евреем, никак не мог пользоваться таким доверием советской власти!); в эти годы однажды, улучив момент, когда мы оказались вдвоем, он сунул мне в руку листки бумаги: «Спрячь, дома почитаешь».
Вернувшись домой, я развернул послание и увидел поздравительный текст: «Дорогой Кы, улыбайся, но не везде и не со всеми», а внизу напечатанный на машинке рассказ «Всеобщий порыв смеха», в нем повествовалось о центральной планете какой-то далекой звездной системы, на которой было создано общество тысячелетних мечтаний; в этом обществе, чтобы положить конец всякого рода анархии и политической нестабильности, любые действия людей организовывались и контролировались государством, даже смех: каждый человек мог смеяться только раз в неделю, в обязательные часы, на городской площади, а по ночам на небе с помощью современных методов игры света появлялось четкое изображение великого вождя Оам (читать наоборот!). «Наверняка, когда вы писали этот рассказ, то знали, что его нельзя опубликовать?» – спросил я его при очередной встрече. «Разумеется, знал, но все равно не мог не писать». Впоследствии, уже во времена Брежнева, он рассказал, что нашелся в провинции редактор одного литературного журнала, который решился опубликовать этот рассказ вместе с несколькими другими его рассказами, но в последнюю минуту в это дело вмешалась цензура, разрешив напечатать лишь один совершенно безобидный рассказ. И только 20 лет спустя одна советская газета опубликовала рассказ «Взрывы смеха», но с некоторыми поправками (например, изменили имя вождя), чтобы избежать всяких догадок.
Таким образом, настоящим призванием Мариана Ткачёва было писать сатирические произведения, такие как «Всеобщий порыв смеха». Однако могло ли поощряться издание таких рассказов в Советском Союзе или в любой другой стране такого же социального устройства? Он очутился в положении немалого числа писателей и поэтов, у которых был талант, но они не хотели торговать им, – и должен был жить переводами.
То, что вначале казалось всего лишь «левой работой», попыткой подрабатывать на жизнь переводами вьетнамской литературы – стало делом всей жизни. Весь свой талант, все свои душевные силы он отдал этому делу.
Другим духовным фактором, придававшим ему силы, стала его любовь к Вьетнаму, вьетнамцам, к вьетнамским писателям. В отличие от некоторых вьетнамоведов, Мариан по-настоящему любил Вьетнам – это проявлялось и в том, что его тесная квартира в Москве стала местом, куда приходило бессчетное число вьетнамцев, и не только писателей (а, как мы знаем, европейцы приглашают к себе в гости только очень близких людей). Тем не менее не только я не раз оставался у него ночевать. Именно в его квартире я познакомился с Нгуен Конг Хоаном, Нгуен Динь Тхи, То Хоаем, Тэ Ханем, Суан Зьеу, Нгуен Куанг Шангом… вместе мы обедали, там же и отношения завязались.
Один военный писатель, из тех наших писателей, с которыми Марик познакомился очень давно, вызывал у него особые чувства. Этот писатель был поистине конфуциански образованный, интеллигентный, с артистической душой, но – весьма средний литератор. Марик из-за большой любви к нему организовал издание сборника его рассказов на русском языке, причем перевел их прекрасно и уважительно представил его читателям; и это в те времена, когда другие наши литературные корифеи, гораздо более крупные, практически не были известны в Советском Союзе. Потом Марик решил пригласить этого писателя к себе домой, договорился с друзьями, чтобы те оказали ему прием, достойный его «доброго сердца». И вдруг между двумя нашими странами возникли политические противоречия. И этот писатель сразу же изменил отношение к Марику. Не знаю, что было на душе у самого писателя, но Марик страдал и страдал долго.
А затем он встретился с Нгуен Туаном, и Туан, как писатель и как человек, стал самой большой его любовью до последнего вздоха. Об отношениях Нгуен Туан – Мариан Ткачёв написаны десятки страниц. Нужно только добавить, что, боготворя Нгуен Туана, Марик переводил его с энтузиазмом, чтобы его русские соотечественники тоже могли насладиться мастерством вьетнамского прозаика, причем мастерством, как он считал, мирового уровня. (У меня с ним были горячие споры: кто из двух – Нгуен Туан или Нам Као – представляет большую ценность, больше достоин преклонения, но ни один из нас другого не переубедил. Уже став старым, я перечитал обоих авторов и начинаю склоняться к мнению Марика).
Создавать образ Туана было далеко не просто. Во-первых, Марику нравился Нгуен Туан, который писал до 1945 года, а в те годы, когда у нас шла война против США и их марионеток, специалисты по Вьетнаму вовсю переводили на русский всякие «Жить, как он», «Следы бойца», «Шторм» и другие творения, которые тогда в нашей стране выходили пачками; что же касается таких произведений Туана, как «Тени эпохи», «Династия Нгуенов», «Волосы девушки Хоай»… кто их тогда издавал для массового чтения? Только теоретики да литературные критики вспоминали о них, причем хвалили редко, а ругали много. Так же обстояло дело и после окончания войны, вплоть до начала Обновления. Впоследствии Марик рассказывал мне, что при попытке издания каждой книги Нгуен Туана приходилось буквально пробиваться через частокол возражений, исходивших из среды русских вьетнамистов, которые опирались на официальные оценки во Вьетнаме, и ему удавалось пробиться через этот частокол только благодаря старым друзьям, которые занимали ответственные посты в советских руководящих органах. Но это лишь внешняя сторона вопроса. Внутренняя же сторона – как передать стиль Нгуен Туана, ведь его привлекательность совсем не в том, о чем он пишет, а в том, как он пишет. И сам дедушка Туан очень хорошо сознавал это. Из всех наших писателей, которых переводили на русский, только он спросил меня: «Послушай, Кы, Мариан мои сочинения переводит так, как надо?» Я ответил: «Он очень старается, дедушка, каждую фразу переводит по нескольку раз. И, кроме него, никто вас не сможет перевести так, как надо». Дедушка Туан покивал головой, но вряд ли успокоился. Сам Марик потом мне рассказывал: «Кроме тебя дед опрашивал еще нескольких человек; когда это дошло до моих ушей, я ему врезал… «Ну, ладно, вы спрашиваете Кы, но другие-то как могут разобраться в моих переводах? Лучше сразу сказали бы мне: «Я тебе не доверяю!» – «Ну, и что дед ответил?» – Он сказал: «Я же писал не для тебя; а так как я не читаю по-русски, я не знаю, правильно я выгляжу в твоем переводе или нет». Вот такой это был старик!
Марик потратил пять лет, чтобы перевести Нгуен Туана, издал три сборника его произведений, в том числе довольно толстый сборник в «Библиотеке вьетнамской литературы»; все они были изданы еще до того, как у нас началось Обновление. Благодаря этим книгам, Нгуен Туан хорошо принят в кругах российских литераторов. Я был свидетелем, как уважительно беседовали с ним такие известные писатели, как Симонов, Стругацкий. Однажды я, проявив принципиальность, честно сказал Марику: «В некоторых местах, вы слегка приукрасили Туана… Он у вас, как Платонов в русской литературе». Ткачёв ничего не сказал, но видно было, что он недоволен этим замечанием. Случай этот ушел в прошлое, никак не повлияв на наши отношения. Но в конце 2006 года, за несколько месяцев до кончины, он позвонил мне из Москвы: «Послушай, Кы, я перечел свои переводы Нгуен Туана, и мне захотелось исправить много мест и перевести дополнительно несколько его вещей, которые нельзя было опубликовать в советское время. «Пагоду Дан», например. Старик передал мне ее в Сайгоне. А я слышал, что в Ханое только что вышло Полное собрание сочинений Нгуен Туана, это так?» – «Да, я куплю его и вышлю вам». Он был страшно рад, получив это Полное собрание, сразу же позвонил мне с благодарностью. После его смерти, войдя в его рабочий кабинет, я увидел пятитомник Нгуен Туана на его письменном столе, прямо перед его креслом.
До того как взяться за перевод Нгуен Туана, Марик отобрал и перевел на русский большое число древних литературных памятников нашей страны – это и «Viet Dien u linh» («Повести о загробном мире»), «Linh Nam chich quai» («Мистические рассказы древнего Вьетнама»), «Thanh Tong di thao» («Рукописи императора Тхань Тонга»), «Truyen ky man luc» («Рассказы об обыденном»), при этом он подробно разъяснял русскому читателю все тонкости древних вьетнамских текстов. Это была поистине академическая, кропотливая работа. Зная его артистический характер, я не думал, что он это сможет сделать. Он был старателен до неимоверности: не только расшифровывал транскрипцию, но и переводил на русский названия местностей, храмов, пагод и вьетнамских исторических персонажей; при переводе он избегал использовать русские термины иностранного происхождения, которые могли создать ощущение современного языка. Многие слова, уже давно вошедшие в употребление, которые другие переводчики спокойно использовали, например «карта», «устав», – он решительно отбрасывал и находил соответствующие им слова старого русского языка – «чертеж», «уложение». Ясно, что при таком стиле работы невозможно было переводить быстро и много (поэтому другие переводчики вьетнамской литературы имели гораздо более высокую производительность труда). Помню, он очень любил пьесу «Ву Ньы То» Нгуен Хюи Тыонга, но постоянно отлынивал, не брался всерьез за перевод, так как не мог найти способ перевести, например, звание «quan cong» (герцог) одного из персонажей пьесы, чтобы оно звучало как древнее слово и одновременно несло на себе печать Востока. Но, когда наконец были решены все такого рода трудности, в России началась перестройка, затем социалистический строй рухнул, общественное мнение перестало интересоваться Вьетнамом с его литературой и перевод пришлось отложить в долгий ящик.
Еще одно дело, тоже не состоявшееся, но по другим причинам. Одно время он вынашивал мысль написать биографический роман о Нгуен Чае. Всякий раз, бывая во Вьетнаме, он, пользуясь случаем, искал материалы о нем, расспрашивал историков: Дао Зюи Аня, Ван Тана, Нгуен Ван Тао. Потом, видя, что он ничего не написал, я пытался выяснить, почему, и он мне ответил: сведений о Нгуен Чае, которые имеются в наличии, слишком мало, чтобы написать о нем целый роман. Какова его роль в восстании Ламшон? Он – душа восстания или всего лишь секретарь Ле Лоя? И т. п…
Но есть одно большое дело, которое Марик сделал для вьетнамской литературы, но об этом мало кто знает. В Советском Союзе с 1967 по 1977 годы выходило роскошное издание «Библиотеки Всемирной Литературы». Эта «Библиотека» состояла из 200 толстых томов, которые входили в из три крупных раздела: от древних до средних веков, XIX век, XX век. Раздел ХХ века, естественно, состоял из своего рода ассорти, в котором чего-то не хватало, чего-то было слишком много (к примеру, А. Фадееву был отведен целый том, а М. Прусту или Ф. Кафке была уделена едва ли одна страница). Но зато два других раздела поистине были средоточием, квинтэссенцией литературных достижений всего человечества, умело подобранных и талантливо переведенных. Согласно проекту этой антологии, который был опубликован, в нем полностью отсутствовала вьетнамская литература. Однако в процессе реализации проекта Марик вместе со своим близким другом Виктором Сановичем, специалистом по японской литературе, в то время работавшим в издательстве, где выходила антология, сумели убедить дирекцию включить в два сборника «Классическая проза Востока» и «Классическая поэзия Восточной и Южной Азии» вьетнамские главы, каждая более чем 200 страниц большого формата. В результате несколько лет подряд для обеих вьетнамских глав этого величественного академического издания Марик подбирал тексты, переводил их и сопровождал своими примечаниями. Надо еще сказать, что в российском обществе той поры – при режиме, который фактически запрещал религию, – истинная литература превратилась для интеллигенции в своего рода религию, общественная потребность в классической литературе была огромной, сколько ни выходило изданий, их все равно не хватало, поэтому каждый том указанной антологии издавали тиражом 350 тысяч экземпляров, и все равно за ними буквально охотились и ими спекулировали.
Я нередко вынужден был покупать в букинистических магазинах отдельные тома по ценам вдесятеро выше номинала.
Естественно, тома антологии распределялись по библиотекам – центральным, областным и районным. Таким образом, тем, кто в Советском Союзе хотел познакомиться с вьетнамской литературой, было достаточно пролистать антологию и получить из нее достаточно полные, точные и живые знания. В 1980 году, когда я по прошествии 16 лет снова ступил на российскую землю, Марик подарил мне ценные два томика, где я увидел и Ли Тэ Сюена, и Ле Тхань Тонга, и Нгуен Зы, затем Хан Зу, Нгуен Тяна, Бо Тунг Линя, Нгуен Чая, Нгуен Бинь Кхиема, Нгуен Зу рядом с китайскими поэтами Ли Пэй, Ду Фу и др. Среди российских поэтов, которые превращали в стихи подстрочные переводы Марика, были весьма известные люди – Мария Петровых, Давид Самойлов, Александр Ревич…
Марик переводил классическую вьетнамскую литературу, переводил Нгуен Туана в годы, когда его личная жизнь была полна неурядиц и страданий. Первая его жена после почти десяти лет совместной жизни никого не родила ему и ушла от него, чтобы выйти замуж за франтоватого венгра (и как мы узнали потом, подарила ему аж трех сыновей!). Вторая его жена, которую он искренне любил, родила ему сына, как две капли воды похожего на отца; однако вскоре она пришла к выводу, что никаких радужных перспектив не видно (в то время Марик бросил работу в Международной комиссии Союза советских писателей, так как понял, что она мало чем отличается от Протокольного отдела ЦК, и перешел на вольные хлеба), и тогда она изменила ему, закрутила любовь с молодым перспективным парнем из МИДа. Не вынеся этого, он потребовал развода. Суд постановил, что ребенок будет жить с матерью, и он ушел, оставив бывшей жене двухкомнатную квартиру, которую ему выделил Союз писателей после 15 лет его беспорочной службы. Этот разрыв стал незаживающей раной его сердца. Спустя 30 лет, когда я почти месяц жил в его доме, он то и дело возвращался к ушедшим событиям, как будто они произошли только вчера, – они имели очень плохие последствия, которые он не мог заранее предвидеть: эта его прежняя жена (я так и не знаю ее в лицо, потому что все фотографии, где они были вместе, он порвал и сжег) не смогла выйти замуж за того парня, с которым она изменила Марику, осталась у разбитого корыта, молодость быстро ушла, никого больше очаровать не удавалось, и она возненавидела Марика, стала настраивать сына против него; сын рос в атмосфере обожания матери и ненависти к отцу, и когда Марик собрался жениться в третий раз, то отношения между отцом и сыном шаг за шагом ухудшались и склеить их было уже невозможно, хотя третий его брак и был истинно счастливым. Марик очень любил сына, его детские фотографии были развешаны по всему его кабинету, но иногда с душевной болью говорил мне: «С каждым днем я вижу в нем все больше материнских генов, чем моих».
Но жизнь продолжалась, и надо было искать заработок. После нескольких лет отдыха от службы он был принят на работу редактором журнала «Иностранная литература» с конкретным заданием – редактировать переводы. Но одновременно он продолжал делать переводы вьетнамской литературы. После Нгуен Туана, То Хоая он перевел несколько других авторов, современных, но уже не было былого вдохновения (вдохновение переводчика зависит от степени любви!), когда зачастую у него не лежала душа переводить то одного писателя, то другого, но он делал это, так как уважал этих писателей как своих хороших друзей. Был один роман, который включили в «Библиотеку вьетнамской литературы», и он взялся его переводить, но когда внимательно перечитал его, у него возникло стойкое неприятие к тексту, до такой степени, что он договорился со мной: я буду переводить ему смысл текста, а он это будет излагать литературно, гонорар мы поделим пополам. Вместе с ним промучившись с этим романом, я прочувствовал на себе все тяготы перевода книги, которую, по правде говоря, не стоило переводить.
Закончив перевод вещей, которые ему не очень хотелось переводить, а затем занимаясь редактированием переводов других авторов, он постепенно начал ощущать, что желание работать уменьшается. Пройдя 50 летний рубеж, когда, наконец, рядом есть любимая жена и вполне приемлемые материальные условия, он уволился из редакции журнала, чтобы сосредоточиться на нескольких жизненно важных делах: один сборник классической прозы, один солидный сборник классической вьетнамской поэзии, а после них, последние десятилетия своей жизни, он хотел посвятить писательскому творчеству – тому, чего от него ждали все, кто хорошо его знал и понимал. Вспоминаю, как в день его 50-летия писатель Аркадий Стругацкий, чье имя навсегда останется в истории русской литературы, встал и произнес тост Марику, чтобы блестяще реализовал свои творческие замыслы, которыми он поделился в разговоре с Аркадием. Я поднял глаза и глянул на вереницы книг, стоящих на полках в его кабинете… – там были Пушкин, Гоголь, Стендаль, Пруст, Томас Манн, Фолкнер, Маркес – писатели, которых он обожал, в которых черпал вдохновение и силу творчества. Но человек предполагает, а Бог располагает…
С каждым днем Марик становился все строже и требовательнее к себе. Он подписал с издательством договор о подготовке сборника вьетнамской классической прозы с совершенно новыми переводами и, засучив рукава, принялся переводить их заново и… не уложился в оговоренные сроки. Издательство, – а тогда была эпоха Горбачева, экономический и политический кризис в России достиг наивысшей точки, – расторгло с ним договор. Именно в это время Институт мировой литературы имени М. Горького пригласил его на должность преподавателя группы вьетнамских студентов, приехавших обучаться искусству литературного перевода. Три года он отдавал работе с ними все свои душевные силы, пока они не вернулись на родину. А в это же время в обществе уже одержала победу рыночная экономика, и ни одно издательство, ни один журнал не заказывали больше переводов вьетнамской литературы, оставалось только одно дело – писательское творчество.
В последние годы жизни Марик писал и переписывал повесть о своем детстве, об Одессе, родном для него городе, о величайшем поэте Пушкине, который в 1823–1824 годах жил в Одессе, о судьбах нескольких одесситов, которые были ему особенно дороги; в этой повести лирическое перемешивалось с юмором, действительное с вымышленным, прошлое с настоящим, сменяли друг друга разные рассказчики, сложным был язык и ритм изложения… Но, в отличие от прошлого, он никому не показывал ни одной странички, обещая дать почитать только тогда, когда полностью завершит работу над повестью. Но потом его свалила болезнь, обнаружили раковые метастазы, сделали операцию, после которой он прожил еще два года.
Недавно, просматривая черновые страницы его неудавшейся повести, все исчерканные неимоверными исправлениями, которые, кроме самого автора, никто не смог бы разобрать, к чему они и окончательны они или нет, я вдруг вспомнил о многомесячных мучениях Флобера, Маларме, Хлебникова и массы других мастеров пера – об их попытках поиска неприступного, ускользающего Слова, которые часто заканчивались отчаянием и абсолютным молчанием. О поражениях, которые гораздо ценнее сотен тысяч достижений и побед.
Однажды, это было в 2005 году, когда я прожил у него особенно долго, я уговаривал его вернуться к вьетнамской литературе – действительно, тогда постепенно начали складываться к этому необходимые условия, а затем пригласил его с женой приехать ко мне в гости. Он принял приглашение. Мы уговорились, что в следующем году они приедут в канун новогоднего праздника Тэт, чтобы встретить его в кругу моей семьи. Он согласился. В течение 2006 года я все прикидывал, где он еще не был, чтобы их туда свозить. Иногда мы созванивались друг с другом. Но вот в день моего рождения он не позвонил, и я подумал, что произошло что-то нехорошее. Через месяц, в ночь с 22 на 23 декабря 2006 года, зазвонил телефон, и я услышал сдавленный голос Инны:
– Кы, Марик умер, сегодня вечером. Ты сможешь приехать на похороны?
В моей голове сразу возникло воспоминание: более двух десятков лет назад, в начале 80-х годов, на одной вечеринке с друзьями, во время веселого разговора, Марик вдруг задумчиво сказал присутствующим: «Ребята, я хотел бы, чтобы, когда я умру, вы все сбросились на авиабилет для Кы, чтобы он смог принять участие в моих похоронах». Никто еще не успел среагировать на эти его слова, как он перевел разговор на другую тему.
Когда пришла эта трагическая весть, я болел, была высокая температура. Но даже если бы я был здоров, все равно не успел бы на похороны. Требовались сложные формальности, чтобы получить визу в российском посольстве; уже не было так просто, как раньше – паспорт есть, покупай авиабилет и лети.
Через несколько месяцев Инна прислала мне приглашение, я стал готовиться к поездке в Москву, чтобы помочь ей разобраться с архивом Марика. Перед самым отъездом несколько раз позвонил Инне, но безуспешно. Вдруг зазвонил телефон. Я с невольным трепетом поднял трубку. Звонил Леня Спекторов из Германии (его семья уже давно переехала в эту страну):
– Слушай, Кы, завтра, когда прилетишь в Москву, в аэропорту тебя встретит Володя Брагин.
– Почему?
– Прилетишь, узнаешь.
В аэропорту, встретившись с Володей, я узнал, что произошло: Инна, чтобы приглушить боль утраты, приняла приглашение одной своей бывшей пациентки посетить озеро Байкал, попала там в автоаварию, была тяжело ранена, лежала в коме в больнице в Иркутске, в 4000 километров от Москвы и через несколько дней, не приходя в сознание, скончалась. Я увидел ее уже недвижно лежавшей в гробу. Она ушла вслед за мужем через неполных 6 месяцев после его ухода.
Ханой, сентябрь 2011 г. Перевод Евгения Кобелева.
Учитель и друг
Евгений Кобелев:
Я познакомился с Марианом Николаевичем в 1956 году, тому уже минуло больше полувека. В тот год я поступил в только что открывшийся Институт восточных языков при МГУ, где выбрал вьетнамский язык. Уже не помню точно, когда у нас в аудитории появился молодой, с большими живыми и смеющимися глазами преподаватель – сразу с начала учебы или во втором семестре, но хорошо помню первые его слова: «Я буду преподавать у вас вьетнамскую литературу».
Внешне он очень напоминал поэтов Серебряного века – благодаря своей довольно экстравагантной по тем пуританским временам прическе. Но если судить по его манерам и особенно по характеру, что стало очевидно позднее, когда мы, студенты вьетнамской группы, познакомились с ним поближе, – это был типичный русский интеллигент, в самом лучшем смысле этого слова, я бы сказал, интеллигент чеховского типа. Он был необычайно мягок, как-то аристократически воспитан, обладал тонким чувством юмора.
Хотя разница в возрасте у нас с ним была небольшая – каких-то пять-шесть лет, но он не только с самого начала обращался к нам на «вы», но всю последующую жизнь упорно не хотел изменять этому правилу. Через много лет после окончания института у меня установились с Мариком – так его за глаза нежно называли все его близкие друзья – очень теплые, дружеские отношения. Однажды, когда он был у меня в гостях, я в порыве дружеских чувств, предложил ему выпить на брудершафт и перейти в общении на «ты». Он охотно согласился. Но вот через пару дней раздается звонок телефона, и я слышу в трубке тихий, всегда как бы виноватый, голос Марика: «Женя, вы не видели мою последнюю книгу, она только что вышла».
Марик был необыкновенно начитан. Особенно он любил произведения писателей-юмористов. Так, «Записки Пиквикского клуба» и «Трое в одной лодке» он знал практически наизусть и на занятиях часто «выдавал» нам целиком наиболее смешные пассажи из этих книг. Вроде бы совсем недавно закончив МГУ, он уже был известным переводчиком вьетнамской литературы. Среди первых его переводов особенно запомнились детская сказка «Приключения кузнечика Мена» очень популярного во Вьетнаме писателя То Хоая и реалистический роман Нгуен Хонга «Воровка». В этом романе изображен воровской мир вьетнамского портового города Хайфона времен французской колонизации. Марик рассказывал нам, что, будучи коренным одесситом, он досконально изучил одесский воровской жаргон, поэтому получилось так, что герои вьетнамского романа заговорили под его пером языком Бени Крика и одесских жиганов.
Так как наш институт открылся совсем недавно – в 1956 году (мы были первым набором и очень этим гордились), в нем на первых порах существовал всего один факультет – историко-филологический. Уже к концу первого курса студенты были обязаны выбрать свою основную специализацию – либо историю, либо филологию. Обаяние Марика как блестящего знатока и «пропагандиста» литературы стало такой могучей гирей на весах моего выбора, что я, не колеблясь, избрал филологию. Изучению вьетнамской литературы я посвятил несколько лет. И диплом защитил по литературе – анализировал творчество вьетнамской поэтессы XVIII века Хо Суан Хыонг. Ее весьма своеобразная поэзия, основанная на необычной эстетической системе откровенной двусмысленности каждого стихотворного образа, – явление уникальное не только во вьетнамской, но и в мировой литературе.
В 1958 году мне посчастливилось первым из нашей группы отправиться в далекий Вьетнам на учебу в Ханойский университет. Первый год учебы в этой экзотической стране пролетел как сказочный миг – все было необычайно романтично, интригующе, интересно. Особенно необычным, можно сказать, пронзительным стало постепенное осознание того невероятного факта, что ты уже можешь изложить свои мысли на этом труднейшем многотональном языке и понимаешь практически все, что тебе говорят вьетнамцы.
Настало долгожданное лето, и тут, к нашему разочарованию, Министерство высшего образования приняло решение не отправлять нас на каникулы на родину. В результате второй год обучения в Ханойском университете начался с заметным ощущением накопившейся ностальгии. И вдруг – о, чудо – я получаю нежданную весточку, что в Ханой в составе делегации писателей приезжает Марианн Николаевич. Целую неделю каждый вечер я проводил в доме для гостей Союза писателей Вьетнама на берегу живописного озера Хале в обществе любимого преподавателя, который к тому же был для меня живым олицетворением Москвы, МГУ, моих однокашников, по которым я скучал все сильнее. Понятно, что первые часы общения наши разговоры шли только об этом.
Из неожиданной и желанной встречи с любимым преподавателем за тысячи верст от Москвы особенно запомнились два знаменательных события. В один из вечеров Марик предложил мне сходить в гости, как он выразился тогда, к «самому колоритному» вьетнамскому писателю Нгуен Туану. Мы поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж старинного ханойского дома, что расположен неподалеку от центрального вокзала Hang Со. Нас встретил даже внешне, действительно, весьма колоритный человек. Дело в том, что у Нгуен Туана была непривычная для вьетнамцев внешность – пышная грива длинных волос на голове, ниспадавших на спину. А также и необычная стилистика речи: он говорил языком «nho si» – вьетнамских интеллигентов-конфуцианцев конца XIX века.
Уже потом я узнал, что Нгуен Туан – известный писатель-ветеран, мастер реалистического рассказа, его проза напоминает что-то среднее между Куприным и Буниным. С той первой встречи мы стали с Нгуен Туаном большими друзьями. В середине 1960-х годов, когда я приехал в Ханой во второй раз, уже на работу, он был частым и желанным гостем в моем доме на улочке Као Ба Куат.
В 2005 году по случаю 95-летия со дня рождения Нгуен Туана в Ханое впервые было издано полное собрание его произведений, значительная часть из которых была написана им еще до Августовской революции 1945 года. А в 2010 году отмечался 100-летний юбилей со дня его рождения, причем не только во Вьетнаме, но и в России. В перспективном плане Общества российско-вьетнамской дружбы, членами которого являются практически все российские вьетнамоведы, записано, что 29 июля 2010 года, в день рождения Нгуен Туана, мы проведем в Москве совместно с Ассоциацией деятелей культуры и искусства Вьетнама памятный вечер.
Наконец, второе знаменательное событие (встреча) в писательском доме, событие хотя и не очень серьезное, но по-своему примечательное. В первый же вечер, когда я пришел в гости к Марику, он царственным жестом открыл дверцу бара в гостиной, и моему взору предстало множество бутылок знаменитых французских вин – шабли, бордо, божоле… В те годы в послевоенном, еще не оправившемся от разрухи Вьетнаме такое зрелище невозможно было себе даже представить. А предыстория этого «великолепия» оказалась такова.
В 1954 году, когда французская армия была окружена под Дьенбьенфу, французское правительство, чтобы поднять боевой дух своих солдат и офицеров, направило в порт Хайфон целый корабль с лучшими французскими винами и другими более крепкими напитками. Но пока корабль шел к берегам Вьетнама, в Женеве были подписаны соглашения о прекращении войны в Индокитае и выводе французских войск. Содержимое корабля было, естественно, реквизировано вьетнамскими властями. А так как одним из главных пунктов политической программы революционного правительства Хо Ши Мина была объявлена борьба против употребления алкоголя, то десятки тысяч бутылок первоклассного французского вина, свалившиеся как снег на голову, поначалу даже не пустили в продажу. И только по прошествии нескольких лет его запасы начали использовать на официальных приемах в президентском дворце и на встречах иностранных гостей.
Мы были молодыми и не избалованными роскошью, поэтому неудивительно, что каждый вечер мы осушали в гостях у Марика по одной, а то и по две бутылки то белого, то красного вина и к концу пребывания писательской делегации в Ханое опустошили почти весь бар. Остается лишь добавить, что в следующий раз мне довелось отведать настоящих французских вин только через десять лет, когда я оказался в Париже на одной из международных конференций по Вьетнаму. Естественно, в те дни я не раз с теплотой вспоминал незабываемые вечерние дегустации с Мариком в писательском доме на берегу озера Хале…
В 1964–1967 годах я работал корреспондентом ТАСС во Вьетнаме. Это были годы, когда началась и на моих глазах приобрела чудовищно жестокий характер воздушная война США против ДРВ. Тогда многие советские журналисты, писатели, художники по зову сердца ехали в Ханой, чтобы пером и кистью запечатлеть героизм и самоотверженность народа сражающегося Вьетнама. Практически всех я неизменно принимал в своем корпункте и устраивал холостяцкие ужины, так как с началом войны все женщины и дети работников советских представительств, по решению Москвы, были эвакуированы в Советский Союз. Моими почетными гостями стали в те годы писатели и поэты – Евгений Долматовский, Ирина Левченко, Юлиан Семенов, Илья Фоняков, художник Илья Глазунов, журналисты Александр Тер-Григорян, Виктор Шарапов, Николай Солнцев. Ну и, конечно, самым желанным гостем был дорогой Марик, который за три года моей работы корреспондентом ТАСС приезжал в Ханой два или три раза. Снова были душевные вечерние «посиделки» с ним, встречи с вьетнамскими писателями, поездки на изящном корпунктовском «Москвиче-203» по ночному фронтовому Ханою…
В 2006 году, еще при жизни Марика, в издательстве Московской академии экономики и права под названием «Это незабываемое слово „Льенсо“» вышла в свет книга воспоминаний советских журналистов, гражданских специалистов, дипломатов, которые в годы войны трудились во Вьетнаме. Среди них есть и мои воспоминания, в которых я рассказал не только о вьетнамских героях, о боевых и трудовых буднях корреспондента ТАСС, но и о тех советских друзьях и коллегах, с которыми вместе довелось прожить этот незабываемый отрезок жизненного пути. Хотел бы воспроизвести здесь с некоторыми сокращениями краткий раздел, который я посвятил своему учителю и другу, незабвенному Марику: «Мариан Ткачёв… Один из лучших специалистов по вьетнамской литературе, непревзойденный переводчик произведений вьетнамских писателей. Помню, как на первых курсах института мы наслаждались его переводами известных произведений вьетнамских авторов… Представители старшего поколения вьетнамских писателей относились к нему с нескрываемым обожанием. Благодаря Марианну, я не раз бывал в гостях у Нгуен Туана, познакомился со многими другими вьетнамскими писателями – Данг Тхай Маем, Нам Као, Нгуен Динь Тхи… Мариан – человек с тонким чувством юмора, любитель шуток и розыгрышей, поэтому каждая встреча с ним в военном Ханое неизменно поднимала настроение, становилась для меня своего рода лекарством от депрессии»…
В 1979 году московское издательство «Прогресс» приняло решение издать сборник литературных трудов Хо Ши Мина. С этой целью был создан творческий коллектив, в который вошли известные специалисты по вьетнамской литературе М. Н. Ткачёв и Н. И. Никулин, а также автор этих строк. Я стал составителем сборника, а Мариан Николаевич – редактором и автором примечаний. Благодаря ему, удалось привлечь к работе и великого Константина Симонова, с которым Марика связывали очень теплые, дружеские отношения. Имя К. Симонова хорошо известно во Вьетнаме. Еще в годы долгой войны Сопротивления вьетнамского народа против французских колонизаторов (1946–1954 гг.) его стихотворение «Жди меня» было переведено на вьетнамский язык, и это самое знаменитое стихотворение наших военных лет знали наизусть сотни тысяч вьетнамских бойцов, многие из которых по нескольку лет не виделись со своими женами и невестами. К. Симонов написал для сборника литературных произведений Хо Ши Мина вступительную статью, которую он начал душевными словами, очень точно отразившими глубинную сущность характера вождя вьетнамского народа: «В самом облике Хо Ши Мина было нечто неповторимо поэтическое».
Мы работали над сборником несколько месяцев, и я получил огромное удовольствие от совместной работы с Марианом Николаевичем. Я и сам уже довольно много знал о национальных особенностях и тонкостях древней вьетнамской истории, обычаях и традициях, древнекитайских реминисценциях во вьетнамской классической литературе и фольклоре. Но то, какие познания демонстрировал Марик, было просто невероятно. Зачастую сходу, не прибегая к источникам или словарям, он набрасывал ремарки, что «дракон и феникс считались в древнем Вьетнаме символами государя и государыни», что «в старину ночное время суток во Вьетнаме делилось на пять страж», что «казао – это народные стихи, читаемые нараспев», что-то похожее на наши частушки, что «основатели первого древнего вьетнамского государства Хунг Выонги вели, по преданию, свой род от Божественного земледельца Тхан Нонга» и еще многое в том же духе.
В 1979 году книга «Хо Ши Мин. Избранное» вышла тиражом 50 тысяч экземпляров. Основное ее содержание составил «Тюремный дневник» – около сотни стихотворений, которые Хо Ши Мин написал на ханване – древнекитайском литературном языке, когда он в 1942–1943 гг. томился в чанкайшистской тюрьме, а также десятки коротких рассказов, очерков, памфлетов, написанных им на французском и вьетнамском языках. Книга получила высокую оценку вьетнамских друзей, но особенно советских читателей, которые впервые для себя узнали вьетнамского революционного и политического деятеля Хо Ши Мина совершенно с неожиданной стороны.
…Последний раз я общался с Мариком за два месяца до его кончины. Будучи уже тяжело больным, он, узнав о том, что я собираюсь в Ханой, несколько раз звонил мне, чтобы передать со мной какую-то редкую книгу своему любимцу Кы, которого он считал своим названным сыном. Конечно, я выполнил его просьбу и привез письмо от профессора Кы, который сегодня является во Вьетнаме лучшим специалистом по русской литературе. В городе Хошимине – бывшем Сайгоне я встретился с другим учеником Марика – Хыонгом, который сейчас возглавляет молодежный литературный журнал.
Мог ли я тогда думать, что в последний раз выполняю просьбу незабвенного нашего Марика? Он ушел от нас навсегда, но остались его ученики, его прекрасные книги – живое и материальное свидетельство того, что он прожил прекрасную жизнь и навечно оставил свое славное имя в истории российско-вьетнамских отношений, которые были в советском прошлом, да, по сути, остаются и сегодня, подлинно братскими отношениями двух народов, духовно близких друг другу.
Москва, 2007 г.
Доброе имя
Сергей Афонин:
Мариан Николаевич прожил не одну, а сотни и сотни других жизней – вместе с литературными персонажами. Он пропускал их сквозь свою душу и сердце. В его блестящем переводе миллионы читателей смогли познать многострадальную, но славную судьбу вьетнамского народа. Вследствие его титанического труда многие вьетнамские писатели увидели благодарный свет на нашей части планеты.
Познакомились мы с ним в далеком 1956 году. Мариан Николаевич преподавал вьетнамскую литературу в Институте восточных языков при МГУ. Невысокого роста, смуглое лицо, выразительные глаза, мягкий голос, застенчивая улыбка, немного странная прическа… Он был ненамного старше нас, и мы, студенты вьетнамской группы, называли его между собой просто Марик.
Его оригинальный метод преподавания пришелся нам по вкусу. Свои лекции он зачастую проводил в институтском буфете. Пирожок с повидлом стоил 5 копеек. Каждый покупал сколько мог. Запивали чаем. Марик обладал тончайшим чувством юмора. Однажды я чуть не подавился от смеха, и он ласково стучал меня по спине.
Ткачёв был несравненным рассказчиком. Знакомил нас с классиками и современной вьетнамской литературой. И не только. Он, кажется, перекопал самые интересные пласты мировой литературы, и, слушая его, мы переносились в разные страны и эпохи.
Эрудиция нашего преподавателя потрясала. Глубокий ум, душевность, скромность, неожиданные ассоциации, умение слушать собеседника – все в нем покоряло.
Ещё одна важная черта характера Марика открылась мне уже во Вьетнаме, где в годы войны я работал корреспондентом ТАСС и газеты «Комсомольская правда». Это – смелость и мужество моего старшего товарища.
Американцы яростно бомбили города и деревни. Мариан Николаевич не раз приезжал в ту суровую пору во Вьетнам и, как говорится, тут же рвался в бой. Как-то спросил его: «А где ваша каска?» На что был ответ: «Предпочитаю фетровую шляпу». О своих впечатлениях о сражающейся стране он рассказывал ярко и образно.
Его любили и любят в нашей стране, во Вьетнаме да и в других частях света. Авторитет Мариана Ткачёва – высокий и заслуженный. Это достойная награда за его литературный и человеческий подвиг.
У него остались многие близкие друзья, в том числе Кы, бывший воспитанник московского интерната для вьетнамских сирот, к которому он относился как к родному сыну. В дальнейшем Фам Винь Кы, прекрасный знаток и переводчик русской литературы, стал знаменитым профессором.
Ткачёв был всесторонне развитой личностью. Увлекался не только литературой, он – автор ряда превосходных книг, глубоко интересовался музыкой, живописью, театром. Страстно болел за футбольную команду «Черноморец» из родной Одессы. Славился азартной игрой в карты. Любил дарить книги.
За полвека я виделся с Мариком множество раз, и каждый раз мы по-дружески обнимались.
В сентябре 2006 года мы встретились на приёме, устроенном посольством СРВ в Москве по случаю Дня независимости Вьетнама. Мариан Николаевич выглядел несколько утомленным, но все же шутил в своей неподражаемой манере.
Пригласил меня с Евгением Кобелевым к себе в гости. Тогда возникло какое-то странное предчувствие, и на его лице, как мне показалось, отразилась печать неизбывной печали.
По ряду причин в гости мы к нему не успели, но мне хотелось пообщаться с Мариком хотя бы по телефону.
Трубку взяла его жена Инна:
– Как себя чувствует Мариан Николаевич?
– В общем, ничего, сейчас он с вами поговорит…
Состоялся непродолжительный, но очень душевный разговор. Я прочитал Мариану Николаевичу написанное накануне четверостишие:
Вы вкладываете всего себя В каждое слово. В каждую точку. Уважая Вас и любя, Говорю: Вы – гений! Точно.– Сережа, вы меня переоцениваете, – произнёс он.
– Это от чистого сердца, – ответил я.
После небольшой паузы он тихо промолвил:
– Спасибо…
Это был наш последний разговор.
Москва, 2006 г.
Пара страниц про Мариана Ткачёва
Александр Минеев:
Кажется, это был 1967 год. Преподаватель истории Индокитая в Институте восточных языков при МГУ Дега Деопик на своем занятии объявил:
– Со следующей недели у вас будет спецкурс Мариана Ткачёва.
– Он что, приехал?
Я еще плохо знал имена отечественных вьетнамистов и перепутал Ткачева с правдистом Иваном Щедровым, который в главной советской газете блистал репортажами с вьетнамской войны.
– Для начала ему неплохо было бы еще уехать, – съязвил мэтр вьетнамистики Деопик.
Не помню, как назывался спецкурс. Его можно было назвать культурологией Вьетнама, потому что предметом была далеко не только литература.
В аудиторию, где сидели семеро студентов, вошел невысокий брюнет с длинными, как у художника, волосами. Его отличала по-интеллигентски ненавязчивая манера доводить информацию и собственные мысли.
В рассуждениях о вьетнамских литературных источниках он вдруг проводил сравнения с португальскими хрониками, рассказывал одесскую байку, а потом совершал экскурс в древнегреческую мифологию и возвращался во Вьетнам к эротической поэзии Хо Суан Хыонг…
В то время Мариан Николаевич Ткачёв, московский интеллигент и знаток вьетнамской литературы, подобно Деопику, изучал предмет профессии издалека. Как астрономы изучают далекие галактики. Возможности поездок во Вьетнам у него были чуть выше нуля, во всяком случае несравнимо меньше, чем у правдиста.
Это сейчас – купил билет, и лети себе хоть во Вьетнам, хоть в Таиланд. А в то историческое время… Не к ночи будет помянуто.
Тот же Деопик, читая лекцию о раскопках древневьетнамского поселения на горе До, мог рекомендовать нам единственным пособием книжку куда менее известного в профессиональном кругу академического СМС (тогда это расшифровывалось как «старший научный сотрудник»). Когда решался вопрос о командировке на раскопки, у члена райкома имярек было гораздо больше шансов, чем у беспартийного Деопика, родившегося к тому же со странной фамилией.
В том же положении был Ткачёв. Он познавал Вьетнам по книжкам и общаясь с вьетнамскими писателями, некоторые из которых стали его друзьями. Вряд ли у кого еще были такие широкие и тесные связи в культурной среде этой страны. Иностранной комиссии Союза писателей СССР выделялись неплохие деньги на приглашение в Москву литераторов из героического Вьетнама.
Казалось, о Вьетнаме советские люди знали больше, чем о любой другой зарубежной стране. Он был для них гораздо больше, чем просто страна: символ непобедимости социализма, антиамериканское знамя, объект официальной дружбы. Кладезь для пропаганды. Звонко, пафосно, кондово. Трафареты, шаблоны… Страшно вспомнить, сколько политической макулатуры издано тогда о Вьетнаме. Благодатная золотая жила для графоманов и карьеристов.
Ткачев рассказывал о другом Вьетнаме, который существовал параллельно пропагандистскому образу. Сочные спецкурсы по литературе, которые он вел попеременно с Николаем Ивановичем Никулиным, составили азы наших познаний о культуре и менталитете вьетнамцев. Курсовую я писал не по репортажам в «Правде», а по «Сказкам и легендам Вьетнама» в ткачёвском переводе.
В 72-м меня взяли на работу в ТАСС. Не по распределению, а из аспирантуры по рекомендации одного из бывших учеников Ткачева. Этот бывший ученик после недолгой журналистской карьеры во Вьетнаме поднялся до Старой площади и имел влияние. Но, как оказалось, не настолько сильное, чтобы продвинуть Ткачёва.
Да, да! Скоро я узнал, что до меня на место корреспондента в Ханое он рекомендовал Ткачёва и Мариан Николаевич даже приходил на собеседование в кадры на Тверской бульвар. Сам Ткачёв мне об этом никогда не рассказывал. Стеснялся, что ли…
Начальник кадров, потомок казаков, розовощекий и энергичный инвалид Отечественной войны, подписывая бумаги о моем приеме на работу и с гордостью вспоминая «своего» человека из ЦК, сокрушался, что, мол, и тот иногда делает глупости.
– Присылал тут какого-то еврея. Чем думал? – возмущался он.
На должность советского журналиста-международника Ткачёв не подошел…
Но уже в начале 80-х поездки во Вьетнам, Лаос и Камбоджу по линии Союза писателей перестали быть чем-то из области мечты, и Ткачёв не раз был у меня в гостях в Ханое.
В старый колониальный особняк на улице Као Ба Куат, где в моем ведении было отделение ТАСС во Вьетнаме, на рюмку чая с внешпосылторговскими деликатесами наведывались вьетнамские писатели, в том числе те, кого ныне на родине называют классиками. Приходить туда было не так официально, как в посольство СССР. Бывало и без звонка…
Рождество перед камином, в котором белесо дымили не очень сухие поленья тропических пород, запомнилось хотя бы потому что погода выдалась не по сезону теплой, пришлось распахнуть стеклянные двери на балкон. Были слышны далекий колокольный звон с собора Св. Иосифа и цоканье гекконов во дворе.
По случаю приезда Ткачёва и Никулина в гости пришел классик Нгуен Туан, по-вьетнамски маленький и щуплый, с длинными седыми волосами вокруг широкой лысины, ироничной улыбкой и тлеющей писательской трубкой.
Заполночь разговор зашел о творческой профессии и непростом положении писателя в государственных координатах. Туан вспомнил случай из своей молодости, когда его за какую-то вольность забрали в полицию. Начальник участка, француз, вел допрос, а нижний чин, вьетнамец, записывал.
«Профессия? – Литератор. – Как? – Литератор. – Пиши: лицо без определенных занятий».
Ткачёв заметил, что в этом смысле колониальный Индокитай не одинок, и как бы невзначай перевел разговор на поэзию Иосифа Бродского.
Каждый раз, когда он приезжал в Ханой (нечасто), я не мог с ним наговориться. Вернее, слушал его. За столом в тассовском особняке или на открытой веранде отеля «Тханглой» с видом на Западное озеро, куда его обычно селил вьетнамский Союз писателей.
Говорили о научной фантастике, и он рассказывал о своих друзьях, братьях Стругацких. Рассказывал о друге, сатирике Аркадии Арканове, и о том, что сам хотел бы писать смешные рассказы.
Меня, ловившего в отпуске в Москве шанс просто попасть в хороший театр, сразило его признание, что приходил в Большой на полчаса послушать, как конкретный солист возьмет вот ту самую ноту…
– Как человек скромный, я живу не на Большой, а на Малой Грузинской, – подчеркивал он с почти серьезным видом, записывая на бумажке свой московский адрес, где он и Инна ждали меня в гости…
Броссель, 2013 г.
Марик, Мариан Николаевич
Георгий Садовников:
На дворе ли, на улице 1962-й год, осенью этого года в журнале «Юность» готовят к публикации мою повесть «Суета сует», и меня, обитавшего в ту пору в Краснодаре, вызвали в Москву для работы над версткой. В этот час, о котором сейчас пойдет речь, я после встречи с редактором обедаю в Дубовом зале Центрального дома литераторов вместе со своими новыми друзьями Аксеновым и Гладилиным. Мне здесь многое чрезвычайно любопытно, начиная с Васи и Толи – кумиров тогдашней читающей молодежи, да и не только молодежи. Среди всего интересного мое внимание привлекают трое мужчин, вошедших в зал со стороны улицы Воровского, ныне Поварской. Двое из них несомненно родом из Юго-Восточной Азии, а коль они явились в Дом литераторов, можно было предположить, что эти люди имеют отношение к нашему литературному делу – писатели из дальних восточных стран. Экзотика, так сказать! Но уж и вовсе экзотичным мне показался их европейский спутник – судя по всему, мой ровесник, словом молодой человек. Он был в тройке старомодного покроя, в которой выделялся жилет с множеством мелких перламутровых пуговиц. Теперь я точно не помню и за допущение не ручаюсь, но именно теперь мне видится и тонкая металлическая цепочка, бегущая по жилету в кармашек, где тикают часы-брегет. А между тем, как говорится, в стране бушевала оттепельная расхристанность во внешнем виде, молодежь, да и кое-кто возрастом постарше, особенно в творческой среде, освобождались от унылых серо-черно-коричневых пиджаков, своего рода униформы сталинской эпохи, облачались в толстые свитера, легкие куртки, футболки, отпускали бороды и буйные волосы. А вместо официозных портфелей с плеч свисали сумки, чаще всего с надписью «Аэрофлот», словом, все как бы находились в полете. Метаморфоза была по-человечески легко объяснима. Однако, идеологи, боящиеся даже легкого, неподконтрольного им вдоха и выдоха, видели в новой моде, а скорее в отсутствии таковой, угрозу существующему режиму. Когда мои застольники Вася и Толя однажды явились в свитерах на встречу с читателями то ли в Туле, то ли в другом областном граде, лидер советского комсомола отметил этот факт как своего рода вызов идеологическим порядкам. А тут не просто минувшая эпоха, тройка экзотичного незнакомца скорее намекала на конец XIX века, но если и нашего, то его Серебряного начала. Его темные волосы тоже не соответствовали стрижке под «полубокс», но в отличие от диких, предоставленных самим себе косм, были аккуратно уложены, напоминая портреты Гоголя и других великих той поры. И в тонких чертах его лица было нечто этакое, не совсем современное. Будучи склонным к фантазиям, я бы вполне мог приплести к этому случаю и машину времени. Но я всего лишь поинтересовался у своих друзей: кто, мол, он, этот чудик? Ответ был таков: «Это Марик Ткачёв из Иностранной комиссии, занимается Вьетнамом, а те, кто с ним, наверняка вьетнамцы».
А вскоре я переехал в Москву и теперь бывал в Доме литераторов едва ли ни каждый вечер, сюда, в Дубовый и Пестрый залы стекалась едва ли не вся литературная молодежь Москвы. Писательский народ комплектовался за столиками по дружеским отношениям и литературным пристрастиям, я обычно тусовался, хотя тогда этот термин, если уже и входил в обиход, но еще не имел массового применения, словом, в основном общался с коллегами, группировавшимися вокруг журнала «Юность» и получившими на короткое время наименование «молодой литературы» и «исповедальной прозы». Однако в колоброжении цедеэловских вечеров компании тасовались между собой, точно колода карт, мешались и делились на новые компании, и в ходе таких брожений мы с Мариком однажды оказались за одним столом, познакомились и с этого дня началось наше доброе знакомство. Уже при начальном общении почти моментально обнаружилось, что под маской старомодной личности, хотел написать скрывается, да Марик и не думал маскироваться, бытует современнейший молодой человек, веселый, да не просто веселый, из тех, кому покажи палец, а наделенный тонким чувством юмора, более того, выяснилось, что Ткачёв – чистой воды одессит!
А для меня Одесса была особым местом на Земле. И дело не только в Бабеле, Ильфе с Петровым и других великих, выращенных этим городом. С Одессой связано полтора года моей жизни, и счастливых, и трагичных, изменивших мою судьбу. В юности после окончания Суворовского училища меня отправили в Одессу, а именно на Четвертую станцию, что на пути к Большому фонтану, если ехать знаменитым одесским трамваем, тогда еще открытые южные вагоны бегали по одесским же рельсам. Там, на Четвертой станции находилось учебное заведение, никак не вязавшееся, на мой, возможно ошибочный взгляд, с духом Одессы, а именно Краснознаменное пехотное училище имени Ворошилова. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что нахождение этого училища в столь самобытном городе не прошло для него бесследно, город наложил на, казалось бы столь не вяжущееся с юмором заведение свою фирменную печать. Мне думается, будто именно наше училище дало идеи и краски для самых остроумных анекдотов об армейских нравах. Так и тянет далее написать: «Помню, однажды наш командир батальона…» Но это уже другие истории. А пока я учился в городе, где в это время жил, заканчивал школу Марик, по воскресеньям и праздничным дням, отпущенный в увольнение, гулял по Дерибасовской, Французскому бульвару, по которым, возможно, в эти же часы проходил Марик и, возможно, наши пути пересекались в каких-то городских точках.
На первых порах нашего общения Одесса и стала одной из основных обсуждаемых тем. Марик рассказывал о забавных сценах, главными действующими персонажами коих были его Боря Бирбраир, Саша Калина и, разумеется, он сам. Например, в одной из них, они, уже подзаматеревшие, приехавшие на отдых в родной город, не то развлекаясь на пляже, не то решив подзаработать, уговорили ученого мужа Бориса написать работу по физике для абитуриента, поступающего в местный университет. Когда абитуриент предъявил плод Бориного творчества, на кафедре были потрясены, абитуриент был объявлен гением. Каков был финал, я, к сожалению, не помню. Что-то тоже очень смешное. Марик был превосходным рассказчиком. И я буду годами подталкивать Марика к писанию прозы. Но он только через многие годы напишет и издаст небольшой сборник рассказов «Всеобщий порыв смеха».
Другим героем его повествований был одесский футбол, и тот, что был связан со всесоюзным чемпионатом, я имею в виду знаменитый «Черноморец», и простой, где играли городские команды. Первенство Одессы, как говорят сами одесситы, это что-то! Одну из таких команд я наблюдал очень близко, ближе некуда, почти в упор. Это была наша училищная команда, в которой играли недавние футболисты одного из местных заводов. Уж не знаю, чем прельстил этих парней начальник нашего училища – фанат футбола, возможно блестящей военной карьерой, но многие из них поступили в заведение на Четвертой станции. Я бывал на матчах нашей команды, слышал незабываемые реплики штатских зрителей. «Паралитик тебе в ноги!» – кричали они училищному футболисту, когда у того в ногах оказывался мяч. Если наши проигрывали, а такое случалось частенько, их отвозили в степь и бедолаги саперными лопатками рыли траншею, как говорят в армейских анекдотах, от «забора до обеда». Потом приезжал генерал и вопрошал: «Ну, как, орлы, задерем таких-то?» «Задерем», – уныло обещали футболисты. А однажды я наблюдал, как гоняют мяч учащиеся духовной семинарии, было на что посмотреть. Ну если даже я набрался кое-каких впечатлений, то что же говорить о Марике, коренном одессите? По сравнению со мной он был богат, точно Крез. Сойдясь во мнении насчет одесского городского футбола, мы решили написать о нем развеселый и вместе с тем серьезный очерк. И наш замысел безусловно сулил интересные перспективы. Да и что может быть лучше работы, когда она связана с удовольствием. К тому же нашей работой заинтересовался очень популярный в те годы журнал «Юность», изъявил желание командировать нас в Одессу. Однако не вышло, что-то нам помешало, то ли я заболел, то ли Марик улетел во Вьетнам, – такова была его работа, а скорее вмешалось и то и другое, и наша затея отошла в разряд прекрасных неосуществленных идей, о которых потом вспоминаешь со светлой грустью и говоришь себе: а как было бы замечательно!
В 1966 году мы с Мариком и вовсе стали соседями, получив квартиры в доме, построенном Союзом писателей на улице Малой Грузинской. Это была двенадцатиэтажная башня, то есть она стоит и по сей день, и я по сей день в ней живу. В доме один подъезд – деталь для общения весьма существенная, – поднялся на двенадцатый прямо в домашних шлепанцах, и я у Марика. Спустился на десятый, и он у меня.
В нашем доме было много таких писателей, у кого до сих пор не было своего угла. Поэтому в первые дни и недели на всех этажах не затихали праздники, совместно отмечали и новоселье, и чьи-то дни рождения, и другие семейные даты, ходили из квартиры в квартиру. Когда же новоселы угомонились и в доме началась обычная рутинная жизнь, мы с Мариком обнаружили на своих балконах несметное число пустых бутылок – в те годы это был капитал. При виде этого богатства у нас с Мариком родилась идея: устроить на сданные бутылки как бы финальную пирушку, при этом не потратив ни копейки иных денег. К нам присоединился Георгий Семенов, живший тогда на этаже девятом, у него было свое скопище бутылок. Сдав свой товар, мы втроем с солидной вырученной суммой отправились на Тишинский рынок и закупили все, что нужно. К этому дню, так уж совпало, я приобрел длинный раздвижной стол, на нем-то все и состоялось. Разумеется, были приглашены гости, они в своих тостах оценили нашу практичность.
Кстати о ней, нашей практичности. Лично я всю жизнь был безнадежно непрактичен, но на сей раз обо мне позаботились люди практичные, когда я получил просмотровый ордер, они дали совет: сейчас же напиши заявление, проси установить телефон и, не откладывая, отнеси на телефонный узел, не получится, ничего не потеряешь, только лист бумаги. Я внял, написал и отнес еще до заселения в квартиру. Получилось! Вскоре после вселения обзавелся телефоном. У Марика не было таких советчиков, и он надолго остался без оного. И эта деталь, казалось. будто бы незначительная, но на самом деле, для нашего общения весьма важная, – мой телефонный аппарат какой-то срок обслуживал и Марика с его тогдашней женой, а заодно и его гостей, когда у тех возникала надобность в неотложном звонке или просто следовало вызвать такси. При необходимости что-то передать Марику тоже звонили мне. Эта ситуация порой вызывала путаницу, видимо, так родилось понятие об «испорченном телефоне», а порой и забавные моменты. Об одном из них я расскажу несколько позже.
Поднимаясь к Ткачёвым, я нередко заставал у них гостей. Так, однажды в доме Ткачёвых, назовем так их квартиру, состоящую из двух десятиметровых комнатушек, я увидел тех, кого до сих пор невольно воспринимал только лишь как литературных персонажей из устных рассказов Марика. Однако они оказались самыми натуральными, как говорят, из плоти и крови, – Борисом Бирбраиром и Александром Калиной. Они тотчас стали для меня Сашей и Борей. Саша уже давно обитал в Москве, слыл видным специалистом в своем, кажется, холодильном деле, был импульсивным, надеюсь, таков он и по сию пору, и немного чудаковатым, как и полагалось земляку и другу Марика. Так он, соответствуя образу рассеянного ученого, отправился на конференцию, проходившую в Якутске, в легком пальто, более напоминающем плащ, а морозы там, в Якутске, стояли под сорок градусов. Если сложить в мозаику то, что я слышал от него самого, и то, что говорили о нем, то получится грустная картина из жизни Калины в нашей стране тех лет: он фонтанировал ценными техническими идеями, но в его отечестве они были или неосуществимы, или попросту не нужны, и тогда Саша увез их в Соединенные Штаты. Там он, работая в одной из фирм в Хьюстоне, будет поражать американцев, перешедших давным-давно на электронику, виртуозным владением архаичной логарифмической линейкой, собирая на свои «сеансы» едва ли ни всех сотрудников фирмы. Потом Саша откроет в Калифорнии свою крупную международную фирму, а с началом перестройки им будут восхищаться наши газеты. Неповторим в этой триаде и Борис Бирбраир, – видный физик-теоретик, ведущий в ту пору совместные работы с академиками Мигдалом и Александровым. Он наезжал к Марику из Гатчины, где и по сей день находится научно-исследовательский институт, останавливался у Ткачёвых. Острый ум у Бори сочетался с потрясающим простодушием. Он явно полагал, что все остальные разбираются в его науке так же основательно, как и он сам, только посвятили жизнь иному роду деятельности. Помню, как-то на одном из застолий у Марика наши места оказались рядом. Мы вместе со всеми чокались, пили, закусывали и весело болтали, и вдруг Борис, чем-то задетый, повернувшись ко мне, живо спросил: «Как ты думаешь? А что, если…» Он выпалил что-то совершенно непонятное; я так и сказал: мол, я ничего не понял. Он не поверил: «Ну как же?» – и, выхватив из кармана авторучку, начал писать какие-то формулы на бумажной салфетке, прорывая ее мягкую плоть. «Вот видишь», – он торжествовал. Но в это время меня отвлекли, чем я и воспользовался. И Борис отстал, поняв, что не вовремя меня отвлек от удовольствий. Причем он даже не сомневался: я понял и с ним согласен. Вот только не поделился квалифицированным советом. В другой раз он дверным звонком поднял нас с женой в пять утра. Когда мы, вообразив бог знает что, открыли дверь, Боря смущенно произнес: «Извините…» «Все-таки понимает, что испортил нам сон», – подумал я с некоторым удовлетворением. «…за то, что я пришел в тапочках Марика», – невинно закончил непрошеный гость. Вообще-то он был прошеным. Дело в том, что накануне он попросил разрешения позвонить по нашему телефону, пояснив: «Я должен доругаться с Мигдалом». А мы, естественно, радушно ответили: «Пожалуйста, в любое время». Как выяснилось позже, Марик сдерживал друга, который собирался проделать это еще в четыре утра. Боря удивленно объяснял: «Но ты же сам слышал, они сказали: в любое время».
В доме Марика я встречал и других друзей его одесского детства. И его московских друзей, все они, достойные, интересные люди, все же назову одного из них, Аркадия Стругацкого, которого он любил с особым чувством. И уж вовсе невозможно его представить без его родной тетки – тети Люси, которая, как я понял, была ему как бы второй матерью. Женщина с виду простоватая, она была наделена несокрушимой жизненной силой и добротой. Тетя Люся была остроумна, причем ее юмор был естественным, как дыхание. В моем представлении это был натуральнейший одесский юмор, заставлявший вспоминать Бабеля. Наверно, ей и в голову не приходило, что сказанное или написанное ее рукой остроумно. Когда футбольная команда «Черноморец» вышла в высшую лигу, она прислала Марику телеграмму, текст ее состоял из двух слов: «Ну как?» И все! Как-то в один из ее приездов у Марика сломался телевизор. Он мне позвонил (у него к этому времени завелся собственный телефонный номер) и сказал: «Тетя Люся хотела бы посмотреть телевизор. Не может ли она посмотреть у вас? Сама стесняется попросить». «Ну, разумеется, – ответил я, – Правда, сейчас показывают Олимпийские игры». Последовала пауза, видимо, Марик доводил эту информацию до тети Люси. Затем я услышал его голос: «Тогда она придет. Ты же знаешь, она любит спорт». Пришла тетя Люся, села в предложенное кресло. На экране шел забег на длинную дистанцию, на пять, а может и десять, километров. По кругу стадиона бежали мужчины в майках и трусах, бег им уже давался нелегко, некоторые тянулись далеко сзади, но все они упорно продолжали свое занятие. Тетя Люся смотрела, смотрела и потом, вздохнув, задумчиво произнесла: «И кому это нужно?» После бега телевидение переключилось на бокс. На ринге сражались спортсмены легкого веса, в отличие от тяжеловесов, они наскакивали точно молодые петухи и энергично мутузили друг друга. «Бедные дети», – сказала тетя Люся печально и ушла к себе, на двенадцатый этаж.
Почему я так подробно рассказываю о его друзьях и близких? Да потому, что это мир, в котором он вырос и стал известным многим в Москве и Юго-Восточной Азии Марианом Николаевичем Ткачёвым. Перефразирую известное изречение: они, друзья и близкие, играли Марика, как и он сам играл их. Без них образ Марика лично для меня был бы неполным. Скажу с наивностью Бирбраира: все они, и те, кто, к прискорбию, покинул этот мир, и те, кто, к счастью, до сих пор терпит, – добрые, отзывчивые люди, верные товарищи. Таковым был и сам Марик. Я частенько пользовался его широчайшей эрудицией как своего рода справочным бюро. Случалось, он и сам не знал, что означает тот или иной термин или явление. После моего звонка проходил час, а то и два, и вдруг звонок на этот раз от Марика и он давал верный ответ. Оказывается, все это время он, чтобы тебе помочь, копался в своей обширной библиотеке или в свою очередь обзванивал знакомых специалистов.
Когда я сказал одной своей доброй знакомой, знавшей Марика еще со знаменитых 60-х, о том, что его не стало, она с горечью произнесла: «Уходят последние интеллигенты». Возможно, она несколько преувеличила беду, интеллигентные люди, по счастью, живут среди нас и по сей день, хотя они и редки, как крупицы золота в породе. Но что верно, то верно – Мариан Николаевич Ткачёв по праву слыл истинным интеллигентом. Мариком он был только для своих близких и товарищей, остальные его уважительно, а кто и почтительно именовали Марианом Николаевичем. Я уже говорил о его завидной эрудиции, у Мариана Николаевича она сочеталась с тонким вкусом. Он был не только знатоком в литературе, это как бы предписывалось талантливому переводчику и автору собственных, увы, немногих одесских рассказов, его познания в искусстве часто выходили за рамки обычного любительства. Он был своим в театре «Эрмитаж», и не только потому, что им руководил его друг Михаил Левитин, там прислушивались к мнению Ткачёва.
Однажды он взял меня с собой на один из спектаклей. Мы с ним сидели в центре зала, перед нами был проход, и вдруг, к моему изумлению, по ходу спектакля со сцены сошел персонаж и направился в нашу сторону, он (или она, уже не помню) нес поднос, на нем стояли рюмка с водкой и блюдце с маленьким бутербродом. Это угощение предназначалось Ткачёву, Мариан Николаевич безо всякого смущения выпил и закусил. Оказывается, эта сценка была вплетена в ткань спектакля и повторялась каждый раз, когда он являлся на этот спектакль.
С ним было интересно потолковать о живописи и скульптуре, он отлично знал историю Средневековья, стало быть, вместе с ней и Возрождение. Наши телефонные разговоры нередко проходили на музыкальном фоне. Мариан Николаевич собрал обширную фонотеку, и я, позвонив, заставал его за эстетическим пиршеством – он слушал Моцарта, Бетховена, Шопена и других любимых классиков. Мы говорили, а в его комнате приглушенно звучали они, великие. Помню его рассуждения о сонате Баха для клавесина, названной автором так: «На отъезд возлюбленного брата». Беременная героиня моего романа готовила своих близнецов, пока еще обитающих в ее чреве, к предстоящей духовной жизни, читала им стихи, знакомила с музыкальной классикой, привлекая их внимание к особенностям произведений. И однажды она включила кассету с этой сонатой. Не знаю, почему я выбрал именно Баха и именно его «На отъезд…», к тому же эту сонату в последний раз я слушал давно и практически забыл, и о вразумительном комментарии не могло быть и речи. И все же, подчиняясь неведомой воле, водящей рукой сочинителя, я уперся и оставил сонату. Оставить-то оставил, но как ее комментировать, если ничего не помнишь? И я позвонил Мариану Николаевичу. Он-то помнил и рассказал, где и как звучит клавесин, в общем, растолковал самым подробнейшим образом.
Размышляя о Мариане Николаевиче Ткачёве, о его интересах и привязанностях, нельзя обойти стороной его Вьетнам. Возможно, в первое время это занятие было всего лишь его профессией, но, думаю, вскоре Вьетнам стал для него не только источником и местом приложения знаний, а его большой любовью. Ткачёв был больше чем служащим, занимающимся связями с писателями Вьетнама, больше чем их блистательным переводчиком, он был верным и заботливым другом для своих авторов. Его дом стал им родным домом. Их друзьями становились и друзья Ткачёва. Так я быстро подружился с Нгуеном Туаном, То Хоаем, Нгуеном Динь Тхи, Нгуеном Хонгом. Наибольшую симпатию у нас вызвал старик Туан, так мы называли Нгуена Туана, замечательный писатель и мудрый человек. Помню, как-то подвернулась оказия в Ханой, а может, туда собирался сам Ткачёв; его московские друзья, по инициативе Алексея Симонова, скинулись и купили отрез на костюм для старика Туана. Большинство советских писателей в те годы, исключая секретарей Союза, жило не ахти, но наши вьетнамские коллеги были бедней нас на целый порядок. Когда они наезжали в Москву, Ткачёв «выбивал» им у своего начальства денежную помощь и сносные гостиничные номера, искал для них магазины, где можно было купить что-то дифицитное и по относительно недорогой цене.
Заходя к нему, и в нашем доме, и в квартиры на Звенигородском шоссе и возле метро «Аэропорт», куда его перемещали зигзаги судьбы, я иногда у него заставал молодых вьетнамских ребят. Это были студенты Литературного института, там Ткачёв вел для них семинары. Как известно, жизнь студента нелегка и на родной земле, а что уж говорить о приезжих из другой, к тому же далеко не богатой страны. Ткачёв старался их опекать, покупал необходимые книги и, как я полагаю, приглашал к себе, чтобы помимо учебных целей просто-напросто накормить.
К моему общению с вьетнамскими коллегами Ткачёв подключил и моего кота. Происходило это еще в нашем доме на Малой Грузинской. У меня тогда жил примечательный черно-белый кот Василий, можно сказать, кот-полиглот, знавший слово «мясо» на трех языках: итальянском, французском и, уже никуда не денешься, русском. Кот не был равнодушен к спорту, смотрел по телевизору футбол и хоккей, а повышенный интерес у него вызывала сборная Финляндии, а если точно, ее хоккеист по фамилии Линамля, в конце слышалось нечто похожее на упоминание о мясе – когда комментатор произносил фамилию спортсмена, Василий, сидя перед телевизором, вскрикивал: мя-я! При строгой внешности, – его густые баки вызывали воспоминания о суровых адмиралах парусного флота, – Василий был котом чрезвычайно компанейским, когда ко мне приходили гости, он покидал излюбленное кресло, приходил к нам на кухню и усаживался на свободный стул. С Ткачёвым у него были особые приятельские отношения. Иногда Мариан Николаевич, сам гурман, приносил ему изысканный гостинец – сыррокфор, которому кот отдавал предпочтение даже перед мясом. Все эти достоинства Василия, обеспечили ему известность в некоторых литературных кругах. Производил он впечатление и на наших вьетнамских друзей, которых Ткачёв не раз приводил ко мне. И те, по возвращении на родину, рассказывали о своем знакомстве с московским котом Василием, что вызвало весьма забавные последствия. В один прекрасный день, а иначе его не назовешь, мне позвонили из Иностранной комиссии Союза писателей СССР, и звонившая дама (Ткачёв в те дни был в отъезде) обратилась с просьбой, заставившей меня поначалу онеметь: «К нам приехала делегация вьетнамских писателей, и те попросили включить в программу их пребывания в нашей стране посещение кота по кличке Василий». Не буду ли я против, спросила дама. Я взял на себя ответственность и от имени кота согласился принять делегацию. К нам приехали трое или четверо незнакомых мне вьетнамцев, они прошли в квартиру, к ним в свою очередь вышел из комнаты кот, он всегда встречал гостей, проверял, что за люди. Некоторое время Василий и писатели разглядывали друг друга, гости с почтением, кот со строгим любопытством. Я пригласил вьетнамских коллег к столу, но они, выполнив свою задачу, уехали – спешили на какое-то, уже не помню какое, но несомненно официальное мероприятие. А некоторое время спустя, Ткачёв расскажет, что То Хоай написал повесть для детей, героем которой стал мой кот Василий, и предложит ее совместно перевести для наших, русских, ребят. Конечно, он мог это сделать сам, но, видимо, полагал, что такая работа будет мне приятна. Я согласился, но и эта попытка нашего творческого сотрудничества почему-то осталась неосуществленной. А жаль!
Сейчас понятие «сражающийся Вьетнам» ушло из сознания многих наших соотечественников. Теперь на слуху вьетнамские гастарбайтеры, торговцы, общежития, где они обитают, и связанные с ними скандалы. Но тогда шла война северных вьетнамцев с американцами и поездка в сражающийся Вьетнам считалась почетной, проявлением солидарности и патриотизма, а у кое-кого из писателей вызывала чисто профессиональный интерес. И в Ханой отправлялись делегация за делегацией, как правило, состоящие из именитых литераторов. И почти каждую по долгу своей службы сопровождал Мариан Николаевич Ткачёв. Некоторые из этих поездок видимо носили парадный характер, а иногда и были рисковыми. Ткачёв не раз попадал под обстрел американских самолетов и бомбящих, ведущих охоту на машины, а то и просто идущих в поле людей.
Вьетнамские крестьяне, не имея возможности обзавестись стальной каской для защиты от пуль и бомбовых осколков, плели из соломы шлемы толщиной в два пальца, а может, и в три. Ткачёв подарил мне такой крестьянский шлем. Тот до сих пор висит на стене, рядом с моим письменным столом. И сейчас, когда я пишу эти строки он у меня перед глазами. Мариан Николаевич всегда возвращался из Вьетнама с обилием удивительных вещей: игрушек, старинных и современных, предметами давних эпох, рисунками вьетнамских мастеров, способными вместиться в сумку или чемодан. Его квартира стала своего рода музеем вьетнамского быта и культуры.
Как-то на одной из привезенных им фотографий я увидел вьетнамцев в светло-зеленых пробковых шлемах. В моей памяти ожила мечта далекого детства – мне, мальчишке, начитавшемуся романов Жюля Верна и иных приключенческих книг, страсть как хотелось пощеголять вот в таком шлеме. Я поделился этими воспоминаниями с Ткачёвым и в ответ услышал: «Будет тебе пробковый шлем, но при условии, если ты в нем пройдешь по ЦДЛ». Я, не задумываясь, поклялся так и сделать, только бы завладеть мечтой своего детства. Больше мы с Мариком к нашему уговору не возвращались, казалось, он так и останется в разряде шуток, мало ли мы за время нашей многолетней дружбы шутили и вообще трепались. Но нет! Из следующей своей поездки он привез замечательный светло-зеленый пробковый шлем. В ЦДЛ мы отправились вместе. По улице я шел с открытой головой, подарок пока ждал своего часа в моей сумке. Мы болтали о чем-то другом, не связаным с моим обязательством, но на тонком лице Марика читалось: он предвкушает удовольствие. У входа в Дом литераторов меня поджидали зрители – несколько наших общих знакомых. Но не мог же Ткачёв позволить себе наслаждаться тем, что сейчас должно произойти, в одиночку, он щедро поделился с товарищами и те пришли. Я достал из сумки шлем, надел его на голову, по требованию публики, пропустил под подбородком ремешок, вошел в ЦДЛ и прошествовал по холлу и залам – Пестрому и Дубовому, словно персонаж Жюля Верна. Но эффект был обратный, не учтенный Мариком и сопровождавшей меня публикой. Мне завидовали! Спрашивали: где достал? И за сколько?
А вскоре я и сам отправился во Вьетнам, как писатель, имеющий с этой страной какие-то связи, и я их, можно сказать, укрепил, побывал в гостях у То Хоая, к нам в гостиницу приехал Нгуен Динь Тхи – руководитель Союза писателей Вьетнама. «Приехал», наверно, сказано слишком громко, – он прикатил на велосипеде, поразив моих спутников, привыкших воспринимать тузов такого ранга как небожителей. И велосипед при том не сверкал никелем и лаком – обычный двухколесный работяга. «Представь, наш Марков нанес кому-то визит, прибыв вот так на велосипеде», – говорили они мне возбужденно. Но я-то знал, кто такой Тхи, как мы с Мариком его называли.
Война к этому времени уже отошла в прошлое, страна стала единым Вьетнамом, перешла к мирной жизни. Наша маленькая делегация из трех человек вначале знакомилась с Ханоем, потом перебралась в Хошимин, бывший Сайгон, побывала в культурном Вунгтау, и везде, с кем бы я ни говорил, о Мариане Николаевиче Ткачёве высказывались с очень и очень большим уважением, воздавая должное его заслугам перед вьетнамской культурой. Я и до этого понимал, сколь он значителен для вьетнамцев. Но здесь его образ друга этих людей обрел, оказалось, более значительные масштабы. Его имя служило пропуском в сердца вьетнамцев, и пишущих, и вообще связанных с книгой. Ты произносил «Ткачёв» и отношение к тебе из официального, пусть и доброжелательного, превращалось в естественное дружеское, в ответ искренне улыбались.
Летом 2003-го «скорая» меня отвезла в кардиологию Боткинской больницы. Отбыв постельный режим, я стал завсегдатаем кабинетов, где подвергался тому или иному обследованию. Однажды, выйдя из такого кабинета, я увидел Ткачёва, он был в пиджаке, при галстуке, в своем обычном виде, словно пришел к нам из города, и потому удивился, спросил: «А ты что тут делаешь?» Марик спокойно пояснил: мол, он тоже здесь, в Боткинской, только в другом корпусе, а в кардиологию его привели на обследование. Чуть поодаль от него действительно стояла девушка в белом халате – медсестра. Разговор наш был короток, Ткачёва позвали в кабинет, и я так и не понял, что с ним случилось и каков именно корпус, где он лежит. Печальные подробности я узнал после того, как выписался из больницы, позвонив Инне, его жене, его ангелу-хранителю. А вскоре он оказался на операционном столе. Недолгие годы, что ему были отпущены после тяжелейшей операции, Марик прожил достойно, мужественно перенося физические мучения, доставляющие, как правило, и муки душевные. Это только на первый взгляд он вроде бы был человеком мягким и уступчивым. На самом деле он был воспитанным человеком, и деликатность его не являлась проявлением слабости. В часы испытаний у него обнаруживался сильный характер и мужество, позволю себе еще раз напомнить об этом достоинстве Марика.
Судьба нередко его подвергала большим или малым напастям, начиная с его военного детства, но однажды она засовестилась и оделила его поистине божьим даром – супругой Инной Ивановной. О ее преданности, самопожертвовании и доброте можно писать и писать. Она заслуживает своей особой истории. Ее умелые, заботливые руки выпустили в жизнь сотни и сотни маленьких человечков, и среди них было немало писательских детей и внуков. Уже издавна повелось, когда в писательской семье возникала такая ситуация, тотчас звонили Ткачёву. Для тех, кто не знает, скажу: Инна Ивановна была врачом-акушером.
Думалось, при такой надежной опоре, как жена, плюс воля самого Марика, все опасное останется позади, и жизнь наладится, пусть и с определенными ограничениями. Когда я его навещал, мы беседовали и даже выпивали, как в старые добрые времена, ну разве что теперь дозы были весьма не велики – рюмка, от силы две. И почти ни слова о болячках. Меня он, как правило, провожал квартала два. И все же это случилось. По словам Инны, он ушел от нас так же достойно, как и жил. А не прошло и полугода, Инна ушла сама, попав в автокатастрофу, в которой погибла она одна, остальные уцелели. Люди верующие говорят: она присоединилась к любимому человеку.
Октябрь 2007 года.
От ЦДЛ до Ханоя
Аркадий Арканов:
Сам я попал в ЦДЛ в 1963 году, когда стал сотрудничать с журналом «Юность» и стал ходить в ЦДЛ обедать. Марик уже был там.
Центральный дом литераторов – это было уникальное место. Есть люди прямо противоположных мне взглядов, и до сего дня противоположных, но это не значит, что мы при встрече с этим человеком начинаем орать друг на друга, как иногда бывало и в ЦДЛ. Бывает сегодня, сталкиваемся с этими людьми и вспоминаем ЦДЛ: совсем недавно человек, не являющийся моим приятелем, Саша Проханов, в одной из телевизионных передач в паузе мне говорит: «Ты знаешь, и для тебя, и для меня ЦДЛ был островом свободы». И это, наверное, так, своеобразным островом свободы во-первых, и во-вторых все-таки какого-то избранного, в хорошем смысле слова, общества как с той, так и с другой стороны.
В самое советское время, когда существовал Союз писателей СССР, был департамент при Союзе, который назывался Иностранной комиссией. И председателем этой комиссии мог быть человек разбирающийся в этом деле, но с определенными партийными установками. А сотрудники Иностранной комиссии были без исключения все абсолютно рафинированные, абсолютно образованные, абсолютно интеллигентные, знающие толк и четко выполнявшие свое дело, и люди там были поразительно интересные. Дружба моя со многими людьми начиналась там. И вот к таким людям принадлежал Марик. Я там познакомился и очень близко дружил с ныне покойным Владом Чесноковым, Миррой Солганик. Все они были совершенно феноменальные люди, с которыми можно было разговаривать на любую тему, при этом они были не просто специалисты, знавшие свой язык и выполнявшие то, что им нужно было делать – встречать иностранные делегации или ехать куда-то за границу при нашей делегации и быть переводчиками. Они могли консультировать наших переводчиков, которые переводили какие-то произведения на наш язык с другого языка, с ними можно было говорить буквально обо всем, и разговоры о том, что все работающие в Иностранной комиссии на прицеле у КГБ, – абсолютная бессмыслица, с мой точки зрения.
Но и из этой категории людей удивительных, располагавших к себе и внешне, и внутренне, Марик тоже выделялся. Меня с Мариком познакомила Мирра, с ней я познакомился раньше. Причем познакомила случайно, мы с ней сидели, ели, и Марик присел за наш стол по какому-то делу, при этом извинившись раз пять, и Мирра нас познакомила. И дальше удивительное было дело, видимо, это было что-то взаимное, потому что вчера мы с ним познакомились, а сегодня я его увидел, и у меня было уже ощущение, что я могу с ним общаться и разговаривать как с близким человеком. Я не знаю, что это за качество было. Он был чрезвычайно рафинированным человеком, в самом высоком смысле слова, и это было предметом легких насмешек, а насмешки эти скорее подчеркивали его интеллигентность, которая была абсолютно естественной. Марик всегда к друзьям обращался: «Ваше превосходительство», но он сокращал: «Ваше-ство». Это было и иронично, и в то же время уважительно. К его манере изысканно выражаться мы всегда относились с легкой дружеской иронией. А потом начинали к друг другу обращаться именно в этой манере: «Позвольте передать вам изящный кусочек селедочки», «Вы не откажете в удовольствии налить вам стопочку». Это была очень заразительная ткачёвская манера, она не была надуманной, она была его естеством. Наверное, это относилось ко всему: воспитанию, такту, чрезвычайно профессиональному отношению к своему делу, чрезвычайно чистому и абсолютно сердечному отношению к друзьям. А с людьми, которые не входили в категорию его друзей, он оставался подчеркнуто вежлив, но можно было совершенно четко уяснить «ху из ху». Допустим, Марик должен был с кем-то пообщаться, он абсолютно нормально с ним общался, но, когда человек уходил, Марик присаживался снова за стол и говорил: «Ну, что, Ваше-ство, продолжим?» и было ясно, что если бы этот человек входил в круг друзей, то он бы уже давно сидел за столом и общался бы с нами в той же манере. Это был некий пароль взаимоотношений. Он даже заразил этим людей, в которых он был влюблен, перед которыми благоговел. Это уже стало манерой целого круга лиц, так или иначе причастных к ЦДЛ.
Вот Мирра Салганик – блистательный специалист в области английского языка, Влад Чесноков – безупречный переводчик и специалист в области французского языка, я понимал, как можно выучить европейский язык, но, как можно выучить вьетнамский, китайский или японский, не дано мне было понять, и до сих пор не могу понять, как можно овладеть этим языком, в котором есть набор неких звуков. Я знаю людей, которые могут иероглифы расшифровать, могут два-три выражения на уровне улицы сказать по-китайски, по-вьетнамски, по-японски, но все равно, я вижу, что это все-таки не знание языка. А у Марика был очень сильный уровень, я просто поражался, как можно изучить на таком уровне вьетнамский язык. Когда он разговаривал с вьетнамцами, которые приезжали в Советский Союз, или когда мы с ним оказались во Вьетнаме, когда он с ними разговаривал на их языке, было впечатление, что они не очень хорошо знают свой родной язык, по сравнению с ним. Если закрыть глаза и не знать, кто ведет беседу, точно можно сказать, что разговаривают два коренных жителя Вьетнама на своем родном языке. И это проникновение в суть языковую, в культуру и в свою профессию приводило к тому, что к нему вьетнамцы, писатели, не писатели, молодые, постарше, кто угодно относились как к гуру, они иногда задавали ему вопросы по истории вьетнамской литературы. Они, вьетнамцы, у него спрашивали, это же фантастика. Это изумляло и вызывало у людей, которые входили в круг друзей и близких знакомых Марика, восхищение, уважение и преклонение перед ним, в самом хорошем смысле этого слова.
Когда бывало уже много выпито, а Марик продолжал переводить, возникало безумное ощущение, что ты понимаешь по-вьетнамски. Это был абсолютно непрерывный поток общения и не так, как бывает, сначала он переговорил с ним, потом посмотрел на тебя и, подбирая слова, перевел на русский то, что сказал ему вьетнамец, а это было так: три человека сидели, один из них вьетнамец, и он беседовал с ним, одновременно беседуя со мной, было такое впечатление, что язык из одного переходил в другой и, когда ты отвечал, мгновенно вьетнамец, не понимая русского, благодаря Марику уже кивал тебе. Эта его великая способность во Вьетнаме оказала нам очень важную услугу. В творческой биографии Марика есть несколько переводов стихов Хо Ши Мина. А мы попали во Вьетнам в тот период, когда к Советскому Союзу во Вьетнаме, несмотря на то что мы были братья и т. д., относились как к ревизионистам, а Китай целиком владел уже их идеологией, это был 1967 год. Но мы должны были все равно дружить с вьетнамцами, несмотря ни на что. Китай был особое дело, но вьетнамцев нельзя было отдавать китайцам. Тем более всегда говорили, что вьетнамцы на переднем крае борьбы с империализмом, с американцами и т. д., мы всячески их поддерживали и вооружением, и чем хочешь, но в ответ мы все равно получали холодное отношение как к ревизионистам. Посольство наше во Вьетнаме было в осаде, их никуда не выпускали, они не знали, что вокруг происходит. Мы когда туда прилетели – это особое дело, как мы прилетали, как из большой делегации остались только мы двое.
Эта поездка готовилась загодя, я был не выездным никуда, и Борис Николаевич Полевой, который предложил мне поехать от журнала «Юность» с большой, высокой делегацией, говорит: «Доктор (он меня Доктором называл), вы поедете?»
Я говорю: «Поеду, если меня выпустят». Он говорит» «Но там воюют». Я говорю: «Мне все равно». Он говорит: «Ну вас выпустят, мы что-нибудь придумаем».
Началось оформление за границу, я не член Союза и вообще никто. А тут эскалация войны, с каждым днем все страшнее и страшнее, передовые в газетах: «Руки прочь…», «Советский Союз не потерпит…» и т. д. и т. п. Не буду называть состав делегации, но по мере приближения срока вылета (мы летели через Владивосток) делегаты один за другим стали отпадать по разным причинам, кто по творческим, кто по бытовым, кто по здоровью. Когда до вылета осталось две недели, то, кроме меня – не члена Союза, который летел от «Юности», не осталось ни одного члена делегации, плюс сотрудник Иностранной комиссии Мариан Николаевич Ткачёв. Я впал в депрессию: один раз меня выпустили, и вот тебе пожалуйста. И вдруг Марик говорит, что нас вызывают в ЦК. Мы с ним идем в ЦК, в отдел Юго-Восточной Азии, в это время идет шестидневная война с Израилем, зав. Отделом ЦК 45 минут задает мне странные вопросы, не глядя в глаза:
– Вы Даяна знаете?
Я говорю: «В каком смысле? Я знаю кто это такой, но я с ним не знаком».
Он говорит: «А я знаю, Мишка Даян, нашу академию закончил. Вон как арабов расколошматил».
Я ничего не понимаю, чего он хочет. Я говорю: «Ну если у вас такие отношения с Даяном, то почему бы не использовать их на общее благо». Он, опять же не глядя на меня, сказал с грустью: «Поздно. Вы поедете во Вьетнам, вы будете руководить делегацией. Мы не имеем права с политической точки зрения, срывать эту поездку».
Нам оформили документы и мы улетели, потом плыли на теплоходе под названием «Магнитогорск» и, когда мы приплыли, уже в Ханое, нас поместили в гостиницу, и мы неделю были просто под домашним арестом. Мы привезли кучу разных подарков, 500 кг каких-то игрушек детям Вьетнама, лекарства, навезли очень много и неделю сидим. Бомбежки шесть-семь раз в сутки. Там были французские, немецкие, китайские, американские журналисты – все ездили, снимали, кроме нас. Чтобы разузнать, что происходит, Ткачёв позвонил секретарю по идеологии То Хыу, сказал, что он здесь. На следующий день мы поехали на прием к То Хыу, он нас принял (он не мог нас не принять: во-первых, Марик его знал по прежним общениям, во-вторых, Марик переводил стихи Хо Ши Мина), все время улыбался, делал вид, что не понимает, почему так происходит, а может, и не знал, пообщались, поговорили, пошутили, а потом он подписал какую-то бумагу, которая в переводе на русский язык означала «все и всюду». И Марик говорит, уже завтра можем ехать, у нас есть машина, есть, конечно, охранник в ранге переводчика с их стороны. Я спрашиваю: «А зачем нам переводчик? Ты объясни». Он говорит: «Это как раз очень хорошо. То, что он будет переводить, я буду слышать. Он меня не знает и не думает, что я знаю язык. Он просто сотрудник вьетнамских органов. Пусть переводит то, что считает нужным, а я буду слышать, и мы будем знать все.
Благодаря этому обстоятельству мы с ним проездили больше месяца, там, где вообще никто не был. Проехали по всей стране до самой 38 параллели. Были тогда какие-то важные точки, которые хотелось бы посмотреть, где хотелось побывать и мне, и ему.
Когда мы отправлялись, в посольстве посол говорит: «Вы сейчас поедете, ничего не забывайте, мы ничего не знаем, все что увидите – записывайте и потом приносите нам».
Вот мы и покатили. Ну а это совершенно особое дело, Марик был не первый раз, а я первый, но я не испытывал никаких затруднений. У него в этой поездке, по отношению ко мне не было, как бывает у человека, который знает про страну все, а ты ничего не знаешь и он так по-отечески к тебе: вот это тебе надо, это не надо – такого не было. Было какое-то перманентное общение с Вьетнамом, у меня возникало ощущение, что Марик отсутствует, потому что я все мгновенно понимал благодаря ему, а то, что у нас был посредник, официальный переводчик, который нас якобы охранял, придавало всей поездке удивительно смешной оттенок, потому что он переводил одно, Марик успевал перевести и то, что переводил переводчик, и то, что на самом деле было сказано. Абсолютно на равных мы общались, и я с вьетнамцами, как с ним, разговаривал, и познакомился там со многими его друзьями, которые потом здесь, приезжая в Москву, со мной общались, все благодаря ему.
Во Вьетнаме мы практически не спали. Днем мы занимались делами, общались, что-то смотрели, а ночью передвигались, потому что днем было невозможно передвигаться из-за бомбежек, ночью шли все передвижения по дорогам, которые нельзя назвать дорогами, в полной тьме, без фар, только карманный фонарик на передней оси освещал 50 сантиметров так называемой дороги. Марик это уже все видел, он на заднем сиденье нашего джипа спал, а я не мог, меня все это держало в напряжении. И вот однажды рядом бомбят, наш охранник и водитель чухнулись в джунгли, Марик спит на заднем сиденье, светает, я остался один. Сижу, в защитной гимнастерке, бородку отрастил. Бухает, бахает. Марик спит. Кончилась бомбежка, и откуда-то из болота вылезают вьетконговцы, партизаны, человек двадцать, вооруженные разными предметами, от автоматов до палок, и окружают наш джип. Мне не нравится то, что они делают, начинается передергивание затворов, и мне от этого нехорошо. Я бужу Марика, объясняю, что происходит, а Марик говорит: «Аркан, да ну их на…», и продолжает спать. В этот момент откуда-то с диким криком выбегают охранник и водитель и, как гусей или кур, разгоняют этих вьетнамцев, что-то им говорят, те начинают улыбаться, мы садимся и едем, а Марик спит. Я переводчику говорю: «Что это было?», а он так спокойно говорит: «Это партизаны были, они вас приняли за пленных летчиков», я говорю: «Ну и что?», он говорит: «Многих пленных летчиков партизаны не оформляют и до штаба не доводят, они их сразу расстреливают на месте». Когда задним числом все это тебе объясняют, ты думаешь – ничего себе. Когда Марик проснулся, я ему это рассказал, мы очень смеялись над этой ситуацией, но иначе уже было нельзя к этому относиться, как только с юмором, хотя висело на грани. Не знаю почему, но на моем месте, наверное, кто-то, я знаю таких людей, сказал бы, ты представляешь, что могло быть, а ты спал в это время. У меня этого не было, со стороны посмотрели на это – смешно!
Дальше водитель и охранник заблудились, мы попали на лаосскую территорию, и там нас обстреляли пограничники, с перепугу наш водитель заехал в какую-то вьетнамскую деревню, где, похоже, никогда не видели белых людей. Нас там приняли, уложили, спим на циновках. Рассвет. Вьетнамские домишки – там все просвечивается, все из бамбука, каких-то растений, и вот я проснулся, а дом наш окружен жителями этой деревни, и они, по-вьетнамски комментируют, что я делаю. Я бужу Марика: «Марик, посмотри как интересно». Он говорит: «Такое впечатление, что они вообще не видели белых людей. Вот смотри, сейчас я встану и потянусь, и ты услышишь, как они будут комментировать, а я тебе переведу». И все наши действия они комментировали, как крестьянские дети в старой России.
Мы с ним попадали в разные ситуации, и, разумеется, это железобетонно нас сдружило и спаяло. И когда мы уже на обратном пути после одиннадцатибалльного шторма остались живы и оказались во Владивостоке, у меня было ощущение, что я попал на какую-то другую планету, свободную, прекрасную, солнечную, чистую. И мы еще долгое время с Мариком общались именно на почве Вьетнама. Очень долго и очень близко. Интересно, что с нас потребовали отчет о том, что мы видели. Мы написали отчет в ЦК на 92 страницах, о том, что мы видели, и о том, что мы поняли. И там было много моментов, которые в ЦК не понравились. Не этого от нас хотели. Через несколько дней Марик сказал: «Старик, наш отчет им не понравился», я говорю: «Ну и что теперь будет?», он говорит: «Ничего не будет. Просто, имей в виду, что наш отчет не понравился. Если надумаешь вступать в партию, то тебя не примут».
Я не мог приобщиться к вьетнамской культуре, понять ее и почувствовать, как Марик, но все-таки, как-то к чему-то я присмотрелся там благодаря Марику, он мне все советовал, потому что я в этом ничего не понимал, и вот мы оказались на каком-то рынке в Ханое и там я купил несколько чисто вьетнамских раритетов: народные рисунки на рисовой бумаге – лубки, два фрагмента бамбука с иероглифами. Этот бамбук ставят перед вьетнамским жилищем как оберег. Я это все купил и пошел в гостиницу, в 300 метрах от гостиницы этот рынок, я вошел в гостиницу, и началась бомбежка. Американцы промахнулись и попали прямо в рынок.
У меня это все, что я тогда купил, висит и стоит здесь, в квартире. Если бы не Марик и отношение мое к нему, да на хрен мне это нужно, какие-то бамбуковые палки, какой-то лубок, я не специалист, не любитель изобразительного искусства, я не испытываю никакого трепета перед археологическими находками. Я знаю людей, которых просто трясет от того, что они могут прикоснутся к чему-то историческому, у меня тоже это бывает, но я не фанат. Много переездов всяких было после этого. Но на стене в рамочках висят те самые лубки, которые я купил на этом базаре в 1967-м. А в прихожей прибиты эти два бамбуковых фрагмента, на которых написано: «У того, кто войдет в этот дом, пусть будет все хорошо и счастье чтоб было в этом доме, чтобы он вошел, ничего не боялся», типа добро пожаловать. Так мне сказал тогда Марик. Желания его перепроверить никогда не возникало.
Ты ему мог что-то показать или прочитать из того, что ты написал, вот ты ему читаешь, и он вдруг задает тебе вопрос, тут может быть два момента: или ты что-то не точно сделал, не с точки зрения языка, а с точки знания того, о чем ты пишешь, либо он сам не знал, что это такое и мог тебя спросить. Не был таким слушателем, который – да, да, да, ой там все замечательно.
Он мне дарил книги, и я ему дарил книги, и самое интересное, что он их всегда прочитывал. Такова особенность наша, что 90 % людей, которым ты даришь книгу, так же, как и ты, когда тебе ее дарят, не читают этого. Ты ему давал книгу или рассказ, ты мог быть уверен на 100 %, что он прочтет, причем прочтет не потому, что неудобно – надо, а потому, что интересно. Не знаю, может это мне везло, как немногим в этом плане, – не мог же он всех читать, кто ему что-то дарил, хотя Марик был такой человек, что мог, он был очень обязательный человек.
На его месте другой человек мог бы себе создать, с точки зрения карьеры, наверное, что-то более интересное, чем он создал в карьерном плане. У него были для этого все основания, но он был человеком каким-то очень вне этого всего, несуетным и очень скромным, он не использовал свои возможности, а в те времена особенно. Там ведь нужно было чуть-чуть подсуетиться, кому-то что-то сказать, кого-то о чем-то попросить на высоком уровне, а он пользовался тем, что ему было положено. Скромненькая квартирка, сначала на Малой Грузинской, потом на Звенигородской улице. Люди такого уровня замечательно устроили свою жизнь и нисколько об этот не жалели, а он был мало того что скромным в этом плане человеком, да еще удивительно разборчив был с точки зрения общения. У него не бывало, сколько я ни приходил к нему, ну не бывало, чтоб человек появился вдруг. У меня было такое впечатление, что он всех своих друзей, всех близких людей давно уже отобрал, новые люди появлялись очень редко. Те, кто был много лет назад, они могли куда-то уходить в сторону, куда-то уезжать на время или навсегда, как Шурик Калина, но они все время были в окружении, они всплывали.
Ткачёв еще очень любил о них рассказывать байки, о каждом были свои истории, удивительные и интересные, причем, в этих историях – ну не со всеми же всегда так просто и безоблачно складывались отношения, отношения могли охладиться, – но я никогда от него не слышал, чтобы он сказал какую-то гадость, мерзость вдогонку. Было такое впечатление, что в том, что происходило, он больше винил самого себя. И даже, когда рассказывал о таких людях какие-то байки, все равно присутствовали уважение, внутренняя привязанность и любовь. Это 100 %. Это могло быть рассказано с юмором, с грустью, он мог разлюбить, может быть, по-иному к нему относиться, но всегда был объективен и добр.
Я не был большим специалистом по женам Марика, поэтому для меня понятие его личной жизни связано только с Инной. То, что с ней произошло, – совершеннейший кошмар, бред… С предыдущей женой я был знаком, мы общались, и Сашку я знал, но что-то там не сложилось, я не влезал в его личную жизнь.
А жил он скромно: ему не нужна была пышная большая свадьба, или какой-то невероятный юбилей, или день рождения. Я не помню ни одного случая, чтобы, как принято: «Приходи, мы будем в ресторане, или мы собираемся в ЦДЛ». Никогда этого не было. Вот в тесноте – это всегда, в квартире – это всегда, и только те люди, которые имеют отношение к нему или связаны с Инной. А Инку он любил, по привычке всем прозвища давать, называл Бовин. Это было не просто какое-то случайное прозвище, по всем понятиям Инка была Бовин. Я ни разу не слышал, чтобы он сказал Инна. Это было уже Имя.
Когда сын уже подрос и стал делать на телевидении какие-то спортивные комментарии, репортажи, не помню, чтобы Марик позвонил мне и сказал: «Посмотри, какой Сашка потрясающий». Никогда не замечал никакого телодвижения, чтобы помочь ему, протолкнуть его, используя какое-то знакомство, пропиарить, как принято сейчас говорить. Нет. Даже если это было, то на уровне – можешь это сделать? – сделай, спасибо – нет – значит, нет.
И всегда он, в каком бы ни был состоянии, как бы ему ни было тяжело, он болел уже, но если его приглашали на какую-то тусовку и если тебе хотелось, чтоб он был, – он обязательно приходил и при этом всегда приходил подготовленный. Если его попросят что-нибудь сказать, то не было такого, чтобы он плохо выступал или сказал, что выступать не будет. Если Марик выходил, то он был абсолютно подготовлен.
Кроме того, что он был блистательным переводчиком, он был еще человеком незаурядного литературного дарования, что прослеживается и в его самостоятельных работах, и в переводных. Настоящий перевод может сделать только человек, обладающий литературным даром, это самостоятельное литературное произведение.
Сколько имен вьетнамских писателей вызывают у нас ощущение теплоты, а не случайного литературного упоминания. Со сколькими людьми мы благодаря ему не просто познакомились, а стали членами одной какой-то литературной семьи. При жизни он следил за этим, всевозможные праздники вьетнамские, приезды писателей, обязательно, с момента, как мы с ним съездили туда, он меня к этому приобщал. Потом мы с ним еще раз попали во Вьетнам, поездка была организована в 1987 году, в двадцатилетие со дня нашей прошлой поездки. Мы поехали по новому Вьетнаму и по возможности по тем местам, где мы были. И вот в результате этих двух поездок вьетнамцы мне уже сами звонили, куда-то приглашали, звали, они ко мне обращались как к другу, к товарищу. Они звонили как мои знакомые. И Марик иногда говорил: «Я бы советовал тебе сходить, будет тот-то, тот-то», или он говорил: «Нет, это обычная история, если не пойдешь, ничего не потеряешь». Он никогда не настаивал, он говорил – я бы тебе советовал, – и в редчайших случаях я мог не пойти.
Ткачёв отличался незаурядным чувством юмора. Если говорить о его байках, я знаю целый ряд людей, сам я не отношусь к ним, которые какие-то истории, которые им не принадлежат, либо от кого-то услышали, либо при сем писутствовали, но пользуясь тем, что этого уже никто и никогда не проверит, приписывали их себе в своих произведениях или рассказах. Марик никогда не приписывал себе то, что ему не принадлежало. Это совершенно точно.
Я очень брезглив к некоторой еде, я не мог есть собак, я не мог есть лягушек и до сих пор не могу, а он все время говорил мне, что это очень вкусно и напрасно я отказываюсь. Однажды на берегу одного вьетнамского озера он сказал кому-то, чтобы приготовили эти лапки, но мне сказал, что это куриные. Я съел, очень вкусно. Он говорит – ты съел лягушачьи лапки, ты их так не любил. Со мной ничего дурного не случилось, но есть лягушачьи лапки я после этого не стал А еще он пытался приучить меня есть палочками, это ему удалось, я научился. Но когда мы были на приеме или на встрече в Москве с вьетнамцами, Ткачёв ел палочками, а я просил вилку и нож.
У меня не поворачивается язык сказать о Марике, что он был переводчик с вьетнамского. Я считаю, что если взять его личность, его дарование, то перевод – 10 % от всего остального Марика Ткачёва. Он был единственным человеком – в Советском Союзе уж точно, а может, даже и в мировой культуре – одним из самых глубоких знатоков восточной культуры, кстати, не только вьетнамской, но вьетнамской особенно.
Москва, 2008 г.
Три повести о добре, верности и дружбе или о тех, по ком отзвонил колокол…
Михаил Ильинский:
Перед Рождеством 2007 года ушел из жизни Мариан Николаевич Ткачёв – редкий человек, не просто незаурядная личность, которых не сыскать и днем с огнем, а целое явление, о котором, конечно, знали не только в Москве и Ханое, Нью-Йорке и Париже, но и в других городах мира, но не находили повода для разностороннего о нем разговора. И страшно, что таким поводом стала его смерть, выбившая из круга самого «коренного коня» международной вьетнамистики, первого писателя-переводчика, подарившего России, советскому читателю (и российскому, и украинскому, и среднеазиатскому, и кавказскому) произведения грандов вьетнамской древней и современной литературы – Нгуен Зу, Нгуен Туана, То Хоая…
В июне 2007-го не стало и его супруги Инны, друга, соратника, врача, человека возвышенной души, благородного сердца и самых широких взглядов. Рок. Смерть вычеркивает из жизни тех, кто ушел, но заставляет помнить о них тех, кто на Земле.
Черный кот, колокол, велосипед и газета
…Я пересмотрел мои литературные и фотографические архивы, поднял индокитайские, вьетнамские блокноты 60–70-х годов уже прошлого ХХ века, нашел с десяток книг-переводов Мариана Ткачёва и ни одной (ни одной!) фотографии Мариана с Нгуен Туаном – великим вьетнамским писателем, Гражданином Земли ХХ столетия, все произведения которого перевел на русский М. Н. Ткачёв бывший доверенным лицом писателя, знавший все о его творческих планах на настоящее и будущее.
Туан, или, как его называли в узком кругу, Наш Старик, доверял Марику самое «секретное», сокровенное. Однажды премьер-министр СРВ Фам Ван Донг спросил Нгуен Туана: «Скажите, что вы сейчас пишете, над чем работаете?» Нгуен Туан лукаво улыбнулся и уклончиво ответил: «А что вы намерены печатать?»
Фам Ван Донг любил и уважал Нгуен Туана, но такого откровенно-вызывающего ответа не ожидал.
– А что бы ты хотел, чтобы я ему ответил? Я многим не доволен и с высоты моих лет многое мог бы критиковать. Я боролся с колонизаторами, агрессорами, экспансионистами. А сейчас? Тебе я могу доверить все. Фаму же ничего не сказал, опасаясь его раздосадовать. Но он все понял, хотя от этого цензура, не стану ее так называть, не обещает быть более терпимой. Для меня цензура – это «беззаконье в законе». Это есть у всех, но не хочется с этим мириться.
Ты, Мариан, это понимаешь, иначе на какой бы язык ты меня переводил? А я так бы хотел написать еще один роман под старым названием «Нгуен», только о новом Нгуене… – и Туан перевел разговор на другую волну и, как обычно, к отзвучавшим темам (о цензуре) уж больше не возвращался. «Зачем воду в ступе молоть?» – говорил он.
Пока не отзвонил колокол…
– Но не надо о грустном, поговорим о «золотых колоколах», о тех, кто пишет, строит, ваяет, рисует. У вас в России и у нас во Вьетнаме. Лучше скажи, может ли Мишель подарить мне колокол, который он привез из Сайгона и обещал подарить тебе? Удары, голос, этого колокола – он весит около двух килограммов – напоминают мне мои молодые годы, когда я ездил по городам Индокитая и у реки зазывалы под звон таких же колоколов набирали людей на работу. Как бы хотелось на склоне лет услышать голоса молодости, в которую вписались теперь и русские имена – Ткачёва, Никулина, Симонова, Луконина…
– Раз Мишель обещал подарить колокол мне, значит, считай его уже твоим, – быстро решил Мариан и тем обрадовал Старика.
– А за Мишелем нужен глаз да глаз. И повлиять на него можешь, пожалуй, только ты, как давний и верный друг. – Туан добро улыбается в свои большие седые усы.
– Что еще умудрился натворить этот неугомонный непоседа Мишель? Затеял какой-либо новый флирт или написал что-то «не то»? – забеспокоился заботливый Мариан. – Не бес ли в ребро?
– Нет, бесы его оставили и Достоевского он больше не цитирует, – заметил Туан, – но вот с рынка «Донг Суан» он привел на поводке маленького черного котенка, которого, видимо, в честь Достоевского назвал Федором, а в честь себя Михайловичем. Все вместе, как ты понимаешь, «Федор Михайлович». Опять как Достоевский.
– Но все бы хорошо, если бы у кота Феди не было белого пятнышка на носу… – Туан принял грустный вид и объяснил: – Разве Мишель не знает, что ночью черного кота с белой точечкой на носу увидят все мыши… Надо перечитать Булгакова.
Друзья рассмеялись над этой туановской шуткой, и в это время в комнату вошел Мишель со своим бронзово-латунным колоколом.
– Марик, это тебе, как обещал, – сказал Михаил.
– Ничего подобного! – остановил коллегу Ткачёв. – Уже передарено! «Было наше, стало ваше». Теперь колокол во владении Нгуен Туана. Он всегда умело бьет в набат, и голос этого колокольчика, возможно, вольется в единый большой колокольный ансамбль Туана, в котором когда-нибудь заслужит достойное место.
– Спасибо, Марик, спасибо Мишель! А мне пора возвращаться к моей старой «ненаглядной». Вот она будет довольна. Она чистит мои нескончаемые «коллекции» бутылок из-под когда-то французского коньяка, а теперь прибавится еще и колокол, – сказал Туан и со знанием дела ударил в колокол.
Мы вышли из крутящейся двери отеля «Метрополь» (Тхонгнят), отправились проводить Нгуен Туана.
– Если захочу, вы меня не догоните. Вы – на своих двоих, а я – на велосипеде, – балагурил Старик. – У меня этот велосипед особенно умный. Его дважды угоняли «невежды», а «ученые» – дважды находили. Ведь это писательский «вечный двигатель». А если на нем еще установить колокол?! Такого, скажут, не было еще нигде. Значит, ясно: это творение творческого трио – Туана, Марика и Мишеля. Ездило бы оно только побольше, но сколько даст Бог, – сказал Старик и внимательно посмотрел на Марианна. – Я тебе рассказал про черного кота с белым пятнышком на носу, а ты для себя не сделал никаких выводов, – поучительно сказал Туан, обращаясь к Марику.
– В чем же я виноват? – недоумевал Марик.
– У тебя большая и не совсем прикрытая шевелюрой ценная для всех голова. И она – приманка для Солнца, которое тоже не прочь тебя приласкать. А его жаркие объятия опасны. Советую тебе прикрыть твое пятнышко хотя бы газетой, – Туан вытащил из портфеля новый номер газеты «Нян зан». – Можешь сделать шляпу и быть спокойным во всех отношениях. И главное быть уверенным, что о твоем друге – Нгуен Туане – там нет ни слова. Я-то это знаю…
Но мы знали другое: Нгуен Туан – этот золотой колокол Земли Вьетнамской, один из великих наших современников, гениальный писатель, свое слово, о котором сказал Мариан Ткачёв, а Аркадий Стругацкий добавил: «Туану и Ткачёву очень повезло работать вместе. Когда один талант – это хорошо, а когда два таланта сходятся вместе, плод их труда, по законам даже высшей математики, подсчетам не поддается.»
О них теперь еще звонят колокола…
Белый шарф
Это было в начале ноября 1967 года. США наращивали бомбардировки Северного Вьетнама, увеличили до 660 тысяч солдат численность своего контингента в Южном Вьетнаме. В Париже, на авеню Клебер, готовились к дипломатическому марафону, обещавшему быть долгим, упорным, решающим.
На этом фоне в Ханое торжественно отмечали 50-ю годовщину Октябрьской революции в СССР, которую в ДРВ рассматривали как животворный источник и должны были помнить, «чью воду пьют» многие миллионы людей. А в рамках мероприятий по празднованию этой знаменательной даты в ДРВ прибыла делегация Союза писателей СССР. В Ханое ожидали К. М. Симонова, Л. С. Соболева, Е. А. Долматовского, а приехали молодые – Аркадий Арканов и Мариан Ткачёв, оба 1933 года рождения, весельчаки, не успевшие обзавестись не только большими лысинами, уважительными «животиками», но даже очками. Впрочем, очки у них были – черные, от солнца, и то одни на двоих.
Арканов вытащил очки из футляра, протянул их Мариану и заботливо сказал: «Ты старше меня на несколько дней, значит, и глаза твои на столько же больше устали, вот и носи пока их первым. Я тебя подменю, когда будет жарко и очень яркое солнце. Тебе же нравится солнце?»
– Впрочем, сегодня всем и всеми командую я! – продолжал Аркадий Михайлович. – Так как нас двое и никто не назначен официальным главой делегации, разделим власть пополам. Один день – руководитель я, другой – Мариан Николаевич. Первый день Ткачёв, как старичок, отдыхает, я же возлагаю на себя всю тяжесть и ответственность за возложенные на нас обязанности и велю налить Ткачёву водки, и пива тоже. И сделает это наш друг Мишель, которому и впредь поручается и наливать, и выпивать. Мариан, переведи это на понятный во Вьетнаме язык и делай это, пока я – глава делегации. Когда же я сложу с себя полномочия, Мариан будет переводить по привычке и по инерции, чтобы не снижать уровень своей, ни с кем не сравнимой квалификации.
При этой представительской, так сказать, инаугурационной речи Аркадия Арканова, которую артистично и с выражением перевел Мариан, в холле отеля «Тхонгнят» присутствовали наши друзья вьетнамские писатели и поэты: Нгуен Туана, То Хоай, Суан Зиеу, Нгуен Ван Бонг. Здесь же художник Чан Ван Канн, муза его творчества Чан Тхи Хонг (или по-русски просто Роза). Все разместились в глубоких коричневого цвета кожаных креслах. Все ловили каждое слово Арканова и встречали перевод Мариана взрывом восторга. А Мариан импровизировал, развивал яркие фразы «Аркана».
– Моя мать Анна Марковна, отпуская меня в этот раз во Вьетнам, – говорил Мариан, – наказывала слушать Аркадия, но поступать по-своему, никогда не перечить мудрому Нгуен Туану, если восхищаться природой, то вместе с Суан Зиеу, если гулять по Ханою, то с Бонгом и Чан Ван Канном, которые живут в одном доме, на маленьком озере, если писать сказки, излагать легенды, то с автором незабываемого «Кузнечика Мена» То Хоаем. С Михаилом и Георгием дозволено ездить на автомобилях, только не в комендантский час и не во время воздушных тревог и налетов американских самолетов.
– Но как ты тогда выполнишь обещание, данное в Союзе писателей Москвы, привезти коллекцию бомб и обломков «май бай Ми» – американских самолетов, сбитых над Ханоем? – Арканов закурил трубку и хитро улыбнулся своими все знающими глазами не столько писателя (и почему-то юмориста), сколько врача, психолога, хирурга.
– Соображу, как выполнить обещание, – отпарировал Мариан. У Мишеля на крыше «Метрополя» есть железный колпак, под которым он пишет свои боевые репортажи, там есть еще пара «свободных» от бомб и ракет мест. Мы обоснуемся там с комфортом, дозволенным войной, будем вести наблюдение за «воздухом» и собирать обломки самолетов, которые посыплются как из «рога изобилия», и мы начнем давать свои исчисления потерям авиации США в одной отдельно взятой над Ханоем точке – над «Метрополем». Мишель утверждал, что таких «фантомов» и «громовержцев», уничтоженных ракетами именно здесь, было уже пять. Почему бы не дождаться шестого, седьмого, десятого и так далее.
– Ты, Мариан, лучше расскажи друзьям, что обещал матери и как с первого дня во Вьетнаме держишь данное ей слово? – подзадоривал Аркадий.
– А я ничего и не скрываю. Я обещал маме писать ей каждый день письма, хотя бы несколько строк, и если, придется очень трудно, надевать белый шарф или бант, как это с детства делала Анна Марковна.
– Ты уже написал сегодня письмо? – настаивал Арканов.
– Пока нет, но напишу. Я не мог написать раньше, до прихода Нгуен Туана. Что я сказал бы маме, почему нет привета от Старика, которого она много лет знает и любит.
При этих словах Мариан достал из небольшой сумки пакет, в котором были аккуратно уложены 15 конвертов с марками: по одному на каждый командировочный день в Ханое. В каждом конверте по листу белой бумаги.
– Вот сейчас и напишу первое письмо из Ханоя. Шестое ноября 1967 года. Войны нет! Все хорошо, вокруг цветы, на столе вино и закуски. За столом – друзья. Первым свою подпись ставит старейшина Туан, за ним – То Хоай и другие. Последним подтверждает написанное – сегодняшний глава делегации – Аркадий Арканов. Завтра, когда я буду главой делегации и Арканов будет бегать в бар за пивом, очередное письмо заверит своей подписью Мишель. Мама питает к нему давнее доверие и даже любовь, почти как его мама Зоя Ивановна.
– Но послушай, Мариан, ты все-таки не все выполнил так, как у тебя положено по ритуалу. Ты не надел ни шарф, ни бант, ни даже пионерский галстук, – заметил Аркадий Арканов – юморист и пересмешник. – Значит, письмо не действительно.
– Ничего подобного! – воскликнул Ткачёв – Все сделано так, как условлено. Я надену шарф только тогда, когда будет трудно, а здесь, в «Метрополе», с друзьями, какие трудности? Впрочем, одна трудность есть: мы не можем поднять тост за каждого из нас лет так через 40–50. Мы не знаем, что уготовлено судьбой – и стоит ли это знать? Выпьем за всех нас и тех, кто с нами. И конечно, против бомб и войны, всем чертям на зло!
Мариан умел и любил произносить тосты, причем каждый новый был продолжением предыдущего, наполнен смыслом, нес положительный заряд, доброту, расположение к людям. А если Мариан хотел придать фразе оттенок укора, он по-детски сжимал губы и выдавливал из себя вот такое, например: «Ты, скажи, Мишель, как ему может быть не стыдно? Ведь так же нельзя…»
…10 ноября готовилась встреча писателей с пленными американскими летчиками, все ждали, что скажет Ткачёв. Заранее вопросы в Ханое не готовили, но Михаил не удержался и спросил Мариана: «Марик, а ты что скажешь?»
– Вернее всего ничего. Я буду смотреть им в глаза и взглядом спрошу: «Как же вам не стыдно?» Впрочем, мне и ответ не нужен. Задним умом все богаты.
…В тот вечер в «Метрополе» коллеги засиделись допоздна. Говорили о разном. Бонг рассказывал о Юге Вьетнама, где он работал в подполье, носил литературный псевдоним Чан Хиеу Мина, писал повесть «Белое платье», в Сайгоне был разведчиком-нелегалом. Нгуен Туан вспомнил 1937 год, тридцать лет назад, когда он возвращался в Ханой из французского далека и носил белый длинный шарф, подаренный ему одной известной актрисой, согласившейся помогать революционному делу. Неизвестно только чему сначала: революции или Туану? Так или иначе, она погибла в 1943-м. «Мой белый шарф, – говорил Туан, – обрел для меня особый смысл. А у тебя, Мариан, шарфы и бинты тоже обладают своей символикой? Какой?»
– Это было в раннем детстве, в Одессе, – начал Ткачёв. – Мама уехала в отпуск, оставив меня с тетей. Я обещал слушаться, не привередничать с едой, помогать по дому. Но все получилось наоборот Какая от меня могла быть помощь? Все пошло кувырком. И с едой неладно: я почему-то отказался от каши с вареньем из черешни. Тетя, чтобы сменить обстановку, купила для нас с Борисом билеты в театр. И на что? На «Евгения Онегина», в оперу. На меня повязали огромный белый шелковый шарф, чтобы я выглядел модно и по-театральному. В опере я все понял по-своему. Если на сцене было застолье, то подавали обязательно кашу с вареньем, а я ее не хотел. Неудачно влюбились Татьяна и Ольга, Евгений и Ленский. Все смешалось в моем представлении, а тут еще появился горластый, старый злодей – генерал, добивший мое детское воображение.
Той ночью я проснулся от тяжелого сна. Мне привиделось, что какой-то старый генерал-страшилище сделал предложение моей матушке, моя жизнь рушилась. Я был несчастлив…
Положение спас… белый шелковый шарф. Утром он находился на мамином стуле, был отглажен, и от него веяло надежностью и добротой домашнего очага, материнской лаской и защитой от всех невзгод. И старого генерала не стало!
Вот так белый шарф, белый бант, плюшевые пиджаки, которые я носил с детства, стали своеобразными талисманами, помогающими преодолевать трудности. Вьетнамец, возможно, и не поймет моих «одесских заскоков», но примите меня таким, каким я был, есть и приехал к Вам в Ханой…
Нгуен Туан ласково обнял своего друга.
«Жаль, что нет под рукой фотоаппарата и не могу сделать снимок самого великого вьетнамского писателя ХХ века и его коллеги-переводчика», – подумал Михаил, и перед его глазами встали фото из домашнего альбома Ткачёвых.
…Вот Мариан пошел в школу. В плюшевом или бархатном пиджачке, в бриджах, в белой рубашке, с огромным шелковым бантом. Букет цветов. Длинные темные волосы, большие выразительные глаза. Пролетели годы, а глаза, взгляд, наклон головы – все те же… Многие годы объединил и еще объединит белый шарф. Белый шарф – это символ природного благородства, мужества, неанкетного дворянства, врожденного патриотизма. Сколько внутренней силы было в этом невысоком, спокойном и очень большом человеке.
…Проводив друзей и договорившись о программе на следующий день, на который «дежурить» руководителем делегации был назначен Мариан Николаевич, Михаил, Аркадий и примкнувший к ним старый коллега Гера Локшин, возглавлявший Комитет поддержки Вьетнама, отправились «кататься» по ночному Ханою. Сделали традиционный проезд – TOUR DE HANOI – с песней «Ехали на тройке с бубенцами», заскочили в две-три ночных харчевни, где крестьянки из предместий предлагали крепкий самогон – Сунг сунг («Ружье», называемый так с колониальных времен, а позже «Куок луй»).
На западной окраине шоссе вдруг словно оборвалось. Воронка. Михаил ее не заметил, и «газик», соскользнув куда-то вглубь, беспомощно уткнулся в край ямы с уже успевшей застыть грязью.
Друзья вышли из машины, обнаружили, что все целы и невредимы, но как вызволить «газик»? Двигатель легко завелся, но вытянуть не мог. Вездеход был бессилен. И тогда инициативу взял Мариан. Он первым увидел метрах в ста от дороги огонек керосиновой лампы и отправился, как он сказал, на разведку. Вернулся скоро и не один – в сопровождении десятка дорожников с лопатами, кирками, бамбуковыми шестами…
Далее дело было минутным. «Газик» был извлечен из воронки и уже довольно урчал на проезжей части дороги.
– Что бы вы делали без меня? – спросил неугомонный Марик – Мышцы – хорошо, а ум – лучше! Аркан! Сегодня я – уже глава делегации, сбегай за пивом!
– Марик, а отложить можно? Утром схожу дважды, – взмолился Аркадий.
– Мишель! Как Аркану не стыдно? Он не выполняет приказов высшего руководства. Не выдавать ему его порции самогона.
– Сжалься, начальник, – вмешался Локшин. – Аркадий, он же еще и юмореску напишет.
– Без пива и самогона? – усомнился Мариан. – Впрочем, это Арканов. Он все умеет! А вопрос с пивом пока отложить!
Гонорар Старика Туана
Этот случай достоин или большого отдельного рассказа, но никак не скромного писательского эссе. Главных героев повествования теперь нет, и я в память о них склоняю голову, желая не выдавить слезу, а вызвать добрую ласковую улыбку, которую они так искренне любили.
Они – это Нгуен Туан, Мариан Ткачёв, Влад Чесноков, Аркадий Стругацкий.
Сколько раз бывал в Москве Нгуен Туан? На этот вопрос мог точно ответить только Мариан Николаевич. Он не просто считал, а по-настоящему готовил все поездки писателя и друга в Москву. Он продумывал все до мельчайших деталей – визиты к знакомым и коллегам, обеды и ужины, походы в музеи на выставки, встречи в редакциях газет и журналов. И, конечно, не будем ханжами, не последний момент в писательско-журналистской жизни и деятельности – получение гонораров за опубликованные или готовившиеся к изданию работы.
И вот в один из визитов Нгуен Туана в Москву такой рутинный момент подходил. Но для того, чтобы знаменитый писатель не шаркал подошвами по коридорам бухгалтерий, Мариан поручил своему верному «оруженосцу» по Союзу писателей Владу Чеснокову – бывшему разведчику ГРУ, сотруднику, владевшему блестяще французским языком и знавшему Нгуен Туана лично, получить для него причитавшиеся деньги (300 рублей) и вручить их в конверте в номере гостиницы «Пекин», где на 6-м этаже располагался Туан.
Получив туановский гонорар, Влад забежал на минутку в ЦДЛ, выпил «целебные» 100 грамм, встретил знакомого, соблазнился сыграть партию на бильярде, затем вторую – пятую, пока не проиграл все деньги.
А в это время Нгуен Туан ждал Влада в гостинице. Подошло время обеда, и Туан решил, оставив записку, спуститься на 1-й этаж в ресторан и там самостоятельно обосноваться за столиком. Так и сделал. В записке говорилось: «Дорогие Влад и Марик! У меня хороший аппетит и много свободного времени. Чем дольше не придете, тем я больше съем и выпью. Начинаю с армянского коньяка. Привет, Нгуен Туан». Эту записку потом оставит себе в качестве сувенира Влад Чесноков, а пока он сидел за стойкой бара ЦДЛ (Центрального дома литераторов) и горевал. За этим занятием его и застал Мариан.
«Чеснок» выложил все как на духу. И то, какой он плохой человек, не «чеснок», а «редиска», как продул в бильярд туановские «кровные», что ему очень, очень стыдно и теперь он не знает, что делать.
– Во-первых, достать эти 300 рублей; во-вторых, пулей лететь в «Пекин», где дожидается в одиночестве и умирает от голода Старик Туан, – подогревал ситуацию Мариан и с цедеэловского телефона стал обзванивать друзей, у которых можно было занять сумму, какую обычно не носят в кармане.
Откликнулись обычно безденежный Стругацкий и Микава – сосед Марика по Малой Грузинской. Они обещали достать деньги и в любом случае приехать немедленно в «Пекин».
В 18 часов Влад и Мариан вошли в зал ресторана «Пекин» и застали там отнюдь не удрученного своим положением Туана. Вокруг его столика, уставленного вином и закусками, стояли трое официантов и что-то упорно объясняли Туану, который, завидев своих опаздывающих друзей, спокойно объяснил: «Это, конечно, Влад виноват, он, наверное, по поручению Марика, летал в Париж. А деньги где? Так и скажи: профукал…»
Туан как в воду смотрел, а Мариан вытащил из кармана конверт, на котором сверху, вместо марки была приколота бумажка, и на ней синим карандашом несколько слов: «Для Туана! Собрали, сколько смогли: 400 рублей. Из них сто рублей пропейте за общее здоровье. И подпись: группа анонимных писателей, друзья Вьетнама и лично Нгуен Туана».
Но это еще не конец истории. Примерно через полчаса после прихода Мариана и Чеснокова в зале «Пекина» появились Стругацкий и Микава.
– Наверное, принесли бедному Старику Туану по 300 рублей и думаете, я их возьму? – то ли в шутку, то ли всерьез сразу после приветственных объятий сказал Туан. – Но в любом случае огромное спасибо. Во Вьетнаме я бы поступил так же. С той только разницей, что мои коллеги не рубятся в бильярд. Но рассудите еще и с другой стороны: что бы мы делали без Влада, это он сумел нас собрать вместе под таким забавным предлогом. И уже, оборачиваясь к официантам, добавил: – Я же говорил, что за столом нас будет не менее пяти. Из этого расчета я делал заказ. А вести стол поручаю Мариану Ткачёву. Он в азартные игры не играет. Владу же позволим разливать: он заслужил нашу благодарность и титул Великого фантазера.
…Прошелестели годы. Но каждый раз, проходя мимо гостиницы «Пекин», я вспоминаю рассказ Туана об этом случае и его бесценные слова: «Друг – потому и друг, что он – друг. И я бегу из последних сил на встречу с другом, зная, что возможных встреч остается все меньше и меньше. А некоторые прекращаются вообще».
Ручка отказывается писать…
Уже больше нет ни Туана, ни Марика, ни Влада, ни Микавы, ни Аркадия Стругацкого…
Рим – Москва, 2008 г.
Вместо воспоминания
Михаил Левитин:
Надо говорить о Мариане Николаевиче как о писателе, я же не разделяю друга и писателя и думаю, что те, кто с ним были близки, тоже с трудом могут провести такую черту. Последние годы, годы добровольного заточения внутри собственного дома, внутри застолья, кабинетных разговоров, могли восприниматься нами как угодно. Можно было посчитать наши беседы светской болтовней, или хмельным трепом, или ничегонеделанием. Это было бы нечестно по отношению к Марику.
Мы пользовались уютом и гостеприимством Марика и Инночки, его жены, мы пользовались правом друзей делать все, что нам заблагорассудится, расслабляться, часто думая о себе, о своих делах и о том, что нам предстоит делать дальше, после ткачёвского гостеприимства. Мы тогда не отдавали себе отчета, что именно в этом доме и в такой ненарочной мягкой манере каждый из нас выпытывает у Ткачёва его отношение к вещам общеизвестным, к литературе, войне, истории, музыке. Мы уходили не только отдохнувшие, мы уходили как бы наполненные им.
Сам он тоже преувеличивал значение своих друзей, ему хотелось думать, что каждый из нас что-то собой представляет. Иногда казалось, что он переносится вместе с нами в другую реальность, в какую-нибудь Флоренцию, где беседы происходят вроде бы необязательные, но таинственные и значительные.
Он больше слушал нас, чем говорил сам, но, когда говорил, не позволял себе никаких случайностей. Абсолютная отточенность формы выдавала в нем профессионального литератора. Требования к себе у него были завышенные, а может быть, настоящие. Он никогда не настаивал, чтобы мы прочитали его рассказы, старые или новые. Он никогда не просил походатайствовать, похлопотать, чтобы его напечатали. Он никогда не подсовывал тебе книжку со своим переводом. Сведения о его работах возникали вскользь и оставались втуне.
Потом когда мы все-таки читали его, то понимали, что он сочинял при нас, как-то тактично, даже робко прислушиваясь к нашим реакциям. Мы-то казались ему людьми просвещенными, много умеющими. Вот эти его рассказы, вернее, мотивы, владеющие его воображением, памятью, были, как теперь оказалось, самым интересным в наших встречах.
Там очень много об Одессе. Никак он не мог эту Одессу исчерпать. Там какой-то ушедший взгляд на одесскую тему, а может быть, даже почти в литературе и не проявившийся. Персонажи его детства росли вместе с ним, старели, становились подчас нелепыми, смешными. Он как-то не терял корни поведения ребенка в новых проявлениях уже взрослого человека. Он продолжал видеть своих друзей маленькими, их недостатки росли вместе с ними.
Это были прелестные образы, не всегда верилось, что они существовали в действительности, но потом ты обнаруживал их в доме у Марика за общим столом. Они были сочинены им в той же степени, в какой он был сочинен ими. Литературная, даже культурная реальность создавалась всей ткачёвской жизнью. Он обрекал себя на положение неудачника, то есть человека неизвестного, потому что стыдился быть некорректным по отношению к литературе, стыдился написать плохо, пошутить плоско, не соответствовать своему представлению об идеале. Во многом эта история из «Неведомого шедевра» Бальзака. Человек за всю жизнь создал только кисть руки, но зато какого совершенства был этот фрагмент общей картины.
Сам себя заточил в небольшом пространстве квартиры, сам постепенно стал забывать о том, что существует за ее пределами, удовлетворялся нашими переживаниями реальной жизни, удовлетворялся нашими рассказами, а сам говорил-говорил о Моцарте, о Пушкине, об Одессе, как будто собирался сохранить в этих разговорах какой-то код, какой-то только ему известный шифр, а может быть, язык нарабатывал свой, так и оставшийся не до конца раскрытым.
Ясно было, что случайное, необязательное он выводит за пределы жизни. Ему нужен был Моцарт, и все моцартовское, что звучало по радио, было у него дома, – пластинки, записи. Ему нужен был Пушкин, и всё написанное о Пушкине стояло у него на полке. Он позволял себе роскошь, благодаря Инночке жить в некой созданной ими обоими утопии.
Не знаю, можно ли считать его жизнь не получившейся, не знаю, что он писал последние годы, так как я часто видел его рукопись, его тетрадь, раскрытой на той же странице. Не знаю, какой комплекс владел им – боязнь листа, неверие в результат своей работы или подлинное знание о том, какой должна быть настоящая литература. Я даже не верю, что эти четырнадцать лет, проведенные рядом с ним и с Инной, были на самом деле.
2009 г.
Одессит, у которого был вьетнамский бог
Алексей Симонов:
Я знаком был с Марианом почти полвека, дружил – больше сорока лет, я один из немногих, с кем он за все эти годы ни разу не поссорился, а может, и единственный, если не считать Эмки – Эмиля Левина, ушедшего из нашей компании первым – больше двадцати лет назад. Так вот самое трудное начиная писать о Марике – это найти дистанцию. Это вообще самая главная загадка, когда пишешь о близких, понять, где ты сам, откуда ты глядишь на ваше общее прошлое, примитивно говоря, сверху-вниз или снизу-вверх, мешает ли тебе Есенин со своим «лицом к лицу – лица не увидать» или не имеет здесь и тени голоса. Как размещены в поле памяти другие фигуры вашей общей жизни, отчего зависит их масштаб и влияние на все с вами произошедшее. И если жизнь и отношения в этой жизни тянутся почти полвека, скорее всего одной, избранной для мемории, дистанции просто нету, если писать что-то вроде воспоминаний, а не литературное эссе.
Ну, скажем, 19 мая 1984 года умер наш общий друг Эмиль Абрамович Левин – артист Современника, лучшего, студийного, его периода, когда еще не было синклита звезд, а звездой – несравненной, с острыми, постоянно цепляющими сознание лучами был весь театр от Ефремова до последней билетерши. Так вот Мариан не только каждое 19-е бывал на Ваганьковском, он ходил туда, один или с братом Эмиля, Игорем, когда душа подсказывала, ходил с метелкой и лопатой, с обязательной рюмкой и немудрящим цветком.
А я – на могилу Марика – не приду, потому что Эмка умер, когда мы все были, а Марик, когда уже никого не стало и везти его пепел в Одессу было не к кому, похоронить в Москве не успели, потому что через полгода после его смерти погибла Инна, его вдова, и в конце концов Иннин сын Миша, приехавший из Америки, увез прах мамы и отчима к маминым родичам в Астрахань и захоронил там, и ходить к ней и к нему будет кто-то другой, если будет, а я туда уже не попаду в этой жизни.
Значит ли это, что Марик любил Эмиля больше, чем я Марика? Да нет, просто и на одну-то человеческую жизнь не хватает таблицы измерений, а если подумать, то и три, и четыре – все равно недостаточно.
Первый раз я увидел Ткачёва в Институте восточных языков при МГУ в 1958 году, он там преподавал, а я учился, хотя разница в возрасте была не так уж и велика. На этой почве ученья мы с ним не пересекались, но с близким его приятелем, Дегой Витальевичем Деопиком, мы столкнулись лбами на первой же его лекции на моем первом курсе и с тех пор запомнили друг друга, а не заметить рядом с ним Ткачёва было невозможно, ибо Мариан Николаевич в те годы был фигурой экзотической. Начать с того, что ходил он всегда в костюме-тройке, рубахи носил однотонные, преимущественно темно-малиновые и галстух (сознательно употреблю старомодную орфографию) бабочкой. Во внешности его всегда было нечто восточное, чуть сладковатое, что было обманчивым впечатлением, усугублявшимся совершенно фантастической прической. Дело в том, что Марик рано начал лысеть и это было его тайной душевной занозой, и должно было пройти лет 30 пока он окончательно сдался и смирился с этой особенностью своего облика. А в то время он с этим пороком боролся, отращивая с одной стороны большой лысины длинную, сантиметров в двадцать, гриву и прикрывал ею, причудливо уложенной, центральную проплешину.
Я совершенно не помню, как мы с Ткачёвым сошлись и на почве чего, хотя и имею некоторые подозрения, как это могло было случиться. Но первое впечатление от этой экзотической фигуры помню дословно, ибо походил он на голубого, что было глубочайшей несправедливостью и не имело под собой никакого основания, но узнать это мне довелось чуть позже.
Из уроков ботаники я помню, что есть такой процесс перекрестного опыления, так вот в облике Ткачёва перекрестно опыляли друг друга два понятия: английский джентльмен и одесский босяк. Правда, босяк не натуральный, а скорее бабелевский, не лишенный изысканности. В результате получался одесский джентльмен, каковым и был Ткачёв, сохраняя в своей внешности родовые признаки изначальных понятий. Но об этом потом.
Подозреваю, хотя и не помню, тем более в подробностях, что прочные контакты с Ткачёвым у нас возникли весной 1963 года, когда я пришел на практику в восточную редакцию Гослитиздата, располагавшегося на Новой Басманной против сада Баумана.
В этом четырехэтажном здании, на четвертом этаже размещалась редакция Восточных литератур, которую возглавляла Тамара Прокофьевна Редько, умнейшая женщина, все из кругов и овалов, без единого угла или прямой линии, Ткачёв был молодым, но желанным автором, а я врио младшего редактора. Именно там он впервые напечатал (если память не изменяет, в «Восточном альманахе») повесть То Хоая «О кузнечике Мене», с которой и началась его переводческая слава. Тогда это было лучшее издательство во всем СССР, туда ходили – пешком – Андроников и Шолохов, молодой Бродский и старый Светлов, Пастернак и Заболотский, там работали такие корифеи, как Симон Маркиш, и печатались такие гении, как Витя Хинкис. Лифт там возил только снизу-вверх, поэтому когда на четвертом этаже я увидел величественную даму, безуспешно пытавшуюся открыть дверь лифта, то, не узнав и ничего еще не сообразив, ринулся вниз и, только поднимаясь в кабине на этот четвертый этаж, где-то между вторым и третьим понял, что я, как портье при гостинице, доставляю карету лифта Анне Андреевне Ахматовой.
Гослит был советским учреждением, но, как почти все советское, связанное с литературой и тем более с классикой, у этой советскости был отчетливо гуманитарный оттенок, допуск, прибавка вечного к кондовым принципам современности. Это был все-таки заповедник, и Ткачёв, и я, никак не связанные с редакцией советской литературы, где, несмотря на симпатичность и человеческую приятность редакторш, все-таки процветал дух секретарской литературы, мы были почти вольные – и это нас сблизило, сравняло в возрасте, дало возможность оценить друг в друге выношенную по отдельности независимость в суждениях и непредвзятость оценок того, что каждый по отдельности делал.
В Гослите Марик напечатал все лучшие свои переводы. Для Гослита он написал самые интересные свои предисловия и статьи. Там мне случилось быть его редактором. В редакционном плане стояло переиздание книги Нгуен Хонга. Переводил ее Ткачёв, а предисловие мы решили заказать человеку, который был не только душевным другом Марика, но его культурным ориентиром, литературным эталоном, образцом, недостижимым по чувству достоинства, юмора и вкуса, одним словом, должен был приехать Нгуен Туан, которого – единственного – Мариан звал Старик и которого до самой своей смерти поминал в каждом сколько-нибудь продолжительном разговоре, кстати и некстати, но с неизбежной тоской, как мать вспоминает о рано умершем ребенке, представляя его живым и шаловливым.
Жили мы тогда по-соседству. Ткачёв с первой своей женой Ирой снимал комнату в одном из писательских домов-кооперативов на Красноармейской, соседнем с тем, где жил и я. Так что за процессом работы над романом Хонга «Воровка» я наблюдал с близкой дистанции и постоянно торопил не укладывавшегося в оговоренные сроки переводчика. Ткачёв тоже поспешал, ибо по предыдущему опыту уже хорошо знал, что с приездом Нгуен Туана всю свою работу ему придется оставить – на нее попросту не будет времени. А Туан приезжал на довольно долгий срок, чуть не на месяц, так что план был такой: Ткачёв заканчивает переделки, из приехавшего Туана мы выжимаем небольшое предисловие, Марик его успевает перевести, а Туану мы успеваем заплатить несколько дополнительных рублей, которые лишними у этого выдающегося гуляки точно не окажутся.
Такова была, пользуясь любимым выражением Ткачёва, стратагема.
Да, забыл сказать, что «окучивание» приезжающих вьетнамских писателей входило в те годы в прямые обязанности Ткачёва, служившего в Союзе писателей, в Иностранной его комиссии, консультантом по Вьетнаму. Всякий консультант, даже тот, кто служил в Комиссии не только по этому делу, являл по отношению к приехавшим писателям один из ликов божества. Но только Ткачёв и только Нгуена Туана оберегал как вьетнамского бога, баловал его как отец, благоговел перед ним как сын и блюл его интересы как дух святой – такие были между ними отношения.
Надо отметить и еще одну – типичнейшую – черту в отношениях между консультантом и приезжими писателями-гостями. Часть программы согласовывалась и официальные визиты к секретарям союза или писателям – членам соответствующих обществ дружбы – оговаривались в расписании заранее, а все остальное время писатель, тем более не говоривший не только по-русски, но и не сильно подкованный в одном из европейских языков, оказывался, в сущности, в вежливой, но кабальной зависимости от своего консультанта-переводчика.
Так и вижу в Дубовом зале цедеэльского ресторана уединенные группки иностранцев за отдельными столиками, где любой проходящий писатель – желанный объект, где его представят, нальют рюмку, расскажут, с кем он тут сидит, какие удивительные писатели оказались его не то гостями, не то хозяевами.
С ткачевскими вьетнамцами такое случалось крайне редко, потому что были две причины тому, что за его столом случайных людей почти не было. Первое: за время работы в Инокомиссии Ткачёв выезжал во Вьетнам больше пятнадцати раз и всякий раз вывозил туда отборных людей: во Вьетнаме перманентно воевали, и случайно оказаться на этой войне или хотя бы возле нее у праздных писателей-туристов не хватало ни духу, ни меркантильного интереса. И во-вторых, у Ткачёва все его личные друзья были, если так можно выразиться, заточены под общение с вьетнамскими писателями, ибо переводами, рассказами, байками, воспоминаниями, восторженными и ироническими, он держал нас в курсе происходившего за тысячи верст от Москвы, ибо это – тоже – в московской повседневности было частью его каждодневной жизни. Друзья, приходившие к Марику домой, погружались в рассматривание интереснейших коллекций древних ритуальных предметов вьетнамского быта и уникальной коллекции храмовых игрушек, фигурок, которые Ткачёв собрал за годы своих постоянных поездок во Вьетнам. Поэтому рядом с То Хоаем или Нгуен Динь Тхи, с Хонгом или Туаном оказывались люди, так или иначе причастившиеся вьетнамской культуры, вьетнамской кухни, ткачёвского обаяния и живого, сочувственного интереса к писателям воюющего народа. Кого вывозил Ткачёв? Михаила Луконина и Константина Симонова, Евгения Евтушенко и Аркадия Арканова, Аркадия Стругацкого, Георгия Садовникова. Словом, то, что Марик умел душевно заинтересовать Вьетнамом крупных советских писателей, сделало вьетнамское направление в деятельности Инокомиссии СП ведущим.
И еще одно сугубо профессиональное качество Мариана, которое здесь необходимо упомянуть. В Комиссии вообще работали энтузиасты своих литератур и первоклассные знатоки иностранных языков. И все-таки на общем очень высоком языковом уровне искусство Ткачёва как толмача было несравненно. С ним мог состязаться в этом только наш общий приятель Влад Чесноков, блистательный толмач с французского. Кстати, поскольку приезжавшие вьетнамцы в большинстве своем неплохо владели французским, Влад также был частым нашим собутыльником. Я употребляю слово «толмач» для обозначения важнейшей из ипостасей переводческой профессии – устного перевода. Перетолковывание одной речи на язык другой – это искусство не всегда доступное тем, кто уверенно себя чувствует при письменном переводе, и заметно отличается по технологии от перевода синхронного, требующего отдельных и специальных приспособлений психофизики. Так вот Ткачёв был несравненным Толмачем, пишу это слово с большой буквы, потому что за любым столом, где мы беседовали с вьетнамцами, всегда царили веселье, непосредственность, дух единения и возникала иллюзия взаимопонимания вне пределов языкового барьера. Птичий клекот вьетнамской речи, со всеми подъемами и спусками, в устах Мариана звучал просто, изысканно и естественно. И самое главное, что я знаю не с чужих слов, ибо мне самому не раз приходилось выполнять подобную работу, Мариан умел переводить юмор, а по большому счету это и есть высший переводческий пилотаж.
Но это я забежал вперед. А мы с Ткачёвым еще работаем над книгой Нгуен Хонга и ждем, первого на моей памяти, приезда Туана. Этот человек так много значил в жизни Ткачёва, что стал потом отдельной величиной в семьях его друзей, отдельной памятью, отдельной улыбкой, а иногда и отдельной заботой, поэтому не могу удержаться и не попытаться изобразить нашу с ним первую встречу у Мариана, в снимаемой им комнате, где спят на прикрытом вьетнамской тканью матрасе, а едят на маленьком журнальном столике и мы с Ткачёвым еще не совсем друзья, но пристально присматриваемся друг к другу. И от того, как мы с Туаном встретимся, зависят наши будущие отношения с Ткачёвым. А комнату эту Ткачёв, как уже сказано, снимает в соседнем с моим доме, и приглашен я туда отчасти как сосед, больше как редактор, ну и с еще не совсем определившейся перспективой приятельства.
Если у вьетнамцев есть свой бог, он должен быть похож на Туана. Ну не бог так божок, по причине малого туановского размера. Но божок не для домашнего, а для храмового употребления, все и всех понимающий, с бесконечной терпимостью и сопровождающей ее иронией относящийся к слабостям своей паствы, удивительно соразмерный, как будто вырубленный гениальным скульптором по классическим канонам соразмерности из теплого камня. Вы спросите, как это: камень и теплый? Но в этом и была одна из неразрешенных загадок этого замечательного вьетнамского художника: актера, графика и писателя, абсолютно штучного, ни на кого, из тех с кем мне за жизнь довелось общаться, не похожего. Мы пили привезенный им вьетнамский рисовый самогон из крохотных, столетних железных вьетнамских рюмочек, которые на этот случай хранились где-то у Марика в хозяйстве. И хотя водка намного вкуснее и, так сказать, спитобнее, никому не пришло в голову нарушать когда-то установившийся ритуал. Вообще в отношениях Ткачёва и Туана было много ритуального, культового, как и положено во всякой религии, и можно было это принимать или не принимать, но покуситься что-то изменить – извините! Мы быстро и между делом договорились о предисловии, его содержании и объеме, но от разговора о сроках Туан величественно отмахнулся. Ощущение от вечера было такое, словно я познакомился с очень большим человеком, но он ни разу не дал мне этого почувствовать.
Двумя днями позже Нгуен Туана принимал на даче, в Пахре, мой отец. Так совпало, что к этому моменту на даче закончилась очередная перестройка и в столовой появился настоящий бар, со стойкой и тремя вертящимися тарелками-седалищами. По случаю открытия бара отец закупил в тогдашней «Березке» большое количество экзотических напитков, но гвоздем сезона, королевой бала была огромная трехлитровая бутыль, набитая доверху красной рябиной и залитая водкой. Напиток этот впоследствии именовался симоновкой, имел нежно розовый цвет и потрясающий, ни с чем не сравнимый вкус свежести, лишенной каких-либо сивушных привкусов. Ему и отдана была честь быть главным напитком вечера, и я так нарябинился, что, пока не уснул за обеденным столом, не давал никому толком слова сказать, а требовал, чтобы Ткачёв перевьетнамил мои длинные и, как мне, видимо, казалось, очень остроумные восточно-цветистые тосты. Туан, как свидетельствуют очевидцы, был со мной снисходительно нежен, закрывал меня принесенным для этого пледом и приговаривал: «Симонов-фис, ах, Симоновфис», что по-французски означает сын Симонова.
Проснулся я на той же даче в огромном отцовском кабинете без всяких признаков алкогольного синдрома, но с неприятным ощущением, что я что-то делал, а что – решительно не помню. Было раннее утро, и я ничтоже сумняшеся вылез из окна кабинета, благо он на первом этаже, и почесал по грунтовке километра два до самого шоссе, а потом проголосовал какому-то грузовику и уже в 7 утра был на Красноармейской, но почему-то не в своей квартире, а у дверей квартиры, где снимало комнату семейство Ткачёвых. Более никогда я не видел Ткачёва таким растерянным. Со сна, в кое-как натянутом халате он, бледный, выпучил на меня свои прекрасные еврейские глаза и, запинаясь, сказал фразу, которую мы потом обыгрывали всю оставшуюся жизнь: «Алеша, но я же сдал свою работу, еще позавчера…» Изумление его было столь велико, что никакое иное объяснение моему раннему визиту в нем просто не родилось. Так в дальнейшем и распределялись жизненные роли: я – зверь – редактор, Ткачёв – жертва несправедливости. И хотя всего через несколько лет я ушел в кино, какой-то оттенок этих ролей присутствовал в нашей с ним жизни.
Из этой истории Марик потом выточил устный рассказ или байку, где отчасти правдой, а отчасти изысканно вытканной словесной тканью в единое повествование были слиты Туан, Симонов-пэр, т. е. отец, Симонов-фис, т. е. я, присутствовавшая при сем наша общая подруга из Иностранной комиссии Мирра Солганик и сам бытописатель Ткачёв.
Тут я прерву незамысловатый сюжет о том, как напечатана была повесть Нгуен Хонга «Воровка», и сделаю лирическое отступление о ткачёвских байках.
Пересказывать их все равно что оказаться в положении генерала из анекдота, силящегося пересказать шутку своего денщика – на неуклюжем армейском, вместо хулиганского простонародного. Байки, безусловно, восходили к фольклору: у них было несколько постоянных героев и куча эпизодических, они огрубевали на бумаге, и потому я не рискну сделать то, чего не смог сделать и Ткачёв, хотя мы не раз и не два его об этом просили, – записать их неуклюжими бумажными словами. Они были одесские, тем более что все постоянные герои были лошадками из ткачёвской одесской конюшни – друзьями его юности, участниками долгой совместной или, по крайней мере, рядом текущей жизни. Нигде так ярко не сверкало это качество Ткачёва – одесское джентльменство, – как при рассказывании этих баек. Они всегда были пряными, но – на грани приличия, а если и за этой гранью, то они были такими смешными, что даже в голову не приходило ему за это пенять, пусть и при дамах.
Четыре главных героя ткачёвского фольклора: Табак – великий врач, Бирбраир – великий физик, Калина – великий изобретатель и крохотный Леня Спекторов по прозвищу Дантон. В различных комбинациях к ним присоединялись одесские и кишиневские родственники, болельщики «Черноморца», москвичи – приезжие, одесские писатели разных лет и поколений, любимая Марикова тетя Люся, в чьей комнате в одесской коммуналке происходило многое из рассказанного, и другие персонажи.
Тешу себя надеждой, что я и сам – человек, не лишенный чувства юмора, но поставить меня на голову от хохота удавалось только Марику, причем не раз и не два. По крайней мере две трети нитей в ткани ткачёвских сюжетов были правдой, но правда никогда не была гранью между подлинным и выдуманным – она причудливо пересекала эти истории наперекосяк. Ткачёв выступал эдаким конферансье, выводившим персонажей на арену, именно ироничным конферансье, а не громогласным шпрехшталмейстером. Он никогда не терял маски отстраненности, хотя интонационно изображал своих героев настолько точно, что я, когда мне наконец довелось познакомиться с ними лично, поразился: их интонации и лексику я, оказывается, уже знал наизусть.
И все-таки не удержусь и рискну рассказать одну маленькую историю из ткачёвского репертуара.
Одесса, конец шестидесятых. Уже все бывшие одесситы определились и оперились. Марик – в Инокомиссии Союза писателей, Боря Бирбраир, с которым они знакомы с горшкового возраста, – уже чуть ли не доктор наук – физик, работает в Гатчине, Саша Калина – кандидат, консультант Госплана, и все летом съезжаются в Одессу, где корни, друзья детства и счастливая атмосфера восторга по поводу их успехов. С утра купили на Привозе бычков, и любимая всеми Марикова тетя Люся жарит их на своей коммунальной кухне. Чтобы ей не было скучно на кухню отрядили Бирбраира.
И вот бычки шипят на сковородке, а тетя Люся – женщина любознательная и по-одесски острая на язык – допрашивает Бирбраира, чем же он в этой физике занимается. В этот момент в кухню входит Калина и видит, как основательный и нестерпимый зануда Бирбраир берет блокнот и начинает писать в нем бесконечно длинную физическую формулу, давая по ходу дела необходимые пояснения. Итак, Одесса, коммунальная кухня, аппетитно коричневеющие бычки, блокнот и формула, о которой потом великий Дирак скажет, что это большой шаг в познании физики твердого тела. И тетя Люся, которая согласно кивает, не понимая ни одного слова кроме предлогов «и» и «но». Калина начинает ржать. Бирбраир делает паузу, вновь просматривает свои исчисления и говорит, обращаясь к тете Люсе: «Тетя Лю-у-уся, почему этот духак смеется? Здесь же все совехшенно пхавильно!»
Одессу Ткачёв любил нежно и преданно, горевал, когда чувствовал, что город его детства сдает позиции, теряет лицо.
Когда в семьдесят первом году я должен был впервые поехать в Одессу – снимать фильм об Утесове, – Марик, открыв записную книжку, подробно продиктовал мне все адреса достопримечательностей, сохранившихся в одесских дворах, которые что-то говорили бы об утесовской Одессе: колодцы, ворота, балконы, старые деревья, решетки – причем, когда мы с Эмилем Левиным – тем самым – прибыли в Одессу, эти исторические раритеты оказались намеренно продиктованы в такой последовательности, что мы, не знающие Одессы, раз восемь проехали от одного к другому через центр города и уже начали в нем отчасти ориентироваться.
Но пора вернуться к роману Хонга и предисловию Туана. Лукавый бог все время ускользал. На встрече в журнале «Юность», где он почему-то оказался без Ткачёва, мы объяснялись с ним знаками и рисунками. Потом долго приходила от Старика мне адресованная бутылка самогона с иероглифами, с повешенным бородатым чуваком, от руки нарисованным на этикетке. Однажды я вынужден был изгнать из номера Туана в гостинице «Пекин» друга нашего Эмиля Абрамовича, поскольку никак нельзя писать предисловие, выпивая и взаимодействуя на уровне улыбок и касаний, а те сто слов, которые Эмиль знал по-французски, будучи выпускником Щукинского училища при Вахтанговском театре, помогали ему скорее как аксессуары, а не как обозначения смыслов. Словом, над Туаном надо было учинить насилие, но Ткачёв решительно отказывался в этом помогать. Понимал, что нужно, более того, заинтересован был как переводчик романа, но… не мог, это выходило за рамки их взаимных ритуалов.
Только сейчас пришло понимание, что в иных ситуациях я, со всей этой окололитературной жизнью, становился еще одной лошадкой из конюшни Мариковых баек и хотя во мне не хватало одесского лоска, но Ткачёв как-то справился. Я ведь часто смеялся и над его рассказами… обо мне самом. Так вот, воспроизвожу это моими жалкими словами и усилиями памяти.
ЦДЛ. Прощальный обед (или ужин), который мой отец устраивал в честь Туана. Заняты два столика, но не сдвинуты, а так, на расстоянии. За одним сидят отец, Ткачёв, кто-то из вьетнамцев, Арканов, еще кто-то, а за другим, с блокнотом и ручкой, Нгуен Туан – он заканчивает предисловие. Туан кипятится и в виде пара пускает со своего столика всякие замечания вроде того, что он издавался в Париже, что его уважали в издательстве «Галлимар», но нигде с ним не обращались как с литературным рабом. Тем не менее сидит он отдельно и …дописывает, не делая попыток выйти из-за стола и присоединиться к гуляющей под ткачёвский перевод компании.
Ткачев слегка шокирован таким демонстративным насилием над классиком, но в то же время необычность ситуации его тайно радует, и он между делом переводит еще и реплики, которыми по ходу дела мы перебрасываемся с Туаном. А все его демонстративные потуги прервать этот процесс я пресекаю, нахально, но резонно обвиняя его в попустительстве, результатом коего и служит сложившаяся ситуация. Так продолжается минут сорок, Туан кончает предисловие и торжественно перемещается за наш стол. Он демонстративно разгневан, но горд собой и доволен тем, что закончил, наконец, эту статью.
Последний раз живым я видел Мариана за несколько часов до смерти. Из живота откачали жидкость, он был в сознании, и мы около часа разговаривали. Так вот – чуть не половину времени темой нашего последнего разговора был Нгуен Туан, и мы оба (притворно по отношению друг к другу и искренне в отношении несбывшейся нашей мечты) безумно жалели, что, когда наконец мы вместе поедем во Вьетнам, без этого человека он окажется вполовину пуст.
* * *
Должно же ему было когда-нибудь повезти! И наконец, третий по счету, его брак оказался не просто удачей. Инна была его счастливым билетом. Она как лиана обвила ствол его жизни, укрепляя и украшая эту жизнь, а в конце и продлив ее на несколько лет, причем эти нежные, лишенные демонстративности объятия питались своими корнями, не посягая, а заботливо опекая его литературные труды и заработки.
Ткачёв в семье должен был доминировать. И если первая жена не могла его по-настоящему оценить, а вторая – не хотела с этим мириться, то Инне это было совсем не в тягость. Она была женщина пластичная, и при этом прочно стояла на своих ногах, а потому легко приспособилась к манере Мариана словесно прессинговать близких по всему полю, практически этот прессинг пропуская мимо ушей. Она была ему ровня, и ее совсем не угнетало, что для окружающих, в их домашнем театре, она была персонажем второго плана, оттенявшим фигуру главного семейного героя – с его байками, специфической манерой общаться, постоянством занятий и друзей. За много-много семейных праздников я буквально раз или два видел в их двух домах ее друзей, ее родственников, хотя она с ними общалась и Марик был к ним снисходителен и не агрессивен.
С каждой из его трех жен связано было отдельное жизненное пространство. На долю первой – медсестры по роду занятий – неуют съемных комнат. Когда Ткачёв определился, когда ему наконец дали квартиру в писательском доме на Малой Грузинской, Ира как-то сразу исчезла, по-моему, не оставив по себе сколько-нибудь сильных воспоминаний. Она была подруга типа парижских белошвеек или модисток, верная в бедности и исчезающая при выходе героя из тени. Никакой связи с делом ткачёвской жизни, с литературой ни тамошней, ни тутошней она не имела, да и не рвалась иметь. Я ее больше никогда не видел, но слышал от Марика, что она вышла замуж и уехала куда-то в Венгрию.
Вторая жена появилась именно в этой, тогда еще новой, крохотной, двухкомнатной квартире и довольно быстро заполнила все ее жизненное пространство. Была она очень молодая, дебелая, с восточным разрезом глаз и в той своей молодости ослепительно красивая. Она была очарована блеском окружившего ее мира – именами Мариковых друзей, шикарным уютом цедеэловского ресторана, приезжавшими иностранными писателями и ей, естественно показалось, что это и есть ее новая жизнь. А оказалось, что за этим блеском Мариковы ежедневные часы за рабочим столом, изнурительные командировки, что ЦДЛ – это не только шик дубовых панелей, но и место работы и т. д. Оказалось, что Ткачёв никак не жаждет превратиться в оправу для обретенного им бриллианта, тем более что кроме молодости и прелестности других блестящих граней у нее было не так много. Кроме того, у нее оказалась мама, которая точно знала, кто, как и что должен делать для пущей прелести ее чада. Словом, семейная жизнь не складывалась, начались конфликты, перераставшие в скандалы, а Ткачёв, если помните, я определил его как странную смесь бабелевского босяка и английского джентльмена, так вот в этих разборках иногда сквозь сдержанность одесского джентльмена проступала далекая от рафинированности ярость босяка, особенно когда речь шла о теще. Аппетиты семейства были Ткачёву не по нраву, не по карману, не по душе и не по образу жизни. При этом переживал Марик жутко, долго пытался все вины перекладывать на вмешательство тещи, и даже рождение долгожданного сына Сашки уже не могло склеить растрескивающийся кувшин семейной жизни.
Через много лет на свадьбе Ткачёва-младшего я увидел величественную гранд-даму, его мать, в которую перевоплотилась эта очаровательная когда-то барышня.
Потом был развод, Ткачёв ушел с Малой Грузинской, ушел, по сути, в никуда, но его в этом доме так никогда и не простили. Ни его бывшая жена, ни – что куда сильнее его ранило – его горячо любимый сын. В отношении к нему Саши всегда присутствовала какая-то тень недоданного. Тем не менее как-то эти отношения наладились. Ткачёв следил за успехами сына, старался им способствовать, выводил и вывозил его в свет, сдружил его со своими друзьями, возил к Калине в Америку, устраивал на телевидение, словом, не просто исполнял отцовский долг, а вкладывал в сына, что мог, но шрам так и не зарубцевался. На похороны Марика Саша не пришел. И у меня есть отвратительная догадка, что это случилось не столько по причине прошлых ткачёвских прегрешений, реальных или надуманных – не важно, а по причине очевидной бесперспективности: папа ушел и сделать для сына уже ничего не сможет.
Инна – третья ткачёвская жена – была не ангел, но ангелом-хранителем Ткачёва стала безусловно и однозначно. Их дом был ее домом, но царствовал в нем Мариан Николаевич. Инна была известным в Москве акушером-гинекологом, принимала всех наших детей и даже внуков, к ней обращались многие знаменитости от Березовского до Борового, и она «рожала» им их ненаглядных чад, и так естественна была любовь и благодарность бесчисленных ее клиентов, ибо голова у нее была светлая, руки – замечательные, а ее участие в решении демографических проблем Родины было главным делом жизни: в любую минуту она готова была мчаться в свою клинику спасать, помогать, утешать, а главное – способствовать появлению на свет здоровых и желанных детей. И эту святую сферу ее деятельности она охраняла, ради нее могла многим пожертвовать, и Мариан уважал и втайне восхищался этой стороной ее жизни, хотя жертвовать ей зачастую приходилось и его интересами, и его удобствами. В этой «стороне» была недоступная всем нам, простым смертным, волшебная тайна рождения новой жизни, и эту тайну мы могли и постичь и оценить только через ее рассказы: новомодные штуки вроде присутствия отцов при родах Инна не одобряла и чужих туда, где она совершала свое таинство, не допускала. В согласии с профессией, Инна была женщина практичная, но прятала эту практичность в некую наружную беспомощность и недотепистость, тем самым давая Марику еще и дополнительную возможность играть по отношению к ней роль покровительственную и слегка насмешливую.
Вытащив Ткачёва с того света, она не просто поддерживала в нем оптимизм, она подарила ему три года жизни, в которой он чувствовал себя полноценным и достаточным, хотя вместо желудка, вырезанного вместе с раком, хирурги сшили ему заменитель из подсобного материала кишок. Он и ел, и пил что хотел и сколько хотел. Мог выходить в свет и принимать друзей дома, мог даже ездить в недальние путешествия. Единственное, чего он уже не мог – это получить от этого то же удовольствие, что и раньше. Марик потух, и тут Инна была бессильна: лечить бессмертную душу в отличие от бренного тела – не врачебное это занятие. Для этого наша маленькая докторша старалась привести к нему других лекарей – из числа старых друзей. Но с этим было тоже непросто.
К тому времени как Мариан умер, давно уже отошел и второй его кумир, не такой далекий, как Туан, и потому менее бесспорный. Этим кумиром был старший из братьев Стругацких – Аркадий Натанович. И если Туана Марик всегда называл Стариком, то для Стругацкого у него было не менее уважительное прозвище – Классик. Несогласия в оценках деяний Классика, что литературных, что житейских, что питейских, Марик не терпел, мог поссориться с другом, если тот не выказывал в своих оценках должного, по мнению Ткачёва, почтения, и надо было семь раз подумать, прежде чем высказать при Ткачёве какое-то крамольное соображение по поводу Классика, даже если оно касалось незначительного, не имеющего принципиального значения произведения или поступка. Он был одарен дружбой своего кумира и полным его доверием, настолько, что ему случалось бывать и наперсником, и посредником в непростых семейных обстоятельствах жизни Стругацкого, за что был нелюбим его женой и очень этим бывал расстроен, огорчен, обижен. Его верность Классику была безмерна. Но и Классик иногда бегал по манежу ткачёвских баек в качестве дрессированной лошадки. Байки были, как правило, беззлобные и – всегда – смешные. В этом альянсе Ткачёв – Стругацкий-старший отражалось некое соотношение сути каждого из них. Ткачёв был образованнее и, рискну сказать, умнее, тоньше, но в Стругацком при всей его разбросанности и даже разгильдяйстве был такой напор созидательного начала, который у интеллигентного интерпретатора Ткачёва вызывал тайный восторг и явное поклонение этому, ему не свойственному качеству.
Ткачёв был великий переводчик с вьетнамского.
Ткачёв был фантастически образованный человек.
Ткачёв любил музыкальную классику и разбирался в ней на уровне профессионала, хотя никогда, разве что в одесском детстве, не брал уроков музыки.
Ткачёв был человеком с ярко выраженной индивидуальностью, заразительной, легко принимаемой его окружением, т. е. то, что называется лидер по жизни.
Но писателем так и не стал, оставаясь и в собственных оценках, и в глазах окружающих выдающимся литератором – не меньше. Но и не больше. И, видимо, очень много об этом думал и жестоко был этим уязвлен. Что послужило тому причиной – сказать не берусь, но судьба его повести о Пушкине в Одессе, над которой он работал последние лет двадцать, кумиры, которых он себе выбрал в России и во Вьетнаме, как мне кажется, свидетельствуют, что по гамбургскому счету писательство было для Мариана чем-то столь высоким, что оказалось недостижимым по его же собственным завышенным критериям. И дерзкий, талантливый и успешный в решении задач, рассматриваемых им как локальные, он так и не смог избавиться от недостижимости критериев в искусстве вечном.
Был в Ткачёве какой-то внутренний рубеж, край, дойдя до которого ты, сам того не подозревая или по легкомыслию, переступал… и наталкивался на взрыв отрицательных эмоций, судорожно, т. е. плохо артикулируемых, но ставящих резкую грань между тобою и Мариком. Он, как истинный революционер, т. е. человек, не способный понимать резоны и нюансы, начинал строить между собой и «бывшим» уже другом баррикаду, в которую тащил все – и остовы троллейбусов, и придорожную мелочь. Такой баррикадой он отгородился от друга детства Бори Бирбраира, от приятеля всей своей московской жизни Володи Брагина, от вдовы Эмки Левина – Флоры, на каком-то этапе за такой баррикадой едва не потерялся Шурик Калина. Только время и нерастраченная нежность ранних воспоминаний могли побудить Ткачёва со временем проделать проходы в этом искусственно выстроенном эмоциональном нагромождении истинных грехов и ничтожных событий. На моей памяти он дважды насмерть ссорился с Бирбраиром, причем второй раз – навсегда. На моей же памяти произошло возвращение в ткачёвскую повседневность Калины, давно к тому времени уехавшего в Америку. За этими фатальными разрывами, а жертвами их могли стать только очень близкие Ткачёву люди, угадывался какой-то комплекс недореализованности, который Мариан скрывал от всех, но что-то вроде «он так и не реализовал авансы своей юности» за этим стояло.
Когда, после смерти Мариана, я сел за его письменный стол, на самом видном месте лежало несколько больших бухгалтерских книг, где витиеватым, но легко читаемым ткачёвским почерком были переписаны и осмыслены сотни ссылок, на чужие воспоминания, документы, исторические анекдоты и жизнеописания, уточняющие неподъемно огромный круг околопушкинской жизни на десятки лет до и на десятки лет после, а сам текст, ставший для меня чем-то сродни мифу, был спрятан где-то в дальнем ящике стола. Так мы его и не нашли.
Москва, 2007–2010 гг.
(По электронной почте) с комментариями Александра Калины
Бирбраир-младший – Лев Борисович:
Не уверен, что это была хорошая идея – попросить меня написать что-то. Но буду стараться. Я уже около 25 лет ничего по-русски не писал. Даже в записках домашнего пользования делаю такие ошибки, что представить себе невозможно. Типа: вопрос «ты спал?» пишется на смеси кириллицы и латинского алфавита. Так что сами расхлебывайте, если что. Кроме того, deadline вы назначили очень жестко. Но с другой стороны, когда бы его ни назначить, я собрался бы писать всё равно в последний момент. Короче, сейчас так сейчас.
А написать хочется… Марик Ткачёв в моей жизни сыграл заметную роль. Это забавно писать хотя бы потому, что встречались мы по-касательной. Никакой связи с литературным миром, где он жил, у меня не было и нет. Никакого «административного» влияния он не оказал (хотя не знаю, можно ли себе представить Мариана Николаевича, оказывающего административное влияние на что-то или на кого-то). Хотел в следующей фразе написать, что-де, мол, общих друзей у нас не было, но вспомнил, что это неверно! И еще как неверно. Итак, какую же всё-таки роль мог оказать непрактичный российский литератор на вполне практичного бразильского математика при полном несовпадении «сред обитания»?
Итак – первое. Дело в том, что Марик Ткачёв был в моей жизни с самого ее начала. Случилось так, что мой отец и он выросли в одной одесской комуналке (коммунальной квартире, если сможете, объясните читателям, что это такое, – мне трудно. Пробовал – не получилось.). И довольно близко дружили, как могут дружить два мальчика одного возраста, выросшие практически вместе. Между прочим, мне кажется, что это единственное, что у них было общего. Если бы не выросли вместе, вряд ли встретились бы и даже если бы встретились, вряд ли стали бы общаться. Хотя… нет, не могу ничего гарантировать.
Потом они учились вместе в школе. Потом была некая история про «Шипы и Розы». Понятия не имею, о чем шла речь. Стенгазета вроде бы… В те времена за стенгазеты много чего могло произойти…
– Далее Калина из Хилсборо по телефону:
В Одессе в то время было буквальное помешательство на чтении книг. Все читали. Более того, к этому времени на углу Дерибасовской и Решельевской у Центрального одесского телеграфа собирались так называемые вечерние книжники, и там обменивались книгами. Давали читать. Тогда трудно было достать книги, и поэтому читали много и все подряд. Читали и мы. А однажды, когда мы гуляли – Марик, Борька и я, – Марик завел разговор о том, что в старые времена до революции гимназисты издавали свои гимназические журналы, а теперь вот ничего такого нет. На что я и сказал, за чем же дело стало, давайте возьмем да и сделаем. Марик выразил согласие и написал много прозы и стихов для этого журнала. Я взял все это, отнес к машинистке, она отпечатала в пяти или семи экземплярах, я переплел, потому что умел это делать. Получилось где-то страниц пятнадцать, уже не помню. И я придумал название «Шипы и Розы». Получился такой юмористический журнал, альманах с эпиграммами на наших школьных товарищей, одноклассников с рассуждениями о том, какие они, и прочее.
В качестве примера я приведу стихи Марика, которые там были опубликованы:
Как грустно мне твое явленье. Весна – экзаменов пора. Какое чувствую томленье, когда до самого утра с лицом печальным и унылым с учебником давно постылым с лампадой тусклой в сорок ватт запомнилось только так О, долго ль мне еще томиться и много ли ночей не спать? И бегать темы узнавать туда, где школьников толпится народ, веселый и без брюк, вздымает руку гордый Дюк.В Одессе был обычай: школьники перед экзаменами собирались на Приморском бульваре около памятника Дюку де Ришелье и обменивались слухами о том, какие будут темы сочинений на завтрашний экзамен. Дюк де Ришелье – благодетель Одессы и очень был популярен во всех одесских мероприятиях.
Наш журнал в пяти или семи экземплярах был пущен по рукам, и о боже! Что началось! Через четыре – пять дней журнал достиг недремлющего ока наших учителей и других окружающих. Описать невозможно, как наш нецензурированный, неразрешенный журнал смог проявить все! Заговор и тому подобное! Нас вызвали на комсомольское собрание. Марик был уже комсомольцем, а я по причине своих проказ был только кандидатом в члены ВЛКСМ. Причем настолько они нас обвиняли, что вспоминать об этом смешно и грустно. Достаточно сказать, что все обвинения сводились к обвинению в троцкизме. Причем здесь троцкизм?!
Дела врачей еще нет, а дух космополитизма есть. И все были безумно запуганы. Вдруг неподцензурные какие-то мальчишки взяли и выпустили журнал! Когда собралось комсомольское собрание разбирать наши стихи, то они не знали, что нам приписать! Тогда и возник троцкизм. Почему троцкизм? Я должен сказать, что и теперь я не знаю, что такое троцкизм, а тогда, в чем заключается теория Троцкого, мы не имели ни малейшего представления.
Но шухера было много, шума было ужасно много. После чего все это пошло в райком комсомола, и там нашелся один разумный человек, который сказал, что вы подняли шухер, какие-то ребятишки баловались, ну и бог с ними.
Марик и Борис отделались выговорами по комсомольской линии, а мне даже некуда было выговор выносить. Что касается меня, то за месяц-полтора до этого инцидента, я стал всего лишь кандидатом в члены ВЛКСМ, так как стрелял из рогатки в окно директора школы, промахнулся и разбил стекло, мне уже дали выговор. Так я никогда не стал комсомольцем, и слава богу!
Марика родители забрали в Кишинев, где он доучивался в девятом и десятом классе. Борька ушел в другую школу, а я остался один терпеть еще целый год. Когда после девятого класса я написал Марику, что ухожу в другую школу, Марик написал мне такие стихи:
Я из письма Бориса знаю, что ты к ним в школу перейдешь. Я твой поступок одобряю, все ж тех скотов там не найдешь, что в нашей школе обитают…Ну а дальше что? Я всегда очень любил Ткачёва за его непередаваемое остроумие, за ясный, глубокий ум. Марик очень любил серьезную музыку, он первый уговорил меня пойти в одесский оперный театр.
Потом, когда я переехал в Москву, мы с ним снова встретились, и дружили до тех пор, пока я не уехал в Америку, а потом он приезжал ко мне сюда, и это продолжалось, пока Марик не ушел от нас. Так что, к сожалению, написать о том, какой это был остроумный, веселый, добрый человек, у меня не получается, не дал мне Господь никакого таланта литературного, увы, а что делать? Да и прошло 65 лет!
Февраль, 2014 г.
Не берусь судить. Никто мне про это ничего не рассказывал, я знаю лишь по намекам. Короче… вот так он появился в моей жизни. В двух лицах. 1-е – дядя Марик, с которым всегда было приятно разговаривать. Начиная со стандартных вопросов, которые маленькие дети задают всем всегда. «А почему…?» Что родители обычно на это отвечают? Правильно – отвечают «заткнись!». Или что-то бросают на ходу. Сам так делал. А вот дядя Марик говорил что-то особенное. Совершенно не помню, что именно. Типа: «That is how the things are!» Чувствуете разницу? Такой ответ создает ощущение сопричастности, единения. Конечно, тогда у него не было своих детей. Я вообще появился раньше детей друзей моего отца и был мальчиком, в отличие от моей сестры Светы. (Кстати, надо будет у нее спросить, появлялся ли Марик Ткачёв во времена ее детства. Так чтобы она запомнила… Но не об этом речь.)
Появлялся дядя Марик иногда в сопровождении людей из Вьетнама. К слову, о Вьетнаме. Но это совсем другая история, которая заслуживает быть помянута в этих воспоминаниях. Совсем дугие общие занкомые с Марианом Николаевичем. Совсем из другой жизни. Итак с этими вьетнамцами мы ходили в стандартный Гатчинский парк. Я стандартно уставал после какого-то времени. И меня кто-то из них, чаще всего кто-то из вьетнамцев, нес. Что это были за вьетнамцы – не помню. Скорее всего То Хоай, которого Марик больше всего переводил. С этим временем связаны воспоминания про книжку о кузнечике Мене, которую мне иногда читали. Но это Номер один. Номер два: «Ткачёв, о котором я больше ничего слышать не хочу». Фраза моего отца. Разумеется, в моей голове это было два разных человека.
ОК – это первый, начальный период воспоминаний. Сейчас буду делать другие вещи. Продолжение потом напишу.
Где-то в 1966–1967 вроде бы году появился выпуск журнала «Иностранная литература» со стихами То Хоая в переводе Марика Ткачёва, посвященными мне (мне было 3 года или около того). Я думаю, не трудно найти журнал. У меня его, разумеется, нет, электгронной версии не существует – это я проверял. Подборка стихов была хорошей, я бы даже сказал. очень хорошей. Всё оттуда, к сожалению, не помню. но одно из стихотворений воспроизвожу по памяти:
Мышь, обожавшая всё красивое, Купила на днях кусочек пирожного. Сразу кузена она попросила Кусочек обгрызть по краям осторожно и сделать овальным, как на витрине в кондитерском магазине. Кузен и справа и слева кусал, Увлекшись нелегким делом. Очень уж сложная форма – овал… Та к весь кусочек и съел он. Мышь поняла, что кузен – плут, И подала на него в суд.Невозможно себе представить, что же было написано по-вьетнамски. Для меня это – стихи, которые писал сам Марик и писал их мне. Что, скажете, намного хуже стихов из «Алисы» в русском переводе? Кстати, про «Алису».
Не помню, откуда я знал наизусть все стихи оттуда, еще до того, как научился читать. Скорее всего мы с мамой их много раз читали. Когда я был дома у Мариана Николаевича (я каждый раз называю его так, как называл тогда, когда мы встречались. Поэтому путаница – Марик – Мариан Николаевич неслучайна) уже вполне в приличном возрасте мы с ним получили удовольствие от цитирования этих стихов.
Опять же – ощущение сопричастности. Потом еще много лет спустя польский математик Tadeusc Mostowski мне цитирвал те же самые стихи по-английски, а американский математик Walter Neumann подхватывал и заканчивал цитаты из этих же стихов. Да, «Алиса» совершенно невероятно популярна. Но чтобы люди из совершенно разных кругов помнили бы ТЕ ЖЕ СТРОЧКИ. Вот это выглядит почти невозможным. И все-таки… таким вот образом выхватываются из толпы те «твои» люди, с которыми хочется общаться, разговоры с которыми имеют несколько планов, несколько уровней. Так вот теперь я знаю совершенно точно, почему я хочу писать о Мариане Николаевиче. Он для меня был первым «тем» человеком, первым, выделенным из большого количества людей, мелькавших вокруг.
Я написал про детские воспоминания. Тут некоторое количество лет придется опустить. Дело в том, что где-то с моих 8 лет до где-то 17–18 Мариан Николаевич ВООБЩЕ не появлялся. Это связано со спецификой их отношений с моим отцом. Они ссорились достаточно часто и каждый раз – навсегда. Именно эти 10 лет, о которых я пишу сейчас, они практически не общались. Почему это было? Тогда это меня не занимало – it is how the things are. Сейчас я иногда задаю себе этот вопрос: «что же, собственно происходило?» Есть у меня на этот счет некая теория, но о ней позже, если вообще до этого дойдет.
Новости про Ткачёва (сейчас буду называть его так, по фамилии) привозили Алексей Кириллович Симонов, Калина и Володя Брагин. От кого-то из вас я по-касательной и узнавал о его разводах, женитьбе, рождении сына Саши… Это была «с Ткачёвым связанная компания», но с ними у отца каким-то образом были и независимые отношения. Впрочем, Калина довольно скоро отправился в Америку и тоже пропал, хотя как-то менее определенно (definitive в этом месте было бы лучше, чем русский перевод). О нем доходили все время какие-то благожелательные слухи. А о Мариане Николаевиче – почти ничего. Впрочем, я не могу стопроцентно за это поручиться – началась своя жизнь, и взрослые стали интересовать меня меньше. Итак, Ткачёв из моей тогдашней жизни пропал. А жаль. Такого рода «свои» люди появляются нечасто, и надо бы, чтобы они не пропадали. Хотя тогда это от меня, пожалуй, не зависело. А забываться он не стал. Его фигура как-то долго маячила, как-то незримо присутствовала. Слишком он был непохож на других людей, которые окружали меня в тот период. Мелкие детали – расческа, сделанная из американского самолета, сбитого во Вьетнаме, перламутровая шкатулка, книжки, которые он переводил (тот же «Кузнечик Мен», к примеру). Многое о нем напоминало. Но «Время шло все равно и шло бы, не будь ни коровы, ни луга: ни зелени, ни утробы…». И вот где-то в 1981 году мы снова встретились. Но это уже совсем другая история, тут я увидел всех «взрослых» уже своими собственными глазами.
Где-то в 1992 году я позвонил Мариану Николаевичу, когда был в Москве. Как-то сидя у Евгении Самойловны, когда она говорила по телефону, я у нее на столе увидел Livret d`accueil Союза писателей. Там был адрес и телефон М. Н. Ткачёва. Евгения Самойловна сразу сказала: «Ну так позвони». Я в эту же секунду вытащил из кармана мобильник. (В Москве, в 1992 году!!!!! Вот в самом деле что с нашими воспоминаниями происходит-то! Я почти физически помню, как звонил из Ленинграда в Гатчину по мобильнику в 90-е годы, как посылал Марине e-mails со старой Toshibы с Windows-98 в ту эпоху, когда она еще была girlfriend, т. е. до 1992 г. Помню вопреки совершенной абсурдности этих воспоминаний.) Короче, в ту же секунду я ему позвонил, и он мне тут же сказал «приезжай вечером».
И вот в тот же вечер я его и увидел. Его и Инну. Забавно! Старые детские воспоминания сконденсировались в реального человека и человек оказался совсем таким же, каким он в этих воспоминаниях и был. Только добавились краски. Видимо, в воспоминаниях других людей, которые будут в этой же книжке, его фигура будет описана профессионально. Я же совершенный дилетант и не смогу даже и близко «нарисовать» его портрет, чтобы было узнаваемо. Когда я пришел, он и Инна были дома уже какое-то время, а я привык к тому, что человек у себя дома одевается достаточно просто. Ткачёв и был одет просто – не в пиджак, но и в домашней одежде был некий элемент изящества. У вас в «Парне из Сивцева Вражка» сказано, что в нем сочетались одесский босяк и английский аристократ. Я правильно цитирую? Ни того ни другого я лично в нем не видел. Манеры в целом укладывались в одесский middle class, но не 70–80-х годов, а, видимо, 20–30-х. Но при этом был некий романтический колорит Востока – Вьетнама, Китая… Разные статуэтки стояли в разных местах квартиры. Это мне сразу напомнило перламутровую шкатулку времен моего детства, и я почти заплакал. (Шкатулка эта сейчас в Jerusaleme у моей дочки и в виде неясных воспоминаний должна перейти моему внуку, если он ее не сломает.)
И мне и ему было очень трудно выбрать дистанцию (еще раз цитирую вашу книжку) в первом разговоре. Но как-то, может быть благодаря Инне, это сложилось. И я снова нашел старого близкого человека. Многие привычки, пристрастия, темы, оказались поразительно общими. Вечер перешел в ночь и даже ночью, когда оба почти засыпали, всё еще слушали 4-е по счету исполнение «Didone abbandonata» Тартини. Я и сейчас ее слушаю, когда это пишу: . Я даже помню тему, которая в связи с этим обсуждалась в тот вечер: «Насколько адекватно ее играл Ойстрах и насколько романтическая школа исполнения может вааще отразить эпоху Tartini».
И так вот с 1992 года я стал снова и довольно тесно общаться с Марианом Николаевичем. Я заходил к нему почти каждый раз, когда я бывал в Москве. Говорили мы на разные темы. Чаще всего мне хотелось его послушать. Вообще слушать его было невороятно интересно, о чем бы он ни рассказывал. Он умел найти самое яркое, самое важное. Поэтому мгновенно запоминалось. Многие его истории пересказывались и другими людьми. Совсем недавно Инна Винярская пересказывала ту самую байку про кухню и тетю Люсю, которая есть и в вашем, Алексей Кириллович, изложении в «парне из Сивцева Вражка». Было важно, КАК он рассказывал. Было важно все – и выражение лица, и голосовые оттенки, и интонации. И картина возникала мгновенно, как я уже и писал. Сам он при этом оставался совершенно спокоен, независимо от того, насколько смешно было то, что он рассказывал. Причем, камерность обстановки тоже была важной деталью. Рассказ не был рассчитан на широкую аудиторию. Однажды его пригласили на передачу «Вокруг Смеха», или как там это называлось. Но держался он скованно, и то, что он говорил, «не шло». Это же получалось с записью его рассказов. Когда записывалось, не важно кем, даже им самим, – получалось тускло. Когда он рассказывал, работали все факторы (и звук и цвет и фон). А когда это же звучало с пленки, то многое пропадало. У математиков это очень известный эффект. Есть совершенно блестящие рассказчики, а тексты, ими написанные, невероятно трудны для восприятия. (А есть и такие, что рассказывают плохо, пишут еще хуже, но при этом они – гениальные! У вас, у литераторов, такое бывает?) Но я отвлекся.
Вообще, чем я больше думаю о Мариане Николаевиче, он для меня все отчетливее «ложится» в университетскую систему. Я его очень ясно представляю себе профессором, например, в нашем университе на departamento das letras. Представляю себе, как он ведет занятия про Вьетнам (его историю, язык, литературу). Явно представляю себе его office со всеми вьетнамскими игрушками и неизменной перламутровой шкатулкой. Представляю себе, как в своем office он пишет статьи про Вьетнам и слушает при этом concerto grosso Pietro Locatelli (). Могу себе представить студентов (их не должно, по-моему, быть очень много), которые ловили бы каждое слово его. А кстати. Преподавал ли он в Университете в России? Если нет, то почему же это не произошло? Что такое случилось? В какие «оковы» он был «вонзён»? Если да, то об этом должна была бы остаться какая-то память. История про ваше появление в их компании, которую отец рассказывает в своих recollections, какая-то очень университетская. Это значит, что Мариан Николаевич таки да преподавал что-то где-то. Но я совершенно точно помню, что, когда я с ним общался, разговоров на эту тему не было. Значит, тогда уже он ни в какой такого рода системе не был. Почему? Загадка. Хотя, может быть, и не загадка для того, кто лучше знает и понимает Россию тех самых доперестроечных лет. Я жил там тогда, но был студентом и потом ассистентом на кафедре в Лесотехнической академии – т. е. находился на самой нижней ступени тогдашней интеллигенции. Поэтому очень плохо представляю себе динамику общества. А о послеперестроечной эпохе и говорить нечего. Меня в России к тому времени не было.
Да, если уж я пишу о Мариане Николаевиче, то надо бы и сказать о тех людях, которые его в то время окружали. Во-первых, разумеется, про Инну. Но о ней чуть позже.
Так вот об Инне Ивановне. Дом Ткачёвых был исключительно уютным и гостеприимным. И разумеется, это создавала Инна, ее мягкость, ее ненавязчивость и при этом ее постоянное присутствие при разговорах. При ней хотелось говорить. Она излучала интерес к людям. Мне постоянно казалось, что ее интерес практически безграничен. (Это притом что, как я сейчас понимаю, в то время я был исключительно неинтересным собеседником – мог говорить только о собственной гениальности и о ее – этой гениальности – непонятости окружающим миром.) Вообще на фоне неврастеников-интеллектуалов Инна казалась каким-то островом надежности. Даже практичность, ей свойственная, была уютной и ненавязчиво привлекательной. Забавно, что в первые посещения Ткачёвых я даже не заинтересовался тем, кто она такая по жизни. Она производила впечатление совершенно образцовой домохозяйки в лучшем смысле этого понятия. Человека, который вникает в дела мужа и его друзей, интересуется, дает дельные советы и своей мягкостью сглаживает острые углы.
И вдруг я с удивлением узнаю, что эта «домохозяйка» на самом деле один из самых лучших гинекологов в Москве, если не самый лучший. WAW! Кто бы мог подумать? И при этом ей совершенно не хотелось это выпятить. Или она и на самом деле считала свою профессию и свой уровень в этой профессии совершенно не важным по сравнению с тем, какие люди ее окружали дома. Люди и в самом деле были интересные, один Аркадий Стругацкий, например, стоит много чего, но именно она делала этот дом таким, что туда хотелось приходить. При этом она обеспечивала хорошие роды детям и внукам этих вот интеллектуалов, воспринимая это как небольшую услугу, о которой и говорить-то нечего. По разным причинам мои дети рожались не у нее, и Ткачёвы воспринимали это как тему для безобидных шуток: «не доверяешь, мол».
После смерти Марика я с Инной говорил по телефону только один раз. Мы с Мариной приглашали ее к нам заехать и немного развеяться, что-ли. И она не собралась. А вот сейчас ее тоже нет. Глупо как-то получилось… Все время хотелось зайти к ней и поговорить о Мариане Николаевиче. До сих пор хочется…
Теперь немного о забавных литературных пристрастиях Мариана Николаевича. Типа, Дюма. Собственно, он признавал только «Трех мушкетеров» и слегка «Графиню де Монсоро». Я не помню, чтобы разговоры выходили бы на что-нибудь другое, им написанное. Это притом что тема литературной эксплуатации или, например, научной – то же самое – и, соответственно, Французской студенческой революции меня интересовали в те годы невероятно сильно. Но к этой теме мы не подходили ни разу, а вот то, что происходило в «Трех мушкетерах», обсуждали все время. Мы оба эту книгу любили, и оба читали ее бесконечное число раз. Оба обращали внимание на то, как д’ Артаньян отказался от о-очень выгодного предложения кардинала всего лишь потому, что Атос не протянул бы ему руки, или как Реми ле Одуэн вылечил графа де Монсоро в совершенно абсурдной ситуации, когда этого по идее делать ни в коем случае было не надо. Я специально выбрал эти две истории, как примеры как-бы преувеличенного благородства. «Преувеличенного? Но если бы такие поступки многие люди бы брали в пример, не было бы ни Холокоста, ни сталинских лагерей, ни много еще чего» «Не знаю, произнес ли эту фразу Мариан Николаевич, или я это сам сейчас вкладываю ему в уста, но смысл был именно этот, я в этом уверен.
О музыкальных пристрастиях я уже писал. Его музыкальный вкус был очень четко обозначен, хотя и не носил такой, как например, у Брагина, строгой ориентации на барокко. Я могу даже представить его слушающим Шопена, хотя никогда его за этим (постыдным) занятием не видел, но представить его слушающим Чайковского не могу в принципе. Сейчас на секунду задумался над тем, как он относился к рок-музыке. Не знаю, никогда это мы с ним не обсуждали, но не думаю, что его могла бы привлечь такая вот концентрация «искусственной» экспрессии. (Это уже его собственное выражение, когда мы говорили о романтизме в музыке.) Вообще злоупотребления всякого рода forte не привлекали Ткачёва никогда. Хотя по-своему это противоречит его дружбе с Аркадием Стругацким. У Стугацких все держится на Forte, кроме, разумеется, «Жука в Муравейнике», этого немного «расиновского» романа, или малоизвестной «Хромой Судьбы». Впрочем, личная дружба не обязательно должна означать сходство литературных пристрастий.
Осталось немного. Пустой период и последняя встреча. Но именно об этом и тяжелее всего писать. Сейчас вечер. Включаю concertos Торелли , открываю .
Второй пустой период наших взаимоотношений наступил, когда я уехал из России в 1990 году. Примерно до 2001–2002 годов я в Россию не ездил и почти никаких связей ни с кем там не имел, не считая родителей. Почему? Не было на людей, которые были там, ни времени, ни сил. Вся энергия была направлена на то, что меня окружало сначала в Израиле, а потом тут, в Бразилии, и Россия была бесконечно далеко. Россия совершенно не была интегрирована в – как бы это сказать по-русски – «международный математический мир». Поэтому, несмотря на физическое расстояние, Токио или Варшава (о Барселоне, Реховоте, Марселе или Чикаго я даже не говорю…) были в тот период намного «ближе» от Форталезы, чем Москва или Петербург. (Они и сейчас ближе, честно говоря, но разница уже не столь велика, как раньше.) В России не было ничего, что было бы хоть каким-то образом связано с моей жизнью и, не боюсь этого слова, карьерой. Интересных российских математиков в России тоже не было, или почти не было, как и сейчас почти нет. Повальный отъезд всех людей, хоть как-то связанных с той математикой, которой я занимаюсь, сделал Россию совершенно бессмысленной для меня в деловом смысле. А неделовых поездок я на первом этапе себе позволить не мог. А с «языком родным с его призывом млечным» сложилось то, что сейчас я уже не могу сделать лекцию по-русски – многие слова улетучились.
И вот в 2002 году я снова в Москве. С ужасом узнаю, что у Мариана Никлаевича был рак, что могло быть всякое и я мог его и не увидеть, и что он остался-то в живых благодаря Инне. Последнее впрочем, меня как раз не удивило. И вот, захожу я к вам домой, и мы идем к Ткачёвым. А там меня ждал более чем холодный прием. И подействовало! Не зря же я в предыдущем параграфе старательно оправдывался. Я понял упрек и согласился с этим упреком.
А до того считал я себя человеком, не лишенным чего-то типа благородства. Да какое там? Разве для благородного человека должно существовать расстояние? И разве все в жизни должно сводиться к карьере, к успеху? Ведь успех – это и есть что-то не важное пустое в жизни по сравнению с пониманием ее, этой жизни. Это был последний урок. Больше мы не виделись.
И вот через много лет я мечтаю поехать во Вьетнам, проехать по ткачёвским местам и увидеть ему близких когда-то людей, которые меня носили на шее в гатчинском парке. И ведь организую таки. Не сложно это! Тем более что в следующем семестре мы собираемся нанять в наш департамент Ле Дунг Транга, математика и дальнего знакомого и самого Ткачёва, и его друзей – То Хоая (помните стихотворение) и Нгуен Туана, – связи с Вьетнамом завяжутся… Но на кой мне черт Вьетнам без Марика? Ведь не заставлю же я его посмотреть на меня иначе, чем тогда, в 2002 году, и не смогу вернуть его для себя.
Вот вроде бы и всё.
г. Форталеза (Бразилия), 2013–2014 гг.
Примечания
1
Тямский – от тямов, населения Тямпы индуистского государства на территории Центрального Вьетнама, упоминаемого в источниках со II века; из длительных столкновений с Дайвьетом (Вьетнамом) вышла побежденной и утратила независимость (XV в.). В Тямпе были высоко развиты скульптура, архитектура, музыка и другие искусства. Изваяния коленопреклоненных тямских пленников ставились в храмах и других сооружениях как символ победоносной мощи Дайвьета.
(обратно)2
Хоабинь – город и старая провинция в предгорьях, к юго-западу от Ханоя; ныне часть провинции Хашонбинь.
(обратно)3
Бадинь – центральная площадь в Ханое, названная по местности на границе Тханьхоа и старой провинции Ниньбинь, где с 18 декабря 1886 г. по 20 января 1887 г.
(обратно)4
Вьетбак – горная область на северо-востоке Северного Вьетнама, населенная малыми народностями; французские колонизаторы не смогли захватить Вьетбак, и он был главной базой Сопротивления.
(обратно)5
«Ван нге» – «Литература и искусство».
(обратно)6
«Вап хаук» – «Литература».
(обратно)7
Лан-шон – город и старая провинция на северо-востоке Северного Вьетнама; ныне часть провинции Каоланг.
(обратно)8
Нгетинь – здесь идет речь о двух старых соседних провинциях Нгеан и Хатинь (Центральный Вьетнам), по новому административному делению составляют единую провинцию Нгетинь.
(обратно)9
Сапека – мелкая монета.
(обратно)10
Имеется в виду война против французских колонизаторов (1940–1954).
(обратно)11
Дьенбьенфу – город и район на северо-западе Северного Вьетнама, в провинции Лайтяу. Здесь весной 1954 г. происходила крупнейшая битва войны Сопротивления, завершившаяся штурмом французских укреплений и капитуляцией их гарнизона во главе с генералом де Кастро. Победа под Дьенбьенфу практически решила исход войны.
(обратно)12
Бородин С. П. (1902–1974 гг.) – известный советский писатель, лауреат Государственной премии СССР, автор романов «Дмитрий Донской», «Звезды над Самаркандом», «Молниеносный Баязет» и др.
(обратно)13
Линьнам – «южнее хребта» (вэньянь), в старых китайских и вьетнамских книгах название земель к югу от гор Нгулинь в Южном Китае, в том числе и территории Северного Вьетнама; иногда так называли землю вьетов.
(обратно)14
Кхен – духовой инструмент из собранных в обойму просверленных стволов бамбука различной толщины и длины; существует и в настоящее время у некоторых малых народностей Вьетнама.
(обратно)15
Шеньфать – ударный инструмент, напоминающий кастаньеты, из бамбука или дерева, в несколько измененном виде используется и в наши дни.
(обратно)16
В лунном календаре месяцы обозначаются порядковыми числами.
(обратно)17
Поскольку династия Хунг считалась современницей полулегендарной китайской династии Инь (Шань-Инь), противником здесь назван иньский император (династия Инь якобы правила В 1766–1154 гг. до н. э.). Однако сведения о столкновении между Шань-Инь (земли ее находились в бассейне Хуанхэ) и Ван-лангом следует оценивать с осторожностью.
(обратно)18
Нон – широкая коническая шляпа; обычно плетется из пальмовых листьев.
(обратно)19
Байло – название вымышленное, до нас не дошли даже пришедшие «извне» наименованья мелких «административных единиц» Ванланга. Однако по смыслу своему (размытая земля) и звучанию оно весьма схоже с вьетскими топонимами.
(обратно)20
Перевод Евг. Винокурова.
(обратно)21
Нгуен Зу (1765–1820 гг.) – великий вьетнамский поэт.
(обратно)22
Перевод Л. Эйдлина.
(обратно)23
Перевод А. Ревича.
(обратно)24
Жанр народной песенной поэзии.
(обратно)25
При вдумчивом анализе в рассказе обнаруживается «второй слой» – пародийный, где обыграны малопочтенные нравы «олимпийцев», чудовищная зашоренность критиков гужеедов (любимое словцо Б. Н. Полевого) и нехитрая механика иных теоретических дискуссий. Спародированы также передержки и новации в изобразительных средствах фантастики. Я бы только предостерег от бесплодных по большей части поисков прототипов и источников. Мог же, черт возьми, автор все придумать.
(обратно)26
Но вернемся к нашим баранам (франц.).
(обратно)27
Речь Ахилла из трагедии Эврипида «Ифигения в Авлиде», эписодий третий; перевод И. Анненского (Эврипид, Трагедии, т. 2, ИХЛ, М., 1969. с. 542).
(обратно)28
Сторепот – стоп речевой поток. Абревиатура процессуального термина, приятого в межгалактической юриспруденции.
(обратно)29
Ошкомпра – ошибка компьютера (аббревиатура процессуального термина.
(обратно)30
Супрйз – сугубо признателен (-льна) Аббревиатура формы вежливости.
(обратно)31
Воспоминания Фам Винь Кы взяты из книги, вышедшей во Вьетнаме в 2011 г., посвященной памяти М. Н. Ткачева, составителем которой и был Кы.
(обратно)







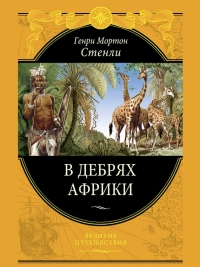

Комментарии к книге «Сочинитель, жантийом и франт. Что он делал. Кем хотел быть. Каким он был среди друзей», Мариан Николаевич Ткачёв
Всего 0 комментариев