Вадим Баевский
Счастье
Роман одной жизни
От автора
В нижеследующем тексте все до последней мелочи - правда. И вместе с тем моя авторская воля - я это чувствую - решительно вторгается в повествование. Она проявляется в отборе людей и фактов для изображения. В стиле. Именно в такой, а не иной смене точек зрения и передаче реплик персонажам. В распределении материала, то есть в композиции. Я бы определил жанр этой прозы как былое и думы. Не соотнося ее с великой книгой Герцена ни в чем, я вижу единственное сходство: оно - во взаимном отражении правды жизни и авторского вмешательства.
Срок настанет - Господь сына блудного спросит:
"Был ли счастлив ты в жизни земной?"
И. Бунин
0. Был ли счастлив ты в жизни земной?
Принимаясь писать, я спрашиваю себя, в каком лице вести повествование. Поскольку в основе лежат события и переживания моей жизни, естественна Ich-Erzдlung. Так примерно:
Война шла к концу. Я умирал с голоду.
В апреле 1945 года мне было пятнадцать лет. Я жил в Киеве, на территории киностудии. Один. У меня была комната в полуподвале в том крыле, где размещались лаборатории. В уборную и за водой надо было ходить в другое крыло, административное, по длиннющему коридору мимо главного павильона.
Вроде бы и неплохо. Появляется доверительная интонация. Но нет даже намека на обобщение. Индивидуальный случай. Рассказчик - ничем не примечательный субъект. Эгоцентрик. А рассказывать имеет смысл только нечто значительное в глазах читателя. Не лучше ли вести рассказ в третьем лице, заменив всюду Я на ОН?
Война шла к концу. Он умирал с голоду.
В апреле 1945 года ему было пятнадцать лет. Он жил в Киеве, на территории киностудии. Один. У него была комната в полуподвале в том крыле, где размещались лаборатории. В уборную и за водой... и так далее. Отстраненность повествователя от героя рассказа придает рассказу некоторую солидность, обобщенность. Можно смелее осуществлять свое право на вымысел. Но неизбежно пропадает искренность, исповедность. И еще неизвестно, с кем скорее отождествит себя читатель - с НИМ или со МНОЙ.
Итак, что же выбрать? Можно, конечно, испытать и Du-Erzдlung. Когда-то я начал так писать целый роман. Он так и должен был называться: "Роман одной науки". Но потом забросил: показалось слишком искусственным повествование во втором лице:
Помнишь, в апреле 1945 года тебе было пятнадцать лет. Война шла к концу. Ты умирал с голоду. Ты жил в Киеве, на территории киностудии. Один. У тебя была комната в полуподвале в том крыле, где размещались лаборатории. В уборную и за водой тебе надо было ходить...
Нет, не избавиться от впечатления искусственности. Рассказываешь сам себе о том, что и без того слишком хорошо знаешь. Конечно, это всего лишь прием, но слишком уж он выпирает. К тому же читателя ставишь в положение подслушивающего и подсматривающего. Зачем же обижать читателя?
А несостоявшегося "Романа одной науки" мне жаль. Хотелось в нем показать, как во второй половине ХХ века несколько человек построили математическую теорию стихотворной речи - в то самое время, когда физики-ядерщики создавали все более мощные и сверхмощные водородные и сверхводородные бомбы, а недоумки-политики жонглировали этими бомбами, как клоуны своими шарами на арене цирка.
Итак, возвращаюсь к первому лицу. Я ведь ощущаю-то себя поэтом-лириком. Все остальное так... Все-все. Постараюсь, конечно, чтобы это был рассказ не только об одной душе, но, пусть в незначительной степени, как смогу, и о современниках, и о нашем времени, в котором мы все вместе барахтаемся. Кувыркаемся.
Шла к концу одна из последних лекций по теории литературы на пятом курсе. Я изложил теорию академика Николая Иосифовича Конрада о единстве мирового литературного процесса, рассказал о спорах вокруг нее и спросил:
- Кто желает задать вопросы?
Один студент поднял руку:
- Скажите, пожалуйста, В.С., что такое счастье?
К теории литературы этот вопрос имеет отношение самое далекое. Просто студенты кончают учиться, им предстоит сдавать семестровые экзамены, потом государственные, потом они уходят в широкий мир борьбы за преуспеяние, и что такое счастье, им узнать нужнее, чем теорию академика Конрада. По крайней мере, так им кажется. И они задают один из коренных русских вопросов. Вопрос еще некрасовский. Даже еще пушкинский. Что мне им сказать? Силы мои слабы. В учители жизни я не гожусь.
- Во всяком случае, не в погоне за счастьем, - нащупываю я почву. К моей радости, студенты понимающе кивают головами. - Счастье состоит в том, чтобы хорошо делать свое дело на своем месте, - импровизирую я, ободренный поддержкой аудитории.
- А как узнать, что ты на своем месте? - поднимает руку другой студент.
- А это когда ты на работу идешь более охотно, чем с работы, продолжаю импровизировать.
Студенты - хорошие экзаменаторы. Строгие и доброжелательные.
Скоро уже мне придется, как Бунину, отвечать на вопрос о счастье не студентам, а Хозяину. Что же я Ему скажу?
Вот что. И буду рад, если этот мой ответ попадется на глаза и кому-нибудь из моих слушателей того курса, который меня об этом спрашивал.
Счастье представляется мне в виде мгновенных драгоценных вкраплений в руду жизни. Есть едва различимые совсем мелкие блестки. Есть покрупнее. Обычно они располагаются россыпями. Время - сито, которое их просеивает. Я подвергаю мою жизнь литофациальному анализу, и что же я вижу? То, что тогда казалось счастьем, теперь заставляет меня удивляться моей былой наивности. Ужасаться, из какой массы тяжелой дурно пахнувшей руды приходилось выковыривать едва заметные вкрапления счастья, так что себестоимость счастья оказывается несоразмерно высока. Основное количество мелких блесток счастья - все эти закаты на берегу моря, укутанные в теплый ароматный воздух, сменяемые бархатной тьмой с лунной дорожкой, дрожащей на поверхности воды; женщины и терпкий запах плоти; друзья; любовь и признательность учеников; достававшиеся с неимоверным трудом потрясавшие душу книги старообрядческие рукописные с полуистлевшей бумагой, первоиздания классиков XVIII-XIX веков; остро пахнущие типографской краской книги наших прoклятых поэтов; тамиздатский "Доктор Живаго" по-французски; амплуа вратаря футбольной команды; книги, написанные мною самим; шахматы, причем звание кандидата в мастера по шахматам представлялось тогда значительно соблазнительнее ученой степени кандидата филологических наук - все это и невообразимо многое другое уже просы'палось сквозь ячейки сита. И что же в нем осталось? Четыре самородка.
Так что сейчас я попробую рассказать о четырех самородках счастья, отложившихся в памяти моего сердца на протяжении трех четвертей века.
Итак...
1. Слеза дяди Володи и улыбка Рузвельта
Война шла к концу.
Я умирал с голоду.
В апреле 1945 года мне было пятнадцать лет.
Я жил в Киеве, на территории киностудии. Один. У меня была комната в полуподвале в том крыле, где размещались лаборатории. В уборную и за водой надо было ходить в другое крыло, административное, по длиннющему коридору мимо главного павильона. Однажды вечером, при сильно приглушенном свете, я наткнулся там на гору трупов. Не знаю, сколько прошло времени, пока я сообразил, что это муляжи, приготовленные для съемки очередного фильма о войне, и проскользнул между ними к своей цели. Все равно было как-то не по себе.
У меня была маленькая круглая электрическая плитка с открытой спиралью, которая часто перегорала. Тогда я вырезал из крышки консервной банки полоску жести и делал из нее скрепку, которой соединял два конца в месте разрыва. Когда скрепок на спирали становилось больше, чем проволоки, приходилось покупать новую спираль. Такая покупка производила устрашающую рваную дыру в моем бюджете. Но без плитки было никак нельзя: я варил на ней макароны, кашу и, главное, кипятил воду для чая. Им я и грелся, и обманывал пустой желудок. Обычно чаем назывался у меня один кипяток, заварки не было. Не помню, чтобы покупал по карточкам чай. Макаронные изделия и крупу помню. Полагалось граммов восемьсот того и другого в месяц, если не ошибаюсь; а чая не припомню. Карточки были разных категорий: от лимитных до иждивенческих. О лимитных рассказывали чудеса. Их отоваривали в специальных магазинах, где было все. Не как до войны, а гораздо лучше, говорили вполголоса. Дальше шли литера А и литера Б. Счастливых обладателей этих карточек насмешники-завистники называли "литераторы" и "литербеторы". Меньше продавали по рабочим карточкам. Еще меньше - по служащим. Так говорили: "У меня служащая карточка". Цепочку замыкала иждивенческая карточка. Для жизни ее было недостаточно, но умирание она обеспечивала медленное. Я, конечно, получал иждивенческую карточку, хотя никак не мог понять, почему: ни у кого на иждивении я не состоял. Нас называли изнеможденцами и коекакерами. Я зарабатывал гроши, где мог, когда удавалось. Иногда меня нанимали в качестве подсобного рабочего на съемки. Старые сотрудники помнили еще то время, когда в эпоху немого кино фильмы "Борьба гигантов" и "Два дня" по сценариям моего отца шли на экранах Европы и Америки. Когда мой отец был заместителем директора киностудии. И то время в конце зимы тридцать восьмого года, когда киевские газеты называли его вредителем и врагом народа. Разные бывали времена. Поэтому мне и приют дали. Четыре раза в неделю я ходил в восьмой класс вечерней школы.
Важно было прикрепиться к хорошему магазину. Продукты можно было покупать только в том магазине, где прикреплена твоя карточка. Сотрудники киностудии отоваривали карточки в магазинах ОРСа - отдела рабочего снабжения. Остряки расшифровывали эту аббревиатуру иначе: обслужи раньше себя, остатки раздай служащим. И все-таки ОРС - это была удача: там и продукты были лучше, чем в других магазинах, и очередей почти не бывало. Я это видел каждый день, когда, глотая слюну, проходил мимо них. Магазины ОРСа находились прямо на территории киностудии, отгороженной от города проходной будкой с охранниками, придирчиво рассматривавшими пропуска у всех не известных им людей. А мой магазинчик был на Полевой - совсем недалеко, но за оградой киностудии. Сейчас там все застроено, а тогда киностудия с ее жилым домом была последним городским строением. А Полевая была действительно полевая.
Мы все жили ожиданием конца войны. Удалось перетерпеть зиму. Пригревало солнце. Жизнерадостно блестела молодая зелень, в которой утопала киевская окраина. А меня одолевали заботы.
Пять дней тому назад в мою комнату без стука вошел комендант здания и забрал мою электроплитку. Он коротко объяснил, что по соседству в лабораториях много легко воспламеняющихся реактивов и пленки, и сотрудники опасаются, что я могу устроить пожар, который принесет невообразимый ущерб. Я спросил, как же мне без плитки жить. Комендант пожал плечами, отвел глаза, но плитку все-таки унес. Уже пять дней я запивал хлеб холодной водой. Так что мне было над чем подумать.
Тем более что и хлеба у меня не стало.
На хлебной карточке были квадратики по числу дней в месяце. На каждом было проставлено число. Продавщица ножницами отрезала квадратик с сегодняшним числом, возвращала карточку и отвешивала хлеб. Ни за вчера, если хлеб почему-либо не выкупили, ни за завтра хлеб не продавали. Я люто голодал, умоляюще заглядывал в глаза упитанной продавщице и выпрашивал хлеб наперед. И однажды она продала мне мой хлеб не только за сегодня, но и за завтра, отрезав от карточки и тот квадратик. За это недовесила хлеба больше, чем обычно. Потом я выкупал хлеб уже на два дня вперед, потом на три, все на тех же условиях, стараясь не думать, чем это кончится. А кончилось тем, что продавщица перестала отпускать мне хлеб вперед. И я на три или четыре дня остался совсем без хлеба.
К этому времени мои единственные коричневые брюки протерлись на заду до того, что трудно описать. Ткань висела полосками, между которыми проглядывали синие застиранные-перестиранные трусы и голое тело.
Полуботинки остались без подошв. Было время - я их подшивал к верхам, а настал день, когда кожа стала расползаться и подошв не держала, если я пытался их подшить. Я не растерялся и стал прикручивать подошвы проволокой. Представьте, что зиму и холодную часть весны я так проходил. Но однажды я их просто потерял. Вернулся домой без подошв.
Признаюсь, что я испытывал не только неудобство из-за того, что ходил с голым задом и в полуботинках, густо обвязанных белой алюминиевой проволокой; я еще и каждую минуту сгорал со стыда. Люди в ту весну были одеты бедно - а кто и отнюдь не бедно, вполне прилично, а некоторые и со щегольством, и держались вальяжно; голодранцем на киностудии и в школе ходил я один.
Так что когда все это сошлось: сидел без хлеба, без электроплитки, без штанов, без обуви - я испытал более сложное чувство, чем отчаяние. Было даже некоторое облегчение. В течение зимы и двух первых месяцев весны я устал бороться за существование и устал сгорать со стыда. В душе наросла обида, которая злым комом подкатывала к глазам. Война шла к победоносному концу, стояла благоуханная киевская весна, из репродуктора, висевшего где-то недалеко, долетали обрывки маршей, приказов Сталина, оглашавшихся торжествующим голосом Левитана и отмечавших всесокрушающее движение фронтов Рокоссовского, Жукова, Конева к Берлину, - а я умирал с голоду. Никому до меня не было дела. Я решил: все, на улицу больше не выйду. Лягу и умру.
Оставлять свою комнату все-таки пришлось: для того, чтобы по длинному коридору мимо трупов пробираться в уборную. Сознание мутилось, живот прирос к позвоночнику, голова трещала и раскалывалась на части, и я даже с некоторым злорадством понимал, что скоро на киностудии одним трупом лежать будет больше.
Может быть, в этом месте читатель удивится моей пассивности. Не надо удивляться, дорогой читатель. У меня уже был некоторый опыт. За год до событий, о которых я сейчас рассказываю, я оказался в совершенно чужом железнодорожном поселке с тяжело больной мамой на руках без малейших средств к существованию. Мамино обручальное колечко и совсем уже жалкий флакон одеколона были проедены. Из мирной жизни оставался мамин новый теплый уютный темно-синий халат до пола, но мы никак не решались с ним расстаться. Однажды утром в дверь нашей клетушки раздался стук. Мама вышла посмотреть, кому мы понадобились, и через минуту с изменившимся лицом вернулась. Схватила свой халат и снова кинулась за дверь. И снова вернулась. Уже без халата.
- Там пришла женщина, - ответила мама на мой немой вопрос. - Я ей отдала.
- Как же, мамочка? Это ведь единственное, что у тебя... у нас есть... было.
- Там пришла женщина в плаще. Попросила что-нибудь надеть. Я сказала, что у нас самих ничего нет. Тогда она распахнула плащ, а под плащом... под плащом совершенно голая...
Мама была неверующая. Она говорила:
- Завидую верующим. Как бы я хотела верить, но не могу.
А мои отношения с Богом были другие. Осенью 1941 года, оставшись без дома, претерпев в Киеве и под Киевом жестокие бомбардировки, особенно одну, когда ночью горели эшелоны с людьми и рушились здания, потом заброшенный в чуждый Ашхабад, среди голода и побоев я стал молиться. Молитву придумал сам: "Господи, благодарю Тебя за то, что Ты есть, и за все то, что Ты для меня сделал". И сегодня меня поражает тот двенадцатилетний мальчик, который ничего не просил у Бога и только благодарил Его.
Мама ничего не знала о Франциске Ассизском. Но в тот раз совершила деяние, достойное Франциска Ассизского, который, несмотря на упреки монастырской братии, отдал просившим все, вплоть до последнего молитвенника.
Конечно, маму можно было бы поместить в госпиталь, тем более что она была врачом. Но тогда мне предстояла детская комната милиции и затем детский дом неизвестно где. А мы с мамой больше всего, намного больше смерти, боялись разлучиться и навсегда потерять друг друга на просторах сотрясавшейся в конвульсиях, корчах, судорогах, истекавшей кровью страны. Детский же дом в моем представлении по некоторым доходившим до меня от сверстников слухам был неотличим от тюрьмы.
Маму надо было кормить. Я же мужчина. Мужчине и самому хотелось есть. Я поразмыслил и решил, что у меня есть два выхода: просить милостыню или воровать. Понимал, что правильно именем Христа просить милостыню. Но не мог. Была ранняя весна, было еще холодно, дело было в Сибири, и я решил для начала украсть ведро угля и его продать. На станции все время стояли длинные составы открытых платформ с глянцевитым, жирным антрацитом. Одни уходили, другие тут же появлялись им на смену. Когда я набрал ведро, меня захватил вохровец. ВОХР - вооруженная охрана тыловых объектов - был известен своей жестокостью. По узусу военного времени мне грозил теперь не детский дом, а взрослый концлагерь. Что будет с мамой? Я так испугался, что ничего не помню. А выдумывать в этом ответственном месте рассказа не хочу. Возможно, у меня на время выключилось сознание.
Я кое-как пришел в себя, когда понял, что вохровец меня отпустил. Унес ведро и отпустил. Даже не прибил. И тут я испугался второй раз. Подумал: как же я должен выглядеть - одичавший, отощавший, оборванный, грязный, заросший - давно я не видел себя в зеркале, - если меня пожалел вохровец?
Так у меня навсегда пресеклись малейшие поползновения воровать.
А весной сорок пятого дело до меня кое-кому было, только я узнал об этом позже. Соученики по вечерней школе и классный руководитель - это был несчастный заморенный пожилой мужчина, одетый лишь немногим лучше, чем я, однажды прямо во время урока у него из носа хлынула кровь, - обеспокоенные моим отсутствием, пытались меня навестить, но на проходной их не пустили. А я лежал одетый в мою рвань, под жидким одеялом, временами впадая в бред, а когда из него выныривал, то все повторял стихи, которые сочинил в подражание Блоку: За дверью мрачной и невзрачною Четыре-пять ступеней вниз. Прощайся с жизнью неудачною, В надежной петле ты повис.
Полвека спустя, в самый разгар перестройки, по дороге в университет я сошелся с коллегой - профессором-лингвистом. Путь наш лежал через ухоженный городской парк. Это было прекрасное время освобождения от лжи, лицемерия, цензуры, ксенофобии. Можно было говорить без оглядки. И я говорил: все-таки я счастливый человек. На протяжении моей жизни моя страна постоянно переходит от худшего к лучшему. Пусть медленно, непоследовательно, пусть с отступлениями. Но от худшего к лучшему.
Коллега стал возмущаться пустыми полками магазинов, талонами, по которым продавали продукты. Почему-то в недавнее советское время не возмущались, принимали как должное, когда за продуктами и вещами ездили в Москву. А контроль над мыслью его не смущал. Я сказал:
- Знаете, после того, что я всю войну голодал и мерз, а в конце ее чуть не умер с голоду, то, что происходит сейчас, меня не пугает. Мы говорим все, что думаем, полки в магазинах пусты только наполовину, мы не голодаем.
На минуту мне показалось, что мой собеседник сейчас набросится на меня с кулаками. Он прямо закричал:
- Да, таким народом легко управлять! До каких пор мы будем наш быт мерить войной? Пятьдесят лет прошло! То была мировая катастрофа, всеобщее бедствие. А сейчас среди покоя, ни с того ни с сего, у нас отбирают наши деньги и сажают нас на паек! Чего ради?
Я не стал возражать. В его словах была своя правда. И в то же самое время знал: я свободен. И я сыт. А когда я ездил в Москву работать в ЦГАЛИ, то привозил домой в Смоленск растворимый кофе и шесть бутылок хорошего коньяка и вина (был для этого специальный портфель), и это служило только предметом шуток.
- Ты у нас бутлегер, - говорила жена.
А весной неповторимого тысяча девятьсот сорок пятого, очнувшись от голодного обморока, я увидел над собой своего дядю Володю. Я решил, что это бред. Он наклонился надо мной и отвернулся. Отвернулся и вытер глаза. Он был с погонами майора. Я знал, что он в армии, на фронте. Значит, вроде как и не бред. Я увидел, что он поставил на табурет большой солдатский вещевой мешок и вынул из него на стол высокую поместительную банку американского бекона. Когда-то я такую видел. Советский Союз получал их из Америки по лендлизу. Мне дали попробовать из нее длинный тонкий упругий душистый нежный розовый ломоть мяса с прожилками сала. Бред, с сожалением решил я. Вслед за первой банкой появилась вторая. Бред, с горечью уверился я. За второй - третья. Я отключился.
Когда я пришел в себя, я лежал на спине, лоб холодило мокрое полотенце, а на столе... А на столе были расставлены высокие банки с беконом, разложены коробки с американским яичным порошком, который вся страна называла "улыбка Рузвельта", несколько хлебов, пачки сахара и Бог весть что еще. Сейчас всего и не упомнишь. А дядя Володя спросил:
- Встать можешь?
Я только хотел сказать: не могу, как увидел у него в одной руке американский костюм, а в другой - американские же яркие светло-коричневые полуботинки. Было видно, что все американское. Меня прямо подбросило с кровати.
Мой дядя Вольф Израилевич Фенстер был литовским крестьянином. В 1917 году он вступил в партию большевиков, каким-то образом попал на Украину, воевал в дивизии Николая Щорса. Когда Гражданская война окончилась, выучился на агронома и работал директором совхоза в Ильичевке под Одессой, потом в Борисполе под Киевом. С замиранием сердца засматривался я на именной револьвер, который он два раза мне показывал. Прошел Великую Отечественную. Похоронен в Киеве на кладбище старых большевиков, где могилы с одинаковыми невысокими памятниками ровняются в строгие шеренги.
Когда я пошел в школу и стал октябренком, дядя Володя пожал мне руку (это первый раз в жизни мне пожали руку, по крайней мере, ничего такого до этого я не помню) и сказал:
- Поздравляю. Теперь ты уже взрослый. Скоро станешь пионером. Потом комсомольцем. Потом вступишь в партию. И мы с тобой оба будем большевиками.
Я привык верить дяде Володе без раздумья. А тут впервые усомнился. Он большевик, это ясно: такой высокий, уверенный в себе, говорит сочным басом. А я-то? Какой из меня будет большевик? Из такого щуплого, несолидного, с писклявым голосом?
Я промолчал, не поделился с дядей Володей своими сомнениями. Но самое удивительное, что прав оказался не он, а я. Не вышло из меня большевика.
Приезды в Ильичевку я помню смутно. Однажды дядя, тетя и я с родителями куда-то шли. Было грязно после дождя, и дядя взял меня на руки. У них с тетей своих детей не было. Они были очень добрые. Они меня очень любили. Я боялся, что дядя поскользнется и вместе со мной упадет, но понимал, что показать свою трусость не годится. Решил схитрить:
- Володя, помни: я еще маленький. Ты за меня отвечаешь.
И был удивлен, что взрослые расхохотались.
На школьные зимние каникулы меня привозили уже в Борисполь. Как я любил этот дом с печным отоплением, такой уютный, теплый, с морозными узорами на окнах, с огромной немецкой овчаркой Бураном! Как мне здесь были рады, и как я здесь всех и все любил!
Однажды дядя посадил меня на лошадь. Она была такая огромная, земля оказалась где-то там, далеко внизу. Я старался не подать виду, что боюсь, но у меня это не получилось.
- Эх ты, интеллигент, - сказал дядя. - Знаешь, у нас в дивизии Щорса рассказывали, как интеллигент сел на коня. Едет рысью и все больше сползает на круп. И ничего поделать не может. Наконец не выдержал и закричал: "Эта лошадь кончилась! Дайте другую!".
Я криво улыбнулся, а он помолчал и продолжил:
- А знаешь, как интеллигент ходил в разведку? Возвращается и докладывает: "Конница пройдет, пехота не пройдет". Щорс очень удивился: пехота может пройти везде. "Как же так? - спрашивает. - Почему пехота не пройдет?" - "Слишком злые собаки в деревне".
Так дядя меня воспитывал.
В тот день начала мая сорок пятого года дядина часть проходила через Киев. У него было всего несколько часов. Он не знал, что я здесь, но наугад (я знаю, его вело его доброе любящее сердце) приехал на киностудию. Охранники на проходной для него, конечно, препятствием не были. И он нашел меня. Нашел и, я считаю, спас.
- А где ты готовишь? - спросил он меня. Я рассказал о судьбе моей плитки. Его лицо перекосилось. Он куда-то ушел своим широким решительным шагом и скоро вернулся с плиткой.
- Так ты уйдешь, а комендант все равно опять заберет, - сказал я с тоской.
- Не беспокойся, не заберет.
И не забрал.
Полвека спустя мы с женой ненадолго приехали в Вашингтон. Как можно больше времени хотелось поработать в чудо-Библиотеке конгресса. И все-таки отправились к мемориалу Рузвельта. Франклин Делано Рузвельт - один из самых почитаемых американцами президентов. Он вывел Соединенные Штаты из страшной депрессии начала 30-х годов и привел их к победе во Второй мировой войне. Ему посвящен замечательный мемориал с оригинальными памятниками. Прямо на уровне земли стоит очередь из человеческих фигур в натуральную величину. Они направляются к своему президенту. Американцы любят фотографироваться на фоне этого мемориала: становятся в очередь мраморных людей и снимаются вместе с нею.
Я тоже сфотографировался в этом мемориале. Только в другой его части. Там есть еще один памятник. Рузвельт сидит в кресле (он переболел полиомиелитом и не мог ходить), а у его ног сидит его собака. Она была любимицей всей страны. Любовь к своему президенту народ перенес и на его собаку, так что она запечатлена в памятнике. Я разлегся на земле возле этой мраморной собаки, и жена сделала такой снимок: Рузвельт, а у его ног его собака и я. Для меня Рузвельт остался не только одним из величайших государственных деятелей ХХ века. Он подарил мне незабываемое счастье: вместе с моим дядей Володей в конце войны, в канун победы, он спас меня от голодной смерти.
2. Свадебное путешествие по-советски
Маша. Инна. Бэба. Майя. Галя. Эллочка-Эллада. Прелестные, очаровательные, веселые и чуть-чуть меланхоличные, скромные и страстные одновременно, со своими заботами и маленькими тайнами. А я два года был на беспривязном содержании, как говорят смоленские животноводы, и только ими и жил.
Когда я кончал первый курс, то получил отставку. У меня позади уже была Большая Любовь. Она возникла в первом классе в начале сентября. Анна Лукьяновна посадила меня за одну парту с темпераментной хрупкой девчушкой, и я сразу понял, что она предназначена мне на всю жизнь. Для чего? Чтобы ее охранять. Она была такая беззащитная.
Вот мой ответ на вопрос "бывает ли любовь с первого взгляда?", и на вопрос "бывает ли любовь в восемь лет?", и на вопрос "бывает ли любовь на всю жизнь?"
Потом началась страшная война, киевлян раскидало в разные стороны. Когда я попадал в новый город, вплоть до Ашхабада, я ходил по улицам и высматривал мою Дульцинею: если меня сюда забросило, могло забросить и ее, рассуждал я. Вернувшись в Киев, я продолжил поиски. Я надеялся, что как я после всех мытарств снова оказался в Киеве, так и она. Рассказывал знакомым ровесникам о той, которую ищу, называл ее имя и фамилию и просил их спрашивать о ней у их знакомых. Они слушали меня с уважением и не только расспрашивали своих знакомых, но просили их наводить справки дальше. И в то же самое время систематически, собрав все свое мужество, я обходил одну за другой киевские женские школы. Во время войны для мальчиков и девочек придумали отдельные школы, и продержалась эта нелепость, как и многие другие, до смерти Сталина. Приходил в канцелярию женской школы робкий восьмиклассник, позже девятиклассник, и, готовый провалиться сквозь землю, спрашивал, не учится ли здесь его Дульцинея. Не могу вспомнить ни одного случая, чтобы со мной поговорили сочувственно. Не могу понять, почему меня встречали настороженно, насмешливо, подозрительно, полувраждебно. И все-таки на мой вопрос, заглянув в списки, отвечали. Но ответ всегда был "нет". В конце концов к цели привел первый путь.
Но тут оказалось, что удержать значительно труднее, чем найти.
Пока мы учились в школах, все было благополучно. Однако потом она поступила в университет, а я - в педагогический институт. Вокруг нее стали роиться блестящие молодые люди, самоуверенные, веселые, велеречивые, откормленные. Они только через два года по особому случаю не то чтобы провалились как сквозь землю, а так, стушевались. А я только и мог что писать ей длинные поэмы.
Когда у нее дома за столом во время вечернего чая собиралось общество, я сам видел, что другим безнадежно проигрываю. Моя Дульцинея стала со мной холодна, я понимал, что так мне и надо, что иначе и быть не может, но исчезнуть не имел сил. Утешался словами Байрона, повторяя себе, что легче умереть за женщину, чем жить с ней. Как раз в ту пору в домашней библиотеке одного моего замечательного старшего друга я открыл для себя тонкие книжечки со словами "Шатер" и "Огненный столп" на обложках. Так вот, я не умел, когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во вселенной, скажет: "Я не люблю вас", - улыбнуться, и уйти, и не возвращаться больше. И так оно тянулось, пока я не получил формальную отставку. И не оказался на беспривязном содержании.
А у Бэбы были необыкновенные светло-карие глаза в крапинку. Да, по карему зрачку были разбросаны черные крапинки. Я целовал эти изумительные глаза и говорил:
- У тебя глазки гнедые в яблоках.
Почему-то нам обоим это казалось необыкновенно смешно. Теперь они давно уже навсегда закрылись.
А Майя внезапно умерла в двадцать один год. У нее была какая-то страшная болезнь сердца, а я и не знал. Когда это случилось, мне боялись сказать: такая страстная была у нас любовь.
Эллочка... Моя Эллада...
Перед Эллочкой я безмерно виноват.
В институте у меня были замечательные учители, мне повезло.
Моим научным руководителем на первом курсе по моим неотступным просьбам стал крупный эллинист, исследователь гомеровского эпоса Наум Львович Сахарный.
Александр Сергеевич Грузинский, едва начав на первом курсе читать нам введение в языкознание, сразу предложил каждому слушателю выбрать из длинного списка монографию и самостоятельно ее изучить. В углу кабинета русского языка прямо на полу были сложены горкой экземпляры русского перевода книги Эдуарда Сэпира "Язык". Я грыз ее полгода. Лингвистических словарей тогда не было. Я старался понять значение терминов из контекста и составлял свой словарь. Профессора Грузинского у нас скоро забрали и заменили абсолютным невеждой, так что надеяться приходилось только на собственные силы. И для меня приоткрылся уголок строгого, великолепного мира лингвистики. Я подготовил по Сэпиру доклад о типологической классификации языков мира, искал случай его прочитать, но оказалось, что он никому не нужен.
Логику у нас преподавал несравненный Георгий Тимофеевич Чирков. После моего доклада о нем в Петербурге на шестой всероссийской научной конференции по логике аудитория как-то замерла, а председатель задумчиво сказал:
- Будут ли нас так вспоминать наши ученики полвека спустя?
И покачал головой.
Даниил Михайлович Иофанов учредил у нас семинар по Гоголю. Обязательным условием было, что каждый доклад готовился с опорой на документы из отдела рукописей библиотеки украинской Академии наук, где гоголевские материалы и сосредоточены. Широко использовались творческие рукописи Гоголя. Позже, работая в Смоленском областном архиве, в московских, петербургских, казанских архивах, в огромном упоительном Гуверовском архиве войны, мира и революции в Стэнфордском университете, приобщая к архивной работе учеников, я всегда с благодарностью вспоминал и поныне вот вспоминаю заставленные шкафами, картотеками, столами так, что пробираться надо было впритирку к мебели бочком, комнатки киевского отдела рукописей, где я познал поэзию архивных разысканий.
Вера Денисовна Войтушенко прочитала нам большой, годичный спецкурс по Толстому, в котором вопреки времени главное внимание было сосредоточено на духовной жизни писателя, на его поисках религиозной истины.
Недавно в Париже в Люксембургском дворце я читал доклад на конференции, посвященной французско-русским культурным связям XIX века. И вспоминал Юлию Вениаминовну Хинчук, которая в институте, строго и систематично преподавая нам французский язык, заложила основы его знания.
И была еще Нина Васильевна Сурова. Молодая, всего на десять лет старше меня. Она преподавала у нас современный русский литературный язык монументальный курс - и была поверенной моих сердечных тайн. Иногда давала ценные советы. Перед войной она вышла замуж, и ее муж, шахматный мастер Назаревский, погиб на фронте. Она подарила мне всю его шахматную библиотеку. Наша дружба сохранялась до самой ее смерти.
Когда я вернулся в Киев после летних каникул перед началом занятий на четвертом курсе, я на другой же день позвонил ей.
- Приходите, как только сможете, - сказала она каким-то тревожным тоном.
- Вы уже знаете, что отец Дульцинеи арестован? - первое, что она спросила, когда я к ней пришел.
...Мне нет прощения, что с тех пор я никогда даже не увидел ласковой Эллочки, с которой у нас разворачивался бурный роман... Я называл ее моей Элладой. От доклада товарища Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград", от всего идеологического навала первых послевоенных лет я переселился в древнюю Грецию. Я изучал древнегреческий язык и на первом курсе занимался трагедией Эсхила "Семеро против Фив", а на втором - логической структурой полемической прозы Лукиана. И Эллочкой. А у моей Эллочки - я называл ее Элладой, слаще слова я тогда не знал - были удивительно нежные губы - ласковые и чуть-чуть агрессивные одновременно...
Стояло лето пятидесятого года. На этот раз истребление культуры в Советском Союзе приняло облик борьбы с космополитизмом. Теперь его называют классиком науки, разработке его наследия посвящаются международные конференции, его книги выходят в разных странах на разных языках, а тогда мой будущий тесть, тихий щуплый скромнейший человек, как безродный космополит был арестован и отправлен в лагерь в Тайшет. Из педагогического института был изгнан еще один космополит - мой научный руководитель Наум Львович Сахарный.
Сталин любил "советскую интеллигенцию", но только в ошейнике, на коротком поводке и в наморднике.
Киевский университет во время войны был наполовину разрушен и к пятидесятому году не был еще восстановлен. Занятия шли в три смены. Кончались не то без четверти одиннадцать вечера, не то в четверть двенадцатого. Я поджидал ее на пути от университета к дому.
Она появилась с подругой. Я подошел к ним.
- Я узнал, что твой папа арестован...
- Ты хочешь меня пожалеть? - воинственно спросила она, натянутая, как скрипичная струна. Нас учили, что человека надо не жалеть, не унижать жалостью - уважать надо. А также, что если жизнь - борьба, то жалость неуместна. В эти мгновенья решались наши судьбы - двух перекати-поле под бурями двадцатого века. И сколько тогда было таких перекати-поле! И сколько таких мгновений, которые по-разному распоряжались их судьбами!
- Да.
Она как-то сразу смягчилась. Струна не лопнула, а была спущена. Подруга-золото куда-то исчезла. Эта минута и принесла мне второй слиток счастья, который навсегда осел в памяти моего сердца. Французы говорят: браки совершаются на небесах. Они правы.
Я по всем правилам просил ее руки у ее матери. Разве что только без фрака. Будущая теща мне сказала:
- Да, настоящие мужчины умеют добиваться своего.
Но жениться я еще не мог. Следовало доучиться и обзавестись своим домом. Окончил свой институт на год раньше, чем она университет, и уехал учительствовать в Донбасс, в шахтерский поселок, а на зимние каникулы приехал в Киев, и мы пошли в ЗАГС. Переждали перерыв. Я думал, что зарегистрировать брак можно в любом таком учреждении, но оказалось, что только по месту жительства одного из нас. Где прописаны. Нам это разъяснили по окончании перерыва. Мы пошли в то отделение, в какое следовало, а там сказали, что на заявление нужно наклеить специальную марку, которая продается в банке. Мы пошли в банк и, переждав новый перерыв и купив марку, замордованные, голодные, вернулись в ЗАГС, где нам наконец и выдали свидетельство о браке.
Созерцая, как у современной молодежи стремительно разваливаются и растираются в пыль супружества, заключенные во дворце бракосочетаний - во дворце, не меньше, - с предусмотрительно закупленными туалетами и кольцами, со стечением толпы родственников, друзей, подруг, знакомых и незнакомых, с украшенными гирляндами кортежами машин и нарочито суетливыми фотографами, с торжественным объездом каким-то образом специально выбранных мест города и последующими пиршествами, во время которых подносятся дорогие подарки, и сравнивая с этим обрядом мою женитьбу, я начинаю думать: нет ли отрицательной корреляции между пышностью свадьбы и длительностью брака? Я не социолог, а то бы и предпринял такое статистическое исследование.
Зимние школьные каникулы подошли к концу. Мне надо было возвращаться к моим воспитанникам, а жене еще предстояло сдать семестровые экзамены. Разлучаться нам не хотелось, и она подала декану заявление с просьбой разрешить ей по случаю замужества сдать сессию досрочно. Декан с наслаждением отказал. Наверное, ради таких минут и становятся деканами. Некоторые. Я уехал, а она осталась, с тем чтобы присоединиться ко мне три недели спустя. Мой друг Феликс Кривин прокомментировал это событие так:
- Свадебное путешествие по-советски. Новобрачных поодиночке высылают на периферию.
3. Будьте счастливы!
Как всегда, я пришел на работу к двенадцати часам. Мы с директором так договорились: он школу открывает, а я, завуч, закрываю. Это значило, что он приходит к началу занятий первой смены и остается в школе до четырех, а я прихожу к двенадцати и остаюсь до конца второй смены. Директор у меня был замечательный, Петр Васильевич Доценко. Между двенадцатью и четырьмя мы с ним находили время обсудить все школьные дела и вместе пообедать.
И вот вхожу я в свой кабинет и на столе у окна среди почты нахожу письмо. Смотрю на обыкновенный серо-голубой конверт и не верю себе. Смотрю и боюсь взять его в руки. Широкий, крупный, размашистый почерк и обратный адрес: от Пастернака Б.Л. Еще не открыв конверта, даже не дотронувшись до него, я знаю: в нем не письмо. В нем слиток счастья, который предопределит многое в моей жизни. Запираю дверь и читаю:
12 ноября 1956 г.
Дорогой мой Баевский!
Не знаю Вашего имени-отчества и потому простите мне такой род обращения. Благодарю Вас за доброе отношение, благодарю за очень лестную, хорошо, интересно написанную статью.
Вы не поверите, Вам это покажется неправдоподобным, что зимуя на даче и почти не бывая в городе, я предоставляю обстоятельствам самим складываться, как они хотят. Ни я, ни кто-нибудь вместо меня не явится в "Знамя". Судьба Вашего письма неизвестна и останется неизвестна мне.
Должен сказать Вам, что мое отношение к современности, мои убеждения везде известны. В согласии с ними ко мне относятся не только хорошо, но необъяснимо много прощают. Это я к тому, чтобы Вы не считали меня несправедливо обойденным, чтобы Вы не полагали нужным и возможным защищать меня.
Допущение, будто наш порядок заведен навеки и это никогда не изменится, есть отрицание истории, насилие над духом более ощутимое, чем физическое порабощение. В такой внеисторической безвоздушности едва мыслимо прозябание и совсем невозможно и не нужно искусство, которое творчески именно и зарождается в сознании и чувстве того, что все меняется, пока оно живо, и никогда не перестанет изменяться.
Я не скрываю своего отрицания того, что каждый день утверждается в газетах. При этих условиях то, что я остался цел, живу и искушаю Вас своею ересью - едва оценимая, неизреченная милость. Напечатанные в "Знамени" стихи - часть тех новых, которые я написал в последнее время. Как-нибудь я пошлю их Вам. Еще раз сердечное, сердечное Вам спасибо.
Желаю Вам счастья.
Ваш Б. Пастернак
Школа стояла на самой окраине поселка, была последним его зданием: ее недавно построили на свободном месте. Предпоследним был Дом культуры. Три недели тому назад, по дороге в школу зайдя, как обычно, в библиотеку Дома культуры, я открыл свежий номер "Знамени" и увидел в нем подборку стихотворений Пастернака. С тысяча девятьсот сорок пятого года, когда мой друг Шурик подарил мне его совсем небольшую книгу "Избранные стихи и поэмы" и я впервые познал это чудо, я видел в печати новые стихи Пастернака всего лишь второй раз. Я в изумлении стоял перед стихотворениями совсем неожиданными. В тот же день я стал набрасывать статью в форме письма в редакцию "Знамени". Закончив ее и отослав, я отдал себе отчет в том, что журнал при всем желании не сможет ее опубликовать.
И решил отправить ее поэту.
Начиналась оттепель. Двадцатый съезд партии с докладом Хрущева подорвал фундамент воздвигнутого Сталиным тоталитарного государства. Но в донбасской глубинке, где я жил, эти тектонические сдвиги ощущались слабо. Первым секретарем райкома партии, то есть полным хозяином района, по-прежнему был Власенко. Первым секретарем соседнего райкома партии, граница с которым проходила за моей школой, как и в сталинское время, был Владыченко. Уж не специально ли высокое начальство подбирало наместников с такими значащими фамилиями? Так вот, власть этих владык зримо ничуть не была поколеблена. Одними из немногих ощутимых для меня веяний нового времени стали две подборки стихов Пастернака в "Знамени" пятьдесят четвертого и пятьдесят шестого годов.
И письмо Пастернака.
В конце своего письма он пожелал мне счастья. И сам же сделал все, чтобы его пожелание осуществилось.
Потому что чудеса продолжались. Вскоре пришел толстый пакет, который по поручению Пастернака отправила мне Ольга Всеволодовна Ивинская - последняя любовь поэта, его спутница на протяжении четырнадцати лет, с октября сорок шестого года до его смерти в тысяча девятьсот шестидесятом. За это время Пастернак написал монументального "Доктора Живаго", последнюю, самую большую книгу лирики "Когда разгуляется" и автобиографическую прозу "Люди и положения", а также перевел обе части "Фауста" Гете. Облик Ивинской как-то отразился в Ларе из романа, в Маргарите из перевода "Фауста", в таких стихотворениях, как "Хмель", "Осень", "Сказка", потрясающая "Зимняя ночь", "Разлука", "Без названия". Это ею согреты слова: Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему. И другие слова: Недотрога, тихоня в быту, Ты сейчас вся огонь, вся горенье. Дай запру я твою красоту В темном тереме стихотворенья. И еще такие: В года мытарств, во времена Немыслимого быта Она волной судьбы со дна Была к нему прибита. Это о ней он думал в разгар последней травли - сколько он их перенес за свою жизнь! - которая свела-таки его в могилу: Все тесней кольцо облавы, И другому я виной: Нет руки со мною правой, Друга сердца нет со мной! А с такой петлей у горла Я б хотел еще пока, Чтобы слезы мне утерла Правая моя рука.
За свою любовь Ивинская дорого заплатила: в годы сталинщины она была арестована, в тюрьме у нее случился выкидыш, ребенок ее и Пастернака так и не родился; после смерти Сталина она была освобождена, а после смерти Пастернака вместе с дочерью арестована снова. Рукописи Пастернака, отнятые у нее при втором аресте, так и не были ей возвращены.
Полученный мною пакет содержал в себе стихи и письмо. На папиросной бумаге девятнадцать страниц машинописи под общим заглавием "Четырнадцать стихотворений". На пишущей машинке с помощью копирки, если пользоваться обычной бумагой, можно было получить самое большее четыре копии. Через тонкую папиросную бумагу можно было получить копий больше, шесть-семь. Но вот что странно. Французская исследовательница творчества Пастернака Жаклин де Пруаяр, хорошо знавшая Пастернака в эти годы, подробно изучила историю формирования книги "Когда разгуляется". У нее есть обстоятельная статья об этом. Вторым после публикации в "Знамени" этапом она считает цикл из двадцати одного стихотворения, подготовленный поэтом для неосуществившегося издания пятьдесят седьмого года. Полученные мною "Четырнадцать стихотворений", оформленные как единое целое, с пронумерованными текстами, свидетельствуют, что к осени пятьдесят шестого года сложилась промежуточная, внутренне относительно завершенная редакция будущей книги, оставшаяся ей неизвестной. Позже, когда я с сыном поэта готовил полное собрание стихотворений Пастернака для "Библиотеки поэта", мы не нашли в домашних и государственных русских и зарубежных архивах, в том числе и в архиве поэта, другого экземпляра подборки "Четырнадцать стихотворений". Я спрашиваю себя: куда же девались остальные шесть-семь экземпляров подборки? Или был отпечатан только один, для меня?
А на папиросной бумаге - чтобы меньше привлекать внимание почты?
Вот эти стихотворения. Одно выписывание их заглавий и первых стихов приносит радость.
"Во всем мне хочется дойти...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ева", "Без названия", "Июль", "Первый снег", "Когда разгуляется", "Ночь", "В больнице", "Музыка", "Заморозки", "Золотая осень", "Дорога", "Ненастье".
Они мне сразу же врезались в память. Их все время носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал.
Теперь время привести письмо Ивинской.
"Посылаю Вам, т. Баевский, по поручению Бориса Леонидовича стихи.
Желаю Вам всего лучшего, читала Вашу статью. Очень понравилась она мне, и мне хочется пожелать Вам действительно всего хорошего в жизни - такой Вы, по-моему, настоящий человек.
Не упоминайте мое имя, когда будете писать Борису Леонидовичу на московский адрес, но ему Вы можете написать и через мой - на конверте. Напишите, например, получили ли стихи. Очень толст конверт.
До свидания".
Ровно через год, в ноябре 1957 года, в Милане вышел из печати "Доктор Живаго". Я знал об этом, но книгу не видел. Еще одиннадцать месяцев спустя Пастернаку была присуждена Нобелевская премия, и началась разнузданная травля на уничтожение, которую направляли идеологические главари из ЦК партии, КГБ и Союза писателей. Теперь все это хорошо известно всем, кто хочет знать, хотя накал оскорблений и проклятий, которыми великого поэта тогда осыпали, теперь представить себе трудно. Двадцать девятого октября пятьдесят восьмого года я записал в дневнике: "У себя в школе услышал такой обмен репликами между двумя учительницами:
- Слышали о Пастернаке?
- Что, умер?
- Хуже".
Поэта забили до смерти. Теперь я сопоставляю даты. Накануне моей записи, двадцать восьмого октября, он хотел покончить с собой, приготовил смертельную дозу нембутала, но Ивинская его остановила. Он заболел раком и скончался через полтора года в тяжелых страданиях.
Тогда я знал только внешнюю сторону событий. Я понимал, что такие яростные проклятия, угрозы, поношения не могут для поэта, чей возраст приближался к семидесяти, пройти бесследно, и в конце концов решил, что надо поддержать старика. Примерно такими словами можно передать мои мысли и ощущения, когда во время зимних школьных каникул в январе пятьдесят девятого года я предпринял паломничество к Пастернаку и ехал в Москву. Уже в столице я долго колебался, не решаясь вторгнуться в его жизнь.
В записной книжке сохранилась дата - 11-е - когда я наконец решился отправиться в Переделкино. В школе уже начинались занятия, я опоздал на работу. Было тепло, но не таяло. Чуть ниже нуля. Местоположение зимней дачи поэта я по рассказам представлял себе весьма приблизительно. От станции по направлению движения поезда вело широкое шоссе со следами многочисленных автомобильных колес. Около трансформаторной будки надо было свернуть направо на пешеходную дорогу. А дальше... Дальше искать и спрашивать.
Подойдя к трансформаторной будке, я замер: проселок был покрыт сплошным снегом, на котором виднелись полузанесенные следы одинокого путника. Я решил, что иным и не может быть путь поэта, и, никого не спрашивая, пошел по этим следам.
Странным образом они привели меня прямо к красивой двухэтажной шоколадного цвета с застекленными верандами даче Пастернака, бесчисленное количество раз изображенной теперь в журналах, газетах, на форзацах и переплетах книг, в передачах телевидения всего мира. Когда я вошел на большой участок, меня увидела пожилая женщина. Я объяснил, что приехал повидать Бориса Леонидовича.
- По утрам он работает и никого не принимает, мы его не беспокоим. А вы с ним сговаривались?
- Нет. Что ж, тогда я уйду.
- Подождите, я скажу Борису Леонидовичу.
Представляю себе, как я выглядел, что было написано на моем лице, если моя собеседница так сразу нарушила распорядок дня поэта. Позже, когда я стал изучать его жизнь и творчество, я узнал, что в это время он работал над оставшейся незавершенной пьесой "Слепая красавица".
Встретившая меня женщина ушла, а я подготовил фразу с извинением.
Тут на крыльце появился человек, очень похожий, судя по фотографиям и рисованным портретам, которые я видел в книгах, на Пастернака. Его младший брат или старший сын (я не имел понятия, существуют ли они в природе). Приготовленные извинения застряли в горле, я боялся ошибиться. А он стоял на крыльце с непокрытой головой, в серой рабочей куртке, выжидающе и внимательно, несколько настороженно смотрел на меня. Пауза невозможно затягивалась.
- Что же вы стоите? Входите. Ведь я простудиться могу.
Я понял, что это все-таки Пастернак.
В нем не было решительно ничего от семидесятилетнего старика, нуждавшегося в моей поддержке. Передо мной стоял стройный, крепкий, выше среднего роста, с прекрасно развитой грудной клеткой человек с седеющими волосами и молодыми, замечательными глазами. Поразили крупные черты, высокий лоб, характерная нижняя часть лица. Мне показалось и кажется сейчас, что решительно все в этом лице говорит об уме и воле. Подобное умное и волевое лицо, сочетание прекрасно развитого лба и характерной нижней части лица я видел еще у одного человека - у Святослава Рихтера.
Внешность Пастернака меня потрясла. А Симон Чиковани о первом впечатлении от Пастернака сказал: "Вот таким я представляю себе Пушкина".
В сенях я стал сбивчиво говорить о том, как люблю его и его стихи. Никаких слов поддержки я не произносил, они прозвучали бы фальшиво. Так мне казалось. Он спросил, пожимая и не выпуская мою руку, пристально, сторожко вглядываясь в мое лицо:
- А я вас как-нибудь знаю?
И здесь он поразил меня снова. Я сказал, что он со мной никогда не встречался, только вот два года тому назад я писал ему по поводу его стихов в "Знамени".
- А, Баевский, Баевский! Я хорошо вас помню.
Я не назвал своей фамилии. Пастернак ее сам вспомнил. Настороженность, напряжение как рукой сняло. Я выразил удивление. Я был на седьмом небе от счастья.
- Это теперь вокруг меня много народу, а тогда совсем не было, и ваше письмо было мне дорого.
Много позже я сообразил, что из нашего маленького диалога следует, что мое письмо было единственным откликом, полученным Пастернаком на ту публикацию в "Знамени". А слова поэта об одиночестве нуждаются в объяснении, их нельзя понимать буквально. Пастернаку, который стоял на вершине мировой культуры и был самым образованным среди поэтов своего времени, нужны были слушатели и собеседники, способные понять его монологи и вести с ним диалог, - философы и музыканты, актеры и художники, филологи и поэты. Такие люди возле него были. Однако он, с его сначала инстинктивным, затем глубоко осознанным, органичным демократизмом страдал от мысли, что после войны у него нет массового читателя. "Большая литература невозможна без большого читателя", - говорил он. Вся жизнь его была подчинена стремлению уйти от узости любой литературной школы, от замкнутого элитарного круга собратьев по профессии и читателей-гурманов и заполучить читателя массового, не искушенного специальным образованием, со здоровым интересом к жизни и такой литературе, которая помогает эту жизнь наполнить и осмыслить. Мне к людям хочется, в толпу. Через полгода после моего посещения Пастернак написал замечательному актеру Московского художественного театра Б.Н. Ливанову, как раз одному из тех, кто составлял его близкое окружение: "А охотнее всего я всех бы вас перевешал". А несколько ранее о том же было недвусмысленно сказано в стихах: Друзья, родные, милый хлам! Вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам, Лжецы, ничтожества и трусы! Быть может, в этом божий перст, Что нет для низости дороги, Как у преддверья министерств Покорно обивать пороги. Эти письмо и стихотворение давно неоднократно опубликованы. Я их только еще раз воспроизвожу.
Пастернак проводил меня в довольно большую комнату на первом этаже, столовую или гостиную, извинился, сказал, что напряженно работает и много времени уделить мне не сможет. Теперь я знаю, что попал к поэту в то время, когда здоровье его было окончательно подорвано, когда он стоял на пороге решения, соотносимого с тем, которое принял перед смертью Лев Толстой - о полном разрыве со своей средой и уходе к Ивинской. Давно, еще в "Охранной грамоте", он рассказал "о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта <...> Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг - конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство". А я приехал из Донбасса, чтобы поддержать и ободрить его... Жизнь Пастернака неудержимо устремлялась к роковому концу, и не с моими малыми силами было его отодвинуть. Через двенадцать дней после моей встречи с Пастернаком его схватили прямо на улице в Переделкине, затолкали в машину и отвезли к генеральному прокурору СССР Руденко. А тот пригрозил, что на основании перехваченных писем против Пастернака и его близких будет возбуждено уголовное дело. В окружении Пастернака предполагали, что именно после этого потрясения он заболел раком.
Ни малейшей тени трагедии не висело над обликом и поведением Пастернака при нашей встрече. Он на несколько минут оставил меня, кинулся в глубь дома, прибежал с десятком или дюжиной изданий "Доктора Живаго" на разных языках и картинно, с видимым удовольствием, разложил их передо мной по периметру всего (если не ошибаюсь - овального) стола. Я намеренно употребляю глаголы кинулся, прибежал: они значительно точнее передают порывистость, живость Пастернака, чем любые менее динамичные слова.
Широко известно, что в конце жизни Пастернак не любил свое творчество первой половины жизни. Он не раз заявлял об этом письменно и устно. Но в разговоре со мной он с большой радостью говорил о переиздании своих ранних стихов и своей ранней прозы за рубежом. Отдельно назвал "Детство Люверс". Позже в очерке А.Д. Синявского "Один день с Пастернаком" я прочитал об отношении поэта к своему прошлому приблизительно то же самое. Очевидно, самооценки Пастернака не были прямолинейными и однонаправленными, какими они иногда нам представляются. Его мышление было объемным, сложным, многоуровневым, динамичным.
- Вы не представляете себе, - сказал он мне, - что сейчас делается во всем мире. Мои книги выходят в издательствах, выпускающих классику. До меня далеко не все доходит...
Хотя впервые Пастернак услышал о себе титулование живой классик и гений в двадцать втором - двадцать третьем году, после того как вышла в свет "Сестра моя жизнь", роман в стихах, состоящий из одних лирических отступлений, и три с половиной десятка лет спустя с положением живого классика свыкнуться было трудно.
Вошла Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича, я был ей представлен. Снова Борис Леонидович упомянул мою статью 1956 года. Скоро Зинаида Николаевна оставила нас вдвоем.
Разговор неизбежно коснулся остервенелой травли последнего времени.
- Я очень рад, что сам остался цел и дом вот цел, но в смысле денег, гонораров пока неясно. Мне ничего не платят, с афиш сняли мое имя, в Гослитиздате делают вид, что меня не знают. Хотят меня поставить на колени.
Пастернак имел в виду афиши тех театров, где в его переводах шли пьесы иностранных драматургов. От его постоянной денежной поддержки зависели судьбы не меньше чем десяти человек, в том числе репрессированных друзей и их семей, малознакомых и иногда вовсе незнакомых людей. Он опекал Нину Табидзе, жену замечательного грузинского поэта Тициана Табидзе, друга Пастернака, ставшего в роковом тридцать седьмом жертвой Сталина и Берии. Сестру и дочь Цветаевой. Много позже, когда я был в Тбилиси в гостях у дочери Тициана и Нины, Танит Табидзе, она мне сказала, показывая свой дом:
- А это пианино Нейгауза. Его нам дядя Боря подарил.
Так она с детства привыкла называть Пастернака.
Из "Охранной грамоты" я знал, какое большое место в духовном мире Пастернака занимает Рильке. У меня был томик его стихов, изданный в ГДР, я учил его наизусть и переводил на русский язык, восприняв любовь к нему у своего любимого поэта. Я сказал Пастернаку об этом и добавил, что привез ему в подарок книгу Рильке и свои переводы, разумеется, неизданные.
- Рильке у меня есть, - сказал он и сделал отстраняющий жест, а переводы взял, прочитал их тут же, при мне, и сердечно похвалил:
- А знаете, это хорошо.
Вслед за этим было сказано еще несколько фраз. Мне уже была известна его щедрость на незаслуженные похвалы, о ней много рассказывали, и все же... Прошу читателя представить себе, каково слышать себе похвалы из уст Пастернака.
Я все время помнил, что оторвал его - ЕГО - от работы, и сидел как на иголках. Когда я поднялся, он стал благодарить меня за внимание и извиняться, что не может продлить встречу.
- Вы обязательно должны меня простить. Мне очень приятно было бы больше поговорить с вами, но я жертвую удовольствием для работы.
На обратном пути в электричке я как мог записал наш разговор.
4. Мои аспирантуры
- Я окончила школу с золотой медалью, а университет с дипломом с отличием.
Мы сидели в новом здании Академии наук на Ленинском проспекте - человек пятнадцать докторов филологических наук, среди нас - один академик, два или три членкора, преимущественно - сотрудники академических институтов и профессора Московского университета. Еще два петербуржца и два провинциала. Заседал экспертный совет одного из мощных государственных фондов, распределяющих миллионы на научные исследования и издания в соответствии с заявками, поступающими от ученых на конкурс грантов. Работали долго, устали, и как-то сам собою возник необъявленный перерыв. Отвлеклись, заговорили о постороннем. Я не уловил, в какой связи одна из участниц заседания сказала:
- Я окончила школу с золотой медалью, а университет с дипломом с отличием.
- Я тоже.
- И я.
- И я.
В этом не было ничего неожиданного. Здесь собрались сливки нашего филологического мира, люди одаренные, некоторые - я знал - из семей с хорошими культурными традициями, уходящими в девятнадцатый век. Сливки обратили внимание на то, что я молчу.
- Вы тоже? - спросили меня.
- Нет.
На меня воззрились с удивлением. Рассказывать, как мне удалось окончить школу без золотой и даже серебряной медали, а педагогический институт, не университет, без диплома с отличием, было неуместно: следовало возвращаться к нашей работе, к распределению грантов. Я и промолчал. Но в эту минуту я решил в подражание замечательной автобиографической трилогии М. Горького, которую венчает повесть "Мои университеты", написать повесть "Мои аспирантуры". Повесть когда-то написалась, однако не так, как хотелось, ушла в сторону, да так далеко, что ее было и не догнать. Но вот сейчас наконец-то я расскажу о той россыпи чистого счастья, которую принесла мне жизнь в науке.
Да, та повесть написалась не так. А "Роман одной науки" вовсе не написался. Мне так и не пришлось рассказать, как мы с мамой мечтали, что все десять лет я проучусь в одной школе; для мамы это была школа, в которой ее сын сразу попал во вдохновенно-заботливые руки Анны Лукьяновны Беляновской, а для меня - мир той темпераментной, хрупкой, беззащитной девочки, с которой я сидел за одной партой; вместо этого пришлось бы написать, как за десять лет я был вынужден сменить десять школ на пространстве от Киева до Ашхабада и от Ашхабада до Житомира; как кончал в Киеве школу, занимавшую большое пятиэтажное здание, в котором училось полторы тысячи мальчишек, в большинстве безотцовщина, потерявшая отцов на фронте, в репрессиях, в семейных неурядицах военных лет; своих одичавших воспитанников побаивались учителя; классическая поза была - левое плечо чуть выдвинуто вперед, правая рука за пазухой; предполагалось, что в ней - рукоятка ножа или кастет; у большинства это была только рисовка: ножа, кастета не было; но вот у меня с внутренней стороны куртки был подшит кожаный чехол, в котором покоилось широкое, длинное, отличной крупповской стали лезвие кинжала немецкого парашютиста-десантника, - подарок одного фронтовика; так отрадно, успокоительно было ощущать ладонью и пальцами его рукоять; как я в озверении возненавидел весь мир и писал после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки: Взревут, задыхаясь, сирены, Замечутся люди в аду. На Темзе, на Шпрее, на Сене Столицы столетий падут. Если жизнь у нас все отнимает, Ничего не давая взамен, Пусть в агонии мир погибает Под громадой обрушенных стен; как в десятом классе меня дважды исключали из школы (по заслугам - говорю как опытный школьный работник в прошлом), и только чудом удалось мне ее закончить; как за месяц до выпускных экзаменов, когда нормальные дети "шли на медаль", я был на волосок от нравственного самоубийства. Вместе с тремя соучениками я задумал и вполне подготовил убийство, которое не состоялось только потому, что накануне был убит - повешен - один из нашей четверки, и мы, оставшиеся трое, опомнились и отшатнулись от своего замысла; как из постановления ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград" и опубликованного доклада Жданова я узнал, что живет в Ленинграде не то блудница, не то монахиня Ахматова; как на моих глазах Фадеев с подручными испепелял Веселовского, палач Лысенко с подручными - генетику, кто попало космополитов, как одна и та же преподавательница на втором курсе института читала нам новое учение о языке Марра и Мещанинова, а на третьем сталинское учение о языке, не оставлявшее от предыдущего учения камня на камне; впрочем, оба года она читала лекции, не отрываясь от печатного текста, едва ли не по складам, а если приходилось поднимать голову, то держала палец на том месте, на котором останавливалась; как я за годы учения постепенно оказался сыном зэка, зятем зэка и подопечным научного руководителя - разоблаченного безродного космополита.
Студентом я прочитал "Скучную историю" и на всю жизнь подпал под ее обаяние. Вот к старому профессору-медику Николаю Степановичу приходит молодой врач и просит дать ему тему для диссертации.
- Очень рад быть вам полезным, коллега, - говорит Николай Степанович, но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...
Чеховский профессор - старый ворчун и брюзга, он смертельно болен, его парадоксы не следует принимать буквально. Став профессором, я много работаю с аспирантами, стараюсь предложить им темы поинтересней, в качестве руководителя аспирантуры, официального оппонента на защитах, председателя диссертационного совета стремлюсь облегчить путь в науку достойным. И все-таки тогда, студентом, я солидаризировался с Николаем Степановичем и решил: на пути в науку обойдусь без аспирантуры. Получилось, что и обстоятельства жизни складывались так, что путь в аспирантуру был мне заказан, и сам я в аспирантуру не стремился. Оглядываясь назад, я думаю, что судьба уберегла меня от этого соблазна. И я благодарен судьбе.
Диссертацию я потихоньку начал писать еще в годы студентства. Я хотел показать, как совершился переход Тургенева от старой манеры физиологического очерка натуральной школы к широким, просторным линиям реалистического романа. Дописал я ее, работая в школе, и почти довел до защиты, получил согласие двух высокоавторитетных московских ученых выступить на моей защите в качестве официальных оппонентов. Недавно в моем домашнем архиве попались мне на глаза их письма, и что-то в душе шевельнулось. Однако к тому времени я успел в моей диссертации разочароваться и защищать ее не стал. Тонкий процесс художественных поисков замечательного мастера, каким был Тургенев, я понял поверхностно и огрубил. Но так как в это время из школы я перешел в институт, я довольно быстро написал и защитил диссертацию совсем уже на другую тему. Пришлось.
Казалось бы, разговор о моих аспирантурах здесь должен быть окончен. В действительности все только начиналось.
Просматривая очередной номер "Вопросов языкознания", я зацепился за статью академика Колмогорова о теории стиха. Она меня прямо-таки поразила. Андрей Николаевич Колмогоров был одним из крупнейших математиков мира в своем поколении, ученым необыкновенно широких интересов. Я, по образованию не только филолог, но и логик, знал некоторые его труды по математической логике. А тут было совсем другое: к анализу стихотворной речи он применил математическую статистику и теорию вероятностей, сделав это убедительно и красиво. И мне показалось, что в одном отношении его методику можно еще усовершенствовать. Прекрасно помню этот день. Вечером в длинном полутемном коридоре я мою посуду. С женой и дочкой я жил в общежитии. По коридору, заставленному кухонными столами, на трехколесных велосипедах с гиканьем гоняют два сорванца из соседних комнат. А я снова и снова продумываю статью Колмогорова, прочитанную утром в библиотеке, и вдруг, мне кажется, нахожу способ подправить единственное место его работы, которое выглядит несколько зыбким.
Скоро моя статья написана и отправлена в "Вопросы языкознания". Не могу передать, с каким нетерпением я жду ответа. А его все нет. Я его жду, а он не приходит. Наконец, дожидаться становится невмочь. Я высматриваю щелку в расписании моих занятий и на день вырываюсь в Москву, в редакцию "Вопросов языкознания".
- Я вам давно прислал статью, а от вас ни ответа, ни привета. Хотя прошло полтора месяца.
Моя собеседница, молодая привлекательная дама Ольга Алексеевна Лаптева, дружелюбно улыбается.
- Разве это давно? У нас темпы академические. Вашу работу уже прочитал Виктор Владимирович, теперь мы ее отправили Виктору Максимовичу.
Тут только я испугался. До сих пор я вовсе не задумывался о пути моей статейки в редакции. А оказывается... Виктор Владимирович - это академик Виноградов, лидер нашего языкознания и главный редактор журнала. Его массивную, чуть ли не кубической формы монографию "Русский язык", которая в годы моего учения была новинкой, я с упоением проштудировал тогда насквозь. Виктор Максимович - академик Жирмунский, еще одно светило нашей науки. Он жил в Ленинграде. Его статья тысяча девятьсот двадцатого года "Преодолевшие символизм" стала едва ли не первой серьезной характеристикой эстетики и творчества акмеистов - Гумилева, Ахматовой, Мандельштама - и навсегда осталась классической. Сорок один год спустя Ахматова подарила Жирмунскому книгу своих стихов с теплой надписью, в которой прячется дружеская улыбка: "Дорогому Виктору Максимовичу Жирмунскому от преодолевшей символизм Ахматовой". А теперь у него моя статья. Как объяснила мне Ольга Алексеевна, в "Вопросах языкознания" он редактирует отдел стиховедения.
- А откуда вы? - спросила меня собеседница.
- Из Смоленска.
Мой ответ ее позабавил.
- Это я знаю. Из какой вы научной школы?
- Я автодидакт. - Пришлось признаться. Я поинтересовался, чем она занимается. Оказалось, русской разговорной речью. Даже без магнитофона, просто карандашом в тетрадку, по возможности незаметно, записывает обрывки разговоров, а потом их исследует. Сегодня моя тогдашняя собеседница крупнейший авторитет в целой научной области, в большой мере ею же самой и созданной. Оказалось, что разговорный язык имеет свою грамматику, во многом отличную от кодифицированного языка, свою фонетику, во многом свой словарный состав и, конечно же, свою стилистику.
На прощание она мне сказала:
- В ИМЛИ есть такой Михаил Леонович Гаспаров. Недавно окончил аспирантуру. Он собирает силы стиховедов. Позвоните ему. Вот его телефон.
- Ну чего это я буду звонить незнакомому человеку? Неудобно как-то.
- Позвоните, он будет рад.
- Знаете, что-то не хочется.
- Позвоните-позвоните. Он человек необыкновенный. Не пожалеете.
После таких настоятельных уговоров я позвонил.
И не пожалел.
Через некоторое время Ольга Алексеевна переслала мне отзыв Жирмунского. Основную часть статьи, в которой я дополняю методику Колмогорова, он одобрил. Некоторые побочные мотивы посоветовал убрать. В таком виде предложил работу опубликовать. Когда я статью доработал, Жирмунского повторно беспокоить не стали. Ольга Алексеевна показала ее Гаспарову, он ее поддержал, и во втором номере журнала за тысяча девятьсот шестьдесят шестой год статья увидела свет. Совсем небольшая, семь страниц, она вызвана идеями академика Колмогорова, получила благословение академика Виноградова и академика Жирмунского, а потом была поддержана младшим научным сотрудником ИМЛИ, теперь давно уже нашим замечательным академиком Михаилом Леоновичем Гаспаровым.
Так, в сущности случайно, при участии четырех прекрасных академиков я вступил в область теории стиха, которая принесла мне и высокие радости борьбы за научную истину, и сотрудничество с замечательными людьми.
Моя статейка в "Вопросах языкознания" сразу же привлекла внимание двух друзей - Петра Александровича Руднева и Вячеслава Александровича Сапогова. Они пожелали со мной познакомиться. Они увидели такие перспективы начатой мною работы, которых я сам тогда не видел. Петя Руднев был абсолютно бескомпромиссный рыцарь науки без страха и упрека. Его добрая улыбка и глубоко сидевшие горевшие энтузиазмом глаза покорили меня с первой минуты первой встречи. Слава Сапогов был самым христиански чувствовавшим и христиански мыслившим человеком среди всех, кого я знал во всю мою жизнь. Они оба стали мне как братья. Горько сознавать, что с нами их уже нет. Давно уже нет.
Слава, духовный скиталец, искатель религиозной истины, задумал цикл работ о людях ухода, к которым принадлежал и сам. Незадолго до смерти он мне несколько раз говорил:
- Понимаешь, Вадим: русский человек - это человек ухода.
Первой и - увы! - последней из задуманных им работ стала статья о двух прекрасных русских людях ухода "Лев Толстой и Леонид Семенов".
Петя организовал первую в нашей стране научную конференцию по теории стиха, за что его и вышибли из подмосковного института, в котором он работал. Изучение стихотворной речи на языке идеологических вертухаев, на зарплате и добровольных, называлось формализмом. А слово формализм было значительно хуже матерного ругательства. А сам по себе формализм почти что приравнивался к государственной измене. Собранная Рудневым конференция, которая объединила несколько десятков человек, вопреки гонениям занимавшихся в нашей стране теорией стиха, без которой невозможно подлинное понимание поэзии, - поэзии, без которой невозможно подлинное понимание литературы, литературы, без которой невозможно подлинное понимание культуры народа, стимулировала исследования стихотворной речи.
А самого Руднева в это самое время в Москве провалили на защите кандидатской диссертации о стихе Блока. Это был подлинно новаторский труд на докторском уровне, по выработанной Рудневым методике позже было защищено приблизительно два десятка диссертаций. Выходили книги. Но это позже. А тогда... Тогда он оказался без ученой степени, без работы, без крыши над головой для себя и своей семьи. "Попахивает формализмом", - сказал на защите один из членов диссертационного совета.
В этот катастрофический миг Руднева спас другой рыцарь науки - Юрий Михайлович Лотман. Он сумел выкроить для Руднева на два года ставку у себя на кафедре в Тартуском университете. Он организовал в Тарту повторную защиту диссертации Руднева. По его просьбе из Ленинграда приехал старенький Жирмунский и выступил на защите в качестве официального оппонента. При участии Жирмунского защита прошла триумфально. Все основные положения рудневской диссертации и новые его работы были опубликованы в тартуских изданиях. Позже по просьбе Руднева Лотман принял на себя руководство научной работой его сына, который стал студентом Тартуского университета. Руднева с семьей Лотман поселил у себя в квартире, и довольно надолго - до тех пор, пока Рудневу не удалось снять подходящую комнату. А это в Тарту было ой как нелегко.
Здесь необходимо сказать, как жил сам Лотман. Квартира у них с Зарой Григорьевной была большая, но и семья немалая: три сына, потом еще одна невестка и внучки. Когда я первый раз попал в их гостеприимный дом, стол для ужина в общей комнате, гостиной-столовой, на моих глазах был сооружен из досок, положенных на козлы и покрытых скатертью. Обеденного стола не было. Почти осязаемо носилось в воздухе: Вас положат на обеденный, А меня на письменный. В кабинете действительно большой письменный стол был. Все стены, естественно, с пола до потолка были уставлены стеллажами, на полках которых разместилась замечательная библиотека. А из мебели в кабинете Лотмана я помню только два предмета: этот большой письменный стол и алюминиевую раскладушку.
Я был поклонник Лотмана, собирал и изучал его труды, начиная с шестьдесят четвертого года, когда вышли в свет его "Лекции по структуральной поэтике". Отлично помню то чувство освобождения мысли, которое принесли они нам. Тем, кто этого не пережил, теперь трудно это себе представить. Подобно тому, как нам всем трудно представить себе, как потрясло в свое время мыслящую Россию "Философическое письмо" Чаадаева или письмо Белинского к Гоголю из Зальцбрунна от пятнадцатого июля тысяча восемьсот сорок седьмого года.
Юрий Михайлович был велик и в своих прозрениях, и в своих противоречиях. Однажды, когда он был у меня дома, я подвел его к полке с изданиями его и его кафедры.
- Ого, наших книг у вас больше, чем у меня, - пошутил он.
Давид Самойлов был не только замечательный поэт, но и исследователь стихотворной речи, а именно - рифмы. Он написал превосходную "Книгу о русской рифме". Мы с ним подружились на поприще стиховедения. Через несколько лет Самойлов перебрался в Пярну, и я решил, что надо их с Лотманом познакомить: оба они солдатами прошли войну, оба жили в Эстонии, оба прекрасно работали там на русскую культуру. Лев Копелев мне сказал о себе и некоторых своих друзьях:
- Мы все воевали офицерами, политработниками, а Дезик был солдатом, пулеметчиком, разведчиком. Это другая война.
Дезик - детское имя Самойлова, навсегда закрепившееся за ним в среде его друзей. Войну он начал пулеметчиком, скоро был тяжело ранен осколками мины и после госпиталя с трудом, благодаря помощи Ильи Эренбурга, добился возвращения на фронт, на этот раз разведчиком, и прошел войну до конца. Однажды он мне сказал, что среди всех наград (у него были и медали, и ордена, и Государственная премия) он дороже всего ценит знак "Отличный разведчик". Лотман прошел всю войну в артиллерии, от первого до последнего дня, с учебником французского языка в вещмешке. Двадцать второе июня сорок первого года он встретил в Белоруссии, недалеко от границы, где проходил службу по призыву, и испытал, по его словам, чувство облегчения. В дружбу с Гитлером он не верил, и теперь враз кончились политинформации, назначения в бессмысленные наряды и наряды вне очереди, а началось серьезное дело. Он осознал, что теперь все зависело от него, говорил Юрий Михайлович. От него и от таких, как он.
Мне удалось их познакомить. Самойлов был одним из самых аккуратных моих корреспондентов; при этом обычно в письмах он перемежал прозу стихами. Начинал прозой, а потом переходил на стихи: стихами писать ему было проще. Вот трехстишия сонета, в котором он однажды обрисовал мне свою жизнь.
Я был в Москве и в Ленинграде.
Там выступал при всем параде.
Я слышал Лотмана в ИМЛИ.
Ученые ему внимали
И, может быть, не понимали,
Взаправду нужен он им ли.
А был случай, когда они даже совместно участвовали в одном научном заседании. В Тартуском университете моя ученица защищала диссертацию о истории русской рифмы. Обязанности официальных оппонентов приняли на себя Лотман и Сапогов. А Самойлов по моей просьбе приехал из Пярну и выступил на защите в поддержку моей ученицы в качестве неофициального оппонента как крупнейший знаток русской рифмы. Защита, при участии таких специалистов, таких личностей, прошла блистательно.
Я написал докторскую диссертацию. Как две кандидатские без аспирантуры, так докторскую без докторантуры. В СССР это была первая докторская диссертация о стихотворной речи наших замечательных поэтов. Встал вопрос о том, где ее защищать. Читатель не забыл, что изучение стихотворной речи было заклеймено как формализм, а формализм почти что приравнивался к государственной измене? Вдобавок к этому моя работа была выполнена - вся на основе математической статистики. Я получил точные характеристики разных аспектов русской стихотворной речи и стихосложения двадцати русских поэтов. Я написал Лотману. Юрий Михайлович ответил: "Оппонентом Вашим я готов быть всегда и везде". Другого оппонента я нашел в лице моего большого друга Бориса Федоровича Егорова. Третьим согласился выступить тартуский лингвист-семиотик Борис Михайлович Гаспаров. Сейчас он состоит профессором одного из славнейших американских университетов - Колумбийского в Нью-Йорке. Но организовать защиту долгое время ни в Тарту, ни в Ленинграде, где работает Егоров, не удавалось. Тогда попыталась мне помочь Марина Абрамовна Красноперова, смелая исследовательница стихотворной речи, работающая на математическом факультете Петербургского университета, и организовать защиту у себя. Это уже был жест отчаяния. В конце концов защита состоялась все-таки в Тартуском университете и прошла благополучно.
Когда во время защиты ученый секретарь огласил мою анкету, Лотман узнал, что я одиннадцать лет проработал в шахтерском поселке Чистяковского района Донецкой области. Во время перерыва он подошел ко мне и сказал:
- А вы знаете, в сорок втором году я ваше Чистяково немцам из рук в руки передал.
Обо всем тяжелом Юрий Михайлович всегда старался говорить легко, с шуткой. А в сорок втором там на Миусе шли тяжелейшие бои. Во время каникул я ходил туда с мальчиками старших классов. И десять лет спустя после окончания войны по берегу Миуса хорошо была видна линия окопов. Металл. И хорошо были видны могилы.
После защиты предстояло пройти ВАК - Высшую аттестационную комиссию. ВАК рассматривает и утверждает (или не утверждает) результат каждой защиты диссертации, где бы она ни проходила. Обычно это чистая формальность. Но иногда... Мой случай был иногда. Мне не приходится жаловаться. Достаточно себе представить, как в руки членов экспертного совета ВАКа по филологии попал мой кирпич, четыре с половиной сотни страниц на пишущей машинке, весь испещренный графиками, таблицами и математическими формулами. Повторю: это была первая диссертация такого рода. Ее отправили на отзыв одному из специалистов по теории литературы, занимавшему ключевое место в советской науке о литературе.
Незадолго до этого мы с Петей Рудневым резко полемизировали с ним в ведущем научном журнале. Он нападал на Лотмана, обвиняя его в протаскивании в советскую науку буржуазной идеологии. Давно накипало. Я думал: сейчас промолчу, после получения докторской степени выступлю - будет выглядеть трусостью. И выступил до. А теперь, случайно или не случайно, моя диссертация из ВАКа попала на отзыв прямо этому самому гонителю Лотмана. Я не хочу сказать, что отзыв в ВАК от этого человека пришел уничтожающий из-за нашей недавней журнальной статьи. Применение математики к исследованию стихотворной речи еще лет десять после моей защиты встречало сопротивление, хотя все более вялое. Но и наша резкая статья страсти подогрела.
Что же сделал ВАК, получив о моей диссертации уничтожающий отзыв ведущего, по официальным меркам, специалиста?
Время было глухое, тысяча девятьсот семьдесят пятый год.
Счастлив с благодарностью сказать: ВАК оказался на высоте. Моя диссертация была отправлена на новый отзыв - академику Колмогорову. Единственному, кто до меня применил математическую статистику в исследовании стихотворной речи в широком масштабе, и непререкаемому авторитету.
Ничего я этого тогда не знал, только маялся, не получая из ВАКа извещения об утверждении доктором филологических наук.
Маялся.
Маялся.
Маялся.
Не знаю, сколько раз это нужно написать, чтобы передать маяту моего ожидания.
Сочинил в утешение себе эпиграмму: Из ВАКа ни звука. Ни звука из ВАКа. Безмолвствует, сука. Терзает, собака.
Но она помогла плохо.
Однажды на конференции в Ленинграде встретил доброго знакомого.
- Ну как диссертация? Утверждена?
Уже все кругом знали, что никак, только он еще не знал.
- Не огорчайтесь, у каждого свои неприятности. Просто о них не знают, по доброте сердца утешил он меня. - Меня вот теща укусила.
Но и от этого мне легче не стало.
Как вдруг однажды прихожу на работу. В деканате секретарша говорит:
- Вам тут письмо.
Беру конверт в руки. От Колмогорова. Вскрываю. Строчки прыгают перед глазами. Он получил на отзыв мою диссертацию. Копию своего отзыва сообщает мне. Просит прислать ему мои опубликованные работы и - на время диссертацию. На письме дата: первое августа тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Колмогоров! просит!! у меня!!! мои!!!! работы!!!!! И мою диссертацию!!!!!! Читатель догадался, что Колмогоров получил ее не на время, а насовсем? К слову, позже диссертацию попросил у меня Лотман, и он ее получил. Еще один экземпляр попал, как полагается, в библиотеку Тартуского университета, где состоялась моя защита, один находится, как полагается, в бывшей Ленинской библиотеке в Москве и пятый - у меня дома. Неплохой расклад, думается мне.
Что же в отзыве? Я понимаю, что после такого письма плохого там быть не должно, но все-таки оттягиваю минуты чтения. Однако мне сейчас идти на лекцию. Набираюсь духу и читаю. "Существенную роль играет в диссертации статистический метод. Никогда еще в стиховедении не проводилось статистического обследования большого материала по столь большому числу признаков. Удачей автора является широкое применение ранговой корреляции между признаками. Привлеченные автором диссертации средства математической статистики элементарны. Но многие выводы статистического анализа поддаются содержательной интерпретации и представляются мне весьма интересными".
Скоро из ВАКа приходит официальный пакет. В нем оба отзыва - не известный мне прежде отзыв литературоведа и уже знакомый отзыв Колмогорова. И письмо: назначена повторная защита моей диссертации в президиуме ВАКа. Такого-то числа в таком-то часу. У ВАКа есть такое право - назначить новую защиту у себя или в другом научном учреждении. Только происходит это в редчайших случаях.
Еду в Москву. Жена сопровождает. Как во всех передрягах. Совсем незадолго до этого вдруг ни с того ни с сего вызывает меня ректор. Она из дому идет со мной.
- Ты моя группа поддержки, - говорю я ей.
- Ничего, - говорит она, - уедем. Поищем работу в другом месте. Не в европейской части, так в Сибири. Не пропадем. Не огорчайся. - И ждет меня в парке неподалеку. Таково было мое положение на работе. Сказать правду, за пределами науки я всегда чувствовал себя в жизни слепым с завязанными глазами ночью в лабиринте. Я в приемной, потом в кабинете ректора, жена где-то в парке; а ее поддержку ощущаю почти мистически. Через двадцать минут бегу к ней веселый: ректор только спросил меня, не могу ли я помочь его дочери защитить диссертацию в Тартуском университете.
- А ты можешь? - с сомнением спрашивает жена.
- Не могу, конечно, - отвечаю. И вспоминаю чем-то похожий эпизод.
Когда дочь училась в четвертом классе, пришла она однажды из школы и говорит:
- Па, тебя вызывает Марья Кондратьевна. Сказала, чтобы завтра без четверти два ты был в учительской.
- Что ты опять натворила?
- Да вроде ничего.
- Так просто отцов в школу не вызывают. Подумай хорошенько. Мне же надо подготовиться.
Дочка добросовестно думает, вижу, что искренне мне сочувствует, но помочь ничем не может. Вздыхает и говорит:
- Просто я веду себя хуже всех девочек.
А после некоторого раздумья с новым вздохом добавляет:
- И почти всех мальчиков.
- И в кого ты такая удалась? - спрашиваю, с трудом пряча улыбку.
На другой день без четверти два прихожу в учительскую. Уже несколько раз я получал выговоры от молоденькой Марьи Кондратьевны. Сидел, опустив уже тогда полуседую голову, смиренно выслушивая ее рацеи под суровыми взглядами изначально солидарных с нею педагогов, занятых своими делами и разговорами, но не оставлявших вниманием и меня. Но на этот раз разговор получился другой. Просто подруга Марьи Кондратьевны задумала перейти на работу в наш институт на кафедру педагогики. Так чтобы я помог.
- А ты можешь? - с сомнением спрашивает жена.
- Не могу, конечно, - отвечаю. - И не хочу.
В ВАКе вхожу в комнату, в которой расположилось человек двадцать. Жена остается в тесной приемной. Вхожу - и боюсь себе поверить: все улыбаются, обстановка явно доброжелательная. Оказывается, тут строгая субординация: Колмогоров с его почти сверхъестественной одаренностью и мировым авторитетом своим отзывом перебивает предыдущий неблагоприятный отзыв. Минут через пятнадцать я выхожу к жене доктором филологических наук.
Вместе с письмом Колмогорова - вот он, четвертый слиток счастья, вокруг которого группируется вся россыпь.
Я не знал тогда, что через несколько лет, когда докторскую диссертацию защитит жена, ВАК назначит перезащиту ей, и уже я буду группой поддержки.
Пока я только написал в Киев школьному товарищу и спросил, жив ли еще наш математик.
Когда мы кончали школу, он объявил, что со всеми, кто собирается поступать в технические вузы, будет дополнительно заниматься, чтобы помочь им подготовиться к вступительным экзаменам. У нас в классе все собирались либо в технические, либо в медицинский. Я один шел на гуманитарный факультет. В назначенный день после уроков будущие инженеры собрались в указанном классе. Пришел и я - не из каких-либо практических соображений, а из любопытства. Учитель вошел. Мы встали. Он окинул нас взглядом.
- Садитесь. А ты, Баевский, иди домой. Тебе это не по уму.
И я пошел.
Как бы это сказать? Было обидно, но я не обиделся. При моих нелепых выходках, при безобразном моем учении, у моего математика - и я уверен, не у него одного - было желание как можно меньше соприкасаться со мной. Это я понял и понял, что заслужил. Представляю себе, как они все мечтали, бедные мои учителя, чтобы я наконец окончил школу.
Но теперь мне захотелось написать моему учителю о моей диссертации, послать отзыв Колмогорова. Да и письмо... Пусть бы прочел, как академик Колмогоров обращается к его незадачливому ученику: "Глубокоуважаемый Вадим Соломонович! Общее направление Ваших работ мне представляется интересным и нужным". Увы! Оказалось, что мой учитель математики уже умер.
Тридцать лет спустя, когда уже золотая свадьба была давно отпразднована с такой же пышностью, как самая первая, увенчавшаяся свадебным путешествием по-советски, и ежедневно напоминал о ней только подаренный дочкой по этому случаю великолепный универсальный проигрыватель, в три часа утра, на кухне, во время ночного чаепития в пижамах, моя жена была расстроена. Она обнаружила пропажу книги Patrick Bacry "Les figures de style" - "Фигуры стиля" Патрика Бакри, которая вот так, ну просто до зарезу была ей необходима для завершения статьи, над которой она работала. Ясно, что книгу зачитали студенты или аспиранты - иди ищи. Да может быть, ее еще можно найти - не первая такая у нас полупропажа; но ей сейчас нужно, немедленно, вынь да положь. (Книга, к слову, на следующий же день нашлась.) На глазах уже блестят слезы. И тут же сама начинает себя утешать:
- Я понимаю. Это смешно. Скоро уже вообще ничего не нужно будет. Смешно в моем возрасте убиваться из-за книги. Понимаю, но ничего не могу с собой поделать.
- Знаешь, наверное, рай - это большая-большая библиотека, - задумчиво говорю я, стараясь отвлечь мою Дульцинею от грустных мыслей. - Может быть, даже, как Библиотека конгресса.
И мы замолкаем, завороженные этим чудом - видением Библиотеки конгресса в Вашингтоне. Мне вспоминаются не массивные корпуса, соединенные великолепными широкими переходами, а только один из корпусов. По размерам он напоминает огромный, но уютный ангар для воздушных лайнеров или съемочный павильон Киевской киностудии, в который свободно въезжали танки для съемок фильмов о Великой Отечественной. Передо мной снова возникает стена библиотечного зала высотой с пятиэтажный дом и шириной как торец этого пятиэтажного дома. И вся эта стена - стеллаж, тесно уставленный книгами. Каким-то чудом любую из этих книг можно сразу же получить. Но поразило меня не это. Оказалось, что все это - только справочные издания. Словари, энциклопедии, тезаурусы, симфонии, конкорданции и тому подобные. Справочники по искусству, по естествознанию, по математике, по медицине, по технике. На всех языках всего мира.
Когда я попадаю в незнакомую библиотеку, я прежде всего смотрю в каталогах, какие издания моей кафедры и мои собственные здесь имеются. Это не самолюбование. Это такой тест. Ну-ка, как у вас представлен русский провинциальный университет, русский провинциальный ученый? По результатам этого теста я сужу о русском отделе библиотеки вообще, о том, что вообще можно в нем найти, и никогда не ошибаюсь.
Библиотеки американских университетов принимают вызов. На первых порах они поражали меня полнотой своих русских коллекций. А однажды в Висконсине, стоя у стеллажа, признаюсь, я вдруг почувствовал, что горло сдавливают рыдания и на глаза выступают слезы. Не поверил бы себе, но так случилось. С какой любовью, с какой заботливостью там подобраны издания русских писателей! Выпущенные у нас; на Западе по-русски; на Западе в переводах; исследования о наших писателях, вышедшие в России до революции; в СССР, причем рядом стоят книги официозных авторов, и арестованных, расстрелянных, изгнанных из страны, чьи книги в нашей стране давно (или относительно недавно) изъяты из библиотек и перемолоты на бумагу или даже сожжены; и отпечатанные за границей, и не только в Соединенных Штатах, но и в других странах на разных языках.
В базе данных библиотеки Мэрилендского университета в Вашингтоне имеется двести номеров трудов Юрия Михайловича Лотмана и работ, ему посвященных. Для сравнения: Майкл Риффатер, прекрасный филолог, создатель целого научного направления, много лет профессорствовавший в американских университетах, представлен в базе данных библиотеки Мэрилендского университета ста записями. Это тоже совсем немало.
Однако Библиотека конгресса поразила меня даже после всех этих впечатлений. Когда я ввел в компьютер каталога свою фамилию, среди книг, которые имеются в библиотеке, я нашел и такую...
Несколько лет тому назад моя аспирантка защитила диссертацию о "Горе от ума". В основу исследования были положены два составленных ею словаря великой комедии Грибоедова - частотный и алфавитно-частотный. Мы их поместили в приложении к основному тексту диссертации. Но ректор молодого университета, в котором работает моя ученица, не будучи литературоведом и вообще филологом, оценил значение этих словарей и издал их. Тиражом в сто экземпляров. На титульном листе кроме фамилии составительницы указана моя фамилия как научного редактора. И вот оказывается, Библиотека конгресса каким-то чудом имеет у себя один из этих ста экземпляров, и по моей фамилии на титульном листе компьютер каталога указал среди моих книг и это издание.
Ни одного слова не было сказано, пока перед моим внутренним взглядом проносились эти воспоминания. Не знаю, что делалось в душе жены, но она молчала так же, как и я. Наконец мы очнулись. Чай давно остыл. Да и до чая ли нам было?
- Отец наш Небесный положит свою добрую мягкую руку на твою голову, и ты увидишь перед собой "Фигуры стиля" Патрика Бакри. Это будет издание второе, исправленное и дополненное, - сказал я.
Она ответила мне долгим взглядом и чуть заметно улыбнулась.
И забуду я все - вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

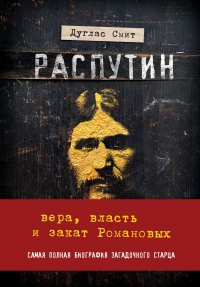


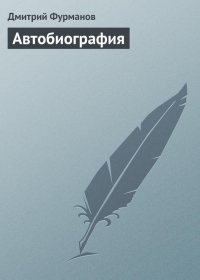
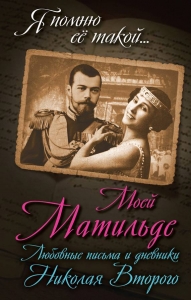

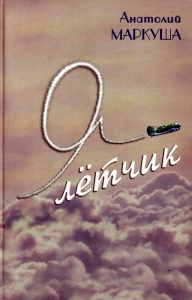
Комментарии к книге «Счастье», Вадим Баевский
Всего 0 комментариев