А. Б. Махов Джорджоне
Посвящается жене и другу Людмиле Соколовой
ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕНИЙ
На исходе XV столетия венецианский небосвод неожиданно озарился ярким светом и в среду местных живописцев метеором ворвался новый мастер, вызвавший своим появлением немало толков.
О нём мало что известно. Или, лучше сказать, неизвестно почти ничего. По свидетельствам современников за ним закрепилось имя Джорджоне, скорее напоминающее прозвище, нежели настоящее имя, данное при крещении. В переводе с итальянского оно может означать «Джорджо большой». Прозвище это могло быть вызвано как высоким ростом художника, так и величием его духа и почитанием, которым при жизни он пользовался среди друзей и ценителей искусства.
В дошедших до нас хрониках и воспоминаниях близко знавших его людей это имя на венецианском диалекте звучит как Zorzi или Zorzon, но кто он — неизвестно.
Даже у знаменитого венецианского летописца Мартина Санудо Младшего, который на протяжении сорока лет вёл подробный дневник, составивший около шестидесяти томов, нет ответа. В созданной им широкой панораме самых различных событий и повествовании о людях Венеции, в основном из мира искусства, можно найти сведения, казалось бы, обо всём и обо всех, а вот имя Zorzi упоминается лишь мимоходом, и не более того.1
Причина такого недогляда заключается в том, что авторство картин, оставленных загадочным живописцем, приписывалось самым разным венецианским художникам и мастерам из других итальянских областей, чьи имена были тогда на слуху.
В богатых архивах венецианской сыскной службы, которая располагала широкой сетью платных осведомителей, знавших всю подноготную любого гражданина, имя Джорджоне также нигде не всплывает, хотя известно, что он вёл богемный и далеко не отшельнический образ жизни.
Всё это дало повод усомниться в подлинности существования художника. Однако то немногое, что было им создано за короткую творческую жизнь — а это чуть более десяти лет упорного труда, — разбрелось по миру. И, самое главное, он успел оставить после себя яркий неизгладимый след, всколыхнув мир художников, поэтов и музыкантов.
О картинах Джорджоне имеется обширная литература, но об их авторе очень мало достоверных данных. Да и был ли на самом деле такой живописец? Или он представляется скорее плодом фантазии, падкой на выдумки и небылицы, чем реально жившим человеком? Не одно поколение исследователей бьётся над этой загадкой.
Уже при жизни художник стал мифом. Всё в нём казалось эфемерным, зыбким, а сама его личность как бы ускользает от рассмотрения в реальной действительности, словно она ему чужда, враждебна и её следует всячески сторониться. Порой он представляется вполне реально существовавшим творцом, а иногда кажется, что его на самом деле не было вовсе. Ведь от него не осталось ни писем друзьям и заказчикам, ни личных пометок в тетради, ни единой нотной строчки с мелодией, ни слов из его песен, которые он пел для себя и на музыкальных вечерах под аккомпанемент лютни.
Более того: чем явственнее обнаруживается присутствие художника в написанных им картинах, тем становится очевиднее нереальность самого его существования. Он то покажется на своих картинах, то вновь исчезнет, словно играя в прятки со зрителем и вынуждая его задуматься над увиденным, чтобы понять значение изображённого на картине. И этот парадоксальный дуализм не лишён основания, поскольку сам Джорджоне как бы растворяется в своих произведениях без подписи и даты, а его картины, представляющие немалые трудности для прочтения, полны недосказанности, таинственности и загадок.
Чтобы раскрыть эту тайну и докопаться до сути, приходится действовать, выражаясь языком математики, «от противного», а именно: исходить от самой картины — матери, чтобы добраться до творца — сына, а не наоборот, как это обычно происходит.
Однако такой метод не всегда приводит к искомому результату. Например, известные повсюду мелодии и слова венецианских песен, будь то народные плясовые фурланы или распеваемые гондольерами баркаролы, ничего не говорят об их авторах, чьи имена, как правило, неизвестны.
Даже видному музыковеду Оттавиано Петруччи, изобретателю нового метода нотопечатания (1498), благодаря которому музыкальная культура получила бурное развитие, редко удавалось точно определить имя автора той или иной партитуры.
Нечто похожее описано в известной пьесе Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора»,2 когда на театральных подмостках неожиданно появляются ожившие действующие лица, порождённые воображением драматурга. Они ищут сотворившего их автора, чтобы допытаться у него: какая роль им уготована в пьесе и что их образы означают? Но автора нигде нет, и о нём ничего не известно, а созданные им персонажи вынуждены вслепую блуждать по сцене и метаться в его поисках. Не исключено, что они сами и их предполагаемый автор — это всего лишь фантасмагория, плод больного воображения.
История знает много таких примеров. Вспомним хотя бы легендарного Гомера, о личности которого мало что известно, хотя воспетые им герои продолжают жить и здравствовать не одно тысячелетие, вдохновляя на добрые смелые поступки или заставляя задуматься над причиной царящего в мире зла не одно поколение.
Скудность биографических данных сыграла злую шутку и с Шекспиром, чья драматургия долгое время приписывалась самым различным авторам — от Ф. Бэкона до К. Марло. Среди предполагаемых авторов шекспировских пьес назывались даже имена Елизаветы I и Марии Стюарт.3 Восстановить истину в значительной мере помогли сонеты самого Шекспира, с помощью которых удалось разобраться в его пьесах и установить их истинного творца.
Но в случае с Джорджоне дело осложняется ещё и тем, что из дошедшего до нас оставленного им художественного наследия, пожалуй, лишь три-четыре картины не вызывают сомнения у экспертов в их принадлежности его кисти. Всё остальное, а это немногим более тридцати работ, до сих пор является предметом самых противоречивых толкований.
Здесь следует особо выделить немаловажную роль, а вернее, гражданский подвиг патриарха итальянского искусствоведения Джованни Баттисты Кавальказелле,4 художника и патриота, который большую часть жизни провёл с котомкой за плечами, обходя пешком Италию с севера на юг и делая наброски со множества картин, снабжая каждый рисунок заметками о стиле и описанием с фотографической точностью цветовой тональности изображения.
Он обладал феноменальной памятью, о чём свидетельствуют современники, в частности, близко знавший его английский искусствовед Уолтер Патер, автор известного труда об искусстве Возрождения.5 На основе собранного материала Кавальказелле составил подробнейшую опись художественных ценностей, прежде чем многие из них, особенно в те годы, когда Италия была раздроблена и слаба, стали открыто распродаваться или вовсе исчезать различными подпольными путями. А ещё чаще — просто выкрадываться, пока все они не оказались в музеях и частных собраниях Европы и Америки.
Именно Кавальказелле принадлежит атрибуция некоторых спорных картин Джорджоне. В составленном им списке оказалось около двадцати работ мастера. Его труд, написанный совместно с англичанином Дж. А. Кроу, впервые был издан в 1871 году.
* * *
Перед искусствоведами неизменно возникают три трудно решаемые проблемы, а именно: атрибуция, дата написания картины и объяснение её содержания, которое в большинстве случаев сокрыто под завесой некой таинственности. Но исследователи типа М. В. Алпатова или В. Н. Лазарева никогда не ограничивались в своих изысканиях лишь установлением подлинности той или иной работы Джорджоне, стараясь разобраться в различных обстоятельствах, связанных с великим именем, пусть даже прямо к нему не относящихся, но нередко имеющих определяющее значение для правильного понимания его творчества.
Стоит также отметить непрекращающиеся споры относительно «поэзии», как обычно принято называть сюжет, и «бессюжетности» многих картин Джорджоне, пронизанных ярко выраженным светским духом. Даже изображая Мадонну или какого-нибудь святого, он прежде всего представляет человека на фоне вполне реального земного пейзажа.
В Венеции религия не играла главенствующей роли, как в других областях Италии. Поэтому Джорджоне, который лишь однажды выполнил заказ для церкви своего родного городка, с полным правом можно считать первопроходцем, проложившим в итальянской живописи путь к светской тематике даже на картинах сугубо религиозного содержания с отрешёнными от всего мирского персонажами. Но у этих персонажей неожиданно загорелись глаза, и они живо заинтересовались друг другом, чего ранее не наблюдалось.
Джорджоне — это последний мистик Венеции и первый её реалист. На его картинах появились живые люди, у которых пробудился интерес к обычной жизни, без каких-либо моральных оправданий. Вместо мира мистических переживаний художник переходит к обретённым им после глубоких раздумий сугубо внешним впечатлениям, словно он впервые увидел окружающую его жизнь во всём многообразии и глубоко проникся её очарованием.
Жизнь для него — это бесконечное наслаждение каждым днём, восторг и сладостное опьянение без мучительных раздумий о грядущем. Когда ему приходилось сталкиваться с чем-то дурным, уродливым и злым, он не останавливался и уверенно шёл по светлому пути духовной правды, ценимой им превыше всего. Здесь впору сослаться на Александра Блока:
Искусство — ноша на плечах, Зато как мы, поэты, ценим Жизнь в мимолётных мелочах!6И какие бы сомнения ни вызывала личность этого загадочного художника, его творчество, идущее вразрез с канонической живописью, породило новое направление в искусстве, получившее в литературе название «джорджонизм». Сила его воздействия такова, что даже самому Джорджоне могут быть приписаны — справедливо или ошибочно — произведения, выполненные в его манере другими мастерами. Порой возникает мысль о том, что «джорджонизм» (представляющий собой дух или тип искусства) породил и само имя Джорджоне, а не наоборот — ещё один парадокс.
При жизни он производил на современных ему художников столь сильное впечатление, что они так и не сумели до конца отрешиться от магии его искусства, оставаясь подвластны его воздействию.
Трудно установить, кто был автором термина «джорджонизм». Скорее всего, первым его ввёл в литературу упомянутый ранее англичанин У. Патер в статье «Школа Джорджоне» (1877), а затем начали использовать Лионелло Вентури7 и позднее Роберто Лонги в известной работе «Пятьсот лет существования венецианской живописи»,8 написанной в связи с первой послевоенной выставкой картин венецианских живописцев в 1945-1946 годах.
Это направление выявило великое множество приверженцев и последователей стиля Джорджоне, хотя, как известно, он был художником одиночкой, не имевшим своей мастерской — studio, или bottega, как принято называть по-итальянски художественные мастерские с учениками, подмастерьями и помощниками, без которых ни один плодовитый мастер не мог обойтись. А Джорджоне не только обходился без помощников, но и, по свидетельству близко знавших его людей, во время работы над картиной не переносил чьего-либо присутствия, хотя охотно делился опытом с другими, никогда не становясь в позу мэтра, раскрывающего непосвящённым секреты своего мастерства.
Среди первых его приверженцев стоит назвать хотя бы близко знавших его художников Джованни Бузи по прозвищу Кариани, Джулио Кампаньола, Якопо Пальму Старшего, Гарофало и др.
Но в первую очередь среди последователей Джорджоне следует вспомнить мастера из Пармы Антонио Аллегри по прозвищу Корреджио, ещё одного из самых загадочных гениев Возрождения с его романтикой дня и ночи, одухотворённостью пейзажей. В отличие от других мастеров, следовавших манере Джорджоне, Корреджио не имел прямого соприкосновения с загадочным венецианцем. И всё же налицо их общность темпераментов, весёлый нрав, оправдываемый именем одного из них (allegri, по-итальянски — весёлые), и, самое главное, свойственный обоим глубокий лиризм, который не был столь ярко выражен ни у кого из венецианских мастеров XV века.
* * *
Для многих живописцев того времени Джорджоне стал неким воплощением самой Венеции, поскольку его загадочная личность отражает идеалы и напряжённость её исканий в искусстве. К последователям «джорджонизма» относятся и такие известные мастера, как Лоренцо Лотто, Себастьяно дель Пьомбо, Винченцо Катена, Доссо Досси и десятки других из тех, кто занял прочное место в истории итальянской живописи.
С «джорджонизмом» связаны многие начинающие художники, которые на первых порах испытали на себе всепоглощающее воздействие искусства Джорджоне и поначалу не могли от него отрешиться в своём естественном стремлении выработать собственный стиль. Более того, некоторые ловкачи и мошенники, видя, каким спросом пользуются работы загадочного венецианца, сознательно копировали его манеру, выставляя свои поделки без даты и подписи.
Всё это ещё более усложнило кропотливую работу исследователей, которые с переменным успехом бьются над неразрешимыми загадками, оставленными Джорджоне. Надо признать, что работа эта продолжается до сих пор.
При первом рассмотрении его картин невольно возникает желание разгадать сокрытую в них тайну и понять их смысл. А тайна, как известно, и есть суть искусства, порождающего в нас мысли, эмоции и всё то, что принято называть «движением души», будь то «Джоконда» Леонардо или «Чёрный квадрат» Малевича.
Эпоха Возрождения предоставила счастливую возможность сформироваться в Италии любой одарённой личности, никогда не удовлетворявшейся достигнутым и постоянно устремлённой к совершенству. Важно было родиться в нужное время и в нужном месте. Так произошло с Джорджоне, начавшим активную творческую жизнь на стыке двух столетий, ознаменовавшихся великими художественными свершениями в живописи, скульптуре и архитектуре. Это можно увидеть на примере одной только Венеции, не говоря о других общепризнанных центрах культуры и искусства Италии.
ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ ИМЕНИ ДЖОРДЖОНЕ
Первое упоминание его имени, появившееся уже после его смерти в 1510 году, принадлежит перу писателя Бальдассаре Кастильоне, верного паладина тонковкусия, дворцового этикета и красоты. В своей нашумевшей книге «Придворный» (1528) он смело поставил Джорджоне в один ряд с его гениальными современниками Леонардо, Микеланджело и Рафаэлем, которые одновременно создавали свои шедевры сначала во Флоренции, общепризнанной колыбели итальянского Возрождения, а затем в папском Риме.
Добавив к ним также падуанца Мантенью, Кастильоне признаёт, что все они не похожи друг на друга и у каждого из них свой собственный неповторимый творческий метод, который «во всех отношениях является превосходнейшим».
Вслед за Кастильоне имя Джорджоне встречается в работах сиенца Марко Пино «Диалог о живописи» (1548) и венецианца Лодовико Дольче под тем же названием (1557). Несмотря на восторженные слова о прославленном художнике, чьё имя стало легендой спустя несколько десятилетий после его безвременной кончины, оба автора в своих «диалогах» окончательно запутались в догадках, оставив многие вопросы нераскрытыми.
Имя художника можно найти в книге Франческо Сансовино «Венеция — город благороднейший и особый» (1574), в которой даются сведения о некоторых работах Джорджоне, находившихся в частных коллекциях венецианских аристократов.
Упоминание его имени содержится также в книге «Отдых» (1584) флорентийского литератора Раффаеле Боргини, весьма далёкого от венецианских реалий. В ней ведётся рассказ об утончённых вкусах завсегдатаев художественных салонов Флоренции и Венеции. Автор пишет: «В то время, когда слава Флоренции возрастала благодаря работе Леонардо да Винчи, одновременно в Венеции ярко заблистало имя Джорджоне из Кастельфранко Венето, превзошедшего своих современников, который придал такую живость фигурам, что они казались живыми. Но секрет загадочного живописца пока никому не удалось раскрыть».
Определённую ясность в запутанную историю первым внёс Джорджо Вазари, появившийся в Венеции лет сорок спустя после смерти художника, но не заставший в живых таких известных бытописателей и хроникёров, как Санудо и Микьель. В своих всемирно известных «Жизнеописаниях»9 он постарался определить место Джорджоне в исторической перспективе и дать его критический профиль, но сделал это только со второй попытки, так как в первом издании его труда имя Джорджоне не упоминается.
Вазари понадобилось время для сбора материала, и только во втором дополненном издании своих «Жизнеописаний» (1568) он дал подробное описание произведений венецианских мастеров эпохи Высокого Возрождения.
Считается, что именно Вазари ввёл в обиход термин «Возрождение» в первом издании знаменитого труда, в котором он рассматривал свою эпоху как время возрождения искусства — rinascita — после тысячелетнего варварства.
Двумя веками ранее на эту тему высказался Джованни Боккаччо, который в пятой новелле Шестого дня «Декамерона», рассказывая о родоначальнике итальянской живописи Джотто, заявил, что тот «вывел на свет искусство, в течение многих столетий погребённое по заблуждению тех, кто писал, желая скорее угодить глазам невежд, чем пониманию разумных».
Говоря о Джорджоне, Вазари пишет, что художник был выходцем «из смиреннейшего рода» и всю жизнь считался человеком добрых и благородных нравов. Природа не поскупилась, наделив его яркой внешностью и многими талантами. По словам биографа, молодой художник с первых же шагов старался подражать природе, в чём особенно преуспел, и вскоре прославился «как живописец, превзошедший не только Джентиле и Джованни Беллини, но и как соперник всех тех, кто работал в Тоскане и был творцом современного стиля». Он отмечает также, что Джорджоне видел несколько работ руки Леонардо и в дальнейшем следовал его манере.
Автор «Жизнеописаний» в своём повествовании имел в виду не только станковую живопись Джорджоне, но и его фрески на аллегорические темы, написанные на фасадах венецианских дворцов, включая наружные стены Fondaco dei tedeschi — Немецкого подворья у моста Риальто. В те годы, о которых вспоминает знаменитый автор, эти фресковые росписи были ещё различимы и можно было составить хоть какое-то представление о их содержании.
В своих поисках Вазари посчастливилось застать в живых некоторых друзей Джорджоне. Они и поведали ему о том, как прославленный мастер в дружеской компании часто услаждал слух игрой на лютне с таким удивительным искусством, что его музицирование и пение почитались божественными, а знатные особы нередко пользовались его услугами на музыкальных вечерах, где их друг имел шумный успех, особенно у женского пола. Храня память о нём, друзья свято верили, что он был рождён для того, чтобы вдохнуть жизнь в написанные им картины, что ранее в Венеции редко кому удавалось.
Секрет гениальности Джорджоне, как и приписываемых ему тайн и чудес, заключается в его способности видеть картину мира во всём многообразии, а не только в его физической осязаемости, и воспроизводить мир исключительно как зримую отдалённость, запечатлённую красками в цвете.
Принято считать, что гению многое дозволено в искусстве, несмотря на существующие традиции, каноны и правила. Силой своего воображения он способен изменять саму природу вещей. Его своеобразие распространяется на всё, к чему он притронется рукой.
Более того, существование гения сильно сказывается на соприкасающихся с ним творцах, даже таких великих, как Тициан, который долго не мог преодолеть наваждение, оказываемое на него искусством Джорджоне.10 А Лоренцо Лотто, осознав, что Джорджоне ему не превзойти, а писать в его стиле ему не позволяет гордость, навсегда покинул родную Венецию и обосновался в глуши, закончив свои дни в Анконской марке в городке Реканати. Примеру Лотто последовали и некоторые другие художники, убедившиеся в том, что в Венеции им делать нечего, так как спросом пользуются исключительно картины, написанные в манере Джорджоне.
Стоит выделить ещё одну особенность живописи Джорджоне, на которую обратил внимание Вазари. В отличие от других собратьев по искусству великий венецианец редко прибегал к эскизам на бумаге, а писал прямо с натуры красками, полагая, что это и есть самый естественный и наилучший метод работы, а рисунок, как таковой, может быть воплощён непосредственно в краске. Правда, тот же Вазари порицал такой метод, считая его порочным, лишающим живописное изображение рельефности и объёма, что неудивительно, так как сам он был основателем первой в мире Академии рисунка во Флоренции.
Следует отметить также, что рассуждения Вазари ни в чём не противоречат свидетельствам друга Джорджоне — историка и коллекционера Маркантонио Микьеля, которого известный биограф не застал живым и чьи бесценные записи увидели свет только в начале XIX века.
* * *
Шли годы, а интерес к творчеству Джорджоне не угасал. Его имя появлялось во многих публикациях самых разных авторов, в том числе в известном «Трактате об искусстве живописи» (1584), принадлежащем перу миланского художника, поэта и искусствоведа Джованни Паоло Ломаццо. Ослепнув в 33 года, он никак не мог видеть картины Джорджоне, хотя и говорил о них с упоением в связи с описанием миланского периода жизни Леонардо да Винчи, который и поведал об имевшей место в Венеции знаменательной встрече с подающим надежды молодым Джорджоне.
Следуя по стопам Вазари, чей труд обрёл широкую известность, многие историки и искусствоведы XVII-XVIII веков в своих трактатах и биографиях продолжили поиск сведений о Джорджоне. Но их старания привели к довольно скудным результатам.
Более удачливым оказался искусствовед и художник Карло Ридольфи, который первым побывал на родине Джорджоне, в городке Кастельфранко Венето и в своём труде «Чудеса искусства, или Жития известных венецианских живописцев» (1648) вступил в полемику с самим Вазари, утверждая, что отец художника был состоятельным человеком, уважаемым во всей округе.
Ридольфи утверждает, что кисти Джорджоне принадлежат более тридцати изученных им картин. В остальном рассуждения автора книги грешат неточностями, надуманными данными и мало впечатляют, равно как и сохранившиеся кое-где его серые полотна.
Немало полезного и любопытного можно почерпнуть из книги венецианского бытописателя и поэта Марко Боскини «Сокровищница венецианской живописи» (1674). Помимо описания основных направлений развития живописи здесь говорится о выдающейся роли Джорджоне, который не только открыл новые горизонты перед венецианской живописью, но и оказал сильное влияние на последующие поколения художников.
Боскини отмечает, что Джорджоне создал неведомую ранее смесь красок, настолько мягкую и выразительную, что под его мазками оживали фигуры; их плоть насыщалась свежей кровью и живительными соками, и живописное изображение выглядело как ожившая природа.
Долгое время основные картины Джорджоне, чьё авторство не вызывало особых сомнений (а это «Мадонна из Кастельфранко» в церкви на родине художника, а также «Три философа», «Гроза» и ещё две-три картины), находились в частных коллекциях, недоступных широкому зрителю. Поэтому дальнейшему росту известности Джорджоне благоприятствовали в немалой степени гравюры с приписываемых ему работ. Они были выполнены венецианским гравёром и искусствоведом XVIII века Антонио Мария Дзанетти и пользовались большим спросом, поскольку живопись, как и музыка и поэзия, многое значила для венецианцев независимо от их социального положения.
В своём сочинении «О венецианской живописи и её мастерах» (1771) Дзанетти утверждает, что «любому ценителю искусства знакомо имя Джорджоне из Кастельфранко, который первым освободил нашу живопись от узких рамок и ограничений, придав искусству его истинное назначение».
В конце XVIII века появился фундаментальный труд Луиджи Ланци «Живописная история Италии», в которой высоко оценивается искусство Джорджоне.
Говоря об искусствоведах XIX века, так или иначе обращавшихся к Джорджоне, следует сослаться на высказывания упомянутого английского исследователя Уолтера Патера, который пишет: «Хотя наличность произведений Джорджоне сильно ограничена недавней критикой, ее дело не должно окончиться вместе с отделением подлинности от предания. Для эстетической философии, помимо подлинного Джорджоне и подлинных его работ, существует „джорджонизм“ — дух или тип искусства, чья сила влияния воздействует на различных людей, которым могут быть в действительности приписаны предполагаемые его произведения, и образующие настоящую школу, слагающуюся из этих вещей, справедливо или ошибочно носящих его имя».11
Среди наиболее заметных авторов, писавших о Джорджоне в конце XIX века, назовём двух выходцев из России — Ивана Ермольева, взявшего псевдоним Джованни Морелли, и Бернарда Беренсона. Вот что писал Ермольев в 1880 году: «Джорджоне раскрылся полностью со всей своей силой лишь в начале XVI века. В тех немногих дошедших до нас работах его гений с присущим ему артистизмом излучает столь сильный свет с такой притязательностью, что любой, кто однажды поддался его обаянию, никогда его не забудет. Ни один другой художник, кроме него, не в силах столь малыми средствами завладеть нашим воображением в течение долгого времени, хотя нам часто непонятно, что изображённое им означает».12
И наконец, в заключение обзора приведём слова Беренсона: «Творения Джорджоне как зеркало точно отразили, каких высочайших вершин достигло искусство Возрождения».13
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ
Во времена Джорджоне искусство Возрождения достигло небывалых высот. Переход от Раннего Возрождения к Высокому особенно наглядно можно увидеть в залах венецианской Академии. Среди работ, отмеченных дерзостью исканий и мастерски выполненных, можно видеть и другие: в некоторых из них при всей их значимости ощущаются первые признаки усталости и творческого оскудения.
Здесь нет ни малейшего желания как-то принизить роль старых мастеров. Достаточно вспомнить размышления о Леонардо да Винчи в дневнике Делакруа, который восхищается «огромным шагом вперёд», проделанным великим художником в искусстве, но в то же время отмечает его «неумеренное преклонение перед старыми мастерами».14 Пожалуй, стоит не согласиться с Делакруа, ибо Леонардо, преклоняясь перед старыми мастерами, превзошёл по недосягаемости своих великих творений любого из них.
Венецианская живопись — это особая, неповторимая страница в истории итальянского искусства Возрождения. Пользуясь своим островным положением, Венеция менее, чем кто-либо, испытывала постороннее влияние и дорожила выработанным годами редкостным своеобразием, которое отличало её живопись от остальных итальянских школ. Пройденный ею путь от преодоления отживших традиций византинизма через годы расцвета XV-XVI веков привёл её к декоративизму XVII-XVIII веков, когда появились первые симптомы усталости и исчерпанности тем. Но дух Венеции сохранялся и продолжал вдохновлять поэтов — от Байрона и Гейне до Блока и Мандельштама. Правда, с Байроном, хорошо знавшим и любившим Венецию, произошла небольшая накладка. Рассказывая в поэме «Беппо» об одной картине Джорджоне, он пишет:
‘Т is a portrait of his son, and wife, And self; but such a women! love in life!Так у Байрона заканчивается XII октава. Но, увы, художник никогда не был женат. И таких неточностей немало даже в монографиях, написанных серьёзными исследователями о художнике. Что уж говорить о поэтах с их богатым воображением!
Живуч дух Джорджоне и поныне в работах современных венецианских живописцев Армандо Пиццинато или Эмилио Бедова, которые через увлечение футуризмом и кубизмом в молодые годы вернулись к своей Alma Mater. Автору этой книги довелось не раз встречаться с ними во время дискуссий о назначении реалистического искусства в наши дни в известном венецианском фонде Чини.
Венеция ни в чём не хотела уступать ни Флоренции, ни Риму, чему способствовала целая плеяда выдающихся живописцев, скульпторов и архитекторов, работавших по заказу правительства республики и богатых меценатов.
Между искусством Венеции и других художественных школ Италии имеется существенное различие. Морская республика, гордо носящая имя Serenissima — Светлейшая, в отличие от Флоренции или соседней Падуи, родины древнеримского историка Тита Ливия, не смотрела так глубоко в античное прошлое, а черпала впечатления из того, что ей было ближе исторически и духовно. Поэтому её живопись отличается прежде всего своей открытостью и импульсивностью. Она постоянно контактирует с миром и человеком в неизменном своём стремлении к ясности, свету и простору.
Для венецианской живописи, сравнительно недавно освободившейся от тяжкого груза византинизма, от вериг средневековых канонов и аскетической отрешённости готики от всего мирского, занялась новая заря в истории её развития благодаря работавшим здесь в начале XV века флорентийским мастерам Мазолино да Паникале, Андреа дель Кастаньо и Паоло Уччелло.
Особенно велика была роль сицилийца Антонелло да Мессина, который объявился в Венеции в 1475 году и первым начал писать маслом, заменившим темперу. Секрет изготовления масляных красок он выведал хитростью, как принято считать с лёгкой руки Вазари, у голландца Ван Эйка, который смешивал пигменты красителей с растительным маслом.
Полученная таким образом масляная краска, будучи нанесённой методом полупрозрачной лессировки на хорошо загрунтованную поверхность доски или холста, излучает поразительное сияние. Это открытие явилось революционным для дальнейшего развития искусства живописи. Достаточно вспомнить написанный Антонелло в Венеции великолепный луврский мужской портрет, названный «Кондотьер».
В итальянском изобразительном искусстве, как образно заметил Роберто Лонги, впервые проявилась ставшая решающей для последующего развития живописи и дальнейшей истории страны «основная тенденция, которая привела к первому национальному единению, к первому согласию между Севером, Центром и Югом Италии, нашедшему своё выражение в слиянии искусства Антонелло да Мессина и Джованни Беллини на основе художественного синтеза, выработанного Пьеро делла Франческа».15
Насколько же прав оказался Лонги! Именно искусство способствовало объединению итальянцев, разрозненно живущих на землях враждующих между собой больших и малых государств Апеннинского полуострова, Сицилии и Сардинии, где все они почувствовали себя как единая нация.
Благодаря силе искусства всё это произошло задолго до создания единого национального государства Италия во второй половине XIX столетия. В годы патриотического движения Risorgimento в борьбе за национальную независимость и освобождение страны от иностранного засилья участвовали многие деятели культуры и искусства, в том числе Кавальказелле и правнук Микеланджело Филиппо Микеле Буонарроти.
Что же касается непосредственно венецианских художников, то у них появилось тяготение к сочному жизнерадостному колориту с его градацией светотеневых переходов и гармонией живописных решений, что так импонировало духу и мироощущению Венецианской республики, быту, нравам и настроению самих венецианцев.
Но при всём блеске, красоте и богатстве цветовых сочетаний, что отвечало изощрённым вкусам аристократии и менее требовательной публики, каждый творец в глубине души сохранял мечту о выражении более возвышенных чувств и настроений, до понимания которых тогдашняя публика пока не доросла.
У венецианских мастеров ярко проявилось стремление придать реальную глубину живописному пространству, а изображаемым предметам — трёхмерность. Однако к началу XVI века лишь немногим из них, как Джорджоне, удавалось создавать путём постепенного уменьшения фигур и предметов подобие воздушного пространства.
Как известно, флорентийская школа живописи основывалась главным образом на рисунке и выразительной пластике. А вот для венецианской живописи первоосновой являлись цвет, градация светотеневых переходов, богатство живописных решений и их гармония. Если в дискуссии об искусстве флорентийцы доискивались до научной истины, то для венецианцев было важнее раскрыть в нём рафинированную сенсуальность.
Например, для флорентийского искусства идеалом красоты были изваяния Давида, а для венецианских мастеров такой идеал воплощался в образах возлежащих пышнотелых венер, ибо в Венеции всегда было сильно женское начало, да и само название города удивительным образом сочетается с Venus — Венера. Её живописцы стремились отразить реальную действительность не в пластических объёмах, как это свойственно флорентийским мастерам, а в цвете.
Следует отметить, что Джорджоне с честью продолжил дело великих предшественников, сочетая лиризм Беллини с весёлостью и нарядностью Карпаччо. Ему удалось усовершенствовать технику масляной живописи, что придало самому процессу написания картин большую свободу и динамичность. Любая его картина пронизана поэзией и музыкой, стремлением передать звучание тончайших струн душевного настроя человека.
Как никто другой из современников, он сумел запечатлеть неуловимое движение чувств, лирическую самоуглублённость, ожидание чего-то значительного в окружающей его жизни, непостижимую загадочность сюжета, уход в мир грёз и идиллических настроений на лоне природы, с которой он полностью сливался.
Он поставил перед собой дерзкую задачу преобразить венецианскую живопись, освободив её от приверженности к изжившим себя схемам. Все его усилия были направлены на создание совершенной живописной формы, граничащей с поэтическим образом. Для достижения этой цели он использует весь арсенал художественных средств: свет, колорит, рисунок, движение цветовых переходов и динамичность линий.
Стиль Джорджоне можно назвать насыщенно лиричным, поскольку время на его картинах словно останавливается на один бесконечный миг. Он отстранённо и даже безучастно созерцает окружающий мир — ему важно передать лишь чисто субъективные ощущения. Природа и люди в его поэтических произведениях составляют единую застывшую в бездействии гармонию, преисполненную элегического звучания. Как говорил римский поэт Гораций, ut pictura poesis: поэзия это та же живопись, и такое определение можно по праву отнести к Джорджоне.
Его жизнь и творчество давно окружены неким ореолом таинственности, заложниками которой были и сам художник, и его друзья, и некоторые исследователи. И до сих пор этот ореол ослепляет, мешая добраться до истины.
ВСТРЕЧА С ВЕНЕЦИЕЙ
Принято считать, что Джорджоне появился на свет в Кастельфранко, небольшом городке на берегу речки Музоне в области Венето. Своим названием городок обязан крепости, где испокон веков существовала зона свободной торговли без обременительных налогов, нечто вроде современного офшора.
Родился он то ли в 1477-м, то ли в 1478 году в семье негоцианта Барбарелли, хотя в церковных книгах это имя не значится в списках новорождённых. Но в местной хронике отмечено, что дед Zorzon и отец художника были родом из селения Веделаго под Тревизо. А вот сведений о матери и раннем детстве мальчика не сохранилось. По этому поводу строились самые невероятные домыслы и догадки, вплоть до того, что ребёнок, как и Леонардо да Винчи, был незаконнорождённым сыном простой крестьянки, в чём, по мнению биографов, угадывается некое родство душ двух великих живописцев.
Жизнь провинциального городка Кастельфранко была тускла и ничем не примечательна. Зато Венеция, до которой рукой подать, как магнит притягивала к себе молодёжь, наделённую воображением и склонностью к приключениям.
Видимо, таким был и юнец Джорджоне. В нём рано пробудилась неодолимая тяга к рисованию. Всё, что могло привлечь его внимание в родном городке и округе, было запечатлено им в рисунках, которых, к сожалению, время не сохранило. До него доходили слухи о бурной жизни соседней Венеции и обилии в ней живописных мастерских, где от заказчиков нет отбоя.
Было ли на поездку в Венецию согласие родителя или к тому времени пятнадцатилетний Джорджоне оказался круглым сиротой, биографы умалчивают. Обуреваемый радужными надеждами и мечтая о славе юнец отправился в путь на перекладных навстречу своей судьбе.
В те годы значительная часть Апеннин была охвачена пожаром войны, и одна лишь Венеция стояла особняком, не познав вражеского нашествия ни французов, ни испанцев, ни немцев. Укрепляя свои сухопутные границы и множа численность флота, владычица Адриатики зорко следила за всем, что происходило на материке — terra ferma, где не прекращалась грызня враждующих между собой итальянских княжеств, которые ради собственных корыстных целей готовы были поступиться общенациональными интересами.
Властолюбивая Венеция проводила политику нейтралитета, не поддерживая ни папский Рим, ни германского императора, ни французского короля. Её многоопытная дипломатия умело обходила все острые углы и извлекала выгоду из любой ситуации — лишь бы её действия шли во благо Венеции. Своей главной целью правительство республики считало отстаивание независимости и содействие росту благосостояния своих граждан, которое было выше, чем в других итальянских областях, что вызывало зависть соседей. А зависть испокон веков являлась причиной многих бед и совершаемых на земле преступлений.
Венецианская лагуна была тогда оплотом мира и свободы, предоставляя приют беженцам от войны и религиозных преследований. Наплыв беженцев возрос в начале XVI века с начавшейся повсеместно Контрреформацией. Здесь же, в Венеции, оседали и искатели лёгкой наживы и острых ощущений.
Венеция была крупнейшим городом Европы с разноязыким населением. Помимо коренных венецианцев в миролюбивое сообщество жителей лагунного города входили армяне, греки, евреи, албанцы, словенцы, турки и другие народы Средиземноморья, объединённые общими усилиями во имя благосостояния республики, но живущие отдельными общинами со своими традициями и житейским укладом. Каждый пришлый народ оставил свой след в топонимике Венеции, которая свято сохраняется и поныне.
Лагунный город славился развитыми ремёслами, а особенно кораблестроением, шёлкоткацким и лакокрасочным производствами, изготовлением оружия и предметов роскоши, литьём из стекла и бронзы. Начиная с 1284 года Венеция чеканила золотые дукаты, имевшие широкое хождение далеко за пределами морской республики.
Представление о масштабе раскинувшегося на островах лагуны города даёт в цвете Veduta prospettica, написанная в 1500 году венецианским живописцем Якопо Де’Барбери (Венеция, музей Коррер). Гордостью Венеции были флот, насчитывавший три тысячи кораблей, и хорошо оснащённый порт с удобными причалами, через который шла оживлённая торговля со странами Запада и Востока, куда первый путь когда-то проложил знаменитый венецианец Марко Поло, которому удалось тайно вывезти из Китая партию тутового шелкопряда, а также рецепт приготовления лапши-вермишели (от ит. vermicelli — черви), ставшей вскоре любимым блюдом итальянцев — pasta. Менялись правители, режимы, вкусы, мода, но в меню итальянской кухни до сих пор первенство принадлежит яствам из мучных изделий.
Венецианский порт и корабельные верфи обслуживали свыше двадцати тысяч моряков, корабелов и наёмных мастеров. Работы велись и днём и ночью. Венеция успешно торговала со всеми странами Средиземноморья, соперничая с Генуей и множа свои богатства. Как говорит византийский поэт Антифил:
Смелость, ты — мать кораблей, Потому что ведь ты мореходство Изобрела и зажгла жажду наживы в сердцах. Сколько предано смерти людей ради корысти тобою!16(Пер. Л. Блуменау)
С годами город, построенный на сваях в лагуне, обрёл неповторимый сказочный облик. Как тритон, Венеция всплыла со дна морского, устремив к небу шпили колоколен и любуясь отражением ажурных мраморных фасадов своих дворцов в зеркале стоячих вод каналов.
Правительство всячески поощряло развитие всех видов искусства в целях прославления величия, богатства и политической силы республики. Оно постоянно заботилось о красоте дворцов и общественных зданий, благодаря чему многие фасады дворцов вдоль Canal Grande — Большого канала были расписаны фресками и украшены мозаикой. От фресок до наших дней ничего не сохранилось, включая настенные росписи, выполненные Джорджоне. Губительным оказался влажный морской климат для настенной живописи, а вот скульптура доказала свою неподвластность разрушительным силам природы.
Зодчие Венеции намеренно приближали архитектуру к человеку в стремлении сделать её соразмерной ему, дабы человеку жилось вольготно и счастливо. Однако им не удалось избежать показной парадности, что мало отвечает подлинным целям архитектуры. Нечто подобное происходило и с живописью.
* * *
Влюблённые в свой город венецианцы устраивали празднества, напоминавшие по форме церковные обряды. Шествия и яркие зрелища на набережных и каналах носили сакральный характер в той же мере, что и торжественные церковные службы.
Каждое появление торгового судна с заморским грузом встречалось в городе колокольным звоном и орудийным салютом под радостные возгласы венецианцев, собравшихся на набережной. Но вместе с заморскими товарами в город попадала зараза, что вызывало вспышки эпидемии чумы, уносившей до трети населения. Однако городская карантинная служба была начеку, огнём выжигая очаги заражения.
У венецианцев появилось чисто эстетическое чувство самодовлеющего любования предметами искусства. Они увлекались яркими зрелищами, карнавалами, красочными феериями на воде, изысканными тканями, пирами, златоволосыми красавицами, украшениями из жемчуга и драгоценных каменьев, яркими восточными нарядами, чернокожими пажами, экзотическими животными и птицами.
Всё это находило отражение на картинах венецианских мастеров. Достаточно сослаться на такие пронизанные чисто венецианским духом широкоформатные полотна, как «Процессия на площади Сан Марко» Джентиле Беллини со множеством узнаваемых знаменитых лиц или «Чудо нахождения Креста» Витторе Карпаччо.
Венеция притягивала к себе поэтов, учёных, художников, музыкантов и всех тех, кто хотел проявить свои способности в процветающей морской республике, славящейся своим гостеприимством и красотами, а также относительной свободой нравов. Каждый приезжий с добрыми намерениями, независимо от убеждений и веры, легко становился членом её многоязыкой семьи.
Примерно в 1300 году здесь побывал и Данте, а позднее в Венеции объявился Петрарка, которому правительство республики подарило дворец на набережной Скьявони в обмен на обещание передать городу после кончины свою богатую библиотеку. (Заметим в скобках, что договорённость о передаче книг городу так и не была поэтом соблюдена.)
По общему признанию, Петрарка был первым гуманистом Возрождения, и его идеи получили распространение и понимание не только среди интеллектуалов, но и среди простых людей, о чём говорит сам поэт:
Юристы забыли Юстиниана, медики — Эскулапа. Их ошеломили имена Гомера и Вергилия. Плотники и крестьяне бросили своё дело И толкуют о музах и Аполлоне.17Известный принцип античной этики «Познай самого себя» был стержнем этических взглядов и великого поэта. Он ратовал за более глубокое познание внутреннего мира человека, его чувств, мыслей и чаяний, за воспитание в нём любви к ближнему. Главный акцент переносился им с познания Бога на познание человека, чьё благородство зависит не от знатности происхождения, а от его добродетели, способной сподвигнуть на благое дело. Вместо средневековой идеи «Божьего государства» (Civitas) он выдвинул идею «Государства муз» (Civitas musarum).18
Сбылась мечта Петрарки, и со временем Венеция превратилась в подлинный город муз. И поныне она является центром международных симпозиумов, художественных экспозиций, кинофестивалей и встреч мастеров культуры и искусства.
Вскоре к певцу Лауры присоединился Боккаччо, оставивший свой след в венецианской культуре. В Венеции были изданы его поэма «Фьезоланские нимфы» и «Декамерон», которые пользовались широкой известностью у венецианцев всех возрастов и сословий, а многие высказывания поэта разошлись на цитаты и вошли в каждодневный обиход, обретя фольклорный характер.
Велик был интерес венецианцев к печатному слову, и в 1468 году началось строительство знаменитой библиотеки Святого Марка — Marciana, основанной кардиналом Виссарионом, который передал библиотечному фонду свои ценные рукописи на арамейском, греческом и латинском языках. Этот благородный шаг был отмечен специальным указом Сената республики с занесением имени дарителя в «золотой список».
В 1484 году известный учёный и поэт Ермолао Барбаро открыл в Венеции философскую школу, воспитавшую немало венецианских гуманистов, от которых требовалось знание языков, поскольку главной задачей школы было изучение текстов античных мыслителей, прежде всего Платона и Аристотеля, в чьих трудах раскрывается духовная красота и гармоничная суть личности человека.
В МАСТЕРСКОЙ БЕЛЛИНИ
На первых порах Джорджоне пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Куда бы он ни обращался со своими рисунками, всюду получал отказ, так как был переростком и время для учёбы было упущено. По существующим тогда правилам в живописные мастерские принимали на учение мальцов не старше семи-восьми лет. Он с завистью смотрел на весёлых, поднаторевших сверстников. Пройдя обучение и научившись премудростям ремесла, все они были заняты любимым делом.
Чтобы выжить в чужом городе, в который он тут же влюбился и которым не переставал восхищаться, ему приходилось соглашаться на любую подённую работу и гнуть спину грузчиком на торговых складах или в порту.
Для ночлега он снял в полуподвале одного жилого дома тесную каморку с подслеповатым оконцем, через которое были видны только ноги прохожих. Ложась спать, ему приходилось скрючиваться на лежанке с соломенным матрасом в три погибели, чтобы не упираться ногами в стену. Но он терпеливо сносил неудобства, твёрдо веря, что счастье ему однажды улыбнётся.
Несгибаемое упорство, вера в собственные силы и неукротимое желание учиться живописи были, наконец, вознаграждены — он был принят учеником в мастерскую самого Джованни Беллини на Сан Лио. При первом же рассмотрении рисунков, представленных Джорджоне, Беллини поверил в него, почуяв нутром, что даровитого юнца ждёт великое будущее, и не ошибся.
Но прежде чем получить в руки кисть и краски, новичку пришлось немало потрудиться. В его обязанности входило толочь мел в ступке, приготовлять раствор нужной вязкости по старинным дедовским рецептам для фресковой росписи, причём добавлять в смесь только речной песок, привозимый на баржах с terra ferma.
— Гляди в оба, — поучал его старший из подмастерьев, — чтобы в раствор не попала селитра, а она сущая пагуба для живописи.
Со временем он понял, в чём разница между речным и морским песком. Для верности стал даже пробовать раствор на вкус, как делают знающие мастеровые.
Ему надлежало также грунтовать и покрывать тонким слоем олифы доски и холсты, набитые на подрамнике, для написания самим учителем будущих картин. Качество картин в немалой степени зависело от тщательной грунтовки, иначе всё могло пойти насмарку.
Все эти навыки приобретались с опытом. Горя желанием научиться азам мастерства, Джорджоне схватывал на лету любую идею и советы, подсказанные наставником или кем-то из опытных подмастерьев, чувствуя, как с каждым днём набирается нужных знаний.
На первых порах он не гнушался никакой работы. Так, однажды ему пришлось подменить заболевшего мастерового и взяться за расписывание свадебных сундуков — cassoni. Он согласился — лишь бы подержать в руках кисть и палитру с красками, дав волю своей неуёмной фантазии. Заказчик остался доволен, когда ему пояснили, что на крышке изображён бог любви Эрот, благословляющий новобрачных, а на боковых стенках — гирлянды из цветов по случаю свадебного торжества и ликующие амурчики.
Но такое занятие Джорджоне счёл пустым и малополезным для себя, коль скоро он решил стать настоящим живописцем.
* * *
Джованни Беллини, в отличие от старшего брата Джентиле, обладал мягким покладистым характером и слыл добряком, за что венецианцы его ласково называли Джамбеллино, объединив в одно слово имя и фамилию. После смерти отца Якопо Беллини, зачинателя многих нововведений, внесённых в венецианскую живопись, и первым заговорившего о перспективе, братья обзавелись собственными мастерскими, а их сестра Николозия была выдана замуж за падуанского художника Андреа Мантенья. Оба брата поддерживали с шурином тесные творческие связи.
Между братьями Беллини близости не было, настолько они были непохожи как в жизни, так и в искусстве. Правда, Джентиле раньше младшего брата успел прославиться за пределами родной Венеции. В 1479 году он был послан дожем Джованни Мочениго с особой миссией в Константинополь, где пробыл более года. Им был написан профильный портрет султана Мехмеда II (Лондон, Национальная галерея), что было необычным явлением для мусульманского мира. За портрет художник получил массивное золотое ожерелье в награду. Как было отмечено тогда в хрониках, искусство одержало верх над политикой, и отношения между двумя странами несколько улучшились, а на Большом канале возникло Fondaco dei turchi — Турецкое подворье для развития торговых отношений с восточными странами.
Мастерская Джованни Беллини была подлинным центром культурной жизни Венеции. Здесь можно было встретить учёных, художников, поэтов, музыкантов, сюда заходили даже сенаторы республики и другие сановные лица. В мастерскую часто наведывался Альдо Мануций, известный издатель, с новой книгой в подарок Джамбеллино. Его издательство было одним из крупнейших в Европе. Оно первым стало выпускать книги в удобном карманном формате, напечатанные курсивом с чётким убористым шрифтом. Мануций заменил трудно воспринимаемый в Италии готический шрифт латинским. Ему удалось издать тексты большинства греческих, латинских и итальянских классиков, доведя тиражи до тысячи экземпляров.
Эти изящно оформленные томики получили название aldini по имени издателя. В любом знатном доме дорогостоящие книги занимали почётное место в семейной библиотеке, являясь предметом гордости их владельца. В те годы книги, изданные до 1501 года, назывались обычно incunabuli (от лат. детство, колыбель); чисто внешне они напоминали рукописные книги.
Мануций вместе с сыном Паоло, видным учёным и путешественником, основал Новую академию, по примеру Платоновской академии во Флоренции. Академия эта объединила венецианских интеллектуалов, проявлявших всё больший интерес к вопросам философии и истории, эстетики и теории искусства.
Среди публикаций знаменитого издательства особо следует выделить роман «Любовные битвы в снах Полифила» анонимного автора,19 пронизанный духом воззрений Платона о любви и красоте. Роман сыграл значительную роль в развитии гуманистической культуры Венеции и пользовался большой известностью среди художников, которые черпали из него сюжеты для картин.
Обладавший безукоризненным художественным вкусом Мануций, готовя книгу к публикации, решил дать в качестве иллюстраций 168 редких гравюр, которые помогли бы читателю приоткрыть завесу таинственности самого романа, изобиловавшего скрытыми метафорами и аллегорическими сценами, с которыми сталкивается юный Полифил в своих сновидениях.
Долгое время имя автора оставалось неизвестным. Каково же было удивление, когда с помощью акростиха, найденного в книге, удалось выяснить, что автором является гуманист и доминиканский монах Франческо Колонна, принадлежавший к старинному римскому роду. Будучи человеком духовного звания, он вынужден был скрывать своё авторство из-за светского и откровенно сенсуального духа книги. После публикации автор, оказавшийся в Венеции, не чурался общества, и его можно было повстречать не только в мастерской Беллини, но и на различных светских раутах, на которых монаху приходилось участвовать в обсуждении романа о снах Полифила. Так, на одном из литературных вечеров автору романа, сухопарому монашку средних лет, отвечая на вопрос о его любвеобильном персонаже, пришлось обратиться за помощью к Петрарке:
— Вспомните, господа, как великий наш поэт высказывался на эту тему в одном из сонетов.
Мгновенья счастья на подъём ленивы, Когда зовёт их алчный зов тоски; Но, чтоб уйти, мелькнув, — как тигр, легки. Я сны ловить устал. Надежды лживы. Скорей снега согреются, разливы Морей иссохнут, невод рыбаки В горах закинут, — там, где две реки, Евфрат и Тигр, влачат свои извивы Из одного истока, Феб зайдёт, Чем я покой найду иль от врагини, С которой ковы на меня куёт Амур, мой бог, дождуся благостыни. И мёд скупой — устам, огонь полыни Изведавшим, — не сладок, поздний мёд!20(Пер. Иванова)
Тому же Мануцию принадлежит честь первого издания прокомментированного и переведённого на volgare, как тогда назывался итальянский язык, получивший развитие на основе флорентийского диалекта, многотомного энциклопедического труда Плиния Старшего «Естественная история». Это издание явилось сенсацией для образованных слоёв венецианского общества.
Высказывания Плиния об искусстве античных мастеров, а особенно о работах Праксителя, Фидия и Апеллеса, явились ценным источником истинного вдохновения для целой плеяды венецианских скульпторов и живописцев.
А однажды Мануций привёл с собой иностранного гостя, одного из своих авторов.
— Джамбеллино, — сказал он с порога, — принимай знаменитого Эразма из Роттердама!
— Рад познакомиться, — ответил Беллини, встречая гостя. — Располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома.
Затем он сделал знак подопечным, и те мигом побежали в соседнее помещение накрывать стол.
Эразм Роттердамский был признанным предтечей Реформации. Его идеи оказали сильное влияние на венецианских гуманистов. Ещё до выхода в свет в 1509 году знаменитой «Похвалы глупости» широкое хождение получили «Пословицы» — Adagia, поговорки и изречения античных авторов с комментариями самого Эразма. Например, вот одно из них:
Sic volo, sic jubeo, sic pro ratione voluntas mea.(Так я хочу, так я велю, вместо довода
пусть будет воля моя!21)
Неистовый Эразм Desiderius (от лат. — желанный) наездами из Швейцарии пробыл несколько месяцев в Венеции, где всегда был оправдывающим его имя желанным гостем литературных салонов.
Как-то, отправившись от Беллини с запиской к Мануцию в основанную им Новую академию, Джорджоне случайно оказался на лекции Эразма Роттердамского, голос которого звучал громко и заразительно, заставляя собравшихся прислушиваться к каждому слову.
Знание латыни помогало Джорджоне понять, о чём шла речь в страстном выступлении учёного и богослова, хотя глубинный смысл его высказываний был ему тогда недоступен. А вот призыв учёного: «Ничего сверх меры!» — ему надолго запомнился и вспоминался всякий раз, когда он оказывался во власти неуёмного воображения. Но как познать эту «меру», когда тебе нет и семнадцати, а вокруг столько соблазна, что так и хочется всего испробовать и ко всему прикоснуться?
В мастерской бывали и другие носители идей гуманизма, между которыми порой разгорались жаркие споры. Часто заглядывал к Беллини поэт Пьетро Бембо с новым сонетом, посвящённым славному живописцу. Бывал у Беллини математик Лука Пачоли со своими выкладками и расчётами по перспективе; разговор мастера с ним затягивался допоздна.
В жизни Джорджоне музыка играла немаловажную роль. Однажды в мастерской он познакомился с композитором Маркантонио Инженьери. У него брали уроки арпеджо и композиции многие музыканты. Воспользовавшись случаем, Джорджоне признался, что всякий раз при виде радуги на небе его не оставляет в покое одна мысль.
— Ведь цвета радуги, возможно, совпадают со звуками? — спросил он. — Не соответствуют ли ноты до-ре-ми-фа-соль-ля-си цветам — красному, оранжевому, жёлтому, зелёному, голубому, синему и фиолетовому?
Маститый композитор растерялся, не зная, что ответить напористому юнцу. И здесь нет ничего удивительного, поскольку композитор с его обострённым слухом воспринимал и слышал мир по звукам, улавливаемым тонким слухом, а будущий художник видел звучание мира в цвете.
— Заходи ко мне завтра, — предложил музыкант. — Не забудь захватить с собой цветные рисунки и ноты.
Время не сохранило те опусы с цветомузыкой.
* * *
Утверждение нового мировоззрения и формирование гуманистических принципов в искусстве наталкивались на жёсткое противодействие церкви и официальной христианской идеологии. За распространение крамольных идей их носителям грозило отлучение от церкви, а вскоре сожжение на костре инквизиции станет привычным явлением.
В своё время Данте обвинял Церковь за попытки присвоить себе также и власть меча, то есть светскую власть:
Меч слился с посохом, и вышло так, Что это их, конечно, развратило.(Чистилище, XVI, 110-111)22
Далее эта мысль повторяется в «Чистилище» в той же XVI песне, строфы 127-129, в еще более резкой форме:
Не видишь ты, что церковь, взяв обузу Мирских забот, под бременем двух дел Упала в грязь, на срам себе и грузу.В переходную эпоху от средневековой идеологии рабского смирения, нищеты духа, самоуничижения, презрения к миру и человеку утверждались идеи гуманизма. В борьбе со схоластикой, нередко ожесточенной и небезопасной, коренным образом менялись прежние представления о человеке и отношениях между миром небесным и миром подлунным. Это не только привело к невиданному расцвету искусства, но и подготовило благоприятную почву для развития естественных наук.
Приведенные выше слова Петрарки наглядно показывают, что идеи гуманизма обретали всё более народный характер. Повсюду в городах и деревнях люди увлечённо толковали о «музах и Аполлоне», так как уровень грамотности был тогда достаточно высок. Республика не скупилась на открытие новых школ. Её верфи, шелкоткацкие и картонажные мануфактуры, литейные мастерские и другие высокоразвитые ремёсла нуждались в образованных и знающих работниках по различным специальностям.
Это были годы, когда происходило удивительное слияние гуманистической культуры с изобразительным искусством, отражающим в аллегорической форме величайшие ценности жизни. Повсеместно происходило переосмысление роли художника, когда из подчинённого церкви хранителя традиций и обрядности он начинал переходить к свободному волеизъявлению своего собственного религиозного чувства.
Пока Церковь продолжала быть главным заказчиком, от любого художника требовалась большая сила духа, чтобы противостоять диктату и почувствовать себя свободным. Обратившись к самому себе, художник стал яснее ощущать свою силу, богатство собственной души и неожиданно проникался радостью бытия и личной значимости как творец.
Венецианские художники начинают глубоко интересоваться окружающей природой и жизнью людей. Их стремление преобразить действительность и вмешаться в неё посредством искусства было намного сильнее, чем у средневековых мастеров, соблюдавших религиозные каноны и освящённые традициями схемы написания картин.
В отличие от них живописцы середины XV века с подкупающей непосредственностью и живым любопытством отражали в своих произведениях окружающий мир, постигая его закономерности. Их главная задача была воспеть человека, преклоняясь перед его силой, разумом и красотой. Как говорил Сенека, «ничто не заслуживает восхищения более, чем человеческая душа, по сравнению с её величием ничто не является великим».23
Эпоха Возрождения — это совершенно новое представление о величии человека и его достоинстве. Перед интересом к человеку меркнет всё прочее, что составляет содержание мира. Принято считать эту эпоху молодостью человечества, когда наука обогатилась новыми фундаментальными знаниями о мире и был открыт Новый Свет. А молодости, как известно, свойственно смотреть скорее в будущее, нежели назад в прошлое, каким бы великим оно ни было. Ей присуще жить настоящим и радоваться жизни. Известный венецианский танец furlana, который в дни карнавала лихо отплясывают все от мала до велика, сопровождается озорными припевками.
Молодость, как краткий миг, — беззаботен светлый лик. Она радуется жизни и не думает о тризне. Всяк, кто станет на пути, Должен в сторону уйти.24Эта тема постоянно была предметом оживлённых споров в венецианском обществе, которое дорожило своим благоденствием в настоящем, но порой задумывалось и о грядущем, особенно когда до него доходили слухи о событиях на terra ferma, где проливалась кровь.
* * *
Юный Джорджоне был очевидцем бесед и споров среди именитых гостей своего наставника, впитывая в себя как губка мысли о любви, красоте, поэзии и музыке. Они находили отзвук в его впечатлительной натуре.
Он остро ощущал пробелы своего образования, полученного в приходской школе родного городка, хотя с латынью трудностей у него не возникало. С разрешения Беллини иногда брал из богатой библиотеки при мастерской заинтересовавшую его книгу, чтобы на досуге почитать в своей каморке при свече.
Со временем чтение стало его страстью, и без книг, как и без красок, он не мыслил своего существования. Особенно его увлекала поэзия, и стихи многих поэтов он знал наизусть, поражая окружающих своей редкостной памятью. В нём настолько сильно проявлялась поэтическая натура, что, видимо, уже тогда он начал сочинять стихи и подбирать мелодии к своим песням под аккомпанемент лютни. Со временем песни принесли ему не меньшую известность, чем первые его картины. Но ни стихи, ни сочинённая на них музыка — ничего из этого не сохранилось.
Своими мыслями об услышанном и прочитанном он часто делился с товарищами по мастерской, среди которых наиболее близкие, доверительные отношения у него сложились с подмастерьями года на три-четыре постарше. Прежде всего, это балагур Себастьяно Лучани (вошедший в историю искусства под именем Дель Пьомбо), по-детски наивный коротышка Якопо Пальма Старший, молчун Лоренцо Лотто и говорун Винченцо Катена. Все они, считая себя коренными венецианцами, взяли под свою опеку иногороднего пришельца, помогая новичку советами.
Много полезного он почерпнул от задумчивого Лотто, самого одарённого из подмастерьев, вечно погружённого в свои неведомые мысли. В нём Джорджоне почувствовал родственную натуру. Но поговорить с ним по душам и сойтись поближе так и не удалось, поскольку Лотто вскоре покинул мастерскую, уйдя, как говорится, на вольные хлеба.
Несмотря на разницу в возрасте, опытные мастеровые ценили в младшем товарище трудолюбие и душевное благородство. Он был добрым, отзывчивым парнем, любителем шутки, острого словца и душой любой компании со своей неразлучной лютней. Но за ним водились непонятные странности, когда порой он вдруг замыкался, впадал в хандру и, о чём-то думая, перебирал струны лютни, словно ища в звуках ответ своим мыслям.
В такие минуты к нему было не подступиться и лучше ни о чём не спрашивать. Такое случалось, когда на дворе стояло ненастье. Но едва проглядывало солнце, как он снова становился весел, радовался жизни и его приподнятое настроение передавалось товарищам по цеху.
Когда же заходил разговор о той или иной картине учителя или кого-то из знакомых художников, то к мнению Джорджоне подмастерья прислушивались, хотя не всё в его словах было понятно — уж больно заумными казались им рассуждения этого парня, выделявшегося не по возрасту своей серьёзностью и начитанностью. Ведь многие из них никогда в руках не держали книги.
Именно товарищи по цеху стали первыми называть своего подопечного Zorzon — Джорджоне. Пройдёт совсем немного времени, и каждый из них подпадёт под сильное влияние его искусства.
Вскоре их дружная компания пополнилась. В мастерской появился высокорослый отрок лет десяти по имени Тициан Вечеллио, уроженец горного Кадора. Говорят, он расстался с прежним учителем Джентиле Беллини, хлопнув в сердцах дверью после того, как тот грубо обругал его за один рисунок, заявив во всеуслышание, что художника из него не выйдет. А вот младший Беллини, зная сварливый характер брата, пригрел обиженного парня и принял к себе на обучение.
До конца своих дней Тициан сохранял добрую память о наставнике. Среди остальных он отличался молчаливостью и брезгливостью, когда затевался разговор на щекотливые темы, до коих мастеровые были охочи: их хлебом не корми, а дай поскабрезничать.
Как-то Беллини представил ребятам нового подмастерья Лоренцо Луццо, парня лет двадцати, уроженца городка Фельтре области Венето. За мрачный колорит своих работ и страсть копаться в костях и черепах, извлечённых из древних капищ, он получил пугающее прозвище Морто ди Фельтре (Мертвец из Фельтре), которое за ним закрепилось на всю жизнь, но он не обижался.
Из всех парней новичок выделил земляка Джорджоне за благородство, великодушие, доброту и редкостный талант. Он неотступно следовал за ним, домогаясь дружбы и ревнуя его ко всем, особенно к юному Тициану, который тянулся к Джорджоне и прислушивался к его советам. Позднее Морто ди Фельтре отплатил доверчивому другу чёрной неблагодарностью.
Наблюдая однажды за работой Джорджоне над одним рисунком, Беллини снял с полки потрёпанную книжку и посоветовал ученику полистать ее на досуге.
— Автор был учеником одного живописца, — сказал он, — который работал с самим Джотто, а это многое значит.
Поглаживая обложку рукой, он добавил.
— В книжке найдёшь немало ценных советов по грунтовке и работе с темперой. Тогда в отличие от нас, художники еще не знали о существовании масляных красок.
Это был трактат Ченнино Ченнини «Книга об искусстве» (1398), написанный на разговорном языке vulgo, а потому легко читавшийся. Книжица побывала не в одних руках, и на замусоленных страницах было немало пометок карандашом. Джорджоне прочёл книгу с интересом, как курьёзный совет из далёкого прошлого.
Его поразили некоторые рассуждения автора, который советовал при занятии искусством подчинять свой образ жизни строгому распорядку, как и при занятии богословием или философией, — иными словами, следует есть и пить умеренно, по крайней мере дважды в день.
С этой рекомендацией Джорджоне полностью согласился, так как в работе часто забывал о еде. А вот утверждение Ченнини о том, что чересчур частое общение с женским полом способно вызвать немощь и дрожание рук, его немало позабавило. Он решил поделиться с ребятами мыслями о прочитанном.
Когда он зачитал некоторые выдержки из книги Ченнини, это вызвало у слушателей гомерический хохот. Вот уж воистину Littera docet, littera nocet — буква лечит, буква и калечит.
Парней особенно позабавили слова об «общении» с женским полом, и каждый принялся хвастаться своим немалым «опытом». Особенно потешался Бастьяно Лучани:
— Много ли знает этот твой Ченнини? Ребята, гляньте-ка! У меня руки никогда не дрожат.
И снова взрыв смеха с похабными шутками и двусмысленностью. Но после того случая Джорджоне зарёкся делиться с парнями прочитанным. Кроме плотских утех и желания набить брюхо, их мало что интересовало. Да и их мнение его меньше всего занимало, а посему он следовал советам своего внутреннего голоса и во всём полагался только на себя.
ЮНОШЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ
Молодость брала своё, и после трудового дня парни разбегались кто куда, но своего подопечного с собой не брали:
— Сиди дома, малыш! У тебя ещё нос не дорос, и тебе пока рано шляться по кабакам.
Джорджоне обижался, особенно его злило обращение «малыш».
— Нашли мальчика для битья и потешаются, — возмущался он про себя. — Но ничего, скоро, бездари, я вас всех заткну за пояс!
Юнец сам проведал путь в одно из злачных мест в округе — квартал Сан Самуэле, где пышнотелые блондинки готовы были обслужить любого клиента вне зависимости от возраста и звания. Их интересы защищали рослые парни bravi с мощными бицепсами, следившие за порядком и своевременной оплатой за полученные услуги.
Весёлые сборища часто заканчивались мордобоем, когда между подвыпившими гостями завязывались драки с поножовщиной и нередко со смертельным исходом. Тогда тело сбрасывалось в канал: во время отлива воды уносили его в открытое море — и всё шито-крыто.
Не случайно в районе сомнительных заведений один из переулков носит красноречивое название Terra Assasini — улочка Убийц, а мост через один из каналов называется Ponte dei Pugni — Кулачный мост, соперники выясняли на нём отношения.
Для любителей острых ощущений в городе с двухсоттысячным населением насчитывалось более одиннадцати тысяч жриц любви, которые должны были исправно платить налоги в казну. За неуплату грозило выдворение из Венеции. За соблюдением закона следила недремлющая и вездесущая сыскная служба.
Нелегко доставался хлеб насущный жрицам любви. Годы веселья пролетали быстро, и на лицах появлялись предательские морщины. Оказавшись не у дел, девицы предавались безрадостным воспоминаниям о прошлой разгульной жизни — как это можно увидеть на картине Карпаччо «Две куртизанки» (Венеция, музей Коррер). Та же участь уготована тысячам жриц любви, ублажающих мужские вожделения.
У завсегдатаев таких заведений в ходу была присказка:
Узкая улочка Сан Самуэль, Ты нам мила, как весёлый бордель.Вскоре подросшего Джорджоне с его повышенной чувственностью, которая с наступлением сумерек обострялась, потянуло к тем, кому не надо было платить. В венецианском обществе с его сословными предрассудками, где рабство просуществовало до конца XV века, талант как ценный дар матери-природы был ключом, открывающим двери дворцов аристократов. Тогда происходило чудо, и вчерашний плебей становился знатным гражданином, приближённым к кругу избранных. За особые заслуги его одаривали какой-нибудь официальной высокооплачиваемой должностью, как это имело место в случае с братьями Беллини, а позднее с Тицианом.
Приятная внешность статного красавца и его харизма вкупе с дивным пением приводили в экстаз светских дам, и Джорджоне стал желанным гостем во многих домах патрициев, где устраивались музыкальные вечера, а его лютне отводилась роль первой скрипки. Его всегда умиляли хитрость и изворотливость любвеобильных дам, водивших за нос своих доверчивых супругов. Но порой жеманность и двуличие выводили его из себя, и он бежал по проторенной дорожке туда, где всё было просто, без кривлянья и обмана: плати и получай…
Прослышав о его успехах во дворцах знати, товарищи по мастерской от удивления смогли только развести руками — «малыш» их всех перещеголял!
* * *
Вопреки преклонному возрасту Беллини, будучи официальным живописцем республики, отличался завидной работоспособностью, чего требовал и от своих учеников и подмастерьев. Каждое утро в жару и холод он направлялся в Дворец дожей, где с его участием обсуждались проекты дальнейшего художественного убранства дворца.
Нередко заседания комиссии проходили бурно и затягивались допоздна. Иногда в зал к собравшимся заглядывал дож Агостино Барбариго, которому до всего было дело, вплоть до мелочей. Но тактичному Беллини без труда удавалось ублажить любой его каприз или какую-либо несуразность, и дож, удовлетворённый объяснением, удалялся в свои покои.
Джорджоне не раз приходилось сопровождать Беллини во дворец. И пока учитель занимался делами, рассматривая представленные ему новые работы и проекты, он свободно бродил по дворцовым залам, где его поражали помпезность и роскошь убранства со множеством картин и скульптур на мифологические и исторические сюжеты, прославляющие величие Венецианской республики. Вся эта роскошь казалась юнцу нарочитой, чрезмерной и не всегда к месту, как говорится в старинной пословице: не всё то золото, что блестит. Например, Большой дворцовый зал украшала аляповатая картина непомерных размеров, на которой было показано, как дож Себастьяно Дзиани примиряет папу Александра III с императором Барбароссой, целующим туфлю понтифика, а на другой картине, наоборот, тот же дож укрывает папу от гонений императора.
Все эти полотна, повествующие об имевших место исторических событиях, служили своеобразной визитной карточкой Венеции, демонстрируя, сколь важную роль играла владычица Адриатики в европейской политике.
Но политика как таковая меньше всего интересовала Джорджоне. Он вдоволь насмотрелся на всю эту мастерски выполненную декоративную живопись, от которой в глазах рябило, хотя там были и картины его наставника.
Видимо, уже тогда будущий художник стал осознавать, насколько такая живопись, украшающая парадные залы дворца, с её верностью историческим событиям, далека от подлинной правды жизни с её радостями и печалями, да и от всего того, что окружало его на каждом шагу; насколько она полна равнодушия к простому человеку с улицы, невзначай оказавшемуся в дворцовых залах, словно в золотой клетке.
Каково же было его удивление, когда по возвращении в мастерскую он видел, как учитель всякий раз, словно боясь что-то упустить, подходил к мольберту, чтобы последними мазками закончить очередную Мадонну или Святое семейство. Их земная простота и жизненность никак не сочетались с великолепием картин в парадных залах дворца. Казалось, что работы были написаны совершенно разными художниками, чему Джорджоне не находил объяснения, ибо таковое было выше его понимания.
Это открытие поразило молодого человека своей двойственностью. Возможно ли, чтобы два различных мира уживались в одном художнике? Где любимый им мастер независим и свободен в работе, а где вынужден пойти на сделку с совестью и своими убеждениями? Возможно ли такое двуличие?
С не дающими покоя мыслями и сомнениями ему порой хотелось поделиться со старшими товарищами. Но самый рассудительный из них Лотто покинул мастерскую, а поговорить с балагуром Лучани он не решался, опасаясь, что тот поднимет его на смех и всё обратит в шутку. С другими товарищами по мастерской, которые вечно спорили, ругались по пустякам или взахлёб рассказывали о своих ночных приключениях, хвастаясь одержанными «победами», он не решался затевать разговор на волнующую его тему.
Вероятно, после таких откровений Джорджоне дал себе зарок ни в чём не потакать вкусам сильных мира сего и не идти на поводу требований заказчика, кем бы тот ни был, пусть даже самим дожем. Как показала дальнейшая его творческая жизнь, он остался верен своей юношеской клятве.
Может показаться странным, но во Дворце дожей нет его работ. Хотя после случившегося там пожара правительству республики пришлось, ради восстановления утраченного, обратиться ко многим известным мастерам, и, безусловно, Джорджоне одним из первых, наряду с Беллини, Карпаччо и Тицианом, должен был получить столь лестное предложение. Но петь под чью-то дудку он не захотел.
* * *
Дабы побыть одному и разобраться с мыслями, не дававшими ему покоя, он любил после занятий побродить по лабиринту милых узких улочек, пересекаемых каналами, где после заката не встретишь ни души, а из окон домов доносятся голоса людей — зычные мужские и, словно птичье щебетание, женские, причём угадывалось типичное для венецианцев произношение, в котором не удавался согласный звук «эр» — по-видимому, из-за особенностей климата, в отличие, скажем, от раскатистого «эр» флорентийцев и римлян.
Вечерняя трапеза — это предвкушаемый обряд для всех венецианцев с его возбуждающими аппетит запахами. И лишь он, как неприкаянный, бродил одиноко по загадочной вечерней Венеции, полной заманчивых звуков, плеска воды и ползущих по стенам теней, будоражащих воображение.
На одном из подоконников дома напротив оставлена горящая свеча — как верный знак любовнику о том, что путь свободен. А из окна соседнего дома опущена на тесёмке корзинка, и в ней, как легко догадаться, послание и час назначенный свиданья.
На каждом шагу Венеция предлагает свои загадки. Блуждая по улочкам и закоулкам, он мечтал, что и ему будет брошена под ноги записка с приглашением на вожделенное свидание. Он любил бродить по тёмным улочкам, где ему вдруг вспомнилась не раз слышанная от начитанных гостей мастерской любовная эпиграмма Платона о том, что если б он стал Небом, то смотрел бы множеством звёзд на Землю. А пока ему не хватало одного — стать звездой, чтобы с высоты лицезреть Венецию.
Однажды он оказался на набережной небольшого канала, где услышал похожее на молитву песнопение, необычное для столь позднего часа, когда все церкви закрыты. Это был дом греческой православной общины. Казалось, что заговорил напевно хор из трагедии Эсхила, и он бы слушал его и слушал, но голод дал о себе знать, и он свернул за угол в харчевню для бродяг полуночников, где мог разжиться в долг миской похлёбки.
Подкрепившись, он теперь думал только об одном: добраться до своей каморки и поспать, а на рассвете его наверняка разбудит сосед зеленщик, для которого он расписал недавно cassone.
В часы ночных прогулок ему не однажды доводилось слышать пение гондольеров, ублажающих слух своих подгулявших пассажиров. Одна из песен ему особенно запомнилась своей мелодичностью:
Venezia rassomiglia una sposa vestita di merletti di Murano. Sospira tra le gondole festosa. Spose ed amanti, Buona fortuna!Как-то во время дружеской пирушки во дворце Вендрамин, где ему приходилось бывать, как и в других знатных домах, устраивавших музыкальные и поэтические состязания, он взял в руки лютню и спел полюбившуюся песенку, слегка переиначив её слова:
Венеция, моя невеста, — Дитя волны адриатической. На свете нет прекрасней места. Как в зеркало, на лик магический Глядит ревнивая Венера. В своём наряде подвенечном Ты для любого гондольера Источник песен бесконечный. Удел твой юной быть извечно!Достаточно взглянуть на украшенный мраморным кружевом фасад дворца Ка’ д’Оро (Золотой Дом) на Большом канале, принадлежавшего тогда отцу друга Таддео Контарини, чтобы убедиться в правоте песенки гондольеров.
Из описаний Гёте известно о тогдашнем обычае среди гондольеров распевать, чередуя, стихи Ариосто и Тассо, когда по вечерам Canal Grande, украшенный разноцветными фонариками, превращался в арену поэтически-музыкального состязания. Об этом позднее у Пушкина говорится в шестой главе «Евгения Онегина»:
Но слаще, средь ночных забав, Напев Торкватовых октав!По сей день в любую погоду — солнечную или дождливую — можно услышать песни гондольеров в неунывающей Венеции, приветливо встречающей гостей города.
* * *
К концу недели вся мастерская гудела. Среди учеников и подмастерьев только и разговоров было о том, как и где провести воскресный день. Но Джорджоне помалкивал, так как недолюбливал безделья, а собираться вновь в компании с товарищами по мастерской не хотелось — их болтовнёй он был сыт по горло за неделю. Зато это был день, когда можно было отоспаться, пока его не будил сосед зеленщик, собирающийся с семьёй на воскресную службу, о начале которой оповещал колокольный перезвон, не выглядеть белой вороной, Джорджоне присоединялся к жильцам дома и брёл в соседнюю церковь, где по привычке зажигал свечку перед образом Богородицы и до начала литургии незаметно исчезал.
Во время воскресных прогулок по городу Джорджоне более всего опасался повстречать невзначай приходского священника, который вновь начнёт корить его за то, что давно не видел его на причастии.
В последний раз на исповеди, стараясь вспомнить свои прегрешения, Джорджоне признался, что часто пытается разглядеть женскую фигуру через одежду насквозь в перспективе.
Услышав это, святой отец рассердился не на шутку и, сняв руку с его головы, сказал:
— Ты мне глупости про перспективу не рассказывай! Это греховные мысли и в наказание трижды читай Отче наш и ступай себе с Богом!
Сколько тайн ему открывала Венеция! Говорят, что недалеко от Риальто за каменной аркой стоит дом, где жил Марко Поло, автор знаменитого труда «Мильоне» (название происходит от семейного прозвища Emilione), недавно вышедшего в серии aldini. Каких только чудес не узнал юный Джорджоне из этой книги!
* * *
Однажды хмурым осенним утром Беллини сообщил подопечным, что собирается навестить больного друга Витторе Карпаччо, от которого несколько дней не было вестей. Путь от мастерской до задворков собора Святых Иоанна и Павла, за абсидой которого находилась Скуола Святой Урсулы, был не близкий — по ступенчатым мостам через каналы, да ещё в слякоть. В помощь он взял с собой двух рослых парней — Джорджоне и Тициана.
Одного из корифеев венецианской живописи Карпаччо они застали за работой в большом холодном зале с высоким сводчатым потолком. Борясь со старческим недугом, мастер не выпускал из рук палитру и кисти. Завидев гостей, расторопная служанка тут же накрыла стол, выставив фьяску белого шипучего вина и закуски с дарами моря.
Пока оба мастера были заняты трапезой, Джорджоне с Тицианом принялись рассматривать прислонённые к стене большие многофигурные полотна из почти завершённого цикла «История святой Урсулы», заимствованного из знаменитой книги генуэзского епископа доминиканского ордена XIII века Якопо да Вораджине «Золотая легенда» с её удивительными историями из жизни святых мучеников.
Хотя само повествование ещё насквозь пронизано средневековым мировоззрением с неизменным почитанием мощей и реликвий, с верой в таинственную символику чисел и полуязыческим поклонением «древу жизни», книга к концу XV века выдержала 143 издания. Оттуда черпали сюжеты многие итальянские мастера.
Живо и увлечённо написанная книга привлекала художников занимательностью и искренней привязанностью автора к своим когда-то реально существовавшим героям. Их судьбами заинтересовались Джотто, Симоне Мартини и Фра Беато Анджелико, а позднее Пьеро делла Франческа и, конечно же, Витторе Карпаччо с его богатейшей фантазией.
Рассматривая полотна с обилием героев разного толка и громкой разноголосицей, Джорджоне вдруг опешил. Он почувствовал шум в ушах, который утих, когда его внимание привлекли гондольер с одиноким седоком, а вдали гордо возвышающаяся над городом колокольня Сан Марко. В этом сопоставлении двух вертикалей ему вдруг послышался тревожный набатный звук в явном контрасте с шумной сценой прибытия многочисленной делегации английских гостей. Но он успокоился, когда подошёл вплотную к полотну «Сон святой Урсулы», от которого не мог оторваться.
Отстав от него, Тициан торопливо делал наброски в тетради, переходя от одной картины к другой и не видя ничего вокруг.
Девичья светёлка залита льющимся сверху мягким утренним светом. Падая на ложе спящей девушки, солнечные блики ласково приглашают её пробудиться от сновидений, а стоящий у входа в опочивальню ангел возвещает спящей о её грядущем мученичестве.
Всё здесь соткано светом, играющим главенствующую роль при сотворении объёмов и перспективы. Как же эта скромная картина, преисполненная тишины и неизъяснимой поэзии, непохожа на всё остальное в шумном и нескончаемом повествовательном многословии Карпаччо!
Тем временем оба старых мастера, изрядно взбодрив себя напитками, повеселели. Лица у них порозовели, и они пожелали послушать молодёжь, скромно стоящую в сторонке.
На вопрос хозяина дома, что молодые люди думают об увиденном, Тициан раскрыл тетрадь с рисунками и, протянув её мастеру, сказал, слегка волнуясь:
— Ничего подобного мне не приходилось видеть ранее. Все полотна потрясают до глубины души своим величием, колоритом и продуманной до мелочей чёткой композицией, где каждое лицо наделено ярко выраженной индивидуальностью…
Обычно молчаливого Тициана словно прорвало, но он остановился, чтобы перевести дух. Было видно, что Карпаччо остался доволен ответом и даже прослезился — у стариков глаза часто на мокром месте. Успокоившись, он обратил взор на другого парня, ожидая, что скажет тот.
После длинной тирады товарища Джорджоне понял, что от него ждут. Проявив находчивость, он честно, без лукавства сказал:
— Пока я ещё не успел разобраться в увиденном и уловить главную мысль. Но вот падающий свет на картине «Сон святой Урсулы» настолько меня ослепил, что рука не осмелилась бы повторить это чудо в рисунке.
При этих словах Тициана всего передёрнуло, и лицо его покрылось красными пятнами. Впервые между двумя товарищами пробежала чёрная кошка.
Хотя трудились они бок о бок в одной мастерской, друзьями их никак не назовёшь — уж больно разными и непохожими они были по складу характера, темпераменту, привычкам и образу жизни. В отличие от импульсивного весёлого Джорджоне, который был желанным гостем в любом доме, Тициан отличался рассудительностью, был тугодумом и не хватал идеи на лету. Но за что бы он ни брался, во всём проявлял неторопливость и основательность. Нет, он не пел и не играл ни на каком музыкальном инструменте, хотя и любил дружеское застолье, но в меру, в отличие от других мастеровых.
Пожалуй, лучше всех о Тициане отозвался всё тот же Джорджоне, который в кругу друзей как-то образно высказался: «Он был художником уже во чреве матери».25 Такое признание старшего товарища дорогого стоит!
На прощание Карпаччо поблагодарил Беллини за визит, сказав, что тот вырастил достойную себе смену. И был прав. Как говаривал Леонардо да Винчи, плох тот учитель, который не воспитал себе замену.
Проводив обмякшего, захмелевшего учителя до дома, оба ученика разошлись в разные стороны, не обменявшись ни словом.
С той поры Джорджоне стал внимательнее приглядываться к урсулинкам, нередко встречаемым на улице в их строгом монашеском одеянии. Ведь среди них немало милых мордашек!
* * *
Как свидетельствует летописец Санудо, «Дом Братства», или Скуола Святой Урсулы была одной из двухсот больших и малых скуол, созданных в филантропических целях и разбросанных по всей Венеции. Они не имеют ничего общего с учебными заведениями. Это чисто венецианское явление, представляющее собой довольно просторные светлые помещения для встреч мирян определённого прихода (от лат. schola — свободное времяпрепровождение, приятный отдых), которые после службы собирались для совместного обсуждения чисто житейских вопросов или по случаю больших праздников. Как правило, рядом находилась церковь, освящённая в честь какого-нибудь святого, чьё имя носила и сама скуола.
Между общинами крупных скуол, таких как Сан Марко, Сан Джорджо дейли Скьявони, Сан Джованни Эванжелиста, Сан Рокко, Сан Джорджо Маджоре или Скуола острова Мурано, членами которых были по преимуществу состоятельные граждане, шло негласное состязание по оформлению своих помещений и придания им пышного декора в чисто венецианском духе, на что прихожане не скупились. Для малоимущих и бедняков существовали скуолы при монашеских братствах.
К работе в скуолах привлекались известные мастера: братья Беллини, Карпаччо, Чима да Конельяно, Де’ Барбари, Корона, Савольдо и целая династия художников Виварини. Здесь оставили свой след и художники из других областей Италии, посчитавшие для себя честью поработать в венецианских скуолах, где позднее создали свои творения Веронезе и Тинторетто. А вот Джорджоне так и не принял приглашение на написание картин для скуол из-за щепетильности и капризов заказчиков, сующих свой нос куда не надо.
Кроме того, при его жизнелюбии и радостном настрое души ему было трудно погрузиться в мир христианского мученичества и страданий. Это было выше его сил. Он удивлялся, как старине Карпаччо удавалось при всей его весёлости нрава и тяге к вычурной красивости писать на трагическую тему. Но причина кроется в большой возрастной разнице между ними.
Как правило, художники, работавшие на скуолы, обеспечивались всем необходимым, в том числе красками. Особым спросом у мастеров пользовались ультрамарин, изготовляемый из дорогой привозной ляпис-лазури, а также киноварь, кобальт, охра, кадмий, не говоря уже об известных венецианских белилах.
Сама Венеция стала крупным производителем лаков и красок, которые продавались в обычных городских аптеках. Сюда для закупки красок наведывались художники из других областей. Ради получения побочного дохода к производству лаков и красок приобщились и некоторые монастырские братства, которые по традиции успешно занимались изготовлением вина «Лакриме Кристи».
ЗНАКОМСТВО С ДЮРЕРОМ
Начиная с 1495 года в Венецию часто наведывался Альбрехт Дюрер, друживший с Беллини. У венецианцев, переиначивших его имя на Дуро (от ит. duro — крепкий) из-за упрямого несговорчивого характера, большим спросом пользовались его гравюры на религиозные и мифологические темы.
Они заинтересовали и Джорджоне ясностью образной структуры и строго упорядоченным размещением пластических объёмов в пространстве. Особенно его поразили своей экспрессией гравюры на тему Апокалипсиса, подаренные Дюрером Беллини. Да и сама личность немецкого живописца привлекла его — благородной осанкой и, главное, независимостью суждений, а порой резкостью в спорах и нежеланием идти на компромисс. Тогда в споры вмешивался добряк Беллини, пытаясь охладить пыл немецкого друга.
Джорджоне всячески старался обратить на себя внимание немецкого художника. Но тщетно — тот не замечал никого вокруг, кроме друга Беллини, которого одаривал своими рисунками. Всем остальным в мастерской к самодовольному немцу было не подступиться.
На одной из гравюр Дюрера можно прочесть такие слова, написанные размашисто готическими буквами, смысл которых Джорджоне смог понять только с помощью старого мастерового, выходца из одного швейцарского кантона:
Я не желаю предпочесть Суровой искренности лесть. Держаться надобно подальше От лицемерия и фальши.(Пер. Л. Гинзбурга)
Джорджоне задумался над этими строками. Ему никогда ещё не приходилось сталкиваться со столь пронзительной искренностью, звучащей как крик души, а сам Дюрер напоминал ему такого же страстного и неистового Эразма Роттердамского, выступавшего против всякой фальши и лицемерия. Он с ещё большим интересом наблюдал за Дюрером в каждый его приезд, хотя в немце было и что-то отталкивающее, чрезмерно резкое. Но, как говорится, гению многое дозволено.
Как правило, Дюрер останавливался в Немецком подворье, где располагались контора и склады банкирского дома Фуггера, а также других приезжих купцов. Красавца немца всё интересовало в Венеции, хотя сами венецианцы раздражали его не только своей болтливостью, но и бессовестным копированием его рисунков. Он даже затеял тяжбу с некоторыми типографами. А позднее особенно досталось от него известному гравёру Раймонди, который без спроса сделал 17 прекрасных ксилографий из его цикла «Жизнь Богородицы». Узнав об этом, Дюрер пришёл в бешенство, посылая проклятия на головы всех жуликоватых итальянцев.
И всё же, как ни велик был его гнев, не стоит забывать, что итальянское искусство Возрождения оказало на Дюрера сильное влияние. Без итальянской школы его творчество могло бы носить совершенно иной характер.26
В один из очередных своих наездов в Венецию он уговорил Беллини показать ему недавно водружённую конную статую кондотьера Коллеони, до которой не сумел сам добраться, окончательно запутавшись в лабиринте улочек и каналов. Беллини с готовностью откликнулся на просьбу немецкого друга и заодно рассказал ему, что знаменитый полководец оставил правительству республики своё огромное состояние на благотворительные цели в обмен на обещание воздвигнуть в его честь монумент.
Власти выделили место на площади перед Скуолой Сан Марко и собором Святых Иоанна и Павла. Работа была поручена знаменитому флорентийцу Андреа Верроккьо, которому была известна конная статуя кондотьера Гаттамелаты в Падуе, созданная Донателло. Не раздумывая, он приступил к делу. Но однажды между скульптором и требовательным заказчиком возникла ссора, и разгневанный Верроккьо, разбив передние ноги статуи, покинул Венецию. Вскоре после вмешательства самого дожа, отправившего к скульптору своего посланца с лестными посулами, конфликт был улажен. Несговорчивый скульптор вернулся и продолжил работу над монументом. После его кончины в 1488 году работу над статуей завершил венецианец Антонио Леопарди, который соорудил также пьедестал монумента.
Если не считать вывезенную дожем Дандоло из Византии в конце XII века позолоченную бронзовую квадригу IV века до н. э., которая венчает поныне портал собора Сан Марко, то памятник Коллеони — первая и единственная до второй половины XIX века конная статуя в Венеции. Для города, расположенного на островах в лагуне, лошадь была в диковинку.
Для показа немецкому другу конной статуи Беллини для пущей важности взял с собой нескольких учеников, включая Джорджоне, чтобы устроить на месте в учебных целях, как ныне принято говорить, мастер-класс с участием коллеги Дюрера. По пути к ним присоединился из соседней мастерской Чима да Конельяно.
Процессия во главе с первым живописцем Венеции и знаменитым немцем тут же привлекла внимание венецианцев, которым до всего было дело. Вскоре собралась большая толпа любопытных вокруг памятника, называемого в народе Cavallo — лошадь. Венецианцы с опаской поглядывали на него из-за его устрашающего вида. Такие же чувства испытывают падуанцы, проходя мимо конной статуи Гаттамелаты.
Статуя, на которой всадник настолько слился с лошадью, что составляет единое целое, смахивает на коротконогого мифологического кентавра, устремившего грозный взгляд в будущее.
Сама площадь в окружении зданий невелика, а пьедестал статуи столь высок, что создаётся впечатление, будто всадник скачет на зрителя по крышам домов, и его можно рассмотреть, только высоко задрав голову.
Видимо, статуя произвела впечатление на Дюрера, и он принялся делать наброски в тетради, то и дело обходя монумент кругом и не обращая внимание на собравшихся. Если кто-то из них попадался на пути, то Дюрер, чертыхаясь, чуть не натыкался на зеваку. Подойдя поближе, Джорджоне заинтересовался, насколько энергично немец работал грифелем, придавая рисунку поразительную динамичность и экспрессию, чего ранее ему не доводилось видеть ни у кого из венецианских мастеров.
Собравшаяся вокруг толпа мешала спокойно побеседовать и заинтересовать учеников. Было решено перенести разговор за столики соседнего трактира, где помянули, как полагается, славного скульптора, с которым Беллини был давно знаком. Он же вспомнил известную историю, ставшую легендой, о том, что Верроккьо прилюдно поклялся никогда не брать в руки кисть после того, как подросток Леонардо да Винчи пририсовал слева к его картине «Крещение Христа» златокудрого ангела отрока. И слово своё мастер сдержал. Джорджоне впервые услышал эту историю, и она произвела на него сильное впечатление.
В ходе начавшегося разговора Дюрер решительно не согласился с клятвой Верроккьо и с присущим ему пылом стал доказывать, подыскивая нужные слова по-итальянски.
— Только живопись, — заявил он, — способна ныне поддержать реформу по обновлению церкви, начавшуюся повсеместно в Центральной Европе, чему противостоят папский Рим и его инквизиция, а кое-где уже полыхают костры для вероотступников.
Переведя дыхание, Дюрер сослался на своего земляка и друга поэта францисканца Томаса Мурнера и, напрягая память, прочёл вслух начало его стихотворения:
На свете есть одна страна, Где службы служит сатана. Он настоятель непростой, Отринув напрочь Крест святой…(Пер. И. Грицковой)
Почуяв неладное, Беллини деликатно прервал вошедшего в раж немецкого друга: его ученикам пока ещё рано слушать подобные речи.
Рассказ Беллини и слова Дюрера ещё долго обсуждались в венецианских салонах. Прав ли был Верроккьо, отдав предпочтение скульптуре и забросив живопись? Истинные поклонники живописи никак не могли с этим примириться, часто ссылаясь на известное изречение Леонардо да Винчи о том, что «живопись — наука, причём первая среди прочих».
НАЧАЛО ПУТИ
Годы, отведённые на обучение мастерству, пролетели незаметно. Не успел Джорджоне оглянуться — и перед ним открылся заманчивый путь к самостоятельной работе и осуществлению своих амбициозных планов, давно вынашиваемых им в тайниках души. Но он не торопился оставить мастерскую, где исподволь работал над двумя-тремя небольшими картинами, чему Беллини не препятствовал.
В снимаемой тёмной сырой каморке работать было невозможно, да и нечем, так как с деньгами на краски и кисти было туговато, а одалживаться у кого-либо не позволяла гордость.
Джорджоне торопился, понимая, что не может злоупотреблять добротой Беллини, который иногда подходил к нему во время работы и по-отечески подбадривал.
— Не торопись! — советовал он. — Не увлекайся тенью, а задний план и горизонт, наоборот, высвети, и картина заиграет по-новому.
Но всему приходит конец, и он покинул мастерскую, ставшую ему родным домом. Здесь он был окружён заботой и пониманием, сыт, обогрет и мог безраздельно отдаваться любимому делу, постоянно ощущая поддержку великого наставника.
И вот однажды подвернулся счастливый случай, позволивший распрямить плечи и вырваться из объятий унизительной бедности. Ему удалось выгодно пристроить одну из работ в хорошие руки заезжему гостю толстосуму, приехавшему полюбоваться красотами Венеции, а заодно обзавестись памятным сувениром.
По всей вероятности, это была небольшая картина маслом на дереве «Поклонение пастухов». Как и все его ранние работы, она долгое время приписывалась то анонимному автору — Maestro dell’Adorazione, то — совсем уж непонятно на каких основаниях — Тициану или Катене, пока пытливый Кавальказелле не доказал авторство Джорджоне. С чем впоследствии согласился Лонги, включивший «Поклонение» в свой знаменитый список работ Джорджоне (в том числе и спорных).
Непонятно по какой причине за картиной в литературе закрепилось название «Adorazione Allendale» по имени последних владельцев, выходцев из Венеции или Падуи, продавших её Вашингтонской национальной галерее искусств. Как говорит итальянская пословица, il denaro apre tutte le porte — деньги открывают все двери. Нечто подобное, но гораздо раньше, произошло с рафаэлевской «Мадонной Конестабиле», оказавшейся в петербургском Эрмитаже.
В обоих случаях сказалось непомерное тщеславие бывших владельцев, надеявшихся оставить своё имя в истории рядом с именами великих творцов. И надо сказать, что это им удалось.
Написанное в конце века «Поклонение пастухов» ещё пронизано атмосферой венецианского кватроченто — XV века. Но в нём уже чувствуются новые элементы, определившие стиль начинающего художника. Так, ощущение глубины от фигур на переднем плане до линии горизонта равномерно возрастает, а сами фигуры чётко прорисованы и компактно расположены перед входом в пещеру.
Фоном картине служат голубеющие дымчатые дали, городские строения, крепостная башня и журчание струй водоёма; вдали видны люди, занятые привычным делом, пышные купы деревьев и царящая в природе умиротворённость, осознание свершившегося чуда. И надо всем — вечереющее небо.
Чудо рождения Младенца передаётся мягкой и несколько приглушённой тональностью. Впечатляют расположившиеся вокруг новорождённого фигуры склонившихся Девы Марии, святого Иосифа и двух пастухов, чьи взгляды передают то, что принято называть «движением души». Нечто похожее можно увидеть у Беллини на алтарном образе в венецианской церкви Сан Дзаккария, где выделяется фигура святого Петра, погружённого в глубокое раздумье.
* * *
Первая удача позволила распрощаться с прежней конурой и снять приличествующее званию художника достойное жильё. В квартале Сан Сильвестро, неподалёку от моста Риальто, Джорджоне облюбовал просторное светлое помещение в старинном особняке Веньер. Здесь, наконец, можно обустроить свой нехитрый быт, разместить нормальную мастерскую и свободно принимать друзей, заказчиков и, не боясь огласки, подруг и светских дам, давно приглядывавшихся к статному молодому художнику.
Владелец дворца попросил нового постояльца украсить фресками потемневший, потрескавшийся фасад в счёт оплаты аренды за жильё. Как правило, такие работы поручались простым ремесленникам, а настоящие художники считали для себя зазорным браться за чёрную работу.
Но Джорджоне согласился, не сочтя это для себя чем-то унизительным. Ему были памятны слова великого Данте, к совету которого он не мог не прислушаться:
Теперь ты леность должен отмести, — Сказал Учитель, — Лежа под периной Да сидя в мягком, славы не найти.(Ад, XXIV, 46-48)
Чем другим, а леностью его никак нельзя было укорить. Он лично проследил за установкой нанятыми рабочими дощатых лесов на фасаде, но грунтовку стены под живопись проделал сам, не доверяя никому из нанятых рабочих столь важную многотрудную операцию, требующую специальных навыков и знаний.
Дав волю фантазии, Джорджоне расписал наружную стену дома множеством ярких мифологических фигур, цветочным орнаментом, львиными головами и всевозможными гербами, прославляющими род нынешнего владельца дворца.
Наибольший интерес у прохожих вызвали три ярко написанные фигуры: козлоногого, с хвостом лесного божества Пана и двух его спутниц, прелестных обнажённых нимф.
Вскоре перед фреской стала собираться толпа любопытных, привлечённых откровенной наготой фигур, и Джорджоне пришлось по просьбе хозяина дворца с явной неохотой прикрыть наготу нимф фиговыми листочками. А нимфы так хорошо гляделись в натуральном обличье! Но что поделаешь, хозяин — барин.
Эта работа вызвала большой интерес не только у простых венецианцев, которые толпились около дворца, дивясь тому, как из-под руки перепачканного краской художника на пустой стене появлялись цветы и фигуры. Росписью заинтересовались и подлинные ценители живописи. Вскоре последовали заказы от владельцев дворцов Лоредан, Соранцо и других богатых заказчиков.
У Вазари имеется упоминание об этих работах. В частности, он пишет о фресках, украшавших фасад дворца Соранцо на площади Сан Паоло с изображением аллегории Весны, сожалея, что от непогоды краски пожухли и утратили былую прелесть.
* * *
Постепенно круг знакомых Джорджоне расширялся, а дружил он в основном со сверстниками из домов венецианской знати, которые проявляли повышенный интерес к искусству и ко всему, что было с ним связано. Это прежде всего Габриэле Вендрамин, Джироламо Марчелло, Доменико Гримани и Таддео Контарини, чьи отцы занимали видное место в венецианской иерархии.
В их компанию входили также флорентиец Джованни Боргерини, проживавший в Венеции по торговым делам своего семейства, падуанец Джованни Джустиньяни и отпрыск болонской аристократии Альдо Людовизи. Со временем все они обрели достойное место в различных областях культуры, а некоторые стали обладателями лучших картин Джорджоне.
В отличие от друзей, которые должны были порой держать ответ перед родителями за некоторые свои поступки, Джорджоне чувствовал себя вольной птицей и ни перед кем не отчитывался. Бывало, к нему заходили друзья после очередной взбучки от родителей, чтобы услышать сочувственное слово поддержки и поделиться своими обидами.
Жизнь каждого из них была безоблачной и не требовала ни малейших усилий, чтобы чего-либо добиться, ибо знатное имя служило им верным талисманом. А вот их другу художнику надлежало каждодневно завоёвывать имя собственным трудом. К их роскоши и богатству он был равнодушен и довольствовался малым, хотя любил украсить своё новое жилище изящными безделушками и при случае пополнить собранную им библиотечку последними новинками.
Одевался он по последней моде с иголочки у лучших портных, носил щёгольские остроносые сапожки и шляпу с высокой тульей, украшенной блестящей пряжкой и страусиным пером. Ему льстило, что на улице на него заглядываются молодые красотки, и некоторые из них затем оказывались в кругу его подруг.
С ростом известности ему предлагались другие дома с видом на Большой канал, где можно было разместить более просторную мастерскую и помещения для жилья. Но он не хотел менять насиженное гнездо, где пока всё его устраивало.
VIRTUS — VOLUPTAS
Друзья Джорджоне и он сам входили в так называемую «Compagnia degli Amici» — «Сообщество Друзей», возникшее под влиянием известного литературно-философского кружка бывшей королевы Кипра стареющей Катерины Корнаро, обосновавшейся со своим двором в средневековой крепости Азоло под Тревизо. Среди прочих вопросов, интересующих интеллектуалов, здесь обсуждалась извечная этическая дилемма Virtus — Voluptas (Добродетель — Сладострастие), вызывавшая бурные споры.
Входивший в кружок поэт-гуманист Пьетро Бембо выразил эти настроения в своём известном сочинении «Азоланские нимфы». У него есть такие строфы о любви:
Ты застилаешь очи пеленою, Желанья будишь, зажигаешь кровь. Ты делаешь настойчивой любовь: И мукам нашим ты подчас виною.(Пер. Е. Солоновича)
Ему вторил литератор Бальтазар Кастильоне в своих стихах о любви с её прелестями и капризами. В их компании бывал и Якопо Саннадзаро, воспевавший любовь без устали:
И в сменах счастья и тоски На свете хорошо влюблённым, — Благословенно имя той, Что не встречается со мной, Меня тираня нравом непреклонным — И тем, что в мире есть она, Вся жизнь моя озарена.(Пер. Е. Витковского)
Но наиболее полно высказался об этой дилемме поэт и эссеист Марио Эквикола в сочинении «Книга о Природе Любви», особенно в её последней VI главе «Конец любви»,27 в которой остро затрагиваются противоречивые аспекты любви.
В те годы процветал музыкально-поэтический символизм, когда, например, флейта с мундштуком воспевалась как фаллос, и т. д. Такие мотивы нередко звучали в венецианской поэзии.
Гедонистические настроения с нескрываемым эротическим подтекстом невольно передались и Джорджоне. И он, и его друзья не мыслили своей жизни без радости и удовольствий. Их девиз был — ценить жизнь в любых проявлениях и ловить каждый её момент. Когда-то просвещённый правитель Флоренции поэт и меценат Лоренцо Медичи, прозванный современниками Magnifico — Великолепный — за мудрость и щедрость, в известном четверостишии, ставшем чуть ли не заклинанием для молодёжи, провозгласил:
Quant’e’ bella giovinezza Che si fugge tuttavia. Chi vuol’esser lieto, sia. Di doman non c’e’ certezza.28В переводе на русский это звучит следующим образом:
Златая юности пора, Ты быстротечна, как мгновенье. Вкусим же ныне наслажденье, Не зная, что нас ждёт с утра.Джорджоне слышал эти чеканные строки. Они прочно засели в его сознании, и он со своим юношеским максимализмом не мог не подпасть под их очарование.
Эти стихи часто заставляли его задумываться над вопросом о смысле жизни. Но более всего в нём разгорались те чувства, которые одолевают по вечерам. Однажды в разговоре с друзьями он услышал, как кто-то сослался на слова недавно скончавшегося в расцвете лет философа и поэта Пико делла Мирандола, чьё имя пользовалось особым почитанием среди венецианских гуманистов: «Любовь — это желание наслаждаться красотой, однако не всегда само желание есть любовь».29
Джорджоне не мог не согласиться с такой сентенцией, поскольку ему часто приходилось задумываться над мучительной дилеммой, когда чувства к очередной пассии вдруг охладевали, а её красота по непонятной причине переставала его вдохновлять. Им овладевало беспокойство, а по ночам снились кошмары, как и герою «Любовных битв во снах Полифила», чья фантазия не знала предела, порождая всё новые чувственные видения и кошмары.
С того самого момента, как художник чувствует в себе наличие сверхъестественных сил, к нему приходит осознание возложенной на него ответственности. Его начинают одолевать сомнения и муки творчества. Так и Джорджоне, рано осознав, сколь много ему отпущено природой, первейшим долгом считал превзойти своими творениями не только предшественников, но и самого себя, а это редко кому удаётся. Как говорил Леонардо да Винчи, художник, который ни в чём не сомневается, «немногого достигает».
* * *
Когда родители кого-то из друзей, спасаясь от духоты, отправлялись в загородные имения на материк, в доме устраивались весёлые пирушки. Тон задавали приглашённые гетеры, знающие своё дело. Обычно после оргий наступало горькое похмелье, когда никого не хотелось больше видеть. Но если над voluptas одерживала верх virtus, Джорджоне вновь оказывался во власти своего творческого гения, и тогда никакие соблазны были не в силах сбить его с пути. В такие дни он с головой уходил в работу, забывая о еде и путая ночь с днём, пока, обессилев, не валился с ног и засыпал беспробудным сном.
Однако стоило ему оторваться от дел и покинуть мастерскую, дабы немного проветриться или повидаться с кем-то из друзей, как уличная толпа его захлёстывала, и он невзначай сталкивался с новой красоткой, которая, словно призрак, то исчезала в людской толчее, то вновь возникала и манила. Пленённый загадочной незнакомкой, он в который раз оказывался во власти сладостных мук, и на память приходили стихи обожаемого им Петрарки, по которому он часто поверял свои чувства:
Коль не любовь сей жар, какой недуг Меня знобит? Коль он — любовь, то что же Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже! Так злой огонь!.. А сладость этих мук!(Пер. Вяч. Иванова)
В итальянском толковании эстетики обычно рассматриваются два типа любви: любовь низменная, чувственная, телесная — и любовь возвышенная, созерцательная и духовная, между которыми не всегда существует полюбовное согласие.
В подтверждение такого суждения часто приводятся слова верного последователя платонизма Пико делла Мирандолы о том, что «свободная по своей природе душа человека способна подняться до любви небесной или опускаться до животной страсти в зависимости от того, рождается такая любовь разумом или неосознанным желанием».30
Эти мысли и настроения были близки Джорджоне, и он нередко обращался к знаменитой «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандолы, появившейся в серии aldini. Его особенно поразило одно из стихотворений того же Пико:
Скажи, Любовь, кто ты на самом деле — Великий дар, ниспосланный с небес, Иль похоть низменная в бренном теле, Когда в нём верх одерживает бес?Иллюстрацией таких чувств и настроений может служить утраченная картина, упомянутая Ридольфи, — «Суд Париса» с тремя фигурами богинь, изображённых в откровенно эротическом ключе. Существуют две её копии, написанные кем-то из художников, принадлежащих к близкому кругу Джорджоне.
ОБРЕТЕНИЕ ИЗВЕСТНОСТИ
Как-то зайдя к Беллини за советом по одному делу, Джорджоне застал у него двух пожилых скульпторов, Риццо и Скарпаньино, работавших над заказами во Дворце дожей, которые нуждались в одобрении официального художника Венеции.
С появлением Джорджоне разговор, скорее напоминавший перепалку между старыми мастерами, прервался. Но тут же возобновился с новой силой. Как понял Джорджоне, спор был всё на ту же извечную и набившую оскомину тему верховенства одного искусства над другим. Эта тема вызывала постоянные споры между итальянскими живописцами и ваятелями.
Ему стало жаль беднягу Джамбеллино, на которого наседали те двое, и он решил вмешаться. Об этом бурном разговоре имеется упоминание у Вазари.
В ответ на утверждение одного запальчивого беззубого спорщика, который, брызжа слюной, утверждал, что живопись неспособна показать объём изображения и дать его тыльную сторону, Джорджоне спокойно заявил:
— Любую картину, уважаемые коллеги, следует рассматривать целиком с единой точки зрения и, стало быть, вовсе не обязательно обходить её кругом, как скульптуру, чтобы увидеть, как вы утверждаете, тыльную сторону.
Дабы не быть голословным и окончательно добить крикунов, он взял лист бумаги и грифелем быстрыми штрихами написал со спины обнажённую фигуру человека, а за ним изобразил озерцо с прозрачной водой, в зеркале которой отразилось лицо того же нагого человека.
Как рассказывает Вазари, видевший этот рисунок в одном знатном доме, Джорджоне пририсовал на эскизе сбоку снятые человеком стальные доспехи, на которых зеркально отразился его профиль. Итак, на одном рисунке оказалось возможным увидеть фигуру со спины, а лицо — анфас и в профиль.
— А теперь, коллеги, взгляните. — И он протянул им рисунок. — Перед вами изображена одна лишь фигура со спины, но видны её лицо и профиль. Не так ли?
Те были явно смущены, не зная, что ответить.
Примерно 100 лет спустя Караваджо, словно в продолжение спора с ревнителями ваяния, на римской картине «Нарцисс» написал своего героя склонившимся над ручьём и любующимся своим отражением на водной глади.
Пустой спор утомил Джорджоне, и, наскоро распрощавшись с добряком Беллини, он отправился восвояси, чтобы засесть за работу — дел был непочатый край. Заказчики, ходившие за ним по пятам, ждали от него новых откровений. Не отставали и друзья коллекционеры, постоянно напоминая об обещанном.
Дома на мольберте стояла небольшая картина «Святое семейство», а рядом на другом мольберте — «Святое собеседование». Это первые более или менее самостоятельные искания художника, которые уводили его далеко от традиции местной живописи. В них ощущается настойчивый поиск нужной «формулы» композиционного изящества, гармоничного единства и тончайших тональных переходов.
Обе картины, написанные, по определению Лонги, когда художник ходил ещё в «робких гениях», чем-то отдалённо напоминают работы ранних прерафаэлитов.31 Не вдаваясь в подробности, согласимся с мнением выдающегося искусствоведа, который полагал, что для изучения того или иного произведения необходимо понять, что исторически его окружало в период написания. Только при таком подходе, считает учёный, возникает объективное представление как о самом произведении и его авторе, так и об эпохе, в которую он жил, и преобладающем тогда направлении в живописи.
Поиск новой «формулы» был продолжен и в других работах: «Читающая Мадонна» и «Мадонна в пейзаже». В них значительная роль отводится пейзажу, который служит не только фоном для фигур, изображённых на переднем плане, но и порождает настроение грусти и ощущение глубины световоздушного пространства. Вопросы перспективы (что в переводе с древнегреческого означает «смотреть сквозь») глубоко интересовали Джорджоне, как и других художников Возрождения.
Появление в пейзаже скалистых отрогов, которые редко просматриваются из лагуны, навеяны Джорджоне воспоминаниями детства, когда ребёнком он с матерью собирал цветы на лужайке в окружении горных отрогов, за которыми прячется солнце при заходе.
Зато уже в «Читающей Мадонне» он ощущает себя полнокровным венецианцем, влюблённым в свой город, и в качестве фона пишет типичный городской пейзаж с узнаваемыми аркадами южного фасада Дворца дожей, колокольней Сан Марко и, вдали, Torre dell'orologio — Башней с часами и двумя гигантами, бьющими в набат. Именно по ним венецианцы проверяют время, и над всем городом звучит симфония перезвона колоколов.
Эта работа — редчайший случай в иконографии, когда Богородица углубилась в чтение, а Младенец в недоумении смотрит на мать, держащую в руках книгу с серебряными застёжками. Подобное можно встретить у Рафаэля в его «Мадонне с щеглёнком», где Богоматерь держит в левой руке раскрытую книгу, но смотрит на играющих с птенцом детей. А у Беллини на детройтской картине книга служит Мадонне лишь опорой для руки.
В «Читающей Мадонне» Джорджоне отдал дань уважения передовым взглядам. За годы пребывания в мастерской Беллини, являвшейся одним из центров культуры и идей гуманизма, он многое воспринял от именитых гостей учителя.
* * *
В одной из первых картин «Святое семейство» поражает компактное единство трёх фигур, составляющих ядро всей композиции. Младенец, изогнувшись, указывает правой ручонкой на мать или на пейзаж за окном. В его движении столько естественности и жизненности, которые не были свойственны подобным сюжетам на картинах мастеров конца XV века. Полихромия одеяния Мадонны с преобладанием сочного красного цвета и некой вычурностью складок плаща присуща также и эрмитажной «Мадонне в пейзаже», на которой метаморфоза чувств сливается с метаморфозой природы.
«Поклонение пастухов» вызвало столь большой интерес, что вскоре появился повтор картины с тем же элегическим настроем, но с несколько приглушённой цветовой палитрой, из-за чего картину иногда называли Node — Ночь.
К тем же ранним работам относится небольшая картина «Поклонение волхвов». Судя по удлинённому прямоугольному формату с обрезанными краями, картина была длиннее и вполне могла бы служить пределлой к какому-нибудь алтарному образу или просто попыткой к написанию такого алтаря, как полагали некоторые исследователи.
Но каковы бы ни были предположения, «Поклонение волхвов» отличается чётко выстроенной композицией на фоне пещеры и изысканностью колорита изображённого Святого семейства и волхвов, склонившихся в священном трепете перед Младенцем. Особенно выделяются непринуждённостью поз и смелостью ракурсов фигуры молодых оруженосцев из свиты волхвов.
Один из них, устав после долгого пути, опёрся на круп лошади, а двое других и вовсе повернулись к зрителю спиной, поправляя сбрую, что было бы неприемлемым и даже кощунственным для пределлы к любой алтарной картине. А потому версия с написанием картины для церкви отпадает как необоснованная.
Сюда следует также отнести схожее по габаритам «Святое собеседование». Долгое время оно приписывалось Катене, и лишь в наши дни Лонги доказал его принадлежность кисти Джорджоне, хотя на картине заметно наличие посторонних рук.
В отличие от горизонтальных композиций святых собеседований, весьма распространённых в венецианской живописи конца XV века, Джорджоне блестяще нарушил традицию, избрав центром композиции раскрытое окно, через которое виден сельский пейзаж. Справа от окна Дева Мария с Младенцем, лежащим на её коленях, а слева святые Екатерина и Иоанн. В руке у Иоанна посох в виде креста, который он держит над головой Младенца, а сам крест отчётливо проступает на фоне мрачного неба.
При рассмотрении картины создаётся впечатление, что близкие друг другу люди собрались у раскрытого окна подышать свежим воздухом и поговорить о насущном.
Все написанные Джорджоне в начальный период Мадонны очень просты, задумчивы, не печальны, но и не улыбающиеся. Они постоянно погружены в мысли о Младенце и судьбах ныне живущих вокруг людей.
Стихией его ранних работ с их глубинным поэтическим подтекстом были не только краски и формы, образующие как бы обволакивающий их воздух, но и некая загадочная недосказанность — словно художник приглашает зрителя самому проникнуться выраженным в картине настроением, задуматься над её содержанием и домыслить заложенную в ней идею.
Джорджоне стал первым среди современных ему живописцев, кто стремился установить прямой контакт между искусством и сопричастным ему зрителем, приглашая его к сотворчеству. Всё это было ещё в новинку для венецианской живописи конца XV века.
* * *
Мир поэзии был ближе Джорджоне, чем кому-либо из современных ему художников. Поэтому его «Подношение поэту» стоит несколько особняком и полно загадочности. Поначалу можно предположить, что на картине изображён знаменитый поэт Якопо Саннадзаро, оказавшийся в Венеции по приглашению издателя Мануция. Его пастораль в стихах и прозе «Аркадия» ещё до публикации в серии aldini в 1502 году пользовалась широкой известностью в списках; ею зачитывались на литературных вечерах, где художник и поэт могли познакомиться.
Как-то в руки Джорджоне попал рукописный листок со словами Et in Arcadia ego — а чуть ниже стихи Саннадзаро, прочитанные им на одном из собраний в Новой академии, основанной Мануцием:
И я в Аркадии бывал. Как быстро время пролетело! Напрасно к Музе я взывал — Она со мною постарела.А вот у двадцатилетнего Джорджоне Муза была прелестна, молода и притягательна. Поэтому на его картинах с их романтической приподнятостью и поэтической недосказанностью акценты расставлены по-иному, нежели у таких его современников, как Катена, Кариани, Карпаччо, Кампаньола, Лотто, Чима да Конельяно или у того же Беллини, хотя все они вносили в свои произведения персонифицированные аллегории Любви, Истины, Славы, Смерти и т. д.32
Даже при наличии пасторальных мотивов и сокрытых метафор главное на картине «Подношение поэту» — это несоответствие между фоном и содержанием. Приходится отказаться от версии, что в «Подношении» запечатлён толстяк Саннадзаро, чьё лицо узнаваемо на фреске «Парнас» Рафаэля в ватиканских Станцах. Тогда кто из поэтов изображён на картине?
Можно с уверенностью предположить, что это автор «Диалогов о любви» Иегуди Абванель по прозвищу Леон Эбрео, врач, философ и поэт. После изгнания евреев из Португалии и Испании он обосновался сперва в Неаполе при дворе Альфонса II Арагонского, где его услугами как опытного эскулапа пользовался весь королевский двор. Затем, чтобы избежать очередного изгнания, он направился в Венецию, славящуюся свободой и терпимым отношением к пришельцам независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания. Здесь его любовная лирика, изданная Мануцием в переводе на итальянский язык, пользовалась известностью, особенно среди азоланских эстетов из круга Катерины Корнаро. Позднее его «Диалоги о любви» были переведены на французский и испанский. «Диалоги» представляют собой беседы о любви между Филоном, alter ego автора, и его собеседницей, красавицей Софией.
Джорджоне познакомился с поэтом на литературном вечере во дворце Лоредан, владелец которого, как и другие патриции, пользовался услугами Леона Эбрео как врача. Ему оказались близки неоплатонические в своей основе рассуждения поэта о любви, и он взялся за написание «Подношения поэту».
Нельзя не отметить, что на картине почти полностью отсутствует связь между фоном с купающимися оленями, павлином, вынюхивающей добычу рысью, сидящей на ветке птицей, сочно написанной листвой, голубеющими далями — и погружённым в ностальгические раздумья поэтом, которому памятны беды, обрушившиеся на его многострадальный народ. Напоминанием о них служит также зловеще нависшая слева скала над миром покоя и тишины.
Перед сидящим на возвышении под балдахином поэтом застыли в молчании его юные почитатели с дарами, и лишь один из них, явно пригорюнившись, словно читая мысли наставника, перебирает струны и беззвучно напевает:
Всё в мире суетно и тленно, И лишь любовь в нём неизменна.Изображённые на картине фигуры безмолвствуют, прислушиваясь к шороху листвы, шёпоту ветра, журчанию воды, доносящемуся из глубины еле различимому эхо и полёту времени. Это какая-то магия застывшего мгновения, в которое ничего не происходит и которое длится вечно.
Грустные думы находят отражение в слегка приглушённой элегической тональности. В этом контрасте между мирным настроем природы и глубокой задумчивостью поэта критика узрела влияние фламандцев Иеронима Босха и Дирка Боутса. Известно, что первый из них поработал даже во Дворце дожей, но его полотно сгорело при пожаре.
Работы фламандцев с их причудливыми арабесками в позднеготическом стиле Джорджоне мог видеть у своих друзей, в чьих коллекциях было немало иностранных мастеров, пользовавшихся тогда спросом в Венеции.
К тому же периоду творчества Джорджоне следует отнести также такие его небольшие работы, как «Старик с песочными часами и юная музыкантша» (то есть старость, отсчитывающая отпущенное ей время, и беспечная молодость); здесь же «Сельская идиллия», «Целомудрие» — картина, перекликающаяся с рафаэлевской «Дамой с единорогом» из римской галереи Боргезе. Сюда же относятся картины «Леда и лебедь», «Венера и Купидон», «Юнец с лютней» и «Суд Париса», в которых Джорджоне полностью сливается с природой. Видимо, при написании «Венеры и Купидона» ему вспомнились строки из поэмы Боккаччо «Фьезоланские нимфы», отвечавшие его тогдашнему настроению:
Так целый день почти что миновался, Край только солнца, видный, пламенел, Когда усладой каждый надышался, Всё совершив, обрёл, чего хотел.(Пер. Ю. Верховского)
Эти ранние работы предвосхищают всемирно известную «Грозу». Но о чём в них говорилось, приходится, как всегда, гадать. По всей вероятности, они предназначались им в качестве рождественского подарка кому-то из друзей или даме сердца.
В те годы в Венеции резко возрос спрос на камерную живопись, а в ней Джорджоне не знал равных. Его небольшие картины тут же находили покупателя, что давало ему возможность спокойно и неспешно обдумывать дальнейшие творческие планы, не заботясь о хлебе насущном.
Венецианцы, не отличавшиеся особой религиозностью, но обладавшие от природы развитым чувством понимания красоты, любили украшать свои дома небольшими картинами с незатейливыми сюжетами, которые не требовали особых усилий и знаний для их понимания, а просто радовали глаз и достойно дополняли убранство дома.
* * *
Среди ранних работ Джорджоне стоит особняком, выделяясь колоритом, картина «Христос, несущий Крест». По композиционному единству она близка тому, что Джорджоне мог видеть ежедневно в мастерской своего учителя.
При рассмотрении этой хорошо сохранившейся работы вызывает удивление мастерство, с каким она выполнена начинающим художником, только что закончившим обучение. На тёмном фоне — тонко написанная фигура Христа в три четверти, удерживающего на правом плече огромный деревянный крест, который делит фон картины на тёмную и светлую стороны. Особенно поражает обращённый на зрителя взгляд Христа, пристальный и проникновенный, как бы говорящий о жизни нынешней во грехе и будущем искуплении.
Всё это было тогда внове для венецианской живописи. В самом взгляде Спасителя угадывался новый гений. Относительно авторства работы строились самые разные предположения. Среди прочих чаще всего называлось имя Тициана, хотя к моменту написания картины он ещё находился в подростковом возрасте. Юный Тициан неотступно следовал за Джорджоне, высоко ценя его мастерство и прислушиваясь к советам старшего товарища. Позднее он напишет своего несущего крест «Христа с палачом» для Скуолы Сан Рокко (1512). При всём трагизме тициановской картины она явно уступает по живописи и колориту полотну Джорджоне.
Позже картина долгое время приписывалась самому Беллини. У Вазари нет о ней ни слова, и это неудивительно, поскольку следы картины затерялись со сменой владельцев, пока в 1871 году Кавальказелле не обнаружил её в одной из частных коллекций, доказав авторство Джорджоне, который, по его словам, «прошёл хорошую школу у Беллини».33 Позднее с его мнением согласились и другие эксперты, хотя по сей день вопрос об авторстве остаётся спорным.
Закончим обзор ранних работ Джорджоне высказыванием Лонги. Возвращаясь к первому десятилетию XVI века, он заметил: «Повсюду было слышно только о Джорджоне, о котором, к сожалению, говорилось свысока или же затемнялось главное и всё внимание уделялось деталям. Если бы в один прекрасный день удалось поговорить о нём проще, без упоминания о музыке, лютнях, поэзии и не засоряя разговор ссылками на „тональность”, то это было бы прекрасно».34
ТУЧИ НАД ВЕНЕЦИЕЙ
Пока Джорджоне набирался сил, мужал и оттачивал свой стиль, вокруг бурно развивались события с трагическими последствиями. В историю они вошли под названием Итальянских войн. Апеннинский полуостров стал лакомым куском для завоевателей всех мастей, в том числе и для правителей некоторых итальянских государств, которые с завистью смотрели на земли соседей. Об этом свидетельствует циничное заявление правителя Миланского княжества Лодовико Моро в письме флорентийскому послу от 3 марта 1494 года. «Вы постоянно толкуете мне об Италии, — с издёвкой писал Моро, — а между тем я её никогда не видел».35
Завоевательные походы Франции и Испании привели к тому, что на целых 200 лет большая часть итальянского полуострова оказалась под властью иноземных захватчиков, творивших произвол на захваченных землях, которые пришли в полное запустение.
Когда-то Данте кратко охарактеризовал схожую ситуацию в своих ёмких терцинах в «Чистилище», Песнь VI, строфы 76-78:
Италия, раба, скорбей очаг, В великой буре судно без ветрила, Не госпожа народов, а кабак!Отголоски войны доходили и до венецианского общества, которое, правда, не очень-то к ним прислушивалось, беспечно наслаждаясь своим благополучием и веря в силу своих оборонительных заграждений.
В кругу друзей Джорджоне не раз приходилось слышать о грозящей опасности. Это вызывало у него беспокойство. А в городе только и было разговоров, что о германском императоре Максимилиане, которому пришёлся не по нутру запрет Венеции пересекать её владения, когда он с вооружённым до зубов отрядом собрался в Рим на коронацию к папе. Разгневанный император решил наказать заартачившуюся гордячку и вторгся на её земли, обходя стороной заградительные заставы. Его наглое вторжение поддержал папский Рим.
Между Римом и Венецией всегда были натянутые отношения. Известно, что на одном из дипломатических приёмов в ватиканском дворце в присутствии послов недружественных Венеции государств папский казначей как-то невзначай обмолвился, что для Рима были не столь страшны когда-то варвары, как ныне сильная, богатая и полная амбиций Венеция. Раздражение Рима особенно вызывала венецианская аристократия, заражённая идеями гуманизма, которые подрывали устои истинной веры.
Правительство республики объявило набор волонтёров в отряды защитников родины. Враг стоял у ворот соседней Падуи, жители которой мужественно защищались, но силы были неравны.
Макиавелли, ярый противник Венецианской республики, побывавший в местах боевых действий на подступах к Венеции, записал в своём отчёте: «Народ, городские низы и крестьяне необыкновенно преданы Венеции. Их нельзя убедить, даже под страхом смерти, отказаться от имени венецианца».36
Уже в те роковые годы, когда правители различных княжеств так и не смогли объединиться перед лицом исходящей из-за Альп смертельной опасности, флорентийцы, венецианцы, миланцы, неаполитанцы и жители других исторических областей стали с гордостью называть себя итальянцами. Это произошло задолго до появления Италии как единого национального государства, хотя вековые корни местничества сильны в ней и поныне, что особенно сказывается в живучести местных диалектов, откуда итальянский язык почерпнул немало полезного. А что говорить о разнообразии сыров, вин, колбас и другой гастрономической снеди в каждой области! Всё это в совокупности превратило страну в подлинную Мекку для любого человека, любящего искусство оперы, впервые зародившейся во Флоренции, живопись, скульптуру и архитектуру эпохи Возрождения, не говоря уже о климате и дивных красотах природы.
Под впечатлением разговоров и слухов, один страшнее другого, появился рисунок, на котором Джорджоне изобразил себя в образе Давида с длинными волосами до плеч по тогдашней моде — и рядом отрубленную голову Голиафа. У Вазари имеется упоминание об этом рисунке в коллекции Гримани, представителя одного из знатных венецианских родов, в который входил один из ближайших друзей Джорджоне.
В той же коллекции Вазари видел несколько превосходных портретов, а на одном из них, как он пишет, «большая голова, написанная с натуры; в руке — красный берет, на шее — меховой воротник, а под ним — туника античного покроя». Картина эта, как предположил Вазари, была написана Джорджоне для какого-то военачальника. Однако эксперты сумели разобраться и исправить ошибку, доказав, что портрет воина принадлежит кисти неизвестного мастера конца XV века.
Что же касается рисунка, который Вазари видел в доме венецианского патриция, о нём можно судить по гравюре немецкого графика Венцеля Холлара, выполненной в 1650 году.
В самой Венеции патриотические чувства возобладали, особенно среди молодёжи из знатных семейств, которой наскучила тягучая праздная жизнь. Многие были готовы встать на защиту республики, появились первые отряды добровольцев. Многим венецианцам были памятны вдохновенные строки из канцоны Петрарки:
Италия моя, твоих страданий Слова не пресекут; Отчаянье, увы, плохой целитель, Но я надеюсь, не молчанья ждут На Тибре и в Тоскане, И здесь на По, где днесь моя обитель. Прошу тебя, Спаситель, На землю взор участливый склони И над священной смилуйся страною, Охваченной резнёю Без всяких оснований для резни. В сердцах искорени Жестокое начало.(Пер. Е. Солоновича)
Патриотические чувства затронули и Джорджоне, который осознавал себя по духу гражданином Венецианской республики. Он пишет картину «Юнец со стрелой» — портрет одного из таких знатных отпрысков, с которым познакомился на встрече членов «Сообщества Друзей».
На тёмном фоне резко выделяется погрудное изображение пышущего здоровьем красивого парня в красной тунике. При первом рассмотрении небольшой картины невольно возникает вопрос: почему у юнца крепко сжаты губы, словно от боли, и на что направлен невидящий взгляд? А может быть, на портрете изображён Аполлон или Эрос?
Те же вопросы задавали и друзья художника, желая получить от него хоть какие-то пояснения. Вместо прямого ответа на их недоумение Джорджоне прочитал им по памяти строки из Горация:
Воинский долг призывает юнца К тяжким лишениям быть наготове; Грозен да будет он хитрым парфянам, Смело разя их копьём беспощадно. Жить под открытым небом без крова Пусть привыкает к походному быту…37Но задумчивый вид юноши со стрелой никак не походил на воина, готового ринуться в бой и сразиться с врагом. Положение прояснил друг художника хроникёр и коллекционер Маркантонио Микьель, от внимания которого ничего не ускользало. Он свидетельствует в своих заметках, что в 1531 году в доме венецианца Джованни Рама видел «голову гарсона со стрелой в руке», но об авторе картины не обмолвился ни словом, что представляется странным, поскольку Микьель отличался точностью до мелочей и часто грешил подробным изложением деталей.
Что бы там ни было, вопрос с «головой гарсона и стрелой в руке» остался открытым, как и со многими другими ранними работами Джорджоне, хотя доподлинно известно, что в те тревожные годы он плодотворно трудился и не покладал рук. Достаточно взглянуть на перечень написанных им картин в тот тревожный период.
* * *
Как-то в одной из лавок, торгующей всевозможными безделушками, которые пользовались спросом у заезжих гостей города, внимание Джорджоне привлекла изящная кипарисовая шкатулка, на крышке которой была выгравирована вязью надпись на незнакомом языке. Он заинтересовался ею.
Поняв, что клиент готов купить шкатулку, но не может разобрать надпись на крышке, хозяин лавки, протерев шкатулку бархоткой и поправив окуляры на крючковатом носу, с готовностью перевёл ему надпись с древнееврейского:
Народ свой Моисей учил Не знаться ни с каким богатством И сорок лет его водил В пустыне, чтоб покончить с рабством.Купленная вещица сподвигла художника на написание двух небольших парных картин на библейские темы, навеянных трагическими событиями в Италии, подвергшейся нашествию французских войск и ландскнехтов германского императора с севера и испанской солдатни с юга. Те и другие жестоко подавляли любое сопротивление местного населения.
Это «Испытание огнём Моисея» и «Мудрость Соломона». По авторскому замыслу одна картина должна была зеркально отражаться в другой. На них изображены два мира и две разные культуры — языческая и библейская, а сами сюжеты драматичных историй почерпнуты из Талмуда.
Согласно Писанию, младенец Моисей чудесным образом был найден плачущим в тростниках Нила дочерью фараона. Когда та принесла показать найдёныша отцу, младенец ухватился ручонкой за царскую корону. Увидев в том дурной для себя знак, фараон повелел прилюдно подвергнуть ребёнка испытанию огнём.
Перед младенцем, поддерживаемым кормилицей в тёмном плаще, был выбор: в одном глиняном горшочке была насыпана черешня (по другой версии — золотые монеты), а в другом — раскалённые добела угли. Несмышлёныш потянулся было к сладкому, но, как сказано в Писании, посланец Господа архангел Гавриил отвёл его ручонку, заставив взять уголёк и положить в рот. Обжёгшись, ребёнок закричал от боли — ожог оставил шрамы на языке и нёбе. По велению свыше Моисей был спасён от неминуемой смерти, но до конца дней своих остался косноязычен и заикой.
Истины ради следует отметить некоторую вялость и натянутость композиции картины, да и рисунок суховат. Среди застывших в молчании безучастных пёстро одетых фигур выделяется лишь стоящая у трона кормилица с живо написанным ребёнком на руках. Но отмеченные недостатки полностью восполняются ярко написанным ландшафтом на заднем фоне с густыми кронами деревьев за троном фараона, со строениями, крепостной башней и бурной речкой.
Не менее драматична вторая история — об установлении истинной матери двух младенцев: попискивающего живого в руке палача и мёртвого, лежащего на земле, от которого одна из спорящих матерей отказалась.
Когда же по приказу царя Соломона палач уже готов был рассечь мечом орущего младенца, одна из матерей злобно заявила: «Пусть он не достанется никому», а вторая, упав на колени перед судиёй, запричитала и стала слёзно умолять пощадить невинное дитя. Истинное материнство было установлено, и справедливость восторжествовала, но исчезла правда жизни.
Как и в первом случае, две трети пространства отданы пейзажу, полному умиротворённости под рассеянными лучами света. На зелёной лужайке пасутся овцы под присмотром пастухов, а на том берегу ручья беседуют два человека. Среди городских построек выделяется здание с фасадом, похожим на синагогу в Венеции. На всём печать тишины и покоя, которые, кажется, ничто не в силах нарушить.
В явном контрасте с умиротворённостью природы написан передний план картины с мелкими фигурами людей в ярких одеяниях. Но в отличие от безучастно стоящих персонажей на первой картине здесь стоящие полукругом мужчины и женщины крайне взволнованы происходящим, хотя всё это смахивает на искусно срежиссированную театральную мизансцену с застывшими в оцепенении персонажами.
Правосудие осуществляется по-разному. В первом случае это учинённая египетским фараоном расправа — иначе такую жестокость не назовёшь. Во втором — вершится праведный суд библейским мудрецом. При сравнении двух сюжетов выясняется со всей очевидностью, что правота и справедливость оказываются на стороне библейской культуры.
При написании «Испытания огнём» Джорджоне, вероятно, вспомнил не раз слышанную байку о том, как, принимая в дар от Джентиле Беллини его картину «Голова Иоанна Крестителя», турецкий паша Мехмед II заметил, что жилы на шее отрубленной головы нарисованы неверно. Когда же автор осмелился возразить, Мехмед выхватил саблю и отсёк голову стоящему рядом пажу. Приказав поднять с пола окровавленный обрубок, он принялся доказывать онемевшему от ужаса художнику, в чём заключалась его ошибка.
Не исключено, что для придания двум картинам определённого национального колорита художник искал типажи в венецианском гетто, подобно тому, как Микеланджело при росписи плафона в Сикстинской капелле часто наведывался в один римский район близ площади Кампо де Фьори, заселённый в основном ремесленниками и торговцами еврейского происхождения.
Известно также, что примерно 450 лет спустя проживавший в Риме А. А. Иванов при написании «Явления Христа народу» тоже наведывался в еврейское гетто для поиска нужных типажей.
ЕВРЕЙСКОЕ ГЕТТО
Так называется один квартал в северной части главного острова города, когда-то сплошь заселённый мастеровым людом. Здесь испокон веков находились литейные цеха оружейников и стеклодувов (от ит. getto — раскалённая струя стекла или металла). Этимология слова «гетто» имеет и другое толкование — от древнееврейского ghet — сепарация, или конгрегация, от сирийского слова Nghetto. Но венецианцы, первыми приютившие беженцев из Испании, считают наиболее достоверным данное ими определение слова «гетто», которое впоследствии утвердилось и в Европе.
После серии губительных пожаров, уничтоживших всю округу дотла, Сенат республики в начале XV века постановил перенести литейное производство на удалённый остров Мурано, где искусство изготовления изделий из стекла получило мировую известность. Земли же, высвободившиеся от литейщиков, были куплены богатой еврейской общиной, ранее обосновавшейся на далёком от городского центра острове Джудекка. Территория гетто постепенно расширялась, о чём говорят названия Старые и Новые входные ворота.
Джорджоне хорошо был знаком этот район, куда он не раз наведывался. Его внимание привлекала старинная церковь Сан Джоббе, которую чудо спасло от частых пожаров. В ней находится известный алтарный образ работы его учителя Беллини.
* * *
В ранних работах Джорджоне проглядывают семитские черты. Это породило даже разговоры о его «еврейской идентичности»,38 тем более что не имелось документальных данных в церковных книгах о нём, да и со сведениями о родителях не всё ясно, как и с датой его появления на свет.
Не исключено, что до Джорджоне доходили эти слухи. Хотя, перебирая в памяти воспоминания о детстве в Кастельфранко и деревушке Веделаго, он не мог вспомнить, чтобы отец или дед говорили бы на каком-то незнакомом ему языке, кроме местного диалекта. А мать помнил смутно, но память хранила как дорогую реликвию колыбельную песенку о птичках в саду и рыбках, уснувших в пруду.
Подоплёкой версии о семитских корнях Джорджоне служило то, что в Венеции была сильная и богатая еврейская диаспора, чьё влияние распространялось на различные общественные круги. Её позиции были особенно прочны в торговле; имелась целая сеть лавок колониальных товаров и специй, завозимых зафрахтованными ею судами. В её руках было большинство аптек — spezzierie, где лекарства изготовлялись провизорами евреями и где также можно было купить лаки и краски. Их услугами как знающих искусных эскулапов пользовалась вся местная аристократия, включая самого дожа, который доверял только врачам евреям.
Им не было равных в банковском деле и ростовщичестве, за что среди прочих причин евреи были выдворены из Испании и Португалии, включая и выкрестов марранов. Но в Венеции были иные, более щадящие для коммерции порядки, и на некоторые отклонения от нормы фискальные агенты смотрели сквозь пальцы, возможно, не безвозмездно, лишь бы исправно и в срок платились налоги.
Среди знакомых Джорджоне из еврейской общины были настоящие ценители искусства, поражавшие его своей завидной целеустремлённостью и деловой хваткой, столь несвойственной обычным венецианцам. Да и чисто внешне евреи, особенно мужчины с их ярко выраженными соматическими чертами, сохранившимися по прошествии веков, отличались от окружающих их людей.
Ему не однажды приходилось одалживаться у них, когда он оказывался на мели, а обращаться к друзьям из знатных семейств, у которых денег куры не клюют, душа не лежала. В гетто свои законы: вернул ссуду с процентами, и дело в шляпе. Совсем другая картина с патрициями. Например, тот же друг Вендрамин, вручив в долг деньги, делает это как великую услугу и не преминет к тому же нудно поучать:
— Жить, дружище, надобно по средствам.
От таких нравоучений пропадает всякое желание одалживаться: уж лучше перебиваться с хлеба на воду, чем уповать на помощь друзей. Нет, он не завидовал их богатству и ожидающей всех их сытой праздной старости. Джорджоне верил в свои силы и во имя искусства готов был на любые испытания.
Его постоянно удивляло, насколько органично представители древнего народа влились в венецианскую действительность. Так, один из островов лагуны, где объявились первые еврейские поселения, поныне носит название в их память — Джудекка. С ними произошла удивительная метаморфоза, и они сразу же стали ощущать себя неотъемлемой частью Венеции и, разделяя с ней радости и печали, гордо называли себя венецианцами.
Например, в 1483 году произошёл страшный пожар во Дворце дожей, нанёсший колоссальный ущерб. Полностью выгорели несколько дворцовых залов с великолепными живописными полотнами и богатейшим декором. Одними из первых зачинщиков по сбору средств на восстановление безвозвратно утраченных ценностей стали представители еврейской общины, чей вклад в общую сумму собранных пожертвований был особенно весом, что позволило в кратчайшие сроки справиться с последствиями пожара. Восстановленные выгоревшие залы Дворца дожей вновь засверкали былым блеском и красотой, что по достоинству было оценено не только правительством Венецианской республики, но и простыми гражданами. Одним из сборщиков пожертвований был хорошо знакомый Джорджоне поэт, философ и врач Леон Эбрео.
Особым интересом среди интеллектуалов пользовалась извечная дилемма: поэзия или философия? В ходе её обсуждения немало было сломано полемических копий. Высказывались самые различные суждения. На одной из таких встреч Джорджоне запомнилось поразившее его откровение, высказанное уверенным голосом Эбрео:
Обетованная земля, Как сон несбывшийся и вечный, К тебе душой стремлюсь и я, Хоть жизнь моя не безупречна.В отличие от поэта-философа Джорджоне не манили дальние земли. Его вполне устраивала Венеция, которой он не переставал восхищаться и которая была для него землёй обетованной.
Что же касается разговоров и предположений о семитских чертах Джорджоне, то они постепенно прекратились сами собой, хотя эта тема иногда кое-где и всплывала. Точно так же произошло и с его фресковыми росписями на фасадах некоторых венецианских дворцов, которые со временем исчезли под воздействием влажного морского климата и непогоды, хотя кое-какие их следы остались.
Сегодня мало кто помнит о той версии, так и оставшейся до конца невыясненной.
«ЮДИФЬ»
Пока большинство итальянских земель страдало от произвола и насилия под властью пришлых и своих поработителей, Джорджоне всерьёз задумался над опасностью, угрожавшей Венеции, на которую с нескрываемой завистью посматривали соседние государства, вовлечённые в военные действия за передел земель на полуострове.
Тревожная обстановка ещё более усугубилась после падения Флорентийской республики и жестокой расправы над преподобным Джироламо Савонаролой, который в последние мгновения жизни не утратил силы духа и поддерживал словом двух своих собратьев, осуждённых на смерть вместе с ним и сожжённых на площади Синьории.
Эта весть болью отозвалась в венецианском обществе, где Флоренция почиталась как оплот свободы и человеческого достоинства, как общепризнанный центр великой культуры и искусства. В те дни многие венецианцы вспомнили смелые высказывания Савонаролы, и особенно пронизанные болью слова из одного его раннего стихотворного опуса, за который Савонаролу чуть не выгнали из болонской Духовной академии. Крамольные строки, бичующие ханжество продажной римской курии, дошли до Венеции. Возможно, они были известны и Джорджоне, учитывая его прохладное отношение к официальной идеологии.
Приведём эти строки, которые папский Рим не мог простить Савонароле и за которые жестоко ему отомстил:
Не дай, Господь, погибнуть вере И защити нас от мздоимцев, Надевших рясы проходимцев — Закрой пред ними в храмы двери!39Теперь во Флоренции всеми делами заправляли ставленники ненавистного папы Борджиа. Они сеяли в народе смуту, способную привести к самым непредсказуемым последствиям и новым бедам.
Джорджоне вспомнил девиз древних: Virtus vinsit omnia — Добродетель всё победит. Как же ныне недостаёт героя, способного повести за собой людей и силой духа одолеть воцарившееся повсеместно зло!
Ему попалась в руки изданная Мануцием в переводе с римского диалекта небольшая книжица «Жизнь Колы ди Риенцо» — о народном трибуне в годы Авиньонского пленения пап в XIV веке, о котором Петрарка так отозвался в своей знаменитой канцоне:
На Капитолии, канцона, встретишь Ты рыцаря, что повсеместно чтим За преданность свою великой цели. Ты молвишь: «Некто, знающий доселе Тебя, синьор, лишь по делам твоим, Просил сказать, что Рим Тебя сквозь слёзы умоляет ныне Со всех семи холмов о благостыне».(Пер. Е. Солоновина)
Его заинтересовало также восстание флорентийских чесальщиков шерсти — Ciompi под водительством Микеле ди Ландо. Но обе истории закончились печально: первый герой пал от рук заговорщиков и не довёл дело до конца, а второй и вовсе предал товарищей по борьбе.
Не найдя в настоящем достойных примеров для подражания, он обратился к древней истории и после бесед с Леоном Эбрео задумался над судьбой еврейского народа, вечно гонимого, но не сломленного духом и сохранившего верность своим традиционным устоям и заветам праотцев.
Он погрузился в чтение Ветхого Завета, что потребовало от него немалых усилий. Его привлёк образ могучего Самсона, наделённого сверхъестественной силой. Филистимляне, замышлявшие поработить иудеев, боялись его. Но подосланной к нему красавице Далиле удалось украдкой отрезать ему волосы, и Самсон, утратив заключённую в них силу, был пленён врагами.
Женское начало взяло верх над хвалёной мужской природой. Джорджоне отказался от идеи воплотить образ кого-то из признанных ветхозаветных героев. Он посчитал, что для выражения мужской физической силы, крепкой, как сталь или гранит, скорее подходит скульптура, нежели живопись с её гармоничными цветовыми решениями и тональными переходами. И оказался прав.
Вскоре Микеланджело водрузил своего Давида на площади Синьории, а спустя чуть более четырёх десятилетий изваял мощную фигуру сидящего на троне Моисея, установленную в римской церкви Сан Пьетро ин Винколи как символ мудрости и несгибаемой воли предводителя своего народа.
Сила духа — вот что могло интересовать поэтическую натуру Джорджоне, подсказавшую ему остановиться на женском образе, поскольку именно женщина является прародительницей всех живущих на Земле и хранительницей семейного очага, независимо от её национальной принадлежности. А потому именно она больше подходит на роль подлинно народной героини, способной пожертвовать жизнью ради спасения своих детей.
Заметим, что в поисках героя Джорджоне показал себя истинным христианином в преклонении перед Богородицей, как это ярко выражено Беллини в алтарном образе Сан Джоббе. А вот при посещении соседней синагоги его неприятно поразило то, что мужчины и женщины молятся порознь — в отдалении друг от друга.
* * *
В книге «Песни Песней Соломона» из Ветхого Завета его покорила фигура страстной и целомудренной девушки Суламифи. Её красота и всепобеждающая любовь, величие и чистота чувств не могли никого оставить равнодушным. Однако его интересовала не только красота, но и способность героини решиться на смелые деяния во имя добра и победы над злом. Он усомнился в наличии таких качеств у красавицы Суламифи. Те же сомнения вызвала у него верная традициям Руфь.
Его героиней могла бы стать мужественная Дебора, пророчица, вдохновенная поэтесса и истая служительница Яхве, — эдакая израильская Жанна д’Арк, которая увлекла за собой народ на борьбу за свободу. Но её неистовство и мистика пророчеств отпугнули Джорджоне.
С неменьшим интересом он ознакомился с запутанной историей красавицы Эсфири, жены персидского царя Артаксеркса, от которого она скрыла своё иудейское происхождение. С помощью хитрости, интриг и обольщения она спасла свой народ от неминуемого уничтожения, чему посвящён один из самых светлых и радостных у евреев праздников — Пурим, «Праздник судьбы».
Незадолго до Рождества Джорджоне довелось побывать у знакомых в гетто на празднике Ханука, весело отмечаемом евреями как праздник света. Его очаровала черноокая Ревекка, гордая и неприступная, как скала. Он поддался бесшабашному веселью людей, чтивших свои древние традиции. Они водили хороводы, распевали песни на своём языке, угощали необычными яствами. Венецианцы, соблюдавшие строгий пост перед великим христианским праздником Рождества, с завистью поглядывали на соседей, веселившихся который день подряд. Его особенно поразили молодые евреи — все рослые, статные, как на подбор, с резко очерченными чертами лиц. Вот кому со временем придётся побороться за землю обетованную.
Джорджоне не отходил ни на шаг от прелестной Ревекки. Но всякий раз, когда он, будучи в подпитии, пытался её поцеловать, она выскальзывала, словно ящерица, из его объятий, одаряя взамен улыбкой с хитрецой.
На следующий день Ревекка предложила вспомнить детство и сыграть в жмурки. Надев ему на глаза чёрную повязку и раскружив, велела искать себя, то и дело хлопая в ладоши и окликая его из разных углов. Почуяв подвох, Джорджоне сдёрнул повязку и увидел, что сидит на стуле, а под ним его шляпа с высокой тульей всмятку. Раздался смех, и след плутовки простыл. Меньше всего ему хотелось стать посмешищем милой бестии.
По окончании празднеств все участники, как один, тут же приступили к привычным делам. И только впечатлительная натура Джорджоне никак не давала ему прийти в себя: всё валилось из рук. Тогда, взяв лютню, он принялся подбирать мелодию на слова:
О хитрая, Ревекка, Откликнись на зов сердца!Не выдержав, он направился в гетто на поиск пленившей его девушки. Но от прислуги узнал, что на следующий день после окончания Хануки отец увёз дочь в слезах на помолвку в Феррару.
Джорджоне никак не ожидал такого финала праздника. Нет, он не завидовал судьбе богоизбранного народа: тяжкие испытания, выпавшие на его долю, вряд ли бы выдержал любой другой народ, не говоря уже об изнеженных венецианцах.
И всё же библейская героиня Эсфирь с её хитростью и даром обольщать не вдохновила Джорджоне. Ему, видимо, не раз приходилось попадать в тенета женского коварства, как и в случае с Ревеккой, после чего его доверчивая душа испытывала горькое разочарование. Утешение он находил в так называемых «каменных» канцонах Данте:
О Бог любви, ты видишь, эта дама Твою отвергла силу в злое время, А каждая тебе покорна дама. Но власть свою моя познала дама, В своём лице увидев отблеск света Твоих глубин; жестокой стала дама. Людское сердце утеряла дама. В ней сердце хищника, дыханье хлада. Средь зимнего мне показалось хлада И в летний жар, что предо мною — дама. Не женщина она — прекрасный камень, Изваянный рукой умелой камень.(Пер. И. Голенищева-Кутузова)
После долгих раздумий он вновь перечитал нужные страницы из «Книги Иудифи» и остановил свой выбор на этой молодой иудейке, хотя, как пояснил ему знакомый раввин, подвиг Юдифи вызвал в моральном отношении некоторые сомнения, ибо древнееврейский текст книги утрачен и сохранились лишь его переводы на греческий и латынь. По этой причине палестинские правоверные евреи не считают «Книгу Иудифи» священной, в отличие от католической церкви.40 Но это его ещё пуще подзадорило.
Пояснения раввина нисколько не смутили Джорджоне, как и не увлекло его подробное описание того, как Юдифи удалось хитростью проникнуть в стан злейшего врага и совершить свой беспримерный подвиг.
По замыслу в избранной им героине должна быть воплощена его неизбывная мечта о женской красоте, иначе бы он не был венецианским художником.
При чтении Писания он почувствовал родственную душу, когда наткнулся на вдохновенную «Песнь Иудифи» в конце одноимённой книги, где раскрывались верность девы Вседержителю, любовь к своему народу и целомудрие:
Начните Богу моему на тимпанах, пойте Господу моему на кимвалах, стройно воспевайте Ему новую песнь, возносите и призывайте имя Его.Уйдя с головой в работу, он приказал не тревожить его ни под каким предлогом. Друзья, обеспокоенные его долгим отсутствием в обществе, поручили Марчелло и Контарини навестить художника и проведать — уж не захворал ли он? Тем удалось до него достучаться, и от них он узнал, что в Венеции неожиданно объявился Микеланджело, который от всех прятался на Джудекке, словно опасаясь погони или слежки за собой, а вскоре исчез так же внезапно, как и появился.
Джорджоне очень сожалел, что упустил редкую возможность встретиться с великим современником. А ведь ему так необходимо было услышать мнение Микеланджело о современном искусстве. Впрочем, друзья его успокоили, рассказав, что Микеланджело никого не хотел видеть.
* * *
Подвиг библейской героини вдохновлял многих мастеров Возрождения XV века, когда итальянские государства переживали бурные события и на смену республиканскому правлению к власти приходили тираны и отпетые негодяи.
Например, Донателло отобразил непреклонную решимость Юдифи расправиться с врагом в скульптуре, установленной перед дворцом Синьории как символ несгибаемой воли и силы духа граждан Флоренции, готовых встать на защиту родного города. Вазари пишет: «При всей простоте одежды и наружности Юдифи в ней чувствуются мужество духа женщины и сила, ниспосланная ей свыше». Правда, «женское» начало мало ощущается в скульптуре Донателло, а вот высоко поднятая правая рука с мечом скорее смахивает на руку знающего своё дело палача, но никак не девы.
Этот сюжет волновал и современников Джорджоне. У Мантеньи, например, на небольшом диптихе изображён раскрытый шатёр, в глубине которого видны кровать и торчащая нога обезглавленного Олоферна. На переднем плане Юдифь с мечом держит за волосы голову поверженного врага, под которую служанка в тюрбане ловко подставляет мешок.
На некрасивом лице героини, которая ещё не отошла от пережитого, выделяется полный ненависти взгляд. Он никак не может вызвать сочувствие и симпатию у зрителя.
Боттичелли решает эту тему в совершенно ином ключе и тоже в двухчастной небольшой работе. Главное для него — это отобразить на ограниченной плоскости картины стремительный бег спасающихся от погони двух женщин: Юдифи с мечом и развивающейся на ветру оливковой ветвью в руке и поспевающей за ней следом верной служанки, несущей на себе отрубленную голову Олоферна.
Движение бега используется художником для выявления лёгкой, почти танцующей линии контуров Юдифи и «одноногой» служанки, чья правая нога оказалась за плоскостью картины. Обе фигуры словно парят над землёй, что выявило явное нарушение пропорций — и у великих мастеров случаются ошибки, когда они пребывают во власти вдохновения. Так, у Юдифи руки и ноги выглядят слишком длинными, а талия расположена непомерно высоко.41
Стремительный шаг служанки дан более правдоподобно, но грубовато и без всякой поэзии. А вот поза Юдифи, словно подгоняемой ветром, — это само воплощение красоты и грации, чем устанавливается некое равновесие между фигурой бегущей служанки со зловещей ношей и кажущейся мёртвой неподвижностью окружающей природы, на фоне которой вершится исторически достоверное событие.
Несмотря на художественные достоинства в разработке известного сюжета великими предшественниками и современниками, у Джорджоне как истинного блюстителя Venus и почитателя красоты «Юдифь» покоряет прежде всего эмоциональной и психологической глубиной, заложенной в прекрасном и полном загадочности облике молодой иудейской героини.
…Два года назад произошла мировая сенсация в Тулузе, где в старинном особняке из-за протечки крыши жильцы дома, поднявшись на чердак, обнаружили среди кучи хлама картину в грязи и пыли неизвестного автора, на которой изображены Юдифь со служанкой и обезглавленным Олоферном. Прибывшие эксперты единогласно пришли к выводу, что картина принадлежит кисти Караваджо, являясь повторением его известной работы в римском дворце Барберини.
Примерная стоимость полотна 120 миллионов евро. Для Лувра сумма явно неподъёмная, и есть угроза, что полотно уйдёт с молотка на аукционе Сотби.
* * *
В отличие от Мантеньи и Боттичелли у Джорджоне даже в мыслях не было дробить композицию на две части. Крови и ужаса он насмотрелся вдоволь у других собратьев по искусству.
Правда, в Милане в частном собрании Разини имеется небольшая картина маслом на холсте, написанная ранее, на которой Юдифь держит в руках отрубленную голову врага. По мнению некоторых исследователей, автором скорее всего является Чима да Конельяно или кто-то из бывших выпускников мастерской Беллини.42 Возможно также, что это первая попытка Джорджоне, когда он раздумывал над тем, какой ему изобразить свою героиню.
Нет, его Юдифь предстаёт в полный рост, одна на фоне развёрнутого вглубь холмистого пейзажа. С первого же взгляда картина поражает тонкостью и красотой живописного решения, ясностью и простотой композиции, а также гармоничным цветовым сочетанием, что было неведомо мастерам Раннего Возрождения.
Джорджоне решительно отступает от традиционного образа волевой и мужественной библейской героини, что вполне закономерно у истинно венецианского мастера, для которого важнее всего отобразить не только силу духа, но и женскую красоту своей героини. Её лицо не искажено гневом, как у Донателло или Мантеньи, да и поза её непохожа на бегущую Юдифь Боттичелли.
Его Юдифь — это олицетворение женственности и красоты. Трудно понять, как ей удалось своими нежными руками с тонкими изящными пальцами умертвить грозного врага. Она предстаёт перед зрителем в полный рост после свершённого акта возмездия на вершине холма, а за ней внизу — столь любимый венецианскими художниками скромный сельский пейзаж и полнейшая тишина.
На картине раннее утро. Сквозь голубоватую дымку просматриваются холмистые дали и родной городок героини Ветилуя, ещё ничего не ведающий о свершившемся. От пробудившейся природы всюду разлиты умиротворённость и покой после одержанной победы над ночным злом.
За спиной Юдифи выделяется кряжистый ствол ливанского кедра, узнаваемого по листьям богатой кроны. Его корни столь же прочны и глубоки, как и древние корни народа иудейского.
Юдифь облачена в ниспадающую складками лёгкую тунику золотисто-розоватого цвета под стать утренней заре. Но на теневой стороне розовая туника переливается густо красными и фиолетовыми тонами на фоне тщательно прописанной зелени травы и кустарника.
Её прекрасное лицо с опущенными долу очами и гладко причёсанными волосами выражает самообладание, осознание исполненного долга, целомудренную отрешённость и поистине царское достоинство. Правой рукой Юдифь удерживает тяжёлый меч, а левой грациозно опирается на каменный парапет, окаймляющий холм, заросший кустарником.
Поражают выразительная статность её гибкой фигуры и изящество, с каким она обнажила из-под туники левую ногу, которую брезгливо отставила в сторону от отрубленной головы Олоферна, лишь слегка коснувшись его волос. В этом чисто по-женски смущённом движении обнажённой ноги выражены грация и чистота молодой девы.
Нетрудно предположить, что при написании гибкой фигуры героини Джорджоне понадобилась натурщица, которую он придирчиво выбрал среди простых девушек прямо в уличной толпе. Но наученный горьким опытом с обманщицей Ревеккой и во избежание недомолвок, а также гоня прочь шальные мысли и позывы, он поработал с послушной робкой девушкой один-два сеанса и расстался с ней, щедро заплатив.
Невольно вспоминается, с каким изяществом лёгкими мазками Рафаэль в «Мадонне с щеглёнком» или на другой картине, называемой «Прекрасная садовница», позволил себе вольность и, отойдя от привычных канонов, несколько приспустил плащ с левого плеча Мадонны, что придало образу ещё большее очарование.
Гениальная кисть Джорджоне очень тонко воспроизводит внутреннее состояние героини и прелесть столь любимого им сельского пейзажа. При взгляде на картину нетрудно уловить наличие прямой связи между Джорджоне — этим венецианским живописцем, столь влюблённым в тишину холмистых далей с лёгким шелестом листвы, когда у зрителя создаётся впечатление загадочной недосказанности, и французским импрессионизмом.43 Не случайно, что в дальнейшем искусствоведы будут сравнивать Джорджоне с Моне, а его последователя Тициана — с Ренуаром.
* * *
При поразительной тонкости ритмичного строя картины любая показная и бьющая на внешний эффект героизация образа была бы явно неуместной. Да и вряд ли у Джорджоне такое было в мыслях, когда он увлечённо работал над картиной. Почести и прославление героини, когда жители Ветилуи, узнав о свершившемся, вышли встречать свою славную защитницу с цветами и песнопениями, — всё это осталось за пределами полотна. А сейчас — это запечатлённый миг осознания с честью выполненного долга перед своим народом и историей. Как говорили древние, славе предшествует смирение. Так и у Джорджоне смирение пришло к героине до обрушившейся на неё славы, когда она была обычной девушкой, свято хранившей верность традициям своего народа.
Одно время выдвигалось предположение, что отрубленная голова Олоферна представляет собой не что иное, как автопортрет художника. Истории известны подобные случаи. Например, Микеланджело при написании фрески «Страшный суд» изобразил себя в виде содранной с кожей лица маски, а в одном из сонетов с горечью вопрошал:
Ужель, Господь, я буду осуждён, Хоть обращаюсь лишь к Тебе в молитвах, За позднее раскаянье в грехах?44Гигантская фреска на алтарной стене Сикстинской капеллы — это mea culpa великого творца. Лет сто спустя его примеру последовал Караваджо. Преследуемый папскими ищейками, понимая, что ему не избежать наказания за убийство в уличной драке, и осознав тяжкий свой грех, он в знак раскаяния и прошения милости папы написал себя в виде мёртвой головы Голиафа, отрубленной Давидом.
Однако неправомерность версии с головой Олоферна легко опровергается упомянутым ранее рисунком, на котором Джорджоне изобразил себя в образе Давида с головой поверженного Голиафа. В нём нет даже тени покорности и смирения, а тем паче самоуничижения, как у Микеланджело или Караваджо.
При написании «Юдифи» у Джорджоне были совсем иные настроения и чувства. В отличие от великого современника Микеланджело ему были чужды мысли о раскаянии и Судном дне. В нём ещё сильнее окрепла вера в своё высокое предназначение, и он был преисполнен самых радужных надежд.
Следует иметь в виду, что в период написания «Юдифи» ему было чуть более двадцати лет и жизнь его, казалось, была полна радости и безмятежности. Устав от работы, он позволял себе короткую передышку и, взяв в руки лютню, давал волю фантазии, распевая песни во славу Бахуса и Эрота. А уж если заглядывал кто-нибудь из друзей, то не обходилось без воздаяния должного Бахусу. Но молодость брала своё, и наутро, словно чувствуя вину перед Музой, он продолжал работу с удвоенной силой.
К тому времени некоторые из друзей успели жениться. Подшучивая над его холостяцкими привычками, они делали весьма заманчивые предложения составить партию одной из девиц на выданье, принадлежавших к привилегированному кругу. Но он продолжал жить холостяком, ценя свою свободу, а на советы друзей отвечал, взяв в руки лютню, шутливыми куплетами:
К чему мне семейные узы? Живу как вольный человек — С меня одной довольно Музы, И ей не изменю вовек.Джорджоне никак не мог поступиться свободой и хранил верность своему кумиру — искусству. Он был всецело охвачен амбициозной идеей создания идеального образа. Эту идею можно выразить словами из хорошо знакомого ему «Канцоньере» Данте:
Я новый облик создаю для света, Быстро текущее отвергну время.(Пер. И. Голенищева-Кутузова)
* * *
Перед исследователями нередко возникал вопрос: какова героиня Джорджоне в действительности и какие чрезвычайные обстоятельства вызвали к жизни в молодой, недавно овдовевшей женщине столь могучий всплеск духовной энергии? Но истории известен другой, не менее значимый случай, когда щуплый отрок Давид вдруг ощутил в себе такой прилив силы, что сумел поразить могучего Голиафа.
История меньше всего занимала художника, увлечённого раскрытием чисто художественными средствами подлинно женского начала своей героини, сознавая при этом, что только вера и любовь к своему народу сподвигли её на жертву.
В «Юдифи» Джорджоне предстаёт в полный рост как мастер, открывший новые горизонты для итальянской живописи. И в этом величайшее значение его творения, не говоря уже о победе, одержанной им над своим великим учителем и над самим собой. От его прежней робости перед великими авторитетами и следа не осталось, а сюжет, являющийся хрестоматийным, он решает чисто по-своему.
Забегая несколько вперёд стоит отметить, что Тициану тоже удалось отрешиться от магии Джорджоне и вступить с ним в открытый спор при работе над фреской «Справедливость», украшающей главный вход в здание Немецкого подворья. Словно в пику расхваливаемой всюду «Юдифи» старшего товарища, он изобразил на ней волевую и решительную Юдифь с мечом и отрубленной головой Олоферна. Джорджоне понял это как своего рода реакцию на обиду при посещении мастерской старины Карпаччо и в ответ на своей половине подворья нарисовал пышнотелую обнажённую красавицу. Однако годы и влажный климат Венеции не сохранили нам результата того негласного поединка.
У «Юдифи» сложилась нелёгкая судьба. Как Пигмалион, влюблённый в своё творение — Галатею, Джорджоне никак не мог расстаться с картиной, добиваясь большего совершенства, словно желая вдохнуть жизнь и заставить заговорить свою героиню. На все настойчивые просьбы друзей и богатых коллекционеров уступить картину он медлил с ответом, хотя слава о его творении разнеслась по городу и от желающих взглянуть хоть глазком на новую работу не было отбоя.
Невольно возникает параллель с леонардовской «Джокондой», с которой в течение шестнадцати лет автор не в силах был расстаться.
После скоропостижной кончины Джорджоне картина чудом не погибла, подобно некоторым другим его работам, в дни очередной эпидемии чумы в Венеции. Известно, что первоначально она оказалась в руках друзей художника, которые участвовали в спасении картин, вытаскивая их из костра. Но очевидно, что они не смогли решить, кому из них владеть картиной, а потому её дальнейшая судьба так и осталась невыясненной. О ней молчит и Микьель. Это ещё одна из неразгаданных тайн, связанных с именем Джорджоне. В течение долгих лет картину приписывали Рафаэлю, чья слава разнеслась по всему свету.
* * *
Иметь картину Рафаэля в своём собрании мечтали многие дворы Европы. Мечтала об этом и императрица Екатерина II, приказавшая переоборудовать Большой зал Царскосельского дворца, где она любила проводить досуг, в чисто «рафаэлевском духе». Зная о страсти к собиранию картин матушки императрицы, её эмиссары рыскали по Европе в поисках работ старых мастеров.
В начале XVIII века «Юдифь» каким-то неведомым образом оказалась в Париже, в частном собрании барона Крозе, где подверглась первой экзекуции, когда доска с изображением была укорочена на 13 сантиметров — якобы с целью дальнейшего перенесения живописного слоя с устаревшей деревянной основы на холст. Позднее, однако, выяснилось, для каких целей картина подверглась обрезанию.
В 1729 году появилось несколько гравюр с «Юдифи», выполненных графиком Т. Лярошером, а в каталоге собрания Крозе «Юдифь» всё ещё фигурировала как работа Рафаэля. Если бы Джорджоне ещё при жизни узнал, что его «Юдифь» принимается за картину самого «божественного» Рафаэля, он вряд ли был бы этим расстроен.
В 1772 году эмиссары русской императрицы приобрели «Юдифь» как подлинник Рафаэля, а также его «Святое семейство с Иосифом безбородым» и «Святого Георгия с драконом» (который впоследствии был продан за иностранную валюту).
Несколько ранее, а именно 21 апреля 1771 года в Италии было куплено небольшое рафаэлевское тондо «Мадонна Конестабиле», о чём сохранился архивный документ. Переговоры о покупке удачно завершились благодаря содействию тогдашнего российского посла во Флоренции князя Б. Н. Юсупова, эстета и ценителя искусства. При продаже было оговорено как обязательное условие, что у картины будет сохранено имя бывшего владельца. Необычная просьба была удовлетворена45: промотавшему родовое состояние итальянскому графу так хотелось увековечить своё имя рядом с именем великого художника! Нечто подобное произошло и в упомянутой истории с картиной Джорджоне «Поклонение пастухов».
В 1785 году коллекция Екатерины II пополнилась ещё одним шедевром — скульптурой Микеланджело «Скорчившийся мальчик», которая первоначально предназначалась автором для капеллы Медичи, а после его смерти оказалась неприкаянной.
Рафаэль никогда не был в Венеции, поэтому вызывает удивление наличие в «Мадонне Конестабиле» типичных для палитры венецианских мастеров цветовых сочетаний, особенно красного с голубым или зелёным. В своих исканиях новых колористических решений Рафаэль испытал воздействие венецианской живописи, и эксперты не исключают, что он был знаком каким-то образом с некоторыми работами Джорджоне через посредство обосновавшегося в Риме Дель Пьомбо, который открыто копировал манеру своего знаменитого венецианского друга.46
* * *
Авторство «Юдифи» было установлено значительно позднее. И здесь следует вспомнить добрым словом друга художника Маркантонио Микьеля, историка и коллекционера, который в своих записках о венецианской живописи и её творцах упомянул эту картину как принадлежащую кисти Джорджоне.
Его записи с подробным рассказом о современниках и знаменательных событиях Венеции были обнаружены случайно и собраны воедино монахом Якопо Морелли. Но находка была обнародована только в 1800 году, когда рукопись Микьеля была опубликована под названием «Annonimo Morelliano». Это издание как свидетельство очевидца явилось ценным подспорьем для многих исследователей творчества Джорджоне.
В 1960-1971 годах «Юдифь» подверглась сложнейшей реставрации, которую провели ленинградские специалисты. В ходе реставрации было установлено, что в своё время картина служила створкой обычного шкафа со щеколдой и на доске до перенесения изображения на холст оказалась дырка.47
Каких только испытаний не выпало на долю многострадальной «Юдифи»! И спасение из огня во время чумы, и обрезание доски с изображением, и долгие годы умолчания, словно такой картины не было вовсе; наконец, сколько чужих рук касались дивной картины! Как тут не вспомнить слова пушкинского Сальери, который гневно выступил против прикосновения неумелых рук к творению гения:
Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля…И Сальери был бесспорно прав. Немало неумелых рук прикасались к «Юдифи», что потребовало позднее проделать трудоёмкую работу по очистке полотна от произвольных наслоений и произвести профессиональную реставрацию, придав картине первозданный блеск и великолепие.
«Юдифь» можно считать первой венецианской картиной, принадлежащей целиком эпохе Высокого Возрождения. В ней выражен возвышенный эстетический идеал той эпохи, который был неведом мастерам кватроченто — XV века. Картина Джорджоне поражает красотой и выразительностью изобразительного языка, ясностью и простотой композиции, умением передать световоздушную среду, богатством и тонкостью ритмического строя и красочных сочетаний.
«КУРЬЁЗ» В ЭРМИТАЖЕ
Наконец, в приснопамятные 1930-е годы, когда СССР в период начавшейся индустриализации остро нуждался в иностранной валюте для закупки за рубежом промышленного оборудования, сверху была спущена разнарядка на изъятие из музеев для продажи за валюту художественных ценностей, являющихся национальным достоянием.
Эта чудовищная по современным понятиям операция была осуществлена негласно. Эрмитаж лишился некоторых картин, являвшихся гордостью его коллекции. Но узнать что-либо конкретное о той истории не представлялось возможным, так как на ней лежал гриф строгой секретности.
Всё совершалось под покровом ночи, при свете карманных фонариков. На следующее утро на пустующем месте вместо изъятой картины появлялась табличка: «На реставрации». Ныне проданные полотна украшают лучшие музеи Европы и Америки.
Из очевидцев той операции в живых почти никого не осталось. Но в годы хрущёвской «оттепели» тайное через цензурные препоны становилось явным. В те годы автору этих строк не раз приходилось по долгу службы сопровождать в город трёх революций некоторых руководителей Итальянской компартии, приезжавших на отдых и лечение в СССР. Тогда между КПСС и ИКП существовали дружеские, доверительные отношения. При посещении Государственного Эрмитажа высокопоставленных итальянских гостей обычно сопровождал по залам музея известный искусствовед М. А. Гуковский, истый ленинградец и один из старожилов Эрмитажа, переживших блокаду. От него мне довелось услышать о случившемся в музее «курьёзе», как осторожно выразился учёный.
Вся операция отбора картин на продажу за рубеж проходила под зорким оком и контролем агентов НКВД, которым, к счастью, имя Джорджоне было незнакомо. Его картина находилась в плачевном состоянии, нуждаясь в серьёзной реставрации. Она не произвела впечатление и была забракована. Необразованность партийных чинуш сыграла на руку — вновь свершилось «чудо», и «Юдифь» осталась в Эрмитаже!
Такой же «курьёз», по словам Гуковского, случился и с картиной Караваджо «Девушка с лютней». Члены отборочной комиссии в голубых погонах никак не могли определить пол персонажа на картине. Одни полагали, что изображён юноша, а другие настаивали, что это девушка. В те годы люди с нетрадиционной ориентацией жестоко преследовались по закону, поэтому члены комиссии вычеркнули картину из списка от греха подальше.
Чтобы поставить точку с эрмитажным «курьёзом», следует, однако, признать, что страсть Екатерины II к собиранию картин европейских мастеров сыграла свою роль в деле укрепления обороноспособности нашей страны, которая освободила народы Европы от коричневой нацистской чумы.
Славным бойцам Красной армии удалось спасти от неминуемого уничтожения бесценные полотна Дрезденской галереи, которые были упрятаны нацистами в подземные штольни и заминированы. После окончания реставрации советское правительство безвозмездно вернуло спасённые и получившие вторую жизнь картины в Дрезден.
В Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина была организована прощальная выставка спасённых шедевров, которую посетили десятки тысяч наших граждан, испытывавших двойственное чувство: восхищение увиденным и скрытое недоумение, с опаской высказываемое вслух. В реставрации спасённых картин принимал участие академик М. В. Алпатов, который, вспоминая ту историю, с горечью говорил о недоумении творческой интеллигенции по поводу передачи картин: за какие такие заслуги немцам возвращаются шедевры, спасённые ценою жизни советскими солдатами?
Как говорится, все мы задним умом крепки, и сегодня можно сказать, насколько Екатерина II оказалась умнее, дальновиднее и патриотичнее тогдашних советских руководителей!
ВСТРЕЧА С ЛЕОНАРДО
Приход нового столетия Джорджоне встретил преисполненным сил и смелых планов. Его авторитет и известность неизмеримо выросли после завершения работы над «Юдифью», которая была восторженно встречена всеми ценителями искусства.
Пока он купался в лучах славы, в апреле 1500 года в Венеции неожиданно объявился Леонардо да Винчи, который прибыл по специальному приглашению правительства республики для консультаций по военным вопросам. Разговор вёлся негласно за закрытыми дверями, так как речь шла о государственной безопасности.
О предмете секретных переговоров ныне свидетельствуют некоторые смелые инженерные наработки Леонардо, которые хранятся в музее Дворца дожей. Там же можно увидеть созданный им прообраз современного пулемёта. Пытливый ум великого творца поистине не знал предела, постоянно порождая всё новые идеи, о чём говорят его чертежи и рисунки в том же музее.
В лагунном городе он пробыл чуть более месяца, и там у него родилась дерзкая идея создания особого судна, способного плавать невидимым под водой для отражения участившихся нападений турецкого флота, главного противника Венеции на море. Но как и другие смелые проекты (например, построения воздухоплавательного аппарата), эта затея осталась неосуществлённой.
Появление великого мастера всполошило всю Венецию. На улице за ним увязывались толпы зевак. Люди выглядывали из окон и высыпали из домов, чтобы посмотреть на знаменитого Леонардо, шествующего в окружении неизменной свиты поклонников. Среди последних мог быть с друзьями и Джорджоне. Его поражали благородная внешность и стать великого мастера. Джорджоне старался хоть как-то обратить на себя его внимание и обмолвиться с ним словом.
Стоило Леонардо остановиться и завести с кем-нибудь разговор о привлёкшей его внимание детали архитектурного декора или самого здания, как толпа замирала, прислушиваясь с интересом к его словам. Как всегда, Леонардо всюду возил с собой тетради с записями, которые, будучи расшифрованы, составили впоследствии знаменитые Атлантический и Мадридские кодексы — неисчерпаемый кладезь сведений по всем отраслям знания.
Его рукописи говорят о колоссальной работе, проделанной пытливым умом, не знавшим покоя. Но Леонардо никогда не подавлял окружающих превосходством ума и охотно делился опытом и накопленными знаниями, будучи по натуре щедрым и великодушным. Однако ему были чужды праздность и безделье, о чём говорится в его заметках: «Как железо ржавеет, не находя себе применения, а стоячая вода гниёт, так и ум человека чахнет от лености и бездействия».48
Леонардо, как известно, никогда не расставался с рисунками и постоянно был в работе. И в тот раз он взял с собой в поездку недавно написанный портрет Изабеллы д’Эсте, властной мантуанской правительницы, которая покровительствовала искусству. Прежде чем вручить работу заказчице, Леонардо продолжал по привычке вносить дополнения, пока не убеждался, что дальнейшая правка может повредить картине.
Портрет вызвал большой интерес у венецианских ценителей живописи. Они могли видеть его во дворце Гритти, где временно остановился художник. Много разговоров было и о чуде, сотворённом недавно Леонардо, — фреске «Тайная вечеря» в миланском монастыре Санта Мария делле Грацие, куда началось паломничество поклонников прекрасного. Среди них наверняка был и вездесущий Микьель, который старался не пропустить ни одного важного события. По возвращении из Милана он поделился с Джорджоне своими впечатлениями, заявив, что живопись никогда ещё не добивалась таких высот.
* * *
Творчество Леонардо протекало порой вне Флоренции и Рима, где политика не ставила перед творцом сложных духовных вопросов. Поэтому он не ощущал противоречий между политикой и религией, относясь к ним с большой долей скептицизма. В нём давно укрепилось понимание того, что искусство и наука независимы от политики и религии, поэтому каждый художник или учёный должен прислушиваться только к самому себе.
В работе великий мастер отличался медлительностью, считая незаконченность картины, как и самой жизни, особым качеством. Завершать начатое произведение для него в некоторых случаях означало убить его. Вот почему многие его картины так и остались неоконченными.
В его посмертном «Трактате о живописи», имеющем основополагающее значение для эстетики искусства, содержится одна из ключевых фраз о том, что «у художника есть две цели: человек и проявление его души. Первая проста, а вторая трудна, потому что достигается с помощью движения». Эти мысли великого мастера импонировали взглядам Джорджоне, который после завершения работы над «Юдифью» долго не мог расстаться с ней.
Однажды Леонардо попросил сенатора Андреа Гритти, в доме которого гостевал, показать ему корабельные верфи. До Арсенала его охотно взялись сопроводить, сочтя честью для себя, два правительственных чиновника. Но не успели они выйти из дворца Гритти, как за ними тут же увязалась разноликая толпа. На одной из верфей Леонардо заинтересовался стоящим на стапелях почти готовым трёхпалубным кораблём и, вынув из кармана блокнот, с которым никогда не расставался, сделал несколько пометок. Но более всего его внимание привлекли чаны с кипящей смолой, над которыми поднимались клубы чёрного дыма, а вокруг ловко орудовали черпаками приставленные рабочие, не страшась получить ожоги. В каждом их движении чувствовались уверенность и знание дела.
Джорджоне не раз проходил мимо Арсенала, не обращая особого внимания на снующих там, как в муравейнике, людей с закопчёнными лицами. Не сводя глаз с Леонардо, он поразился, что тот продолжает делать наброски в этом чадящем аду и весело обменивается мнением об увиденном с двумя провожатыми.
Джорджоне так и подмывало обратить на себя внимание Леонардо. Набравшись смелости, он подошёл и представился. Один из чиновников пояснил:
— Это Джорджоне, наш молодой художник, подающий большие надежды.
— Благодарю вас, мессир, за добрые слова, — ответил Джорджоне. — Но вспомните, милостивые государи, что писал наш Данте об Арсенале.
И он по памяти прочёл отрывок из XXI песни «Ада»:
И как в венецианском Арсенале Кипит зимой тягучая смола, Чтоб мазать струги, те, что обветшали, И все справляют зимние дела: Тот ладит вёсла, этот забивает Щель в кузове, которая текла; Кто чинит нос, а кто корму клепает; Кто трудится, чтоб сделать новый струг; Кто снасти вьёт, кто паруса латает…Видимо, Леонардо был поражён броской внешностью молодого человека и его глубоким знанием Данте.
А тот, осмелев, прямо спросил:
— Но скажите мне, пожалуйста, как этих бедолаг угораздило оказаться в самом пекле? Почему за их тяжёлый труд, сопряжённый с опасностью для жизни, великий поэт с ними так жестоко обошёлся?
Леонардо всё больше проникался симпатией к напористому молодому коллеге. Его провожатые разом заговорили, перебивая друг друга. Прервав их рассуждения, Леонардо с улыбкой ответил:
— Вы совершенно правы, коллега. Безусловно, честные труженики скорее заслужили себе место в «Раю» или, в крайнем случае, в «Чистилище». Но дело в том, что Данте они понадобились только для того, чтобы показать процесс приготовления кипящей смолы, уготованной для адских мук грешникам. Да минует нас сия участь!
Словно о чём-то вспомнив, Леонардо вежливо откланялся и направился в обратный путь…
* * *
В те дни Леонардо исполнилось пятьдесят, но он по-прежнему был красив: статный, высокого роста, с вьющейся русой бородой, обрамляющей лицо с правильными чертами. О нём рассказывали легенды, и люди тянулись к нему, как к чародею, поражённые величием и красотой его духа. Каждое обронённое им слово воспринималось как откровение и передавалось из уст в уста.
От природы Леонардо был наделён недюжинной силой. Он без труда гнул подковы и железные прутья, мог усмирить любого норовистого скакуна. Ему не было равных в фехтовании. Он превосходно играл на лютне, сделанной по его рисунку искусным мастером в виде лошадиной головы, и в кругу друзей любил музицировать, подбирая мелодию к своим сонетам и мадригалам, которые, к сожалению, не сохранились.
Все замолкали, прислушиваясь к его чарующему голосу. Недаром его звали сладкоголосым Орфеем. К нему вполне применимы строки, принадлежащие перу его земляка и вечного соперника Микеланджело:
Он наделён чрезмерной красотой, Сражая взглядом наповал любого. Достоинств редких полон он с лихвой. Закроет очи — в мире мрак ночной, Раскроет их, и солнце светит снова. Когда смеётся он иль молвит слово, Ответствует округа тишиной.49Среди местной знати началось своеобразное состязание за честь принять в своём доме знатного гостя. Чуть ли не каждый день устраивались пиры в честь великого флорентийца.
На одном из таких собраний как-то зашёл разговор о влиянии Античности, которое до сих пор сильно сказывается как в живописи, так и в скульптуре и архитектуре. В подтверждение этой мысли один из учёных мужей сослался на Плиния Старшего, заявив, что античное искусство ещё долго будет щедро одаривать мир своими плодами.
Но Леонардо не согласился со столь категоричным мнением.
— Все нынешние ревнители Античности, — сказал он, — напоминают мне расстриг или средневековых схоластов, сменивших Библию на тексты древних мыслителей, дабы скрыть своё скудоумие за высокими авторитетами, о коих знают лишь понаслышке.
Видимо, для него это была больная тема, что вызвало непривычную для него излишнюю горячность.
Все собравшиеся притихли, задумавшись над сказанным. Вероятно, не ожидая, что его слова произведут столь сильное впечатление, Леонардо решил несколько разрядить обстановку и, чтобы успокоить хозяина дома и поднять настроение гостям, перешёл на шутливый тон, рассказав одну забавную историю, которую ему однажды довелось услышать в глухой тосканской деревушке, где он оказался проездом:
«Как-то местные крестьяне спросили художника, расписывавшего фресками их церквушку:
— А скажи-ка нам, мил человек, почему написанные тобой картины не чета твоим конопатым детишкам замухрышкам?
— Причина в том, — ответил тот, — что картины я пишу при дневном свете, а детишек кропаю в потёмках».
Венецианцы ещё долго смеялись, пересказывая эту историю. В середине прошлого века старейшее флорентийское издательство «Джунти», чьим юрисконсультом некогда был отец художника мессир Пьеро да Винчи, собрало воедино все сказки, легенды и притчи, записанные Леонардо, и опубликовало их. Издание разошлось по всему миру и дошло до России.50
Была ещё одна встреча с Леонардо на приёме во дворце Вендрамин, в ходе которого по просьбе сотрапезников великий мастер рассказал забавную историю, которую ему поведал один из друзей:
«Однажды поутру местный священник отправился благословлять своих прихожан и собирать пожертвования на строительство храма. По пути он забрёл в дом к одному живописцу. Поднявшись к нему в мастерскую, прелат принялся с таким усердием окроплять помещение святой водой, что замочил разложенные на столе и стульях рисунки для предстоящих фресковых росписей.
Видя, что его работа вконец испорчена, художник не на шутку рассердился.
Дабы замять допущенную оплошность, священник принялся его успокаивать:
— Не гневись, сын мой, таков обычай! И я поступаю так, как повелевает мне долг, ибо знаю, что тем самым творю доброе дело.
Уходя, он сказал на прощание:
— Всяк, поступающий праведно, должен с надеждой уповать на слова Господа нашего, что за каждое доброе деяние на Земле да вознаградит нас Небо сторицей! Сто за одно! Запомни эти слова и не серчай.
Подождав, пока велеречивый прелат выйдет из мастерской, художник подбежал к раскрытому окну. Увидев, что священник выходит на улицу, он вылил ему на голову целое ведро воды.
— Принимай, святой отец! — прокричал он сверху. — Вот тебе вознаграждение сторицей с Небес за испорченные рисунки. Сто за одно!»
Слушателям показалось, что в этой забавной истории озвучены нотки чего-то сугубо личного, имевшего место в жизни самого автора, который, как известно, относился к церкви без должного пиетета. И они не ошиблись в своих догадках.
Наградив мастера дружными аплодисментами, собравшиеся попросили его рассказать ещё что-нибудь. По всему было видно, что Леонардо оказался доволен произведённым эффектом. Он не стал себя долго упрашивать и рассказал такую притчу:
«Жил-был бедный ремесленник. Поработав в мастерской, он, бывало, наведывался к богатому синьору, жившему неподалёку.
Он стучал в дверь, осторожно входил и, оказавшись в богатых покоях перед знатным господином, снимал шляпу и отвешивал почтительный поклон.
— Чего тебе, братец, от меня надобно? — спросил как-то хозяин дома. — Вижу, как ты то и дело приходишь меня навестить, отвешиваешь поклон, а затем молча уходишь ни с чем. Коли ты нуждаешься в чём-нибудь, то сделай милость, проси, не стесняйся!
— Сердечно благодарю вашу светлость, — с почтением ответил ремесленник. — Я прихожу к вам, дабы отвести душу и посмотреть, как живёт богатый человек. Такую роскошь можем себе позволить только мы, простолюдины. К сожалению, вы, знатные синьоры, лишены такой благодати и вам негде отвести душу, ибо вокруг вас обитают одни бедняки, вроде меня».
Религия как объект сомнений и критики — один из противоречивых источников Возрождения. В итальянском обществе она не играла существенной роли. В подтверждение того, что светское начало проявлялось не только в трудах философов и литераторов, сошлёмся на купца XIV века Марко Датини из Прато, который говорил: «Человек — опасная штука, когда с ним имеешь дело, но в этом мире я больше уповаю на людей, чем на Бога, и мир мне хорошо платит за это».51
Такова была философия среднего итальянца эпохи Возрождения, не лишённого внешней религиозности, а порой и внутренней убеждённости.
* * *
Накануне отъезда Леонардо во дворце Гритти давался прощальный банкет в честь великого мастера, на который была приглашена вся венецианская знать. Поборов робость, отправился туда и Джорджоне.
В обширном вестибюле дворца на обозрение приглашённых были выставлены «Портрет Изабеллы д’Эсте» и несколько рисунков Леонардо. Едва переступив порог, Джорджоне остановился как вкопанный перед портретом, не в силах оторвать глаз от картины и рисунков. Друзья чуть не силком увели его в зал, где прощальный банкет был в самом разгаре и все с нетерпением ждали, что скажет Леонардо о своём пребывании в Венеции.
На том приёме произошла ещё одна встреча Джорджоне с Леонардо, которого поразили красота и преданность искусству молодого человека. Но поделился ли он своими мыслями о живописи с приглянувшимся ему коллегой — об этом история умалчивает.
Однако, судя по некоторым работам Джорджоне, можно предположить, что во время той встречи молодой художник многое почерпнул из беседы с великим мастером и по возвращении домой успел записать некоторые его мысли в рабочую тетрадь — которую время, увы, не сохранило.
О той встрече говорит также ранее упоминавшийся историк и искусствовед Марко Боскини. В его работе «Навигационная карта плавания по морю живописи» (1660) содержится несколько четверостиший, которые впервые приводятся в переводе с венецианского диалекта на русский язык:
Джорджоне новизны был первый вестник, Открыв в пейзаже глубину и дали. Чудес немало сотворил кудесник, О чём другие и не помышляли. Он Леонардо повстречал когда-то, Увлёкшись поэтичностью манеры, И принял новый стиль письма на веру С таинственно пленительным sfumato. Его не посещало дум смятенье, Не признавал он никаких законов, Писал в согласии с воображеньем И породил немало эпигонов. Стремясь добиться в красках совершенства, Он тайной бытия был одержим, Воздав её раскрытию главенство — Осталась тайна нераскрытой с ним.Эта тайна остаётся нераскрытой по сей день, что придаёт ещё больше притягательности и таинственности фигуре великого художника.
На следующий день Джорджоне узнал, что ранним утром к дворцу Гритти причалили две гондолы. Распрощавшись с хозяином дома, Леонардо отплыл в сопровождении Мануция и его сына Паоло, которым так и не удалось договориться с автором о правах на издание его сочинений.
Вторую гондолу загрузили двумя саквояжами с книгами, рисунками и рукописями, а «Портрет Изабеллы д’Эсте» был отправлен с нарочным прямиком в Мантую.
Добравшись до материка, Леонардо продолжил путь на перекладных туда, где у него не было ни кола ни двора. Зато его всюду принимали как желанного гостя. Даже косо посматривающий на него папский Рим вынужден был оказать ему царский приём, предоставив покои в Бельведере Ватиканского дворца, о чём и поныне говорит мемориальная доска.
В свои 50 лет великий мастер не нажил богатств, хотя жил не безбедно. К славе он был равнодушен. «Куда больше славы приносят человеку ум и доблесть, — пишет Леонардо в своих заметках, — нежели накопленные им сокровища… Сколько философов отвергло презренное злато, дабы им себя не запятнать!»
Эти мысли были по духу близки Джорджоне. Но больше ему не довелось свидеться с Леонардо, которого ждали новые удачи и новые поражения. Так, во время состязания с Микеланджело по заказу правительства Флорентийской республики, когда им обоим надлежало расписать фресками зал Большого совета дворца Синьории, Леонардо неожиданно потерпел фиаско из-за своей увлечённости экспериментами с красками и его почти законченная фреска «Битва при Ангьяри» оказалась непоправимо испорченной — подвела излишняя вера советам античных авторов.
После отъезда великого мастера Джорджоне долго пребывал во власти леонардовской магии и манеры его письма. Встреча с Леонардо имела для него основополагающее значение, что сказалось на его дальнейшем творчестве. В написанных им фигурах и пейзажах появилась мягкая дымчатая тональность, чего не наблюдалось в его первых самостоятельных работах после того, как он окончательно покинул мастерскую Беллини.
«ТРИ ФИЛОСОФА»
Под влиянием услышанного из уст великого мастера вместо привычной деревянной доски на мольберте Джорджоне появился тщательно загрунтованный холст средних размеров. На нём и был сделан первый набросок маслом трёх фигур. Это одна из самых загадочных и совершенных его картин по композиции, колориту и живописному решению. Она породила множество интерпретаций, но все они так или иначе сводятся к единому толкованию — как наиболее достоверному.
Первым о картине заговорил всё тот же Микьель, который в 1525 году видел её в коллекции друга художника Таддео Контарини. Как явствует из его записей, составивших упомянутый «Annonimo Morelliano», Микьель вкратце дал описание картины, назвав её «Три философа», и добавил, что пейзаж после смерти автора дописывал, очищая полотно от копоти и грязи, Дель Пьомбо.
Из пояснения Микьеля следует, что картина попала к её владельцу Контарини в самый последний момент, когда ему с друзьями удалось в дни всеобщего бедствия чудом вытащить «Трёх философов» из разгорающегося костра вместе с «Юдифью», «Спящей Венерой» и другими картинами Джорджоне.
Первоначальное название закрепилось, хотя впоследствии картина по-разному называлась в зависимости от взглядов и воображения первых её исследователей.
Исходя из описания Микьеля, было принято считать, что три изображённые фигуры персонифицируют три поколения аристотелизма, широко распространённого в мире, то есть новую гуманистическую философию, аввероизм арабского толка и аристотелевскую схоластику.
По другим версиям, на картине изображены три «реальных» философа — Региомонтан, Птолемей и Аристотель; назывались и другие имена мыслителей прошлого. С опорой на апокрифический комментарий Евангелия от Матфея выдвигалось также предположение, что на картине изображены три волхва на холме, ожидающие появления Вифлеемской звезды, а самый молодой из них, сидящий на камне, держит в руках что-то вроде циркуля или астролябии. Стоит обратить внимание на пейзаж картины с нагими деревьями в преддверии Рождества.
Имеется также версия, что фигуры представляют собой три монотеистические религии. Их расположение перед входом в пещеру (которая занимает более трети картины) упоминается в VII книге «Республики» Платона.52
* * *
Неизвестно, как сам автор назвал свою работу, но, по всей вероятности, при её написании он не переставал думать о Леонардо, который не обошёл его своим вниманием, что было лестно молодому художнику. Ему вспомнились также лекции Эразма Роттердамского, на которых он успел побывать вместе с друзьями, и слова Эразма о вере и безверии в жизни каждого человека. Особенно запомнилась максима о том, что жизнь есть действо, а без оного — это всего лишь её тень.
Следует учесть ещё одно обстоятельство, которое широко обсуждалось в общественных кругах. В 1478 году в Венеции был опубликован и выдержал несколько изданий труд Джованни Сакробоско «Sphaera Mundi» (задолго до теории Коперника!), а в конце столетия математики Джованни Монтереджо и Джован Баттиста Абьозо выпустили там же свои работы по астрономии. Согласно их расчётам и выкладкам, с октября 1503-го по июнь следующего, 1504 года в созвездии Рака должно наблюдаться сближение Сатурна с Юпитером и Марсом, что предвещало катастрофы и войны. Это предсказание частично сбылось, и на Апеннинском полуострове не затухал пожар войны.
* * *
Отвлечёмся от астрономии и рассмотрим композицию картины, на которой три фигуры на фоне мирного сельского пейзажа расположились на каменистом уступе, образуя некую триаду. Её вершиной служит высокорослый босой человек средних лет в чалме и ярко-красной тунике; правее стоит седобородый старец, закутанный в охристо-коричневый плащ, в руках которого развёрнутый свиток с еле различимыми буквами и цифрами. Замыкает триаду сидящий слева на камне кудрявый юноша в светлом хитоне и зелёном плаще, который дан в профиль. Он увлечённо вглядывается в окружающую природу, держа в руках что-то вроде циркуля и астролябии. В нём, по всей вероятности, запечатлён один из первых владельцев картины Таддео Контарини, за которым закрепилось прозвище «губошлёп». Впрочем, он особо не обижался на это, дорожа дружбой.
Как показал радиографический анализ, в образе старца первоначально был запечатлён легко узнаваемый Моисей, а цифры на свитке указывают на полное затмение Луны, произошедшее весной 1504 года, что даёт также примерную дату завершения картины.
Взоры трёх персонажей устремлены в разные стороны друг от друга. Человек в чалме делает попытку приблизиться к могучему старцу, но в полушаге от него замирает. Как и в других работах Джорджоне, здесь запечатлён лишь миг.
Оставим в стороне вопрос о том, кто изображён на этой полной загадок картине, и сосредоточимся на её живописном решении. При первом рассмотрении полотна поражает богатство его цветовой палитры с тончайшей градацией цветовых переходов, что так характерно для лучших произведений венецианской живописи.
Но этим не исчерпывается очарование картины. Снова поражает качество живописи, игра света и тени, мягкость в изображении лиц. Радиография подтвердила легенду о том, что Джорджоне никогда не прибегал к предварительному рисунку, а писал прямо в цвете и вносил правку — например, в одеяние фигур, или дополнял картину новыми деталями, которые писались по существующему живописному слою. Всё это делалось им по наитию, исключая чьи бы то ни было подсказки или советы.
* * *
Прежде чем оказаться в венском Музее истории искусств, картина переходила от одного владельца к другому. Так, в 1638 году английский посол в Венеции лорд Б. Филдинг приобрёл целую коллекцию картин у патриция Б. Делла Наве. В изданном каталоге художественных ценностей под номером 42 фигурирует картина Джорджоне «Астрономы и геодезисты».
Лет десять спустя коллекцию перекупил австрийский эрцгерцог Леопольд Вильгельм. На сей раз в списке новых приобретений за номером 142 картина названа «Ландшафт с тремя математиками».53
Посмертная слава Джорджоне была столь велика и бесспорна, что повсеместно возникал ажиотаж вокруг его имени. Не повезло даже Джованни Беллини, чей поздний шедевр «Священная аллегория», или «Озёрная Мадонна», задуманный в духе христианской религиозной медитации, долгое время приписывался Джорджоне. В 1793 году «Озёрная Мадонна» из частных собраний попала в Уффици, где уже находились картины Джорджоне «Испытание огнём Моисея», «Суд Соломона» и «Воин с оруженосцем» (так называемый портрет Гаттамелаты), а по соседству во дворце Питти висела его картина «Три возраста», или «Урок пения». Оказавшись в таком впечатляющем окружении, «Озёрная Мадонна» окончательно была определена экспертами как работа Джорджоне. Его «Юдифь» постигла та же судьба: долгое время она приписывалась Рафаэлю, и понадобились годы, чтобы установить истину…
Самое первое впечатление от многофигурной композиции «Озёрной Мадонны» — это её загадочная недосказанность, пронизанная поэзией. Написанные фигуры как бы растворяются в ауре поэтичности, исходящей от поблёскивающих поодаль «летейских вод», за мраморной балюстрадой переднего плана, а над всем этим — небо с золотистыми облаками.
На высоком троне под балдахином восседает Мадонна, написанная в профиль со сложенными руками и опущенной головой, словно читающая молитву. Среди святых выделяется статная фигура обнажённого Себастьяна, пронзённого стрелой. Посреди террасы стоит кадка с деревом с золотыми яблоками, символизирующим Христа. Здесь же резвятся младенцы. Опершись на мраморное ограждение, апостол Пётр глубоко задумался, глядя на резвящихся детишек.
Среди остальных фигур на картине — а это пастухи, крестьянки и домашний скот — вызывает недоумение человек в чалме, покидающий картину, и спускающийся из пещеры отшельник с кентавром.
Принято считать, что поначалу картина была без подписи и даты, хотя очевидно, что написана она в начале XVI века и называлась «Святое собеседование», а затем — «Аллегория милосердия и справедливости» и даже «Рай». Её сюжет, как установил немецкий искусствовед Г. Людвиг,54 был навеян поэмой французского поэта XIV века Гийома де Дегильвиля «Паломничество души», изданной в переводе на итальянский Мануцием. В поэме имеются такие строки:
Вблизи летейских тихих вод Царят покой и тишина. Нам всем её недостаёт, А жизнь лишь горечи полна.Стареющему Беллини удалось передать неизбывную склонность к созерцательности, способность охватить одним взглядом множество фигур и предметов, застывших на мгновение в безмолвии на открытой террасе с мраморной балюстрадой и полом, выложенным цветными плитками в чисто венецианском стиле.
В сдержанном колорите написаны скалистые горы, зияющие темнотой пещеры и крепостные сооружения. Поражает удивительная прозрачность далей. А всё это было так характерно для стиля и палитры Джорджоне, что и ввело в заблуждение многих искусствоведов, которые находились под воздействием магии его искусства.
Но дотошному Кавальказелле всё же удалось установить истину и вернуть авторство загадочной картины Беллини. Он же отметил, что бытовавшему повальному заблуждению удивляться не приходится, поскольку на какое-то время Джорджоне действительно стал alter ego своего великого учителя, и это сильно ощущается в его «Трёх философах». Честь и хвала старине Кавальказелле!
«МАДОННА ИЗ КАСТЕЛЬФРАНКО»
Слава Джорджоне дошла до родного городка Кастельфранко, откуда пришёл заказ на написание алтарного образа для местного собора. Заказчиком выступил Туцио Костанцо, киприот по рождению. Его отцом был Муцио Костанцо, бывший вице-король Кипра и один из известных кондотьеров — наёмников на службе Венецианской республики. По окончании службы он поселился в Азоло в 20 километрах от Кастельфранко при дворе Катерины Корнаро. Именно Туцио Костанцо ввёл Джорджоне в круг местной знати. От неё поступило немало заказов, но художник не хотел размениваться на мелочи, сосредоточившись на алтарном образе, что было для него в новинку.
«Мадонна из Кастельфранко» — это самая большая по размеру (200 х 152 см) и единственная работа Джорджоне, написанная им для церкви. Прежние его небольшие картины религиозного содержания были насквозь пронизаны светским духом.
Заказанный ему алтарный образ предназначался для семейной часовни Святого Георгия в местном соборе, чтобы увековечить память Маттео Костанцо, сына заказчика. Он умер молодым от тяжёлого ранения, полученного в сражении с вторгшимся отрядом немецких ландскнехтов в горах Казентино в 1504 году. Сама семейная капелла, где был погребён Маттео, находится справа от входа в храм. На полу — мраморное надгробие с высеченным на нём изображением лежащего рыцаря, голова которого в берете покоится на подушке. Из-под берета на плечи ниспадают вьющиеся локоны. По краям подушки изображены гербы, один из них — семейства Костанцо, другой почти неразличим.
На рыцаре латы поверх длинной кольчуги, локти защищены стальными подлокотниками, руки в железных перчатках, а колени в стальных наколенниках. На груди очертания полустёршейся эмблемы. Сбоку у пояса длинный меч. В ногах два шлема, один из коих воспроизведён Джорджоне на алтарной картине.
Надгробная эпитафия на латыни гласит: «Маттео Костанцо Кипрскому, наделённому замечательной красотой тела и редкостной доблестью души, похищенному преждевременной смертью за верность воинскому долгу — отец Туций, сын Муция, с благоговением установил сие надгробие возлюбленному сыну. MDIIII. Месяц август».
Во время затянувшихся работ по перестройке собора в XVIII веке надгробная плита была вынесена из часовни наружу и установлена на внешней стене здания, а картина Джорджоне всё это время находилась на хорах, где не раз подвергалась расчистке и грубым записям. Последнюю реставрацию проделал земляк художника М. Пеллиццари в 1933 году. Ему удалось придать картине первозданный вид, очистив полотно от позднейших наслоений. Говорили, что реставратор обнаружил на тыльной стороне холста еле различимое двустишие:
Чечилия, приди без промедленья, чтоб Джорджо не зачахнул от томленья…Со временем надпись стала совсем неразличима. Да и была ли таковая на самом деле? Это ещё одна загадка, оставленная Джорджоне на картине с простым и ясным замыслом: на вершине Мадонна с Младенцем Спасителем, а внизу, по бокам от трона, — один из самых почитаемых проповедников в Италии святой Франциск и воин, стоящий на защите святой веры от врагов внутренних и внешних.
Картину не видели ни Микьель, ни Вазари. Как ранее было сказано, первым о Джорджоне заговорил Б. Кастильоне, который, безусловно, видел алтарный образ, живя поблизости в Азоло при дворе Катерины Корнаро. Впечатление от «Мадонны из Кастельфранко» было настолько сильным и памятным, что по прошествии пятнадцати лет после написания картины он в своей книге «Придворный» поставил имя Джорджоне в один ряд с именами его великих современников Леонардо, Микеланджело и Рафаэля.
Позднее «Мадонну из Кастельфранко» подробно описал К. Ридольфи, побывавший в родном городке Джорджоне и приписавший ему знатное происхождение. Будучи сам художником, но звёзд с неба не хватавшим, Ридольфи увидел в алтарном образе неведомую доселе благородную простоту и посвятил ему восторженные строки. Но не удержался от свойственного ему фантазирования, заявив, что на алтарной картине Джорджоне запечатлел своего брата в образе святого Франциска. Ничем не подтверждённая догадка так и осталась на совести незадачливого искусствоведа, наделённого не в меру богатым воображением.
* * *
Когда Джорджоне появился в родном городке после долгого отсутствия, он не застал в живых ни родных, ни близких. Всё здесь ему было до боли знакомо. Провинциальный городок, не познавший ни иностранного нашествия, ни других катаклизмов, жил своей тихой размеренной жизнью, где не происходило никаких событий, способных нарушить его покой.
Первым делом он посетил собор и семейную часовню заказчика, боковые стены которой были украшены потемневшими изображениями четырёх евангелистов, вписанных в круг в обрамлении орнамента. В глубине темнела голая алтарная стена, которую ему предстояло расписать. Во время перестройки собора боковые росписи, кое-кем бездоказательно приписываемые Джорджоне, исчезли.
Его особенно поразило изображение на напольной плите воина, умершего молодым. Посещение часовни произвело тягостное впечатление. Вероятно, при том первом посещении мрачной часовни им было принято решение отказаться от фресковой росписи алтарной стены и заполнить её живописным полотном, которое украсило бы если не целиком, то хотя бы большую часть голой стены.
Уже при работе над «Тремя философами» он часто задумывался над тем, как разумно устроена природа с её плавным и естественным чередованием времён года. Этот удивительный круговорот продолжается вечно. А вот человеку отмерен предел, и будь он хоть семи пядей во лбу и от природы наделён силой, с возрастом для него многое меняется, и не к лучшему, а там недалёк и конец. Но разве такое справедливо? И всё же он верил, что ему уготована долгая жизнь и с помощью искусства он сможет её продлить на века.
Стояли солнечные дни золотой осени, столь любимой поэтами, когда умиротворённая природа порой предаётся грусти в преддверии неминуемого увядания. Дни становятся короче, и вскоре опускаются сумерки. В такие часы приходят невесёлые мысли. Джорджоне гнал их прочь от себя: ведь его ждёт ответственный заказ, и он должен не ударить в грязь лицом перед земляками.
Ему вспомнилось детство и как на Пасху, по примеру взрослых, он с мальчишками бегал христосоваться с девчонками, которые по общепринятому обычаю должны были отвечать двукратным поцелуем. Но те счастливые денёчки пролетели так же быстро, как и годы ранней юности.
* * *
Из приведённой выше эпитафии явствует, что погибший воин был сверстником Джорджоне. Но как по-разному сложились их судьбы! Пока один занимался искусством в Венеции, другой на поле брани защищал дорогую им обоим родную землю. У М. Боскини, который не видел картину, но хорошо знал предысторию её возникновения, в упомянутой «Навигационной карте плавания по морю живописи» имеются такие четверостишия:
Храбрый рыцарь пал в бою, Край родимый защищая. С честью пролил кровь свою, Страха пред врагом не зная. А художник молодой Дивным славился искусством, Ему жребий был иной — Добрые лелеять чувства.Остановился Джорджоне в особняке знатной дамы Марты Пеллиццари. Впоследствии за особняком закрепилось название «дом Пеллиццари», а в туристических справочниках он значится как «дом Джорджоне», хотя это не имеет под собой никакой документальной подоплёки. Здесь художник приступил к работе над заказом.
В отличие от предыдущих работ Джорджоне «Мадонна из Кастельфранко» лишена привычной загадочности и недосказанности. Понимая, что от него ждёт сановный заказчик, Джорджоне, не мудрствуя лукаво, избрал привычный для алтарных образов сюжет и выразил свой замысел, как никогда, предельно ясно и чётко.
Центр картины занимает мощный порфировый саркофаг. Над ним установлен несколько сдвинутый вглубь сдвоенный беломраморный постамент для трона с непомерно высокой спинкой, которая делит задний план картины на две равные части.
Украшенное гербом семьи Костанцо, само это сооружение под троном, на котором восседает Мадонна с Сыном, лишено ступеней, прямо указывая на то, что Царица Небесная снизошла сверху на грешную землю, дабы поддержать и утешить всех страждущих и обездоленных. Её прекрасный опечаленный лик говорит, насколько в ней сильны чувства сострадания к живущим в этом мире. Мадонна облачена в тёмно-зелёную тунику, поверх которой на правое плечо накинут алый плащ, переливающийся оттенками и свободно ниспадающий складками к подножию трона. Правой рукой Мадонна удерживает на колене полузапелёнутого спящего Младенца, а левой опирается на подлокотник трона. Её нежный лик с грустным взором, опущенным книзу, преисполнен одухотворённости, как и лицо красавицы Юдифи, а светлый плат на голове подчёркивает её простое происхождение из народа.
Композиционно картина представляет собой равнобедренный треугольник, на вершине которого Мадонна с Сыном, а по бокам двое святых. Справа святой Франциск в позе глубокого умиления. Что же касается стоящего слева святого в рыцарских доспехах со шлемом на голове, здесь нет единого мнения. Большинство считает, что в образе рыцаря запечатлён святой Либерале, чьё имя носит сам собор. Он почитается как небесный покровитель города. Однако с неменьшей уверенностью можно предположить, что рыцарь в доспехах и шлеме, из-под которого выбиваются пряди русых волос, — это святой Никазий, покровитель Мальтийского ордена, чьё знамя колышется на древке в руке рыцаря, изображённого слева на картине.
Надо сказать, что в лондонской Национальной галерее имеется приписываемое Джорджоне изображение рыцаря в доспехах, но без шлема, с ниспадающими до плеч волосами, как на мраморном надгробии Маттео Костанцо, и с древком в левой руке.
«Мадонна из Кастельфранко» — это поистине новаторское произведение, насыщенное светом и с открытым взглядом на окружающий мир. Ранее венецианские мастера такого не знавали, хотя Лонги и отметил некоторую робость при написании алтарного образа, что, возможно, было вызвано ответственностью, возложенной на художника. Но Джорджоне разрабатывает традиционный сюжет по-своему, отказавшись от привычного для алтарей позолоченного фона с архитектурным декором.
Фоном картины служит развернутый вглубь пейзаж с густой зеленью, крепостными стенами, башней и голубеющим вдали предгорьем, откуда спустились по просёлочной дороге два рыцаря, собратья по оружию покойного Маттео Костанцо. Весь живописный образ алтаря пронизан тишиной и умиротворённостью под лучами клонящегося к закату солнца. Видимо, при написании картины Джорджоне вспомнился увиденный им в мастерской Беллини образ «Мадонны с деревцами», в котором была сделана робкая попытка отойти от традиционной схемы. Когда заказчик увидел алтарный образ, то его охватило такое волнение, что он не мог вымолвить ни слова. Придя в себя, старый воин признался, что, едва взглянув на рыцаря с древком, он узнал в нём сына — таким, каким видел его живым в последний раз. Вскоре состоялось торжественное освящение картины, на которое собралось полгорода: приехали сановные представители азоланского двора. Джорджоне смотрел на это скопище людей и никого не узнавал, даже тогда, когда после службы люди подходили к нему с поздравлениями: сменилось целое поколение, и всё прошлое ушло в небытие. На прощание довольный заказчик передал ему пожелание самой Катерины Корнаро написать её портрет. Дня через два, при посещении соседнего Азоло, Джорджоне познакомился с двором бывшей кипрской королевы, давно утратившей былую красоту, но сохранившей властный тон и капризный характер. На данной ему аудиенции Катерина Корнаро сказала:
— Наслышана о ваших успехах. Друг Костанцо мне все уши прожужжал, расписывая вашу последнюю работу. Мне, право, самой не терпится на неё взглянуть.
Поблагодарив за высокую оценку его труда, Джорджоне вежливо откланялся и в нарушение придворного этикета покинул, не попрощавшись, карликовый королевский двор — пародию на былой блеск и величие, где Кастильоне и Бембо наперебой воспевали его великолепие. Нет, Джорджоне не в силах был наступить на горло собственной песне. Вазари утверждает, что портрет бывшей кипрской королевы Катерины Корнаро был всё же написан Джорджоне и ему довелось видеть его в доме мессира Джованни Корнаро. Но критика опровергает Вазари, считая, что тот видел портрет, называемый «Schiavona» (Словенка), приписываемый Тициану.
* * *
Хозяйка дома, в котором гостил и работал Джорджоне, попросила его подумать об украшении парадного зала своего особняка. Стены его оставались голыми. Художник не стал себя долго упрашивать, решив уважить просьбу гостеприимной хозяйки, дамы с тонким вкусом и передовыми взглядами. Памятуя о работе над «Тремя философами», когда его глубоко заинтересовали чисто научные вопросы (а живопись, как говаривал Леонардо, это та же наука), Джорджоне успел расписать фресками восточную стену зала (77 х 1588 см) в виде монохромного фриза с преобладанием жёлтой охры, вкраплениями белил и тёмно-бурыми тенями. Хорошо сохранившаяся работа получила в литературе название «Свободные искусства». Вот где разыгралась неуёмная фантазия художника при росписи фриза под девизом: Umbre transitus est tempus nostrum: Тени бегущие есть наше время.
Глаза разбегаются при виде многообразия приборов и инструментов астрономов, медиков, художников, поэтов, музыкантов с овальными портретами античных мыслителей, учёных и их изречениями на латыни. Противоположная стена зала расписана неизвестными мастерами, поскольку Джорджоне, которому, вероятно, приелась чрезмерная забота о нём заказчицы, неожиданно загорелся другой идеей и заторопился домой в Венецию.
Речь идёт о рисунке, получившем название «Вид на Кастельфранко», или «Фигура в ландшафте». Этот редкий и пока единственный дошедший до нас рисунок Джорджоне выполнен сангиной, применение которой было редкостью в Венеции начала XVI века. Но Джорджоне был знаком с этой техникой через рисунки Леонардо и графические листы Дюрера. Хотя рисунок дошёл до нас в плачевном состоянии и не без потерь, вдали различимы крепостные стены со сторожевыми башнями и двухарочный мост через реку. На переднем плане — сидящий на пригорке босоногий человек с посохом в руке и в длинном плаще с капюшоном. Несколько поодаль — почти стёршаяся женская фигура. При посещении родного города в памяти Джорджоне всплыли смутные воспоминания о самом раннем детстве, когда рядом была мать. Но лица её он не помнил. Как знать, возможно эта работа есть дань памяти родителям? Вероятно тогда же появился рисунок пером «Юнец с виолой», под которым с полным правом можно было бы поместить стихи Анакреонта, звучащие почти пророчески о самом Джорджоне:
За свои слова, за песни Всем я буду вечно близок: Я умею петь приятно, Говорить умею складно.(Пер. Г. Церетели)
Таким он и запомнился многим своим современникам.
«ГРОЗА»
Вне всякого сомнения, толчком к написанию «Грозы» послужило посещение родных мест, где прошли детские годы Джорджоне. Это самая таинственная картина итальянского Возрождения, о которой исписано море чернил в безуспешных попытках докопаться до сути и выяснить идеи, заложенные в загадочном творении.
Первое упоминание о картине содержится в записках Микьеля, который видел её в 1530 году в доме первого владельца полотна Габриэля Вендрамина и дал её краткое описание, узрев в обнажённой женщине цыганку, но эта версия не привилась. После смены владельцев картина окончательно оказалась в венецианской галерее Академия.
Вероятно, идея написания картины возникла в результате бесед и дискуссий в кругах венецианских гуманистов, со многими из которых Джорджоне был хорошо знаком. В те годы немало было споров о сюжете и его отсутствии в живописи, о том, что всякий художник должен быть свободен в выборе и прислушиваться только к своему внутреннему голосу. В связи с этим остро ставился вопрос об отношениях между художником и заказчиком. Иллюстрацией таких суждений и настроений как раз и является «Гроза».
При первом взгляде на картину всё на ней выглядит предельно просто. Перед нами скромный сельский пейзаж венецианской провинции. На переднем плане стройный молодой человек в коротком малиновом кафтане. Опершись о посох, он задумчиво смотрит вдаль. Через ручей на пригорке сидит обнажённая молодая женщина с отрешённым от окружающего мира взором, кормящая грудью ребёнка. (Радиографический анализ показал, что вначале Джорджоне написал вместо мужчины с посохом другую обнажённую женщину, сидящую на земле и окунающую ноги в ручей.) Перед зрителем предстаёт пейзаж с деревянным мостом через реку на заднем плане, с пышными купами деревьев. В глубине за рекой высвечены очертания провинциального городка, как и на упомянутом рисунке «Вид на Кастельфранко». Но на картине городские строения написаны на фоне зловещих свинцово-синих туч со вспышками молнии.
Природа, живущая по своим законам, полна одухотворённости и равнодушия к присутствию в ней человека и к оставленным следам его деяний в виде полуразрушенных колонн и руин замка. Это первый настоящий реалистический пейзаж (и не только в венецианской живописи), в котором полностью раскрывается понимание художником роли краски и цвета. В пейзаже исчезает прежняя цветовая разобщённость и появляется неведомое ранее итальянской живописи богатство тонов и оттенков, нежных красочных переходов. И всё сливается в одну цветовую гамму, придающую пейзажу насыщенность и определённую эмоциональную окраску, когда картина вся окутана дымкой пропитанного влагой воздуха.
Восхищаясь пиршеством красок на картинах венецианских мастеров, Габриэль Д’Аннунцио, склонный к гиперболе, говорил в одном из своих сочинений («Огонь», 1900) устами героя Стеллио, являющегося alter ego автора: «Дух Джорджоне парит над этим праздником, окутанным таинственным облаком пламени. Он представляется мне какой-то мифической личностью. Судьба его непохожа на судьбу ни одного поэта на земле. Вся жизнь его окутана тайной, и некоторые даже отрицают само его существование. Нет ни одного произведения, подписанного его именем, и многие отказываются приписать ему какой бы то ни было шедевр.
Однако всё венецианское искусство развилось лишь благодаря его гению, и у него Тициан заимствовал огонь своего творчества. Поистине, все произведения Джорджоне представляют из себя апофеоз огня. Он вполне заслуживает прозвание „носителя огня”, подобно Прометею».55
Д’Аннунцио несколько преувеличивал. В начале века основные работы мастера не вызывали сомнения в авторстве. Но к сказанному им следует добавить, что Джорджоне с честью продолжил дело великих предшественников, сочетая в своих работах лиризм Беллини с весёлостью и нарядностью Карпаччо. Ему удалось усовершенствовать технику масляной живописи, что придало самому процессу написания картин большую свободу и динамичность. Любая его картина пронизана поэзией и музыкой, стремлением передать звучание тончайших струн душевного настроя человека.
* * *
«Гроза», принёсшая Джорджоне всеобщую известность, породила множество разночтений — от мифологических до аллегорических и даже поэтически-музыкальных. Некоторые писавшие о нём исследователи, зная о склонности автора к музыке и поэзии, постоянно слышали в картине то отголоски арии Тамино из «Волшебной флейты» Моцарта, то отзвуки из «Тристана и Изольды» Вагнера.
Сравнительно недавно все разноречивые суждения были собраны в одну сводную таблицу56 с более чем десятком имён авторов. Здесь собраны существующие версии толкования картины с 1569 по 1976 год с указанием исторических и литературных источников. Последняя монография о «Грозе», автором которой является Лунги М. Даниэла, датирована 2014 годом.
По одной из самых ранних версий на картине изображена семья Джорджоне, где мать крестьянка с незаконнорождённым сыном отделена ручьём от знатного отца. Но знал ли сам Джорджоне о своём незаконном появлении на свет, неизвестно.
По другой версии на картине изображены Адам и Ева, кормящая грудью Каина, что вызвало гнев Небес. Выдвигалась версия о семье человеческой: присутствие полуразрушенных колонн говорит о бренности всех земных деяний.
Много было версий, почерпнутых из античной мифологии. Например, изображены Зевс, Даная и Персей; или Меркурий, Изида и Зевс; или даже сожжение Трои и т. д.
Всплывала даже версия об оплакивании погибшего в сражении Маттео Костанцо и умершей от горя его возлюбленной.
Не исключено, что автор поначалу внял просьбе заказчика, использовав миф о финикийском происхождении рода Вендрамин, изобразив порт Каррара в глубине картины. Но чем больше настаивал заказчик, тем старательнее игнорировал его доводы художник, предлагая своё видение картины.
Всё это напоминает нынешнюю детскую игру в puzzle (от англ. загадка, ребус), когда игрок с помощью разноцветных кусочков произвольной формы пытается воссоздать заданное изображение. Игра требует намётанного глаза и терпения. Вконец озадаченный предложенным ребусом заказчик махнул рукой, дав художнику закончить картину по своему усмотрению.
Кто-то вспомнил о сновидениях Полифила из романа Франческо Колонна и предложил «перевёрнутое» изображение «Грозы», задавшись вопросом: как бы поступил тот при виде обнажённой женщины?
Возможно, на картине дана языческая предыстория тех мест, где писалась картина: ещё до святого Марка там появился святой Теодор, чьё изображение с поверженным драконом венчает поныне одну из колонн рядом с Дворцом дожей.
Кое-кто увидел в «Грозе» светский вариант хрестоматийного сюжета «Бегство в Египет». А кто-то считал, что при написании «Грозы» Джорджоне отталкивался от 91-го сонета любимого им Петрарки, придающего картине экзистенциальное звучание:
Той, что была тобою так любима, Безвременно пришлось от нас уйти И, верю, рай небесный обрести, Ведь здесь она была непогрешима. И сердцу внять тебе необходимо, И вслед за ней по правому пути Последовать — и груз земной нести Покажется не так невыносимо. Расставшись с главным бременем, поймёшь: Избавиться легко от прочих нош, Сбираясь, точно пилигрим, в дорогу. От смерти все и вся на волоске, И лучше будет, если налегке Душа придёт к последнему порогу.(Пер. Е. Солоновича)
* * *
Среди других версий, как считает М. В. Алпатов,57 наиболее достоверно толкование Э. Винда, который утверждал, что «Гроза» — это отнюдь не мифологическая сцена, которую тщетно пытались разгадать многие исследователи. Картина в её нынешнем состоянии представляет собой аллегорию, где кормящая мать — это милосердие, а человек с посохом или алебардой — сила.58
Это небольшое полотно Джорджоне из венецианской галереи Академия вырастает до символа самой природы. Оно сродни трагическим рисункам Леонардо да Винчи на тему Всемирного потопа.
К наиболее близким к «Грозе» произведениям по духу, композиции и расположению фигур можно отнести также барельеф, выполненный в 1475 году Джованни Антонио Амадео для часовни Коллеони в Бергамо. В обоих случаях справа изображена сидящая нагая женщина с новорождённым на руках, а слева — статная фигура молодого человека с посохом или копьём, который к чему-то прислушивается. В отличие от картины обе фигуры на барельефе устремили взоры к центру, где возвышается словно снизошедшая с небес фигура старца, одетого в тяжёлое одеяние со складками, который в гневе за первородный грех посылает на землю молнии. И такая версия толкования картины Джорджоне также имеет право на существование, равно как и все остальные толкования, полные загадок и недосказанности.
Джорджоне смело использует религиозные сюжеты, воплощённые в церквях на фресковых росписях и барельефах, но переосмысляет их и трактует по-своему. Его «Три философа» менее всего напоминают волхвов из Евангелия или средневековых сказаний. Очень похоже, что они вот-вот заговорят языком Марсилио Фичино или Пико делла Мирандолы, рассуждая об астрологии.
Точно так же и Адам в «Грозе» не похож на себя, надев на голое тело современную одежду. Или можно сказать наоборот: каждый из нас есть Адам, разве что не нагишом.
Любое осовременивание традиционной темы является всего-навсего одним из способов сокрытия идеи сюжета. В то же время дальнейшее углубление толкования сюжета не на пользу самой картине, пониманию её живописного решения и стиля. Следует вспомнить совет древних — «не навредить» и остановиться, дабы за прозой наших досужих рассуждений не заглушить столь свойственную многим работам Джорджоне поэзию, не нарушить порождённое увиденным на картине очарование сокрытой недосказанности и таинственности.
В заключение приведём любопытную деталь. В 1878 году муниципалитет городка Кастельфранко обратился к скульптору Аугусто Бенвенути с просьбой изваять великого земляка, взяв в качестве модели фигуру солдата в малиновой тужурке с алебардой из «Грозы». Именно таким, решительным и смелым, отцы города хотели видеть Джорджоне.
Приведём также мнение Кавальказелле о том, что пейзаж в «Грозе» служит лишь предлогом для написания фигур, имеющих основополагающее значение для общего понимания картины.
Небольшая по размеру «Гроза» — это одна из вершин искусства Возрождения, и её тайна пока не разгадана.
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Среди государств Апеннинского полуострова, вовлечённых в Итальянские войны, Венецианская республика сумела упрочить свою независимость. Это способствовало сплочению общества и росту в нём патриотических настроений.
За накопленные богатства, красоту и непомерные амбиции гордую владычицу Адриатики ненавидели остальные государства, объединившиеся против неё в Камбрейскую лигу под эгидой папского Рима.
Как гражданин Венецианской республики Джорджоне не мог остаться в стороне от грозящей опасности, хотя и отдавал себе отчёт в том, что его оружием является искусство, а отнюдь не меч или копьё. Так появился портрет друга Марчелло в образе крепкого, мужественного воина, готового встать на защиту Венецианской республики. Погрудный профильный портрет обращён к зрителю спиной, что создаёт впечатление движения, порыва. По всей вероятности, это — отражение темперамента того, кто изображён на портрете.
Первым упомянул о портрете Микьель, видевший его в доме Марчелло в 1525 году. А три года спустя тот же Микьель обнаружил портрет уже у Джован Антонио Веньера. Видимо, первому владельцу портрет пришёлся не по вкусу или же он позарез нуждался в деньгах и уступил картину в качестве карточного долга.
Картина плохо сохранилась. На ней имеются плешины, так как красочный слой вытерся до грунтовки. И всё же портрет поражает тем, как фигура вырастает из темноты с отблесками света на стальных латах воина. Особенно запоминается волевой поворот головы. Эксперты видят в этом влияние рисунка «Пять гротескных голов» Леонардо да Винчи из Виндзорского королевского музея.
После выхода в свет многотомного труда Плиния Старшего «Естественная история», в котором даётся описание некоторых картин древнегреческого живописца Апеллеса, насыщенных игрой света и тени, среди венецианских художников возникло тяготение к классическому искусству.
По Плинию, предметы и растения на картинах Апеллеса выглядели как «всамделишные»: птицы слетались, чтобы поклевать нарисованный на них виноград или ягоды. А герои на его картинах были написаны столь живо и правдоподобно, что казалось: вот-вот — и они ринутся в бой.
Этими настроениями проникнута и картина Джорджоне «Воин с оруженосцем», или так называемый портрет Гаттамелаты («Пёстрая кошка» — таково было прозвание известного кондотьера, чья конная статуя работы Донателло находится в Падуе). Молодой воин на картине Джорджоне никак не походит на закалённого в боях героя Донателло, поэтому закрепившееся в литературе название безосновательно. Упоминаются также имена других известных военачальников — Якопо Пезаро и Бартоломео д’Авьяно, бывших в разное время на службе Венецианской республики. Что бы там ни было, «Воин с оруженосцем» — это плод фантазии автора.
Вероятно, картина появилась после 1506 года, когда Джорджоне окончательно перешёл к работе на холсте, вместо привычной для него деревянной основы. Поражает тщательность написания поблёскивающих стальных доспехов, шлема и рукоятки тяжёлого меча, напоминающая манеру фламандцев. Оруженосец в светлом берете и малиновой поддёвке поверх лат написан, видимо, в последний момент, дабы уравновесить правую половину картины с поставленным стоймя мечом с рукояткой; меч этот правой рукой придерживает воин.
В отличие от описания Плинием одной картины Апеллеса, на которой рыцарь полон решимости и готов вскочить на коня, герой Джорджоне с отсутствующим взглядом погружён в глубокую задумчивость — равно как и автор при написании картины.
У Микьеля нет о ней упоминания. Известно, что с 1821 года картина входит в коллекцию галереи Уффици. Её можно считать данью уважения искусству фламандцев, которым Джорджоне увлекался в конце века. Этой картине несколько уступает по мастерству другая, схожего содержания, — «Рыцарь с пажом» из венецианской частной коллекции Спанио, вызвавшая разноречивые суждения относительно авторства. В отличие от предыдущей работы рыцарь с юным пажом написаны на фоне неба с ярко освещёнными облаками. На парапете без привычной латинской аббревиатуры лежит поблёскивающий на солнце стальной шлем.
К этой же группе спорных работ принадлежит «Портрет Франческо Мария Делла Ровере», оказавшегося с родителями в Венеции в 1502 году, чтобы переждать военное лихолетье. Ему тогда было лет двенадцать, и он мечтал о воинской славе, а потому держал в руках боевой шлем с выгравированными на нём дубовыми листьями как эмблемой своего рода (ит. rovere — дуб).
Старинный итальянский род Делла Ровере дал миру двух пап — Сикста IV и Юлия II, на которого работали Микеланджело и Рафаэль. Незадолго до смерти славного воина, властителя Урбино Франческо Мария Делла Ровере, состоявшего на службе Венецианской республики, в 1537 году Тициан напишет его портрет.
Оспариваемый портрет юного Франческо Мария Делла Ровере долгое время приписывался кисти Рафаэля, который часто наведывался в родной город. Среди авторов портрета назывались также имена Пальмы Веккьо, Винченцо Катены, Дель Пьомбо, которые так или иначе следовали манере Джорджоне. Её нетрудно заметить в изображении рук и лица юнца, в игре света и тени, а также в ярких цветовых сочетаниях.
Тогда же был написан «Мальтийский рыцарь» из Уффици — с гордо устремлённым на зрителя взглядом перебирающий правой рукой чётки. Стоит упомянуть и «Портрет Джованни Ониго» — известного венецианского интеллектуала, изображённого с раскрытой книгой из серии aldini в руке. С той же глубиной психологизма, но в несколько иной по живописи манере написан «Портрет мужчины», получивший в литературе название Террис по имени бывшего владельца. Из тёмной глубины выплывает голова человека средних лет с волевым выражением лица и устремлённым на зрителя понимающим и знающим себе цену взглядом. Портрет явно написан в чисто леонардовской манере sfumato.
* * *
В те годы Джорджоне увлёкся жанром портрета, написав немало картин с натуры и окончательно отойдя от религиозной тематики. Он замазал даже одну из начатых картин с ликами святых, написав поверх «Автопортрет», о котором речь пойдёт ниже.
Среди ценителей искусства в гетто выделялся богач Гольдман, чей портрет с городским пейзажем за окном приписывается Джорджоне. Позднее потомки Гольдмана увезли портрет в Америку.
Авторство картины давно вызывает сомнения у экспертов. Они настояли на проведении радиографического исследования полотна. Анализ выявил чисто джорджониевский «почерк» при выборе рабочего варианта. В одном случае у изображённого на портрете в правой руке кинжал, в другом — свёрнутый свиток.59 Поражает внутренняя наполненность образа.
Долгие годы портрет приписывали то Дель Пьомбо, то Тициану. Что касается первого, то ко времени написания портрета он покинул Венецию и стал другом Микеланджело, взявшего его под своё покровительство. На авторстве Тициана упорно настаивали лишь владельцы картины, отправившие портрет на парижскую выставку «Век Тициана» в 1993 году. Выставка эта вызвала громкий резонанс в мире искусствоведения. Принадлежность выставленного в Париже «Портрета Гольдмана» Тициану была решительно опровергнута экспертами.60
Портрет великолепен по живописи с типичным для Джорджоне городским пейзажем через вырез окна. Гольдман, наделённый волевыми чертами лица, горделиво смотрит на зрителя хозяйским, оценивающим глазом, опершись рукой с зажатой в кулаке печаткой на книгу. Он знает цену себе, своим деяниям и накопленному богатству, о чём красноречиво говорит его взгляд.
Внизу на парапете начертана встречающаяся и на других картинах Джорджоне латинская аббревиатура VVO — Virtus Vinsit Omnia — «Добродетель всё победит». Вероятно, она напоминает о щедром пожертвовании на восстановление Дворца дожей после пожара.
* * *
Джорджоне внимательно присматривался к окружавшим его людям, пытаясь изображать друзей, близких знакомых или заинтересовавшие его типажи, чтобы выразить ту или иную мысль. Но писал он только по наитию, для собственного удовольствия, а не по заказу.
Возможно, одним из первых в этой серии был написанный ещё на доске портрет падуанца Джованни Джустиньяни, близкого друга художника. На тёмном фоне дано изображение молодого человека с длинными волосами до плеч по тогдашней моде. На нём туника фиолетового оттенка, правая рука опирается о парапет с привычной латинской аббревиатурой VV — «Добродетель побеждает», а в глазах красивого юноши читается вопрос: «А так ли это?» Вся фигура окутана влажным дымчатым светом.
Позднее Тициан, следовавший по пятам за Джорджоне, повторит ту же композицию в двух портретах — мужском и женском. Первый носит название Ариосто, второй — Schavona — словенка. Как показал радиографический анализ, на картинах отчётливо видна рука Джорджоне.
Среди друзей художника был совсем юный отпрыск одного из знатных флорентийских родов Джованни Боргерини, который оказался в Венеции под присмотром приставленного к нему дядьки-наставника.
На портрете они оба. Ученик с отсутствующим взглядом, зажав в левой руке кисть, стебель тростника, циркуль и даже флейту, то есть атрибуты свободных искусств, рассеянно слушает объяснения учителя. А тот настойчиво указывает ему на армированную сферу с лентой, на которой начертано на латыни: NON VALET INGENIUM NISI FACTA VALE BUNT — «Ум мало значит, если не подкреплён содеянным». Вазари, видевший картину в 1568 году во Флоренции в доме Боргерини, пишет: «Нигде не увидишь две головы, где мазки лучше бы передавали цвет тела и где бы тени обладали столь прекрасным тоном».
О судьбе картины долго не было ничего известно, и в комментариях к русскому изданию «Жизнеописаний» Вазари так и сказано, что картина утеряна. Но в начале прошлого века она оказалась в коллекции Национальной галереи Вашингтона. Вскоре появился ещё один «Двойной портрет», на котором изображён болонец Альдо Людовизи со своим земляком. Он входил в упомянутое «Сообщество Друзей», где чаще всего обсуждалась дилемма Virtus — Voluptas, поскольку членами сообщества были молодые люди чуть за двадцать. Все они отличались обострённой чувственностью, и их прежде всего занимали вопросы любви.
Подперев голову рукой, что было необычно для венецианского портрета, Людовизи с отсутствующим взглядом сидит в глубокой задумчивости. О чём его мысли? Зажатое в левой руке яблоко говорит о раздоре, произошедшем с любимой. Стоящий у него за спиной товарищ пытается его успокоить, напомнив совет многоопытного Бембо:
Не всё потеряно, когда ушла любовь. Давно проверено, что чувство вспыхнет вновь.Был ещё и «Тройной портрет». На тыльной стороне холста сохранилась надпись, появившаяся в конце XVI века: «Фра Бастьяно дель Пьомбо, Дзордзон и Тициан». К этому времени никого из трёх упомянутых художников уже не было в живых.
История портрета неизвестна. Не исключено, что один из состоятельных гурманов чистого искусства пожелал иметь в своей коллекции нечто, объединяющее великих мастеров, — как выражение стиля, присущего венецианской живописи, и поручил написание картины одному из приверженцев «джорджонизма».
Слева стоит типично тициановская пышнотелая блондинка в светлом одеянии переливающихся телесных оттенков. Справа — другая молодая женщина в тёмном, изображённая в строго мягких тонах, типичных для Дель Пьомбо. В центре — фигура мужчины, написанная в дымчатых тонах, свойственных манере Джорджоне, а сам образ напоминает рассмотренный ранее портрет Террис.
Ценность картины в том, что на одной плоскости представлены великий мастер и два его верных последователя. По одной из версий работу выполнил Пальма il Giovane,61 чей прадед был дружен с Джорджоне.
Приведём ещё один случай, когда атрибуция того или иного произведения вводит в заблуждение. Так, великолепный по живописи «Портрет дожа Лоредана» кисти Беллини долго считался работой Джорджоне, настолько была велика слава ученика, превзошедшего своего учителя. Но и с самим Джорджоне, как мы уже знаем, не всё складывалось удачно, и некоторые его работы в течение долгого времени приписывались другим авторам.
* * *
Среди мужских портретов Джорджоне выделяется изображение молодого человека. Впервые о картине заговорили в 1846 году, когда она оказалась в коллекции венецианского патриарха Джованни Ладислао Пиркера. На тыльной стороне холста было начертано имя Antonius Brocardus.
О молодом Брокардо известно, что в 1530 году он вступил в острую полемику с кардиналом Пьетро Бембо, отстаивая гуманистические принципы от посягательств официальной идеологии. (Отметим в скобках, что Бембо, видимо, неспроста удостоился кардинальского чина.)
Портрет явно перекликается с ранее написанным портретом Джустиньяни. У Брокардо та же внутренняя убеждённость в высокое предназначение человека. Своё кредо он выражает, прижимая руку к сердцу.
Как всегда, у Джорджоне на парапете аббревиатура V, то есть победа над мракобесием, а трёхликое изображение в овале — три лица, по-итальянски tre visi, — не что иное, как название города Тревизо, откуда герой был родом.
Завершает серию мужских портретов «Пастушок со свирелью», написанный во время одной из вылазок Джорджоне с друзьями на природу, чтобы подышать свежим воздухом среди полей и лугов с пасущимися стадами.
О пастушке упоминает Микьель в 1531 году. Он приписал картину Винченцо Катене, коллеге, как он выразился, Джорджоне. В 1627 году подобный персонаж фигурировал в описи коллекции Вендрамина, хранящейся в Британском музее. Большинство экспертов не сомневаются, однако, в авторстве Джорджоне и относят портрет ко второй половине его краткой творческой биографии.
На тёмном фоне написано погрудное изображение юноши с копной вьющихся русых волос и в белой помятой рубашке, выбивающейся из-под чёрного плаща, с игрой бликов телесного цвета. В правой руке у него свирель, а левая — за плоскостью картины.
Пастушок задумался, он отвёл свирель ото рта, словно стараясь вспомнить нужную мелодию. Его слегка склонённая набок голова придаёт фону картины ощущение глубины.
* * *
Портретная галерея не могла обойтись без изображения женщины, что свойственно венецианским художникам. Так у Джорджоне появился портрет, известный как «Лаура». Картина долго приписывалась различным художникам североитальянских школ — от Пальмы Веккьо и Винченцо Катены до Дель Пьомбо, пока на тыльной стороне холста не была прочитана полустёршаяся надпись: «День 1 июня 1506 года исполнено рукой мастера Джорджоне из Кастельфранко, коллеги мастера Винченцо Катена по заказу мессира Джакомо». Итак, это одна из немногих датированных работ мастера, но имя заказчика так и осталось невыясненным.
Картина долго называлась «Лаура» — в честь возлюбленной Петрарки — из-за ярко выступающих на тёмном фоне лавровых листьев вокруг головы молодой женщины. Однако эта версия отпала как несостоятельная. Молодая женщина на портрете отнюдь не блондинка, да и сам её приземлённый облик никак не мог вдохновить певца Лауры.
Одно время считалось, что на картине изображена преследуемая Аполлоном Дафна, превращённая в лавровое дерево, как об этом повествуется в первой «Метаморфозе» Овидия. Но Джорджоне черпал сюжеты из жизни, и вряд ли его могла заинтересовать мифология. Поэтому данная версия также отпала.
Высказывалось мнение, что на портрете изображена поэтесса Вероника Гамбара, властительница Корреджио, верная последовательница Петрарки. Джорджоне мог повстречаться с ней на одном из заседаний литературного салона, где гостья выступила с новым циклом стихов, навеянных образами Венеции, и стихи эти произвели сильное впечатление на присутствующих. Но простушка в нелепом одеянии на «Женском портрете» никак не походит на вдохновенную гордую поэтессу, воспевающую возвышенные чувства. Уверенная в себе девица отводит в сторону недоверчивый проницательный взгляд с хитринкой. Её крепко сжатые губы говорят о твёрдости характера и умении постоять за себя.
Это не может быть и портретом замужней женщины: уж слишком смело она обнажила грудь, а ярко-красное одеяние с меховым воротом свидетельствует о её принадлежности к определённому кругу лиц. Такие платья, окаймлённые мехом, возбуждающим мужскую похоть, носили венецианские проститутки. Равно как не случайно наличие на картине лавровых листьев, ибо жрицам любви было известно целебное и профилактическое свойство отвара из листьев и коры лавра.
Джорджоне хорошо был знаком этот мир свободной любви, где ему не раз приходилось находить утешение. Он понимал, сколь нелёгок их труд, и с пониманием относился к этой древнейшей профессии, которая столь же необходима, как и занятие искусством. Одно его удручало: среди девиц было немало заядлых выпивох, которые вскоре теряли форму и оставались без работы. Никто из них не задумывался о будущем, живя беспечно сегодняшним днём.
Не исключено, что заказчик, ревнивый мессир Джакомо, уговорил художника прикрыть обнажённую грудь возлюбленной Лауры лёгким прозрачным шарфиком.
* * *
Незадолго до смерти Джорджоне, в 1509 году, появился его погрудный «Автопортрет», на котором художник изобразил себя в образе библейского героя Давида с длинными волосами до плеч и в стальных латах.
Картина дошла до нас в очень плохом состоянии с обрезанными краями, и авторство Джорджоне ставилось под сомнение. Но путём сравнения рисунка, о котором упомянул Вазари, с подпорченной картиной искусствоведы всё же сумели доказать её авторство, и она прочно заняла своё место в перечне подлинников Джорджоне, который, как ранее отмечалось, был составлен и опубликован Лонги. В него вошло также несколько спорных произведений, близких по духу и манере письма Джорджоне.
Автопортрет превосходен по живописи в духе леонардовского sfumato. «Давид» с гордым и меланхоличным взглядом, обращённым на зрителя, является неким вызовом. Художник как бы говорит, перефразируя известные слова апостола Павла: «Ни эллин я, ни иудей — смотрите и судите сами!»
Это очередная его загадка, а вернее, послание благодарным потомкам, которым приходится её разгадывать, дабы понять, что же хотел нам сказать автор.
Известный гебраист Доменико Гримани, дядя одного из друзей художника, занимавший одно время должность Аквилейского патриарха, отметил в своих мемуарах, что Джорджоне сознательно изобразил себя в образе Давида, как бы в ответ на дошедшие до него слухи о его якобы «еврейской идентичности».
«СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ»
В память о загородных вылазках с друзьями Джорджоне приступил к написанию картины, которая первоначально называлась «Пастораль», как и одноимённое сочинение Якопо Саннадзаро, пользовавшееся большой известностью у обычных почитателей литературы, а особенно среди венецианских интеллектуалов. После городской тесноты, сутолоки и духоты пребывание на природе представлялось друзьям художника сущим раем. На лужайке слева старинный источник с журчащей водой, облицованный белым камнем. Его стенки срезаны краями картины, равно как и крона растущего рядом могучего лавра, под чьей густой сенью расположилась весёлая компания из двух парней и двух обнажённых девиц, которым отведена на картине роль лесных нимф, вдохновляющих музыкантов и придающих кураж концерту. Эпиграфом к картине могли бы послужить строки из Анакреонта:
Будем пить вино беспечно, Будем песнью Вакха славить.(Пер. Г. Церетели)
Радость жизни, безмятежность и слияние с природой — вот что отличает эту превосходную по живописи картину. Авторство Джорджоне не вызывало сомнения, когда небольшой холст (110 х 138 см) переходил от одного владельца к другому. Так, в 1627 году «Пастораль» перешла из коллекции мантуанского герцога в собственность английского короля Карла I, в 1649-м была приобретена французским банкиром Э. Ябахом, а затем в 1671 году перешла в собственность короля Людовика XIV. При смене владельцев, уцелев в ходе двух кровавых революций — английской и французской, картина получила укрепившееся за ней новое название — «Сельский концерт».
И как бы ни называлась картина, под ней неизменно была табличка с именем Джорджоне. Но в 1937 году, рассматривая картину в Лувре, Лонги установил и доказал её принадлежность кисти Тициана, которому пришлось дописывать картину после смерти автора. Авторитетное мнение Лонги было подтверждено другими исследователями. Так, Паллуккини отмечает, что Джорджоне приступил к работе, дав общую композицию и написав фигуры играющих на лютне и флейте, без какого-либо предварительного рисунка, что было ему свойственно, являясь некой бравадой перед коллегами и друзьями, оставшейся со времён юношеского максимализма.62
Как показал радиографический анализ, после очистки холста от копоти, полученной на кострище во время чумы, Тициан дописывал картину, следуя замыслу автора и используя элементы пейзажа из «Грозы». Вместо типичной для Джорджоне недосказанности и дымчатого колорита он привнёс своё видение и выполнил работу с присущими ему мастерством и блеском. Это, пожалуй, одна из самых джорджониевских работ молодого Тициана.
Сама же картина, как никакая другая работа Джорджоне, отличается богатством тонов, полутонов и оттенков. Это венец его колористических поисков при написании неба, горизонта, дальних гор и фигур переднего плана, когда цвет вибрирует, переходя от тёмно-голубоватых к золотисто-жёлтым и светло-зелёным тонам, вплоть до чёрного с резким вкраплением багряно-красных тонов одеяния музыкантов. Казалось, палитра художника способна порождать бесчисленное множество красочных сочетаний.
Говоря о фигурах первого плана, критики отмечали, что, в отличие от других художников, Джорджоне умел придавать своим фигурам силу и округлость, что не мешало ему использовать смелый и прекрасный колорит, поистине несколько кровавого тона, почти пламенеющего изображения плоти, который он применял с таким изяществом и столь удачно, как это не удавалось никому из тех, кто пытался следовать его манере.
Не случаен на картине выбор музыкальных инструментов: от благородной аристократической лютни до плебейской флейты, облагороженной тем, что её держит нимфа или сама Муза, пока другая нимфа с кувшином у источника создаёт журчание и плеск воды, воспроизводимый звуками лютни и флейты. На эти трели откликнулся пастух со свирелью, бредущий с овцами к источнику, откуда раздаются голоса музыкантов и звуки настраиваемых инструментов.
Один из молодых людей с лютней в руках пытается что-то объяснить товарищу. Он выделяется ярко-красным, почти огненным одеянием и таким же беретом, из-под которого выбиваются вьющиеся чёрные, как смоль, волосы до плеч. Его собеседник, наоборот, с вьющейся рыжей гривой на голове, внимательно слушает его. Оба настолько увлечены беседой, что не замечают присутствия лесных нимф с их возбуждающей плоть наготой. Но для двух увлечённых беседой друзей это лишь образное воплощение самой окружающей их природы, воспеваемой в стихах Пьетро Бембо, Якопо Саннадзаро и Леона Эбрео.
Чувство природы особенно поэтично звучит в стихах недавно скончавшегося Джованни Понтано, который воспевал холмы и рощи, источники, родники и реки с плещущимися в них нимфами, и стихи эти наверняка были известны художнику:
Резвые нимфы, кому родники священные милы, Своды пещер, где струится вода, и тихие реки Сладкую влагу несут, подносят щедрые чаши С самым отрадным питьём для измученных долгою жаждой. Ноги и грудь обнажив, лазурные носятся нимфы Взад и вперёд по просторам озёр, по заводям светлым, То наливают они кувшин плещущей влагой, То выливают её…(Пер. С. Ошерова)
Эта пронизанная поэзией незавершённая картина Джорджоне полна таинственной недосказанности, проявившейся уже в самой композиции изобразительного ряда, когда края источника оказались вне плоскости картины и резко срезана крона тенистого лаврового дерева. Всё это, как и в других работах Джорджоне, побуждает зрителя самому додумать и разгадать идею, заложенную автором. Та же недосказанность наблюдается и в действиях нимф, которые то нальют в кувшин воды, то выплеснут её.
Джорджоне писал картину для собственного удовольствия и закончил бы её, если бы не заманчивый правительственный заказ, от которого он не в силах был отказаться.
НЕМЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ
Как отмечено в хронике Санудо Младшего, 28 января 1505 года произошёл пожар, спаливший дотла Немецкое подворье со всеми его конторами и складскими помещениями. Причину возгорания установить так и не удалось.
Выгоревшее здание устрашающе глядело пустыми глазницами окон на Большой канал у моста Риальто, с чем не могли смириться власти города. По распоряжению Сената республики было возведено за счёт казны новое здание подворья, а его наружные стены украсились фресковыми росписями. Все работы были завершены, как об этом свидетельствует официальный документ, 14 декабря 1508 года, и это едва ли не единственная точная дата из жизни Джорджоне.
Комиссия из первых живописцев города под председательством Джованни Беллини, официального художника Венеции, поручила работу Джорджоне, высоко оценив его прежние фресковые росписи фасадов некоторых дворцов. К тому времени его известность в художественных кругах была столь велика и столь неоспорима, что заказ ему был передан без каких-либо условий на полное его усмотрение.
Джорджоне приступил к работе весной 1508 года. Осмотрев отстроенное подворье со всех сторон, он для начала выбрал самую выигрышную сторону — фасад, смотрящий на Большой канал. Вероятно, ему не приглянулась неудобная для работы задняя часть здания, выходящая на узкую торговую улицу Мерчерие, постоянно запруженную снующими толпами людей.
Поскольку сроки поджимали, то по рекомендации влиятельного семейства Барбариго роспись второй половины здания была поручена Тициану, чьи первые работы принесли ему признание.
Между двумя художниками началось негласное состязание. Джорджоне взялся за написание фресок, преследуя единственную цель — как можно ярче и полнее показать своё искусство, доверяясь исключительно собственной фантазии, которая никогда его не подводила.
Приступив к делу чуть позже и заглушив в себе магию расхваливаемого на все лады старшего товарища, Тициан оставался верен своей индивидуальности. Он, безусловно, видел «Юдифь» соперника и взялся за написание своей «Юдифи» — волевой и решительной, с поднятым вверх мечом в руках (у Джорджоне меч опущен книзу) и отрубленной головой врага.
Работая над росписью, художники не видели друг друга, да и вряд ли их тянуло к общению: настолько они были различны по характеру и темпераменту. Каждый жил в своём воображаемом мире и никого не хотел в него впускать. Мир Джорджоне — это сменяющие друг друга сюжеты, пронизанные поэтической приподнятостью и полной отрешённостью от действительности. У Тициана же, наоборот, преобладают жизненность его библейских, мифологических героев и их приближённость к тогдашним реалиям. Он никогда не был учеником Джорджоне, да и не мог им стать как по возрасту, так и по чисто профессиональному ощущению. Правда, на сей счёт существует в литературе иная точка зрения, но документально она ничем не обоснована.
Поначалу Тициан действительно почерпнул многое у старшего товарища. Но следует заметить, что многое из почерпнутого он сумел переосмыслить. Их роднит и объединяет лишь одно: оба прошли школу великого Беллини.
В мире искусствоведения давно обсуждается вопрос о триаде: Джорджоне — «джорджонизм» — ранний Тициан. Её истоки легко обнаружить в упомянутых выше произведениях Бембо, Саннадзаро, Эквиколы, Леона Эбрео и в романе Колонны «Любовные битвы в сновидениях Полифила», а также в работах музыкантов-теоретиков Дзарлино, Гаффурио, Петруччи.
Пожалуй, наиболее точно и образно выразить основное различие между двумя художниками удалось Лонги, который увидел в работах молодого Тициана нечто от Фидия с его возвышенностью и невинностью по сравнению со слишком уж насыщенным и откровенным сенсуализмом позднего Джорджоне.63
Так получилось, что в отличие от Тициана, работающего на лесах, воздвигнутых над узкой улицей, и остающегося невидимым для прохожих, Джорджоне писал на виду у всей Венеции. Друзья — некоторых из них он недавно запечатлел на портретах — весело подбадривали своего любимца, стоя на мосту Риальто или подплывая на гондолах вплотную к фасаду подворья. В записках очевидца тех событий Микьеля можно найти такое четверостишие:
Zorzon поднялся на леса, Чтоб вновь Подворье засверкало. Творит он в красках чудеса, Каких Венеция не знала.Гондольеры не успевали подвозить желающих взглянуть на чудо, сотворяемое прямо на глазах прославленным мастером.
Поверхность фасада пламенела всеми цветами радуги, но уловить главную мысль росписи было затруднительно. Это какой-то калейдоскоп фигур, мифологических образов и действий, напоминающий живопись puzzle и состоящий из одних загадок. В отличие от той же «Грозы» здесь всё усугубляется габаритами росписи. Например, что выражает молодая венецианка, названная «Нагая» (243 х 140 см)? Чуть поодаль фигура то ли ангела, то ли нимфы. Чтобы не ломать голову, приведём строки Боккаччо из поэмы «Фьезоланские нимфы», которые были знакомы Джорджоне:
Златились кудри длинные у ней, Её одежды белизной сияли, Прекрасен был лучистый взгляд очей. Кто в них глядел, не ведает печали.(Пер. Ю. Верховского)
Когда перед Рождеством леса были разобраны, венецианцы ахнули от удивления. Их взорам предстало чудо сверкающего разноцветием, расписанного фресками возрождённого к новой жизни Немецкого подворья. Фрески поражали мягкостью и теплотой колорита, а также неожиданно смелой тематикой, когда впервые в монументальной живописи появились отдельные образы и целые композиции чисто светского содержания. Казалось, сама венецианская жизнь отразилась на стенах Немецкого подворья.
Хозяева подворья, прижимистые немецкие купцы, закатили пир по этому поводу. Во время праздничного застолья языки, как и водится, развязались. У Микьеля в его записях можно прочитать, что многие присутствующие на банкете отдали предпочтение Тициану, что не могло не задеть Джорджоне. Возможно, так оно и было, поскольку отношения между двумя мастерами оставались более чем прохладными. Правда, Тициан никак не мог тогда предположить, что пройдёт совсем немного времени, и судьба вновь сведёт их вместе, но совсем уже по иному поводу.
О фресках Немецкого подворья было много написано в конце XVI века. А два столетия спустя упоминавшийся ранее гравёр и искусствовед Дзанетти опубликовал альбом репродукций с фресок подворья, хотя принять их как достоверные можно только с большой натяжкой.
* * *
Когда Вазари появился в Венеции всего лишь лет сорок спустя после написания фресок, пред ним предстала довольно грустная картина, хотя на поблекших фресках подворья ещё можно было что-то различить. Он признаёт, что «там не найти сюжетов, которые были бы друг с другом связаны… Я никогда не мог понять этого произведения, спрашивая других, в чём там дело, не встречал никого, кто бы его понял». Спешка ли подвела обоих художников или подмастерья ошиблись с грунтовкой, но фрески со временем исчезли.
В случае с росписями Немецкого подворья пагубную роль прежде всего сыграл венецианский климат с его повышенной влажностью и высоким наличием в воздухе разъедающей краску морской соли. Постоянное присутствие соляной взвеси в воздухе разъедает не только минеральные краски, но даже мрамор. Сегодня от жемчужины венецианской архитектуры, «золотого дворца» Ка’ д’Оро, осталось одно название, так как золотое покрытие ажурного мраморного фасада полностью исчезло, а мрамор потемнел, утратив первозданную белизну.
Время шло, и воспоминания о фресках оставались только на бумаге. В 1937 году во время ремонта Немецкого подворья под слоем облицовочной штукатурки и поздних наслоений случайно были обнаружены отдельные, едва различимые фрагменты утраченных росписей. Как разбуженные призраки из глубины веков, они нагнали такого страха на строителей, что те спешно их замазали от греха подальше.
Наконец, в 1966 году при очередном ремонте здания подворья было обнаружено ещё несколько фрагментов, которые были сняты и отправлены на реставрацию. Так, фреска «Нагая» находится теперь в галерее Академия, а два других фрагмента — во дворце Ка’ д’Оро.
Примерно к тому же периоду относятся две парные картины в римской галерее Боргезе — «Вдохновенный певец» и «Игрок на флейте», вероятно, задуманные Джорджоне для нового «Концерта». По пламенеющему колориту красок обе картины дают какое-то представление о фресках Немецкого подворья. Их авторство долго было под сомнением, пока Лонги не включил обе картины в свой реестр подлинников и спорных работ Джорджоне.
Особенно выделяется своей экспрессивностью певец, словно обращающийся к богам со словами Анакреонта:
Дайте мне Гомера лиру Без струны, что битвы славит. Уложений дайте чашу — Разведу я в ней законы, Чтоб, упившись ими, мог я В исступлении разумном Круговой отдаться пляске И средь чуждых песнопенью Песнь застольную пропеть.(Пер. Г. Церетели)
COL TEMPO
Несусветная жара и работа под палящими лучами солнца, а затем проливные дожди утомили Джорджоне, и его здоровье пошатнулось. Появились боли в спине и суставах от долгого стояния на лесах перед фреской. Настроение ухудшилось, он всё чаще стал задумываться о своём существовании. Особенно в ночные часы, когда после светлого дня на землю спускаются сумерки, а за ними тьма и прерывистый сон.
Чтобы не оставаться одному с грустными мыслями, он спешил на улицу. Здесь его внимание однажды привлекла пышущая здоровьем молодка, торгующая зеленью. Природа явно не поскупилась, одарив её красотой. Он решил на следующий день захватить с собой альбом и запечатлеть девицу, полную жизненных сил и достоинства.
Каково же было его изумление, когда на том же месте он увидел… старуху. Трудно было поверить глазам. Вернувшись домой, он взялся за написание картины, на которой старуха была в том же одеянии бледно-фиолетовых тонов, в каком и привлёкшая его внимание молодка, в сероватой шали, наброшенной на плечо, и белой косынке на голове. Но вместо пучка базилика и петрушки она держит в руке свиток со словами: «Col tempo» — «Со временем», а в её взгляде сокрыта зависть к снующей вокруг беззаботной молодёжи, для которой, казалось, время не существует. Смех и шумная болтовня парней и девушек заглушают даже бой курантов в полдень.
Это не портрет, а обобщённый образ старости, которая приходит к каждому из нас, когда лицо покрывается сеткой предательских морщин и тускнеет взор. Джорджоне впервые задумался над неумолимым бегом времени, когда, поглядывая на себя в зеркало, писал «Автопортрет». У Леона Эбрео есть об этом такие строки:
Время бежит без оглядки, Старость нежданно приходит. Как ни играй с нею в прятки, Жизнь незаметно проходит.О картине нет упоминания у Микьеля. А вот в описи коллекции картин, составленной в 1561 году после смерти Вендрамина, упоминается «портрет матери Джорджоне». Но вряд ли тому имеется обоснование, так как о матери у художника остались самые смутные воспоминания, о чём уже было сказано.
В поисках аналогии некоторые искусствоведы ссылаются на схожий образ кормилицы из цикла Карпаччо «Мученичество святой Урсулы» в сцене приезда послов и на жест прижатой к груди руки святого Филиппа из «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.64
Эти догадки и приводимые параллели трудно принимать во внимание. Как известно, кроме «Сна святой Урсулы», весь цикл Карпаччо с его нарочитым многоголосием, бьющей в глаза нарядностью и шумом не произвёл на Джорджоне впечатления. А о фреске «Тайная вечеря» Леонардо он мог судить только со слов побывавшего в Милане друга Микьеля, заявившего, что ничего более возвышенного живопись не знала.
Но, безусловно, самая сильная связь «Старухи» прослеживается с картиной Дюрера «Алчность», написанной в 1507 году. На ней костлявая старуха держит в руке мешок с золотом. Художник стремится убедить зрителя в реальности существования своего аллегорического образа с явно моралистической подоплёкой. Однако в отличие от «Алчности» Дюрера неожиданно появившаяся «Старуха» Джорджоне, при всей её непривлекательности, являет собой всего лишь собирательный образ старости, хотя определённый смысл сокрыт в недосказанности картины.
Годом раньше немецкий мастер побывал в Венеции, где закончил картину «Мадонна с чётками», вызвавшую волну восторженных отзывов. Но на Джорджоне особенно сильное впечатление произвели офорты Дюрера на тему Апокалипсиса. Это, пожалуй, самый убедительный довод terminus post quem для понимания одной из последних загадочных работ Джорджоне.
* * *
В заключительные дни венецианского карнавала во дворе дворца Контарини было устроено театрализованное представление масок, предтеча знаменитой Commedia dell’arte с участием известного комедиографа Рудзанте и его бродячей труппы. Друзья Джорджоне, решив его встряхнуть и вывести из подавленного настроения, затащили художника на представление. О спектакле с его искромётными шутками, запутанной фабулой с пением и танцами заговорила вся Венеция. Прошёл он с шумным успехом; на нём побывали знать и представители интеллектуальных кругов, включая Беллини и Мануция со свёкром, страстным любителем театра.65 Там же Джорджоне повстречал очаровательную Веронику, отбившуюся от труппы из-за внутренних интриг, и тут же увёл её с собой.
Под впечатлением увиденного и услышанного в дни карнавала Джорджоне пишет картину «Урок пения», или «Три возраста человека». Это одна из самых загадочных картин венецианской живописи, вызвавшая большие трудности с её атрибуцией.
Первое впечатление от «Урока пения»: на картине запечатлена обычная спевка трёх хористов, разучивающих свои партии. Видимо, при написании картины Джорджоне не покидали мысли о бренности всего сущего, и он одновременно развивает тему возрастного различия между участниками спевки.
На тёмном фоне чётко вырисовываются трое певчих. Свет падает слева, освещая лысую голову старого хориста, облачённого в яркую красную тунику. Вероятно, это бас, который в упор смотрит на зрителя, словно услышав посторонний шум, нарушающий спевку.
Свет теряет свою интенсивность на центральной фигуре юнца фальцетиста с нотами в руке. Тень от берета, из-под которого свисают длинные русые волосы, падает ему на глаза, а стоящий рядом молодой хорист — видимо, тенор — терпеливо поясняет мальчику, в чём его ошибка, и указывает на неверно спетую ноту. По выражению лица юнца трудно определить, понимает ли он замечание, высказанное старшим товарищем, или пропускает его мимо ушей.
Как писал Микеланджело: «Если б молодость умела, если б старость могла…» О, какой бы получился гармоничный ансамбль голосов! Но, увы, годы есть годы, которые откладывают свой отпечаток.
Вероятно, в это же время написана картина, называемая «Концерт», по которой можно судить, сколь большое значение придавалось в венецианской культуре музыкальному образованию. Согласно идеям неоплатонизма настоящей музыкой считалась та, что звучит в исполнении spinetto, прообраза клавесина, струнных инструментов и человеческого голоса, а вот духовые инструменты, включая флейту, и ударные были уделом простонародья.
Всё это наглядно отражено на картине, чаще называемой «Прерванный концерт». На ней три исполнителя. Игру молодого музыканта на спинете неожиданно прерывает монах августинец средних лет с инструментом в руке, называемым viola da gamba. Умолкла и певица в чёрной шляпе со страусовым пером. Возникшая пауза призвана напомнить музыкантам о духовном смысле исполняемого ими произведения, о чём, видимо, забыл молодой музыкант, увлекшись мелодией и придав ей чисто светское звучание, за что его и останавливает монах, считающий такую музыку греховной. Но молодой человек, продолжая держать пальцы на клавишах, резко оборачивается от прикосновения руки монаха, а в его выразительном взгляде читается явное несогласие с замечанием духовного лица.
До 1976 года картина считалась принадлежащей кисти Джорджоне. Но после тщательного анализа полотна было установлено авторство Тициана. Судьба распорядилась так, что после перипетий, связанных со сменой владельцев, «Урок пения» и «Прерванный концерт» находятся в одном и том же музее дворца Питти во Флоренции.
Поздний Джорджоне показал своё высочайшее мастерство владения цветом с его градацией тональных переходов. Первое десятилетие века отмечено расцветом его творческого гения. Он трудился как заведённый, не давая себе передышки и постоянно ощущая, как по пятам за ним следуют знакомые художники, с которыми он сталкивался в повседневной жизни, и совсем новая поросль юнцов, мечтающих о славе. Но первенство, одержанное неустанным трудом, он никому не хотел уступать. И чтобы не повторяться, был занят поиском новых идей, сюжетов и образов.
В тот период появилось немало работ спорного происхождения, показывающих, насколько обострилось в Джорджоне внимание к простому человеку с улицы. Например, картина «Человек с флейтой» из неаполитанского музея, в которой запоминается выразительный взгляд уличного музыканта, обращённый на зрителя из-под широкополой шляпы. Здесь художник проявил мастерство при распределении света и тени.
* * *
От перенапряжения в Джорджоне произошёл надлом, и его палитра начинает тяготеть к мрачным тонам. Примером тому служит картина «Закат», принадлежность которой Джорджоне, впрочем, оспаривается. Природа на картине постепенно расстаётся с разноцветьем дня, но фон её всё ещё остаётся во власти света.
Первым на картину обратил внимание Лонги, отметив в ней типичную для Джорджоне игру света и тени. Наглядно видно, как поблёскивает озеро в лучах заката, а густые кроны деревьев и вход в пещеру пребывают в тени. Нечто подобное было в «Трёх философах».
На картине изображён святой Георгий на коне, поражающий копьём дракона, а чуть ниже присутствуют две фигуры. Старик помогает подняться юноше, раненному в ногу, что напоминает библейскую притчу о добром самаритянине.
С наступлением унылой осенней поры единственной отрадой художнику служила Вероника. Именно с неё он принялся писать «Спящую Венеру», для которой девушка терпеливо позировала. Но терпеливости чаще недоставало художнику при виде опьяняющей наготы. Картина предназначалась в дар Марчелло к его свадьбе, намеченной на середину осени.
Сроки поджимали, и Джорджоне работал с упоением, забыв о прежней хандре. На картине изображена молодая обнажённая женщина, лежащая на простыне, брошенной на траву. Верхняя часть её тела опирается на красную подушку, служащую изголовьем. Правая рука положена под голову, а левая простёрта вдоль тела; правая нога чуть согнута и положена под другую ногу.
Венера спит, и её умиротворённое лицо прекрасно. На всём разлита атмосфера покоя, в глубине тихое озеро и синеющие вдали горы на горизонте. Ничто не должно нарушать сон богини. По словам упомянутого ранее искусствоведа Лодовико Дольче, «в одном образе всё то совершенство красоты, какое в природе едва увидишь в тысяче».
Работа близилась к завершению. Часто наведывались друзья справиться о его здоровье. С их приходом Джорджоне поворачивал холст тыльной стороной и на вопросы, что сокрыто на холсте, шутливо отвечал:
Любопытство — большой порок. Им особенно дамы страдают. Я для всех сюрприз приберёг, Пусть пока о нём люди не знают.Но стоило ему однажды на время отлучиться по делам, как произошло непредвиденное: Вероника исчезла. Джорджоне места себе не находил в ожидании её возвращения. Раскрыв шкаф, он увидел, что вешалка с её платьями и последними обновами пуста. Видя его недоумение и сжалившись над ним, служанка поведала ему, что Веронику чуть не силком увёл с собой Морто ди Фельтре, который всё время крутился вокруг дома. Он-то и запугал девушку до смерти, заявив, что по соседству поселилась чума.
Джорджоне не верил своим ушам. Как Вероника дала себя так просто увести, поверив его вероломному товарищу по цеху?! От расстройства он вскоре занемог и не выходил из дома, сидя перед незаконченной «Спящей Венерой», обманутый в своих надеждах и чувствах.
* * *
Над Венецией неожиданно нависла смертельная опасность. Чума начала распространяться по всему городу. Не помогали никакие дезинфицирующие средства. Только огонь оказался действенным, и с его помощью можно было бороться с очагами эпидемии.
Под звуки набата, задыхаясь в чадящем дыму от полыхающих всюду костров, на которых сжигались личные вещи и всё то, к чему прикасались умершие, Венеция казалась вымершей. А по Большому каналу плыла вереница барж с зажжёнными факелами, увозя мертвецов подальше от жилых кварталов на пустынный тогда остров Лидо для кремации.
Это произошло осенью 1510 года, о чём имеется подробное описание в хронике Санудо. Здесь следует сослаться на письмо от 25 октября 1510 года, с которым мантуанская правительница Изабелла д’Эсте обратилась к своему поверенному в делах в Венеции некоему Таддео Альбано с просьбой приобрести для неё «прекрасную и единственную в своём роде» «Nocte» Джорджоне. На маркизу работали Леонардо да Винчи, Мантенья и другие великие мастера. Упустив в своё время Рафаэля из-за бестактности, допущенной в отношении его отца художника Бернардино Санти, она знала о новой звезде, взошедшей на венецианском небосклоне. Обладая чутьём ищейки, маркиза надеялась не упустить своего. Но увы, в своём ответе 7 ноября того же года66 поверенный в делах сообщил, что на днях художник умер от чумы и где упокоился, неизвестно. Среди оставшихся после него картин «Nocte» не значится, а вот сходные по теме работы находятся — одна у Таддео Контарини, другая у Витторио Беккаро, которые наотрез отказались продать картины.67
Этот документ является единственным, называющим примерную дату кончины великого мастера.
Квартал Сан Сильвестро оказался в опасной зоне заражения. Обходя дом за домом, карантинная команда обнаружила Джорджоне почерневшим и бездыханным на полу. Санитары вынесли тело из дома и отнесли к ближайшему причалу, где на приколе стояла баржа с мертвецами, к которой никого близко не подпускали.
Когда друзья Джорджоне примчались к его дому, на площади уже был свален в костёр нехитрый скарб покойного: постель, стол, стулья, шкаф с одеждой, лютня, тетради с записями, мольберт, палитра, кисти, ящик с красками, листы с набросками, то есть всё то, чем при жизни владел покойный мастер. Оказывается, несмотря на громкую славу, художник был беден, довольствуясь малым. Певшие ему дифирамбы и превозносящие его до небес знатоки и ценители прекрасного не очень-то раскошеливались, становясь обладателями дивных творений.
Чего только не делал для друзей Джорджоне! Тому же Марчелло подарил его великолепный портрет и до последнего вздоха писал для него «Спящую Венеру». А «Три философа» для Контарини? А «Гроза» для Вендрамина? Известно также, что он отказался от завышенного, как ему показалось, гонорара за фрески Немецкого подворья, лишь бы работавший с ним Тициан не остался внакладе. Почему же этот щедрый гений, внезапно ушедший из жизни, так не ценил себя?
От моросящего дождя пламя лениво разгоралось. В последний момент, подкупив приставленного к костру сторожа, друзья успели вытащить из огня несколько картин. А тем временем с расписанного фресками фасада его дома взирали на полыхающий костёр порождённые фантазией великого художника персонажи: козлоногий Пан и две его полуобнажённые спутницы нимфы. Но и им Col tempo, то есть со временем, придётся навсегда исчезнуть…
В который раз приходится говорить о чуде, связанном с жизнью загадочного художника. Не успели бы вовремя объявиться друзья Джорджоне, мир лишился бы некоторых его шедевров.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Когда эпидемия чумы постепенно пошла на спад, в доме Марчелло собрались друзья покойного. К ним присоединился Тициан. В зале вдоль стен стояли спасённые от огня «Юдифь», «Три философа», «Гроза», «Сельский концерт», «Три возраста», «Прерванный концерт», «Спящая Венера» и ещё несколько картин.
По старшинству первым слово взял Микьель. Он сказал, что священный долг всех близко знавших покойного — сохранить его творения и донести их в целости и сохранности до потомков. Этот призыв, как сообщил он, поддерживают оба опечаленных корифея — Беллини и Карпаччо.
Микьель обратился к Тициану с вопросом: что тот думает на сей счёт? С тем же вопрошающим взглядом на Тициана смотрели и другие собравшиеся на своего рода тризне. Мог ли тот отказаться, когда дело касалось наследия Джорджоне, чудом спасённого от гибели?
На собравшихся взирали с немым вопросом подурневшие от копоти и грязи картины, осиротевшие после смерти своего незабвенного хозяина.
Считается, что тогда же друзья покойного мастера поручили Тициану подправить не только «Спящую Венеру», но и ещё несколько картин Джорджоне. Не будучи его учеником и даже другом, Тициан выступил на время в роли «нового Джорджоне», дописывая некоторые его картины, спасённые от огня.
У себя в мастерской Тициан бережно поставил на мольберт вверенную ему незаконченную «Спящую Венеру». Ничего более совершенного ему ранее не приходилось видеть. Он знал, что Джорджоне писал картину по случаю бракосочетания Марчелло с красавицей Морозиной Пизани. Казалось, что спящая богиня вот-вот очнётся, чтобы скрепить союз новобрачных любовными узами.
Тициан долго не мог оторвать от картины глаз. Какая поразительная замкнутость силуэта и как поистине грациозна сама поза Венеры! Вот только слегка прорисованный Купидон в ногах богини явно не к месту, и придётся его замазать.
На оборотной стороне холста он обнаружил удивившее его двустишие, начертанное рукой Джорджоне:
Вероника в объятьях сна на мягком ложе, Для Дзордзо на земле нет существа дороже.Не в этом ли страстном признании сокрыта тайна смерти Джорджоне? Тициан выполнил пожелание друзей Джорджоне, вдохнув в его картины новую жизнь и сохранив при этом верность самому себе. Профессиональный долг перед искусством был им с честью исполнен, и он заслужил признательность многих поколений ценителей живописи. Картины Джорджоне обрели новое дыхание, и их жизнь продолжается поныне во многих музеях мира.
Искусство Джорджоне — поэзия, воплощённая в цвете. А поэзия есть тайна, сокрытая за семью печатями, и как таковая прекрасна своей непостижимостью и загадочностью.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЖОРДЖОНЕ
1477/78 — примерная дата рождения Джорджоне в городе Кастельфранко Венето.
1493 — первая встреча с Венецией и поступление учеником в мастерскую Джованни Беллини.
1497 — первые самостоятельные работы — «Поклонение пастухов» и «Христос, несущий Крест».
1498 — знакомство с поэтом и философом Леоном Эбрео, который, вероятно, запечатлён им на картине «Подношение поэту».
1499 — работа над «Юдифью».
1500, апрель — встреча с Леонардо да Винчи.
1503 — работа над картиной «Три философа».
1504, осень — поездка в родной город, работа над алтарной картиной «Мадонна из Кастельфранко» и фризом «Свободные искусства» в доме Пеллиццари.
1505 — начало работы над портретной галереей.
1506, 1 июня — завершение картины «Лаура».
1507 — «Гроза».
1508 — «Сельский концерт».
1508, 14 декабря — завершение фресковой росписи Немецкого подворья.
1510, ноябрь — примерная дата смерти Джорджоне в возрасте 32-33 лет.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1978.
Белоусова Н. А. Джорджоне. М., 1982.
Беренсон Б. Живопись итальянского Возрождения. М., 1965.
Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1980.
История Италии. Т. 1. М., 1970.
Культура эпохи Возрождения и Реформация. М., 1981.
Лазарев В. Н. Выставка Джорджоне и «джорджонесков» в Венеции // Искусство. 1966. № 1.
Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.
Смирнова И. А. Джорджоне да Кастельфранко. М., 1955.
Фомичёва Т. Д. История картины Джорджоне «Юдифь» и её реставрация // Искусство. 1972. № 9.
Antologia della letteratura italian. Milano, 1973.
Dal Pozzo E. Giorgione. Milano, 2009.
D'Amico S. I cieli di Giorgione. Astrologia e divinazione nel fregio delle arti liberali. Milano, 2010.
Lilli V. Giorgione. Milano, 2004.
Ongario A. Giorgione da Castelfranco. L’uomo, l’artista, il mito.Treviso, 2009.
Pedrocco F. La pittura della Serenissima. Milano, 2010.
Pignattti T. Giorgione. Milano, 1972.
Settis S. La «Tempesta» interpretata. Torino, 1978.
Vescovo P. La virtu’ e il tempo. Giorgione: allegorie morali, allegorie civili. Milano, 2011.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Автопортрет. Брауншвейг, Музей герцога Ульриха
2. Поклонение пастухов. Вашингтон, Национальная галерея
3. Святое семейство. Вашингтон, Национальная галерея
4. Читающая Мадонна. Оксфорд, Асмолеан музеум
5. Подношение поэту. Лондон, Национальная галерея
6. Христос, несущий крест. Бостон, Музей Изабеллы Стюарт Гарднер
7. Юноша со стрелой. Вена, Музей истории искусств
8. Испытание огнём Моисея. Флоренция, Уффици
9. Суд Соломона. Флоренция, Уффици
10. Юдифь. Санкт-Петербург, Эрмитаж
11. Три философа. Вена, Музей истории искусств
12. Мадонна из Кастельфранко. Кастельфранко Венето, собор
13. Гроза. Венеция, Академия
14. Портрет Джироламо Марчелло. Вена, Музей истории искусств
15. Портрет воина с оруженосцем. Флоренция, Уффици
16. Портрет Джустиньяни. Берлин, Государственный музей
17. Двойной портрет. Рим, Музей дворца Венеция
18. Портрет Джованни Боргерини со своим учителем. Вашингтон, Национальная галерея
19. Портрет Броккардо. Будапешт, музей
20. Портрет Гольдмана. Вашингтон, Национальная галерея
21. Портрет Терриса. Сан-Диего, музей
22. Лаура. Вена, Музей истории искусств
23. Старуха. Венеция, Академия
24. Три возраста. Флоренция, Питти
25. Прерванный концерт. Флоренция, Питти
26. Сельский концерт. Париж, Лувр
27. Автопортрет с головой Голиафа. Гравюра Венцеля Холлара
28. Спящая Венера. Дрезденская галерея
29. Вид на Кастельфранко. Роттердам
1
Zorzi G. Notizie d’arte e di artisti nei diari di Marin Sanudo. Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arte. Venezia, 1960-1961.
(обратно)2
Пиранделло Луиджи. Пьесы. M., 1960.
(обратно)3
Биобиблиографический словарь. М., 1997. Т. 2. С. 398.
(обратно)4
Cavalcaselle Giovan Battista. Storia della pittura in Italia. 1895.
(обратно)5
Патер Уолтер. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 1912.
(обратно)6
Блок А. Стихотворения. Л., 1955. С. 409.
(обратно)7
Venturi Lionello. Storia della critica d’arte. Torino, 1964.
(обратно)8
Лонги Роберто. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.
(обратно)9
Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1970.
(обратно)10
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976. С. 171.
(обратно)11
Патер Уолтер. Указ. соч.
(обратно)12
Morelli G. Le opere dei Maestri italiani. 1888.
(обратно)13
Berenson В. I pittori veneziani del Rinascimento, 1894.
(обратно)14
Алпатов M. В. Указ соч.
(обратно)15
Лонги P. Указ. соч.
(обратно)16
Греческая эпиграмма. М., 1960. С. 206.
(обратно)17
Petrarca Francesco. Opera. Vol. I. Roma, 1938. P. 176.
(обратно)18
История Италии. M., 1970. T. 1. С. 396.
(обратно)19
Colonna Francesco. Hypnerotomachia Poliphili. Milano, 1999 (новое издание).
(обратно)20
Европейские поэты Возрождения. М., 1974. С. 33.
(обратно)21
Крылатые латинские изречения. М., 1990.
(обратно)22
Здесь и далее отрывки из «Божественной комедии» приводятся в переводе М. Лозинского.
(обратно)23
Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луциллию. М., 1977. С. 178.
(обратно)24
Здесь и далее, если не указано имя переводчика, стихи даются в изложении автора.
(обратно)25
Gentili A. Da Tiziano a Tiziano. Milano, 1980. P. 112.
(обратно)26
Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. СПб., 1991. С. 23.
(обратно)27
Gentili A. Op. cit.
(обратно)28
Lorenzo de Medici. Tutte le opere. Vol. 2: Scritti d’amore. Milano, 1958.
(обратно)29
Jacobelli J. La vita di Giovanni Pico della Mirandola. Milano, 1986.
(обратно)30
Ibid.
(обратно)31
Лонги P. Указ. соч. С. 227.
(обратно)32
Белоусова Н. А. Джорджоне. М., 1982. С. 34.
(обратно)33
Cavalcaselle G. В. Op. cit.
(обратно)34
Лонги Р. Указ. соч.
(обратно)35
История Италии. Т. 1. С. 426.
(обратно)36
Там же. С. 460.
(обратно)37
Антология античной лирики. М., 1980.
(обратно)38
Calvesi М. Saggio sull’ermetismo di Giorgione // Storia dell’arte. 1970. P. 179-233.
(обратно)39
Poesie di Savonarola / A cura di M. Martelli. Roma, 1968.
(обратно)40
Косидовский Зенон. Библейские сказания. М., 1987. С. 414.
(обратно)41
Зарницкий С. В. Боттичелли. М., 2007. С. 88.
(обратно)42
Zorzi Alvise. II colore е la Gloria. Mondadori, Milano, 2003.
(обратно)43
Antal Frederik. La pittura italiana tra classicismo e manierismo. Roma, 1977. P. 72.
(обратно)44
Микеланджело. Стихотворения. M., 2000.
(обратно)45
Васильчиков А. А. Произведения Рафаэля в России. СПб., 1883.
(обратно)46
Dal Pozzolo Enrico М. Giorgione. Milano, 2009.
(обратно)47
Фомичёва T. Д. История картины Джорджоне «Юдифь» и её реставрация // Искусство. 1972. № 9.
(обратно)48
Леонардо да Винчи. Сказки, легенды и притчи. Л., 1983. С. 122.
(обратно)49
Микеланджело. Указ. соч.
(обратно)50
Леонардо да Винчи. Указ. соч.
(обратно)51
История Италии. Т. 1. С. 388.
(обратно)52
Lilli Virgilio. Giorgione. Milano, 2004. P. 114.
(обратно)53
Settis Salvatore. La «Tempesta» interpretata. Torino, 1978. P. 19.
(обратно)54
Алпатов M. В. Указ. соч.
(обратно)55
Д'Аннунцио Габриэле. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1994. С. 244.
(обратно)56
Settis S. Op. cit.
(обратно)57
Алпатов М. Л. Указ. соч. С. 183.
(обратно)58
Wind Edgar. L’eloquenza dei simboli. La «Tempesta»: commento sulle allegorie poetiche di Giorgione. Milano, 1992.
(обратно)59
Coletti Luigi. Giorgione. Milano, 1955. P. 21.
(обратно)60
Valcanover F. Tiziano. Milano, 1999.
(обратно)61
Ibid.
(обратно)62
Pallucchini R. La pittura veneziana del Cinqucento. Novara, 1944.
(обратно)63
Лонги P. Указ. соч.
(обратно)64
Paoli Marco. La «Tempesta» svelata. Gabrielle Vendraminm Cristoforo Marcello e la «Vecchia». 2011.
(обратно)65
Neri Pozza. Le storie veneziane. Mondadori, 1977.
(обратно)66
Coletti L. Op. cit. P. 50.
(обратно)67
Pignatti T. Giorgione. Milano, 1972. P. 160.
(обратно)


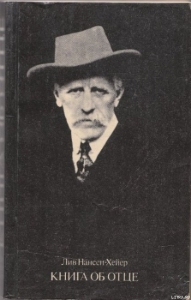

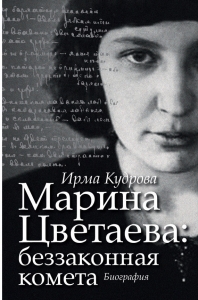
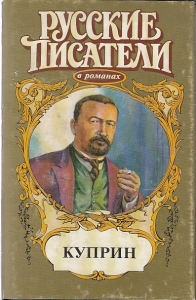
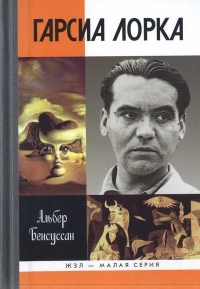

Комментарии к книге «Джорджоне», Александр Борисович Махов
Всего 0 комментариев