Аркадий Эммануилович Мильчин Человек книги. Записки главного редактора
© А.Э. Мильчин, наследники, 2016,
© Э.Р. Сукиасян, 2016,
© М.В. Рац, 2016,
© В.Т. Кабанов, 2016,
© А.С. Красникова, 2016,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
В.А. Мильчина Вместо предисловия
Название, стоящее на титульном листе этой книги, придумано, конечно, не самим ее автором, моим отцом Аркадием Эммануиловичем Мильчиным (хотя он в самом деле в 2005 году был награжден премией «Человек книги»). Одной из главных его черт была огромная скромность, которая может показаться даже «самоуничижением паче гордости» – но только тому, кто не знал моего папу лично. В публикуемых записках есть пронзительное размышление – отрывок из его письма коллеге и другу В.Т. Кабанову, написанного сразу после папиного восьмидесятилетия, когда он получил немало поздравлений, услышал немало добрых слов и, казалось бы, мог быть доволен самим собой и тем, что сделано. «Я все время задаю себе вопрос, – пишет папа, – успехам своим “Книга” обязана прежде всего Кравченко (без него их быть не могло), Троянкеру (без него прославленных своим оформлением книг тоже быть не могло), Громовой (без нее в издательство не пришли бы многие авторы, чьи книги принесли издательству успех). А была ли в этих успехах какая-то моя роль?»
Этот вопрос папа задал Аркадию Товьевичу Троянкеру, знаменитому главному художнику «Книги», который вместе с коллегами-единомышленниками создал визуальный облик изданий «Книги». Троянкер этот вопрос не забыл. После папиной смерти я получила от него письмо: «Я знал Аркадия Эммануиловича с середины 70-х годов. А с 1981 года я имел честь общаться и работать с ним вместе в издательстве “Книга”. Это были нелегкие времена, и для него особенно. Он всегда был для меня примером высокого профессионализма и безукоризненной порядочности. <…> Однажды, уже много лет назад, он мне позвонил и задал абсолютно неожиданный вопрос: “Аркадий Товьевич, – спросил он, – как вы думаете, я был хорошим главным редактором?” – “Лучшим!” – ответил я».
Таким этот разговор запомнился Троянкеру. Но в папиной памяти он запечатлелся совсем иначе: «На мой странный вопрос он сказал, что вкратце может ответить сразу. Что-то вроде того, что интеллигентность, культура, содержание выпускаемых книг. Очень общо и несопоставимо с его и Кравченко вкладом. Хотя, может быть, этого вполне достаточно, и нечего мне трепыхаться».
Думаю, что если даже Аркадий Товьевич не сформулировал в реальном разговоре свой ответ так четко, как в письме ко мне, то лишь потому, что вопрос в самом деле показался ему совершенно диким. Ибо только сам Мильчин мог усомниться в том, что – при всех заслугах Владимира Федоровича Кравченко как администратора, самого Троянкера как главного художника и Тамары Владимировны Громовой как инициатора многих замечательных книг, «эмблематических» для издательства (Эйдельмана, Лотмана и многих других авторов), – «Книга» на протяжении двух десятков лет оставалась одним из лучших издательств Советского Союза благодаря ему, Мильчину. И он имел абсолютно все права почивать на лаврах как поэтому, так и потому, что благодаря своим книгам о редактировании сделал нашу фамилию нарицательной, стал «справочником». Недаром – и это не анекдот – в городе Тюмени у его внука и моего сына Кости спросили: «А это правда, что вы внук справочника?» А какой-то неизвестный блогер в 2002 году так отозвался о «Справочнике издателя и автора»: «Лучшая книга по дизайну интерфейса, имеющаяся сейчас на русском языке. Написал ее полубог Мильчин». Но папа все равно сомневался в том, что казалось очевидным огромному множеству людей – от сотрудников «Книги» до многочисленных редакторов в России и даже за ее пределами. После его смерти в интернете встречались такие фразы: «Умер великий Мильчин» или «Умер великий редактор», – но сам он себя великим, конечно, не назвал бы. В его архиве хранится выписка из стенгазеты факультета повышения квалификации Московского полиграфического института; слушатели папиных лекций написали о нем такой стишок:
Интеллигентный человек, Он ненавязчив, ничего не утверждает. «По-моему» иль «может быть» — За то его и уважают.Именно из-за скромности, из-за того, что он не считал себя литератором, папа, я думаю, так долго не решался писать записки о своей жизни. Он сам рассказал в начале этих записок, как и по чьему настоянию этим занялся. Ему было трудно начать говорить о себе. А мне еще труднее писать о нем. Писать о собственном отце, да еще когда так немного времени прошло с его смерти, – занятие сомнительное. Говорить хорошее – а ничего другого я о нем сказать не могу – вроде бы не мое дело; об этом должны рассказывать люди не столь близкие (некоторые из их воспоминаний приведены в конце книги), а мне расхваливать его – неловко. Анализировать творческий путь – тем более не мое дело, об этом должны высказываться историки книги и теоретики редактирования.
Я могу сказать, что он был замечательным отцом: любящим, внимательным, заботливым, совершенно не авторитарным (кстати, таким же примирителем, по признанию многих сотрудников и авторов, он выступал всегда и в издательстве), увлекающимся партнером по играм (пока я была еще маленькой) и заинтересованным слушателем и читателем моих статей и переводов (когда я выросла). И точно таким же товарищем по играм, а потом читателем и собирателем библиографии статей и рецензий он стал для своего внука Кости. Я всегда понимала, что мне невероятно повезло и я нахожусь в привилегированном положении – и не только потому, что я росла в окружении купленных папой книг (наша немаленькая библиотека началась с тяжеленных крупноформатных гослитиздатовских однотомников 1946–1947 годов, которые папа покупал, когда еще учился в Полиграфическом институте), но еще и потому, что я могла не затруднять себя изучением «справочников автора». Мой справочник жил за стеной, и когда мне нужно было узнать, как все-таки по самым последним библиографическим правилам следует оформлять, например, ссылку на собрание сочинений: Собр. соч. в 9 т., Собр. соч. В 9 тт. или еще как-нибудь, – я просто шла в соседнюю комнату и задавала вопрос. И надо сказать, что до самого последнего времени папе эти вопросы доставляли огромное удовольствие (когда перестали – стало ясно, что дело плохо и болезнь побеждает). Он настолько любил все имеющее отношение к изданию книг, что разрешить какую-нибудь проблему, связанную с оформлением титульного листа или с работой над оглавлением (или содержанием – ведь папа твердо знал, чем одно отличается от другого), было для него все равно как съесть мороженое в жаркий день. Когда еще не вошел в употребление компьютерный набор, папа обожал «гонять строки» – сейчас, видимо, уже не всякий поймет, что это такое; речь шла о том, чтобы чисто техническим путем, не сокращая и не дописывая, ужать текст и убрать одну строку или, наоборот, разогнать его так, чтобы получить лишнюю строку. А с каким удовольствием он составлял каталог нашей домашней библиотеки – кстати говоря, в сочиненных им пособиях добрая половина примеров того, «как надо» и, в основном, «как не надо» делать книги, взята именно оттуда, из книг, стоящих в наших книжных шкафах. Работа шла параллельно: он заносил на карточку (дело происходило еще в докомпьютерную эпоху) библиографическое описание книги (разумеется, в соответствии с самыми последними стандартами) и заодно рассматривал ее с точки зрения удобства для читателя, и если книга была неудобная, его это страшно огорчало. И еще сильнее огорчало его то обстоятельство, что, сколько бы он ни писал своих справочников и «книговедческих рецензий», сколько бы ни напоминал, например, что «слепой» колонтитул с названием книги, повторяющийся на пяти сотнях страниц, – бессмысленная трата бумаги и краски, издатели в большинстве своем продолжали действовать так же нефункционально, как раньше. Получалось, что вся его работа никому не нужна. И поэтому, когда какая-нибудь дама-редактор говорила мне что-нибудь вроде: «А вы случайно не дочь Мильчина? Да? Передайте ему, пожалуйста, что мы без его справочников шагу не можем ступить», – я всегда радостно ему это пересказывала. А он недоверчиво пожимал плечами. Последняя такая поклонница папиного творчества подошла ко мне на церемонии вручения премии «Нос» в январе 2015 года. «Я все книги выбросила, оставила только справочник вашего папы; а больше ничего и не нужно», – сказала эта темпераментная дама. Я так растерялась, что даже не спросила, как ее зовут. А папе этого рассказать уже нельзя…
Несколько слов о настоящем издании. Основная часть мемуарных текстов, написанных папой, посвящена его профессиональному становлению как редактора и его работе в издательствах «Искусство» и «Книга». Представляется, что именно эта часть наиболее интересна для современного читателя – и того, кто профессионально интересуется редактурой и историей книжного дела, и того, кому интересна история позднесоветской жизни в целом (это пояснение, кстати, тоже папина школа: он всегда учил, что в аннотации на книгу должно быть разъяснено, кому и зачем она может понадобиться). Но сами записки, оставленные папой, включают и другие разделы, где он пишет о своем характере, о детстве, о родителях, о довоенной жизни в Запорожье, о школьных друзьях, о собственных мытарствах во время войны. Эти главки не только объясняют, каким образом мой папа оказался инвалидом войны, не успев побывать ее участником, но и показывают его как человека – стеснительного, терпеливого, любознательного, наблюдательного, внимательного к окружающим. Некоторые страницы носят, на мой взгляд, слишком личный характер и всеобщего интереса не представляют, поэтому я сделала из первой части выборку, оставив то, что показалось мне самым любопытным и важным. Мои пояснения в тексте и примечаниях выделены курсивом.
Эта первая часть – «обычные» мемуары. А дальше начинаются мемуары не совсем обычные. Потому что рассказ о жизненных обстоятельствах (учился, женился и т. д.) постепенно переходит в рассказ об отредактированных, написанных, задуманных статьях и книгах. Именно о них папе хотелось рассказать в первую очередь, рассказать с опорой на документы – официальные бумаги, собственные рабочие записи, а главное, свою переписку с Олегом Вадимовичем Риссом, многолетним «эпистолярным другом» и главным советчиком. Папины письма к Риссу – это замена дневника, которого он никогда не вел. А одновременно – своеобразная хроника работы издательства «Книга», которому папа отдал двадцать лет жизни, и хроника собственного авторства – сочинения статей, монографий, справочников о редактуре и корректуре. Его записки можно было бы назвать «Моя жизнь в “Книге” и в книгах». Но это, пожалуй, звучало бы чересчур высокопарно. Все-таки более подходящее название – «Человек книги. Записки главного редактора».
О себе, о семье, о войне
О себе и о семье
Что побудило меня писать записки и зачем я стал их писать
Долго колебался, стоит ли затевать такое сложное дело, но затем все же стал писать, а вот теперь даже сел за компьютер.
Начала меня подталкивать к этим запискам моя дочь Вера. Слушая кое-какие мои любопытные издательские истории, она не раз говорила: «Почему бы тебе об этом не написать?»
Затем Наталья Евгеньевна Петряева, познакомившись с краткой моей биографией, посланной ей в Киров по ее просьбе (она хотела побольше узнать обо мне), написала мне: «Боже мой, неужели Вы не пишете мемуаров?! Ведь Вам есть что рассказать, и Вы знаете, как рассказать не только о книгах, но и о людях, их делающих». Эти слова Наталья Евгеньевна написала после того, как прочитала еще и беседу со мной в журнале «Книжное дело» (1994. № 1). Наталья Евгеньевна – врач, дочь известного книговеда и краеведа Евгения Дмитриевича Петряева, взявшая на себя руководство кружком вятских библиофилов после его кончины. С ней я познакомился на Первых Петряевских чтениях в Кировской областной библиотеке, после чего между нами завязалась переписка, оборвавшаяся с ее смертью.
И я понемногу стал кое-что записывать через пень-колоду, но с большими перерывами, отвлекаясь на текущие статьи по своей специальности. Все же именно дочери и Наталье Евгеньевне я обязан тому, что написал около десяти очерков-воспоминаний о курьезных эпизодах из жизни издательства «Книга», которые согласилась напечатать редакция журнала «Знамя» и напечатала их в № 2 за 2000 год. Очерки удостоились похвалы такого взыскательного человека, как соавтор моей дочери в ряде работ А.Л. Осповат.
Затем на семейном праздновании моего дня рождения (отмечали 75-летие) мой троюродный племянник Яша Каллер очень горячо, с большим эмоциональным напором настаивал на том, чтобы я обязательно записал то, что помню, хотя бы для того, чтобы родные (в частности, он) могли познакомиться с подробностями моей жизни. Он снова заставил меня задуматься, и я стал наводить порядок в разрозненных записях.
Однако когда у меня появлялась возможность публиковать статьи и книги на профессиональные темы, я откладывал записки в сторону. Все же мне казалось, что эти статьи и книги нужнее читателям, чем автобиографические записки. Тем не менее время от времени мысленно я возвращался к словам Яши. Он несколько раз признавался мне, что я своими разговорами оказал на него немалое влияние. Пренебрегать его просьбой не хотелось. Но, увы, профессиональные интересы были сильнее.
Прежде чем начать хоть какие-то записи, я часто задавал сам себе вопрос: «Зачем мне это делать?» Ведь я не обладаю такой хваткой памятью и таким литературным даром, чтобы эпизоды моей жизни предстали перед теми, кто будет читать текст, живыми и яркими. С другой стороны, я перешагнул за 85 лет. И каких. Ведь я был свидетелем и в какой-то степени участником грандиозных исторических событий. И тут каждое свидетельство по-своему ценно, и некоторые эпизоды моей частной жизни могут иметь не частное значение. Но в целом эти записки вряд ли пригодны для публикации и как печатное произведение достоянием читателей вряд ли станут. Да я на это и не рассчитываю. Причем причин тут несколько.
Во-первых, я как личность, сам по себе, не могу представлять большого интереса: все же я человек хотя и не совсем рядовой, но только в некоем специальном, издательском кругу, а для широкого читателя не могу быть интересен, поскольку деяния мои достаточно ограниченного специального значения.
Во-вторых, литературным талантом я не обладаю, хоть и много написал, но язык и стиль моих писаний – всего лишь язык и стиль грамотного интеллигентного человека, не более того, и написать воспоминания, достойные того, чтобы стать явлением литературы, я не могу.
В-третьих, я пишу эти записки тогда, когда память уже сильно ослабла и многие детали безвозвратно утрачены, а без них трудно воссоздать реальные эпизоды такими, какими они были в жизни. К сожалению, я не вел дневника, а уходя в 1985 году на пенсию, не позаботился о том, чтобы взять с собой копии многих документов, касающихся истории тех издательств, в которых я работал, а ведь это могло бы сделать мои воспоминания более полезными для историков отечественного книгоиздания.
В-четвертых, если я и встречался с некоторыми замечательными людьми, то все же не могу рассказать о них что-либо существенное, ибо многие встречи были непродолжительными, а главное, я не записал по свежим следам, как именно они протекали, что именно эти люди говорили. То же касается и встреч длительных, например с Лидией Корнеевной Чуковской, Норой Яковлевной Галь.
Да и мысль: «А не придаю ли я себе и своей жизни слишком большое значение?» – мелькала то и дело. Отвечал я себе на это так: «Возможно, некоторое преувеличение тут присутствует, но в то же время нельзя отрицать, что кое-что важное для отечественного книгоиздания я сделал, да и многое из его истории знаю, о чем как будто никто не написал».
Вот почему, несмотря на некоторые сомнения, я все же решился на эти записки. В конце концов, даже если их прочитают хотя бы жена, дочь и внук, а может быть, и племянник Яша, и то неплохо. Узнают больше обо мне и о том времени, в котором мне пришлось жить. Хотя мне их немного жалко. Ведь чтение такого большого массива текста отвлечет их от чтения других произведений, быть может, гораздо более нужных и полезных им лично. В общем, те, кому я хоть чем-нибудь интересен, найдут для себя материал, отвечающий их запросу.
Правда, есть еще одна основательная, по сути главная, причина, которая побуждает меня вести эти записки. Это те люди, друзья и знакомые, с которыми меня свела судьба. Общение с ними, их письма составляют безусловную ценность. Кому как не мне рассказать о них, о том, как они жили, что думали о себе и нашей жизни, как переживали и оценивали события в стране и в своем городе. Если не сделаю этого я, этого не сделает никто, и память о них превратится в беспамятство. Только письма моего эпистолярного ленинградского друга Олега Вадимовича Рисса занимают три толстые папки, а письма эти необыкновенно интересны, как интересна и отразившаяся в них его жизнь и судьба.[1]
Поначалу я хотел писать только об издательстве «Книга», поскольку большая часть моей жизни была связана именно с ним. Оно создавалось при моем участии. Оно достигло выдающихся для своего времени результатов в книгоиздании. В нем я проработал с 1964 по 1985 год, т. е. 22 года, из которых последние 18 лет главным редактором. Кому же, как не мне, рассказать об истории его становления, развития и гибели, хотя гибель эта приключилась уже без меня. Правда, на фоне грандиозных перемен в жизни России, совершившихся в конце прошлого и начале нынешнего, ХХI века, все это выглядит мелким. Все так разительно менялось и меняется, что события, казавшиеся раньше важными, сейчас уже не выглядят такими. И тем не менее то, что существовало прежде, не следует предавать забвению. Без истории отдельных людей история страны и общества не может быть полноценно осмыслена.
Поэтому в поисках ответа на вопрос, зачем я пишу, могу ответить и так: в надежде, что если записки попадут в архив, они, если мир не рухнет, смогут стать достоянием исследователей:
• издательского и книжного дела в стране;
• библиофильского движения в 70–80-е годы ХХ века;
• истории литературы и печати советского периода.
Уже по этому вступлению можно понять, что автор – человек не просто скромный, а даже, можно сказать, чрезмерной скромности. Это видно и из его автохарактеристики – главки, которую он сам озаглавил «Каким я представляю себе себя самого, свой характер»:
Если бы меня попросили назвать главные черты моего характера, я бы затруднился это сделать. Во мне много противоречий. Я одновременно:
• трудоголик – и лентяй;
• инициативный, деятельный – и пассивный, склонный плыть по течению, ничего не предпринимая;
• скромный – и тщеславный;
• упорный, упрямый – и легко поддающийся влияниям;
• педант, обожающий порядок, – и неряха, из лени палец о палец не ударяющий, чтобы поддерживать порядок повседневно;
• дисциплинированный – и расхлябанный;
• быстро соображающий (схватывающий на лету) – и крепкий лишь задним умом (особенно в споре);
• настойчивый в достижении важной цели – и нерешительный, готовый отступить при столкновении с трудностями, не умеющий противостоять агрессивному или грубому нажиму; за признание за собой последнего отрицательного качества я подвергся критике Мариэтты Чудаковой, сторонницы взгляда, что мужчина должен быть мужиком, умеющим постоять за себя, защитить свою семью, друзей и т. д.; с ней трудно не согласиться, но, с другой стороны, люди не могут быть и не бывают одинаковыми, а если все будут мужиками, то тогда что – кто кого перемужичит? К тому же пожертвовать собой за близких я вполне способен, но считаю, что добиваться своего можно не только мужиковатостью;
• щедрый – и скуповатый, расчетливый;
• неуступчивый, когда это касается исповедуемых принципов, – и больше склонный к компромиссам (к худому миру), чем к доброй ссоре;
• безрассудный – и трусоватый;
• доброжелательный к людям – и равнодушный, безразличный к ним;
• сопереживающий – и черствый;
• склонный к самоедству, готовый покаяться, если чувствую за собой вину, – и с трудом воспринимающий критику.
И не могу сказать, чего во мне больше – хорошего или плохого.
Для чего я это написал?
Чтобы предупредить читателей этих записок, если таковые все же найдутся, что я предстану в них в более благостном виде, чем был на самом деле.
А еще я должен обязательно отметить одну особенность моего характера, которая очень мне мешала в жизни и работе, а именно робость, стеснительность. Отсюда стремление не выделяться среди других, быть как можно менее заметным и соответствующим образом одеваться.
Одна наша знакомая художница, с которой мы не виделись много лет после окончания института, встретившись со мной и женой, подметила: «Аркадий не изменил стилю своей одежды». И это была правда. Всегда предпочитал холодные, синеватые тона.
Я всегда ощущал себя в компании человеком очень скучным, не знающим, о чем говорить с окружающими, и загорающимся только от разговора о работе.
Неуверенность в себе – один из моих комплексов. Он несколько ослаб после того, как в доме моего приятеля Юры Лейтеса в Москве (было это еще в годы учебы в институте) графолог, посмотрев на мой почерк, уверенно сказал, что это почерк человека талантливого. Не особенно доверяя графологическим выводам, я тем не менее с тех пор почувствовал себя несколько увереннее: «А вдруг правда?»
В первой части записок папа рассказывает о своих родителях и запорожском детстве, а начинает этот рассказ с главки о происхождении нашей фамилии.
Откуда такая фамилия?
Происхождение собственной фамилии меня всегда занимало. Фамилия вроде не еврейских корней. А каких? На – ин оканчиваются многие русские фамилии: Никитин, Ванин, Печкин и т. д. Но в них корень – либо от имени, либо от названия предмета. А что такое миль—? Миль – по-французски «тысяча», но ведь не миль—, а мильч—. Ничего не получается.
Так я и оставался в неведении о происхождении фамилии Мильчин до тех пор, пока в середине 90-х годов кто-то из знакомых рассказал, что, будучи за рубежом, видел изданный, кажется, в Канаде в 1993 году словарь-справочник фамилий русских евреев. Я попросил дочь Веру во время поездки в Париж найти этот словарь-справочник и посмотреть, нет ли в нем нашей фамилии. Она сделать это сама не успела и попросила выписать эти сведения, если они найдутся, своего французского знакомого Владимира Береловича.
Он был настолько любезен, что прислал ксерокопии титульного листа и нескольких страниц. Заглавие справочника A dictionary of jewish surnames from the Russian empire / By Alexander Beider. В моем доморощенном переводе: Словарь еврейских фамилий в Российской империи. Составитель Александр Бейдер. На обороте: копирайт 1993.
Две страницы с рубрикой Mil’chin:
Mil’chin (Slutsk, Ostrog, Novograd, Odessa) (Melechinskij) T: From the village Mil’cha (Borisov d, Gomel’d, Dubno d) (Mil’chanskij, Miletskij). T: from the village Emil’chino (Novograd d). В моем переводе: Миль’чин (Слуцк, Острог, Новоград, Одесса) (Мелечинский) Т (топонимическое: от названия места – происхождение фамилии); от названия деревни Мильча (административный район Борисова, Гомеля, Дубно) (Мильчанский, Милецкий). Т: от названия деревни Эмильчино (административный район Новограда).
Получается, что фамилия образована, скорее всего, от названия деревни Мильча или местечка Эмильчино. На карте в словаре Бейдера оно не обозначено, но можно предположить, что оно расположено где-то на Волыни или в Подолии. Ларчик просто открывался. Как Слуцкие от Слуцка, Житомирские от Житомира, Кобрины от Кобрина, так и Мильчины – от Мильчи или Эмильчино. А так как мне известно, что семья папы новоград-волынских корней, неудивительно, что кто-то из предков был наделен такой фамилией.
Это подтвердилось списком носителей этой фамилии, погибших во время Великой Отечественной войны. При этом оказалось, что среди них наряду с евреями, в частности моим родным братом Клементием Эммануиловичем Мильчиным, были и белорусы, и украинцы, и русские. Вот такой интернационал Мильчиных.
За рассказом о фамилии следует рассказ о тех, кому она принадлежала, – о родителях и старшем брате, погибшем во время Великой Отечественной войны. Начинается он с мамы, моей бабушки, и вот почему:
Не потому, что, как часто случается, она была главой семьи. Главой был папа. Но ее душой и сердцем, объединяющим и притягивающим людей центром была мама.
Мама
Если бы надо было обрисовать мою маму – Марию Львовну Шпильберг – одним-двумя словами, то не только я, но и любой близко ее знавший человек обязательно сказал бы: «Сама доброта». Мягкость, приветливость, душевность, радушное гостеприимство, стремление помочь каждому, кто к ней обратился, умение выслушивать и сопереживать – все это было ей свойственно в самой высокой степени. И закономерно, что к ней тянулись люди, что раненые в госпитале, где мама во время войны работала сестрой в перевязочной, старались попасть на перевязку именно к ней. Ласковым словом и участием она умела смягчить боль и страдание. К ней очень подходило сочетание сестра милосердия. Милосердие было ее призванием.
Папа звал ее не иначе как Маничка. И только такая форма имени воспринималась и воспринимается мною как единственно возможная.
Родилась мама в начале марта 1891 года в деревне Понинка (на Украине) в большой семье Шпильберг. Назвать точную дату она затруднялась. Известно было только, что это был первый день еврейской пасхи того года. На какой точно день приходилось начало пасхи в 1891 году, мама не знала (каждый год этот день был разным). Тогда мы с моим старшим братом Лёсиком постановили считать маминым днем рождения 8 марта – Международный женский день.
По профессии мама была фельдшерицей-акушеркой. Она окончила в Одессе медицинское училище и поехала работать в какое-то село на Екатеринославщине (Днепропетровщине), где прожила несколько лет. Во время Первой мировой войны вернулась в родную деревню.
Где и когда она познакомилась с папой, не знаю. Поскольку оба они учились в Одессе, то не исключаю, что первое знакомство завязалось именно там, но это лишь предположение. По глупости не удосужился спросить у мамы об этом. Если же это не так, то тогда пути их могли пересечься только в 1918 году, когда папа возвратился из германского плена, и пересечься либо случайно, либо по сватовству. В 1918 году папе был уже 31 год, а маме – 27 лет.
Освящал их брак только раввин, а в ЗАГСе даже тогда, когда это стало уже возможным, они зарегистрировать свой брак не удосужились. Поэтому у мамы в паспорте сохранилась ее девичья фамилия – Шпильберг. Когда папа умер, ей пришлось в суде с помощью свидетелей доказывать, что она действительно состояла с ним в браке. Иначе бы ее не признали женой и наследницей. Запорожский суд признал брак мамы и папы имевшим место, в отличие от ленинградского, который отказался в точно таких же обстоятельствах вынести решение, что мать писателя И. Меттера была женой его отца (см. его письмо к А.А. Крону в № 11 журнала «Звезда» за 1998 год).
В связи с этим вспоминается, что запорожские соседи и некоторые знакомые, обращаясь к маме, называли ее не иначе как мадам Мильчин, именно Мильчин, в неизменной форме мужского рода. Слыша этот «одессизм», я всегда мысленно улыбался.
Любопытно, что мама настолько привыкла к такой форме своей фамилии, что под первым своим письмом к моей жене подписалась М. Мильчин (т. е. Мария Мильчин).
Кстати, у запорожцев было несколько своих любопытных словоформ. Запорожские обыватели говорили не фрукты, а фрукта, не стул, а стуло. Это очень забавляло москвичей, да и мы посмеивались, слыша эти слова в разговоре запорожцев.
Первые годы молодожены провели у дедушки в Понинке. Мама рассказывала, что папе во время Гражданской войны, когда через Понинку проходили то белые, то красные, то зеленые, то махновцы, приходилось прятаться. Случаев грабежей и убийств евреев было немало. Папе, как зубному врачу, это грозило в наибольшей степени. Укрывали папу надежно, и он уцелел.
В Понинке 5 сентября 1919 года появился на свет мой старший брат Лёсик – Клементий Эммануилович Мильчин.
Через несколько лет родители перебрались в город Радомышль (Житомирская обл. Украины). Причина, видимо, была в том, что город, хоть и небольшой, предоставлял более широкие возможности для зубоврачебной практики папы, чем деревня.
Радомышль и стал местом моего рождения, хотя я этот город совершенно не помню. Из Радомышля родители решили переехать в Запорожье, где было много родственников, и приезд в Запорожье, а мне шел тогда, видимо, четвертый год, – одно из первых сохранившихся в памяти событий жизни. Мама стала работать акушеркой в родильном доме, а папа – в поликлинике Красного Креста.
Поскольку я веду разговор о маме, то отклонюсь от хронологии, чтобы рассказать об одном мамином качестве – ее гостеприимстве. Когда года через четыре после приезда в Запорожье папа, став застройщиком, перестроил брошенную кузницу в отдельную маленькую квартиру, благодаря маме гости, особенно летом, не переводились. Случалось, что в один летний месяц в нашей маленькой квартире (32 кв. метра) яблоку негде было упасть: к нам четверым добавлялось пять-шесть родственников-гостей. Было шумно, но весело.
И только сейчас я начинаю отчетливо понимать, сколько труда и сил надо было приложить маме, чтобы всех сытно накормить, вволю угостить фруктами, каждому найти место, постельные принадлежности, каждого приветить. Квартира превращалась в подобие туристского лагеря, но по маминому выражению лица было видно, что гости ей не в тягость, а в радость, что ей действительно приятно их принимать, угощать, что, видя их довольные лица, она сама получает удовольствие. А ведь она продолжала работать – дежурить в роддоме через двое суток на третьи. Возвращаясь оттуда утром, она лишь ненадолго – на два-три часа – укладывалась поспать.
Конечно, женщины-гостьи старались ей помогать. Не был в стороне и папа: он охотно ходил на базар (запорожский рынок) то сам, то вместе с мамой и помогал закупать провизию на всю ораву. Но основная тяжесть падала на маму. Зато и гости любили посещать наш дом.
Кулинар мама была, на мой вкус, превосходный. Особенно удавались ей вареники с вишнями, любимое мое блюдо. Фирменными блюдами были также куриный бульон с клецками и так называемые снежки – на секунду опущенные в кипящее молоко ложечки взбитого яичного белка, которые превращались в воздушные белые комочки, действительно напоминавшие снежки. Их помещали в блюдечко с вкуснейшим кремом из желтка. Это было лакомое праздничное блюдо, которое я иногда вымаливал маму сделать и без всякого повода.
Вареники с вишнями в необыкновенно вкусном вишневом сиропе я обожал. Мама, зная это, обязательно отмечала каждый мой приезд в отпуск из Москвы обедом с варениками с вишнями.
За свою любовь к этим вареникам я однажды в детстве жестоко поплатился. Мы с братом Лёсиком поспорили, кто их больше съест. Я победил, проглотив, кажется, пятьдесят вареников. Победа, правда, вышла боком. Триумфатором мне себя почувствовать не пришлось: с последним, пятидесятым вареником у меня начались рези в животе и, к моему ужасу и позору, мама уложила меня на диван, на котором я сидел за обедом, и сделала клизму. Все обошлось, но чувство стыда осталось на всю жизнь.
В самые торжественные дни мама даже делала домашнее мороженое. В бидоне-мороженице после ручного взбивания оно опускалось в погреб, где сохранялось до пиршества. Мороженое это все же уступало тому, которым торговали на улице и в кафе: оно получалось крупнозернистым.
Раздумываю сейчас, почему мама не бросила работу, когда в этом уже не было необходимости. Ведь когда папа стал заниматься частной практикой, он, вероятно, мог вполне прокормить семью и сам. Причина, думаю, самая простая: она была хорошей акушеркой, работу свою любила и испытывала в ней потребность. Такой вывод я делаю не только на основе абстрактных рассуждений, но и опираясь на собственные домашние наблюдения. Могу смело утверждать, что все, кто сталкивался с мамой, кто жил с ней рядом, не могли не полюбить ее.
Папа
Как ни странно, я мало могу написать о нем. Возвращаясь к прошлому, я с ужасом замечаю, что плохо знал отца. Наверно, это объясняется тем, что ему несвойственно было делиться воспоминаниями о собственной жизни, родителях, братьях и сестрах, детстве, юности, обучении специальности, участии в Первой мировой войне, долгом пребывании в немецком плену, женитьбе, наконец. О многом он мог бы рассказать. Я же до Великой Отечественной войны, увы, не испытывал потребности обо всем этом узнать. К тому же папа держал себя от меня на расстоянии. Он был суровым, молчаливым, много работал, свободного времени у него оставалось очень мало. Проявлений чувств, «телячьих нежностей», как он выражался, он не терпел. После войны было как-то не до расспросов о прошлом, да и его характер сдерживал желание задавать ему вопросы. Так я и не узнал многое из того, что хотел бы знать.
Мне трудно определить папины интересы. Не ведаю я, что он думал по тому или иному поводу. Дома мы встречались только за обеденным столом. Он был неразговорчив, суров, а со мной если и говорил, то лишь по пустякам. Я побаивался его.
Как я казню себя теперь за то, что был нелюбопытным, не пытался его разговорить тогда, когда мы во время войны много времени провели вдвоем. Вместе вышли из Запорожья пешком, когда немцы заняли правый берег Днепра перед плотиной Днепрогэса, вместе ехали из Орехова до Ростова, а затем он навещал меня в Пятигорской больнице. Впрочем, обстановка не слишком располагала к беседам такого рода. Но, например, вполне удобный случай представился позже. Добившись разрешения на мой перевод из госпиталя в Армении в госпиталь в поселке Двигательстрой, где они с мамой в то время нашли себе работу, он приехал за мной. Мы вместе отправились в довольно долгий и сложный путь, и обстановка не так уж и препятствовала расспросам, но мы упорно молчали, ехали, почти не разговаривая.
Все же кое-что из папиной биографии я знаю.
Папа родился 21 января 1887 года в Новоград-Волынске. Был младшим сыном у родителей. Окончил гимназию. Учился, видимо, неплохо. Во всяком случае, французский язык, насколько я могу судить, знал неплохо. После окончания гимназии поехал в Одессу, где окончил учебное заведение, дающее специальность зубного врача. Могу предположить, что до начала русско-германской войны он накапливал практический врачебный опыт. В армию он был призван как вольноопределяющийся. Попал в армию генерала Самсонова и вместе с нею в германский плен, из которого его освободила только революция в 1918 году.
От мамы я знаю, что семья его получила похоронку, хотя убит был не папа, а человек, с которым он случайно поменялся шинелями. Этот эпизод произвел на меня такое сильное впечатление, что я даже попытался написать об этом рассказ. Замысел этот, правда, осуществить не удалось. После нескольких начальных фраз дело застопорилось. Иначе и быть не могло. Мне не хватало знания конкретных, жизненных наблюдений, я не умел строить сюжет, выписывать характеры и, не продвинувшись ни на шаг от начальных фраз, я оставил свою графоманскую затею.
Папе я обязан очень и очень многим, прежде всего счастливым безоблачным детством.
Ведь это он купил для меня небольшую плоскодонку и разрешил мне самостоятельно на ней кататься. С друзьями-одноклассниками я совершал на этой лодке увлекательные путешествия по Днепру и вокруг острова Хортица.
Ведь это он охотно подписывался на многочисленные журналы. Мы получали в разные годы и «Красную новь», и «Новый мир», и «Знамя», и «Октябрь», и «Интернациональную литературу», и даже «Литературный современник» и «Литературный критик». Получали мы и «Пионер», и «Технику – молодежи», и «Костер», и «Пионерскую правду». В общем, хотя книг в доме было мало, материала для чтения хватало. Подписные квитанции были для меня самым лучшим подарком ко дню рождения в начале декабря. Большим любителем чтения я был с детства, и, уверен, это более чем плодотворно сказалось на развитии моего интеллекта.
Ведь это папе я второй раз обязан жизнью: после ранения осколком немецкой бомбы в августе 1941 года по дороге из Запорожья, откуда мы ушли пешком, чтобы не оказаться под властью немцев, подобравшая меня военная санитарная машина отвезла не туда, куда обещала, – не в город Орехов, а в Кировскую сельскую больницу. И папа, не найдя меня в Орехове, на третий день разыскал меня в этой больнице и вывез оттуда на телеге, полученной в Ореховском гарнизоне, без чего я наверняка стал бы жертвой фашистов.
Несколько лет в немецком концлагере для военнопленных во время Первой мировой войны оставили в папе глубокий след. Когда 22 июня 1941 года мы узнали, что Германия напала на Советский Союз, он, такой суровый, такой сдержанный в проявлении чувств, неожиданно и непонятно для меня, дурака, сел за стол на веранде и заплакал. Он знал немцев-военных не понаслышке и понимал, что нас ждут страшные испытания, предвидел, что нормальная жизнь будет сломана.
Папа прекрасно владел немецким языком (следствие пребывания в немецком плену). Благодаря этому он, когда я еще был дошкольником, стал работать в амбулатории Верхней Хортицы – тогда пригородного села на правом берегу Днепра, где жили немецкие колонисты. Возможно, он согласился там работать не только потому, что ему, владеющему языком пациентов, легче было общаться с ними, но и потому, что мне, заболевшему тогда коклюшем, был нужен свежий деревенский воздух. И я там действительно выздоровел сравнительно быстро.
Папа был хорошим, даже очень хорошим врачом. Косвенно о том, что врачом он был незаурядным, свидетельствуют такие факты. Из поликлиники Красного Креста его пригласили на работу в поликлинику при Первой областной больнице Запорожья. В эту больницу его вызывали для оказания помощи самым сложным больным. Так, я помню, что однажды ночью за ним прислали для оказания неотложной помощи: в больницу из села был доставлен грудной ребенок, у которого свинья каким-то образом сжевала челюсть. После возвращения папы с мамой в Запорожье из эвакуации его пригласили на работу в поликлинику ЛСУ[2], т. е. областную «кремлевку», что само говорит за себя.
Папа воспитал нескольких беспризорников – обучил их ремеслу зубного техника. Двое из них – юноша, которого звали Чуча (возможно, фамилия, а может быть, и кличка), и девушка по имени Ульяна – стали первоклассными мастерами. Чуча даже делал зубной протез маме, когда папы уже не было в живых.
Поликлиника Красного Креста, где папа работал несколько лет, предоставила ему возможность перестроить в отдельную квартиру бывшую кузницу в центре старого Запорожья. Кузница занимала торец одноэтажного кирпичного дома, смотревший на улицу.
Наша квартира стала объектом поползновений армейских чинов. Дело в том, что папу в начале 30-х годов арестовали, как и многих других зубных врачей. Власти считали, что зубные врачи обладают золотом, и желали его у них таким путем отобрать. Об этой кампании подробно написал А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».
Заключили папу в городскую тюрьму, которую все называли ДОПРом (точного значения этого слова не знаю до сих пор; Солженицын определяет – Дом принудительных работ, мне же кажется, что Дом предварительного расследования). Продержали там папу, кажется, несколько месяцев (может быть, полгода), после чего выпустили. Как, что, почему – все это прошло мимо меня: был слишком мал. Но отчетливо врезался в память наш с мамой поход к ДОПРу. Тюрьма находилась на окраине старого города. Когда мы подошли к этому стоящему на отшибе зданию, мама показала мне на зарешеченное окно третьего, кажется, этажа и сказала, что там папа, и велела помахать папе рукой, что я и сделал. Кажется, человек у окна в ответ тоже помахал рукой. Узнать папу было трудно, фигурка в окне казалась маленькой из-за большого расстояния, отделявшего нас от окна. Все же это свидание было таким необычным, что запомнилось на всю жизнь.
Пока папа находился в тюрьме, на маму оказывали жесткое давление. Помню, как несколько раз приходил человек в военной форме, беседовал с мамой, видимо, угрожал ей. Но мама не поддалась нажиму, и затея с выселением нас из квартиры каким-то чудом не удалась.
Из довоенных папиных увлечений ведущими были два: рыбная ловля и преферанс.
Не случайно мы первые годы папин и мамин отпуск проводили на реках.
Первое место отдыха, которое я помню (было мне тогда лет пять), – деревня Кушугум под Запорожьем. Название этой деревни вместе с названием другой – Балабино – было для запорожцев-горожан воплощением деревенщины, неотесанности, необразованности. Так и говорили: «Эх ты, Балабино!», «Ты что, из Кушугума родом?!» Река Московка, протекавшая через деревню, была богата, как там говорили, коропами (украинское название карпа), толстенными, в несколько килограммов, которых папа успешно ловил.
Второе место – приднепровское село Беленькое, вниз по течению от Запорожья. Запомнилось оно мне поездками на лодке по Днепру в поисках хорошего места для рыбной ловли, а также тем, что мы снимали комнату в доме бывшего матроса броненосца «Потемкин» по фамилии Пацюк (имя и отчество его я забыл). Хоть был я тогда еще дошкольником, но что-то о легендарном броненосце уже слышал. Впоследствии Пацюк, приезжая в Запорожье, непременно приходил в гости, приносил в дар фрукты из своего сада. Я очень гордился знакомством с человеком из команды прославленного корабля.
Рыбная ловля на Днепре не была такой успешной, как в Кушугуме, но все же папа продолжал ею заниматься уже на Днепре в Запорожье. Для этого была куплена небольшая плоскодонка, которая впоследствии перешла в мое полноправное владение. А до того, как в погоне за рыбой была закуплена лодка, папа, после того как мы переправлялись на катере на остров Хортица, уходил в глубь острова, где в озерах и протоках тоже водилась рыба.
Наши путешествия на лодке на Старый Днепр хорошо запомнились потому, что не раз осложнялись приключениями при возвращении в Запорожье.
Лодочная станция находилась в устье реки Ореховки, впадавшей в Днепр недалеко от речного порта. Устье это называли бухтой. Правый берег Ореховки был общим с левым берегом Днепра, а оконечность левого представляла собой каменную насыпь, врезавшуюся в Днепр острым краем, как копьем. Мы плыли со Старого Днепра к лодочной станции вверх по течению. Было оно в те годы очень сильным, особенно рядом с каменной насыпью-водорезом, отделявшей Ореховку от Днепра. Завернув со Старого Днепра в новое устье, мы плыли вдоль берега Хортицы, где течение было ослабленным благодаря кряжам – каменным насыпям, врезавшимся в Днепр перпендикулярно берегу. Но напротив порта и устья Ореховки надо было переправиться на левый берег и заехать в «бухту». Маневр был сложным потому, что переплыть на лодке строго перпендикулярно к берегу, когда на веслах сидели я или Лёсик (папа обычно располагался на корме с рулевым веслом и правил лодкой), удавалось далеко не всегда. А если лодку течением относило к омутам кряжа Ореховки, то перебороть бешеное в этом месте течение Днепра наших силенок и сноровки не хватало. Мы выбивались из сил, а лодка в лучшем случае оставалась на месте. Если же мы ослабляли усилия, ее относило вниз, и мы впадали в отчаяние. Несколько раз, чтобы достичь на лодке желанного устья Ореховки, папа высаживал маму и меня на берег Днепра, а сам с Лёсиком на облегченной лодке преодолевал сопротивление днепровского течения.
Наученные горьким опытом, мы старались заплывать на лодке вдоль берега Хортицы подальше, так, чтобы устье Ореховки находилось наискосок от этого места Хортицы под углом не менее 45 градусов, и только тогда начинали переправу через Днепр. В этом случае нас сносило до кряжа Ореховки, и мы спокойно по течению Днепра въезжали в «бухту».
Бессилие перед стихийной природной силой хорошо запомнилось.
Что же касается папиного увлечения рыбной ловлей, то оно оказалось сравнительно непродолжительным из-за того, что нанесло урон его здоровью. Он ловил рыбу, часами простаивая по колено в воде. От этого у него на ногах пошли большие нарывы, причинявшие ему боль и оставлявшие глубокие шрамы. Нарывы, видимо, и остудили его страсть к ловле рыбы. Я эту страсть не унаследовал. Мне не хватало терпения, которого это занятие требовало.
Второе папино увлечение – карты. Для него это был вид отдыха, которому он, как я думаю, отдавался с азартом и страстью. Мог просидеть за преферансом целую ночь.
О силе папиного увлечения картами свидетельствует такой эпизод.
Однажды, когда мы проводили папин и мамин отпуск в Феодосии, маме нужно было возвратиться в Запорожье (у нее кончался отпуск), а у папы еще была свободная неделя. И он решил посетить город своей молодости Одессу и взял с собой меня. Решено было добираться до Одессы теплоходом. Достались нам билеты в каюту 3-го класса, которая находилась глубоко в трюме. Это был большой зал с двухъярусными койками, вмещавший не меньше пятидесяти человек. Отплывали мы днем. Папа отвел меня в каюту, велел никуда не ходить и ушел. Сутки я его не видел. Уж не знал, что и думать. Он появился в каюте только перед подходом к Одессе. Было мне тогда лет десять, и папа меня изрядно напугал.
Папа перед войной – мощный плотный мужчина. Во время и после войны – как будто другой человек. Перед моими глазами по улице Двигательстроя (1943 год) идет тощий человек, военная гимнастерка висит на нем как на вешалке, тонкие палочки-ноги подгибаются при ходьбе. Весь он какой-то потерянный, смотреть больно.
Хотя папа по большей части был молчаливым и суровым человеком, иногда на него находила веселость. Так было на одесском железнодорожном вокзале, когда мы всей семьей приехали навестить маминого брата Азриля. Поезд еще медленно двигался вдоль перрона. Не дожидаясь, пока он остановится, папа высунулся из окна и что есть силы закричал: «Насильник! Насильник!», имея в виду, конечно, носильщика. Чисто одесская выходка, пародирующая плохо говорящего по-русски местечкового еврея. Я готов был сквозь землю провалиться в этот миг. Меня, очень стеснительного в детстве, такая выходка шокировала.
Папа пользовался этой моей слабостью для того, чтобы, когда я не хочу чего-либо сделать, добиться этого от меня под страхом какого-нибудь действия, для моей стеснительности крайне предосудительного.
Так, я не ел борщ. Вареная капуста почему-то вызывала у меня физическое отвращение, почти тошноту. Меня от нее воротило. И дома мама борщ для меня процеживала. Во время летнего отдыха в Ялте мы ходили обедать в ресторан-поплавок. Конечно, там бывал борщ, и, конечно, непроцеженный. И я отказывался его есть. Тогда папа, который ходил в полотняной тужурке, надетой на голое тело, зная мою стеснительность, грозился снять ее, если я не начну есть борщ. И не только грозился, но и вставал из-за стола и расстегивал пуговицы, привлекая к себе взоры обедавших за соседними столами. Казалось, он вот-вот обнажится до пояса. Вынести такое пренебрежение правилами приличия было выше моих сил. Давясь, преодолевая отвращение, я опускал ложку в тарелку с борщом, стараясь не зачерпнуть капустных листьев. Только бы избежать позора, которым угрожал нам всем папа.
У папы были свои характерные слабости. Так, он очень не любил новых носильных вещей. От мамы требовались героические усилия, чтобы натянуть на него новую рубашку или новое нижнее белье. Он дурачился, вопил, всячески сопротивлялся. Признавал только то, к чему привык.
Война, гибель Лёсика (хотя официально о ней не извещали, но сомнений в этом практически не было) – все это подорвало папино здоровье.
Когда после войны родители вернулись в Запорожье, наша разграбленная дочиста квартира была занята, и папе пришлось судиться, чтобы вернуть ее. В ожидании суда родители снимали комнату у Масловых – в том доме, где наша семья жила первые несколько лет после переезда в Запорожье в 1928 году. Папин иск суд удовлетворил. Но когда папа вошел в освобожденную квартиру, сила переживаний была так велика, что его хватил удар, парализовавший половину тела. В больнице он постепенно восстановился. И хотя левая рука и нога повиновались ему не полностью, он продолжал работать в ЛСУ и даже принимал больных на дому.
Увы, через год удар повторился. Было ли это следствием кровоизлияния в мозг или тромба, врачи точно установить тогда не могли. Повторный удар приковал его к постели навсегда. Он лежал на спине пластом. Ум его постепенно слабел. В первое время, когда мимо постели проходили жившие в квартире родственницы, он хватал их за руку и сжимал с такой силой, что они вскрикивали от боли. Казалось, он вымещал на них свою тоску, горечь от своей беспомощности. В действительности он делал это бессознательно, рефлекторно. И все же на маму это не распространялось.
Мама, как я уже писал, героически заботилась о нем и при этом продолжала работать в родильном доме, хотя уже без ночных дежурств. Ей приходилось кормить папу, умывать, подкладывать судно, протирать тело, чтобы избежать пролежней, читать ему вслух.
Когда летом 1949 года я приехал в Запорожье на каникулы, папа уже не признал меня. В это время он узнавал только маму.
Так он и умер в начале ноября 1950 года, не выдержав третьего удара, с совершенно здоровым сердцем, сохранив в целости все зубы. А было ему тогда неполных 63 года.
Когда я по приезде из Москвы на похороны вошел в дом, мама обняла меня и с безысходной тоской сказала: «Остались мы с тобой вдвоем».
И действительно, со смертью папы история нашей семьи, семьи Мильчиных, практически закончилась. Остались одни осколки.
Мой старший брат Лёсик
Лёсик – это домашнее имя брата. Настоящее его имя по паспорту Клементий. Назван он так в честь деда, папиного отца, которого, вероятно, звали Калман, но поскольку папино отчество было уже русифицировано и по паспорту он был Эммануилом Клементьевичем, а не Менделем Калмановичем, то и Лёсик стал Клементием.
Мои воспоминания о брате очень смутны. Когда я в 1932 году поступал в школу, он учился уже в пятом классе. Окончил он школу в 1938 году и уехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский кораблестроительный институт.
Конечно, он приезжал на каникулы. Конечно, он лет десять моей сознательной жизни жил рядом со мной. И все же я могу рассказать о нем очень мало конкретного.
Он был добрый, веселый, открытый, и его все очень любили. Лица родственников буквально светились радостью при встрече с Лёсиком. Я таких чувств из-за своей замкнутости и стеснительности явно не вызывал. То, что он был всеобщим любимцем, порождало во мне не сильное, но все-таки ощутимое чувство досады, с примесью зависти. Когда он учился в школе, общались мы с ним мало. Он меня практически не замечал. Когда к нему приходили его друзья, он старался куда-нибудь меня спровадить, чтобы я не мешал их занятиям. Друзья же, его соученики, напротив, меня обычно привечали. Видимо, я их забавлял своей глупостью.
Лёсик был не только веселым и добрым, но и серьезным и талантливым учеником. Во всяком случае, когда учителя старших классов в первый раз слышали мою фамилию, они непременно спрашивали:
– Это твой брат учился в нашей школе?
И я с гордостью отвечал:
– Мой.
Знал, что его имя было неплохой маркой.
О серьезности Лёсика и его друзей по классу говорит факт, поразивший меня не тогда, когда это случилось и я был еще полным несмышленышем, а несколько позже, когда я стал кое-что понимать. Они с целью овладения марксизмом организовали по собственному почину кружок по изучению «Капитала» Маркса. Это была чистой воды политическая самодеятельность, которая сейчас кажется удивительной, особенно если вспомнить послевоенную систему полит– и партпросвещения, когда любое занятие воспринималось большинством только как «обязаловка» и никакого интереса не вызывало.
В 1939 году папа и мама сделали мне замечательный подарок – разрешили отправиться в гости к Лёсику в Ленинград.
Лёсик встретил меня на вокзале, отвез в свое общежитие, отвел в комнату-карантин, в которой ему разрешили меня поместить, и отправился готовиться к последнему, кажется, экзамену. Шла сессия. На следующий день, когда он одолел этот экзамен, Лёсик повез меня знакомиться с достопримечательностями Ленинграда. Мы прошлись по Невскому, посетили Эрмитаж и Русский музей. Потом мы побывали там еще несколько раз.
В один из вечеров мы поехали в Парк культуры и отдыха (так тогда называли парки), где послушали и посмотрели на открытой площадке выступления эстрадных артистов. Среди них были Клавдия Шульженко и Владимир Коралли с каким-то эстрадным оркестром. Вел концерт Аркадий Райкин, тогда еще только начинающий молодой артист, который мне очень понравился. Особенно большое впечатление произвели на меня две его миниатюры.
Тема одной – «Как бы его объявили в театре, цирке и т. д.». В цирке, с нажимом сказал он, его бы объявили так: «Выступает Аркадий Райкини». Он высмеивал характерное для цирковых артистов пристрастие к звучным, на их взгляд, псевдонимам, благодаря которым зритель мог принять их за иностранных гастролеров.
Во второй сценке Райкин разыгрывал зрителей – подражал выступлению фокусника. Он брал в левую руку шарик для настольного тенниса и демонстративно прятал его в рот, надувал щеки и показывал пустые ладони: «Смотрите, мол, в руках ничего нет!» Затем подносил правую руку ко рту и явно вынимал шарик (надутые щеки опадали), после чего прятал эту руку со сжатым кулаком за спину. Ладонь левой руки он поднимал к плечу, показывая, что она пуста. Затем заводил эту руку за спину к правой. Все понимали, что он перекладывает шарик, и поэтому, когда он сразу же показывал пустую ладонь правой руки, все веселились: нашел, мол, дураков, и ежу понятно, что он переложил его в оставшуюся за спиной руку. А он снова заводил руки за спину, снова там ими манипулировал и показывал пустую ладонь левой руки. И вот после того, как он несколько раз поочередно предъявил пустые ладони то левой, то правой руки и все зрители окончательно уверовали, что он принимает их за простаков, и возгордились (нас, мол, не проведешь), Райкин неожиданно показал пустые ладони обеих рук и при этом открыл рот, из которого выглядывал шарик. Эффект был поразительный. Вернувшись в Запорожье, я старательно демонстрировал этот фокус своим приятелям и неизменно имел успех.
Лёсик показал себя заботливым и гостеприимным братом.
Сводил он меня и в Александринский театр на знаменитый «Маскарад» Лермонтова в постановке Мейерхольда с Юрьевым в главной роли. Спектакль мне очень понравился. Мне даже показалось, что я узнал некоторые черточки режиссерского почерка Мейерхольда, так как свежи еще были впечатления от гастролей его театра в Запорожье[3].
В первое посещение Ленинграда на меня большое впечатление произвели невиданные в Запорожье сосисочные. Их на Невском было довольно много. В одну из них и завел меня Лёсик. Не помню, чтобы мы когда-нибудь ели сосиски в Запорожье. Мне они показались необыкновенно вкусными.
Не могу забыть маленького происшествия, случившегося со мной в одном ленинградском магазине.
Мы с Лёсиком решили сделать маме подарок – купить новый рабочий чемоданчик. Уж очень у нее поизносился тот, с которым она ходила на работу – носила в нем медицинский халат и разные мелочи.
Но найти такой чемоданчик оказалось совсем не просто. Мы обошли много магазинов, но нигде не было такого, как нам нужно.
После долгих поисков, усталые, мы зашли в какой-то небольшой магазин, наверно в Пассаже. Стали осматривать прилавок и полки вдоль узкого торгового помещения. Нет, все не то. И тут я обернулся и увидел, что напротив еще один прилавок. Надо посмотреть, что там. И ринулся в противоположную сторону. Лёсик едва успел ухватить меня:
– Ты куда?
Я показываю:
– Туда.
– Это зеркало.
Я не обратил внимания, что стена напротив прилавка в этом магазине была сплошным зеркалом. Оно расширяло узкое пространство торгового зала и создавало иллюзию второго прилавка. Не удержи меня Лёсик, могли пострадать и я, и зеркало: уж очень решительно я двинулся ко «второму прилавку».
Часть одних летних каникул Лёсик провел в военном лагере на сборах, где овладел профессией военного связиста, научился гонять на мотоцикле.
В первые же дни Отечественной войны он записался в ополчение. В июле – августе 1941 года мы получили от него несколько открыток из Ораниенбаума, где находилась его часть. Возможно, он писал в Запорожье и после того, как мы 18 августа покинули город. Последнюю его открытку – от начала сентября – получила в Москве мамина сестра Женя. Она показывала ее мне, когда, я учась в Полиграфическом, жил в ее семье. Как жаль, что я не догадался забрать ее для собственного архива.
После этого связь прервалась. На бесконечные папины письма-запросы с просьбой сообщить о судьбе Лёсика приходили стандартные малоутешительные ответы об отсутствии сведений.
Далее следует подробный рассказ обо всех – безуспешных – попытках выяснить судьбу Лёсика во время войны.
Конечно, мы понимали, что вряд ли он уцелел, но все же капля надежды теплилась.
В 1945 году мама, чтобы повидаться со мной и сестрой Женей, согласилась сопровождать из госпиталя в Двигательстрое тяжелораненого солдата домой в Смоленск. Путь поезда лежал через Москву, где я тогда учился в Полиграфическом. Поручение было, мягко выражаясь, не из легких. Солдат был прикован к постели. Тяжелейшая рана в живот лишила его части желудка и кишечника. Он жестоко страдал. При пересадке в поезд на Смоленск я повидался с мамой на вокзале. Вот тогда-то она мне и сказала, что мечтает, чтобы Лёсик вернулся хоть таким, как этот солдат, только бы вернулся.
Время шло, но рана от потери сына и брата не заживала. Конечно, жизнь с ее заботами, горестями и радостями отвлекала, как бы затягивала рану тонкой пленкой. Я по-детски долгие годы время от времени в бесплодных мечтах представлял себе, что вот настанет день, и в дверь постучится Лёсик и зайдет в дом, и мы крепко обнимемся. Но мечтания оставались лишь мечтаниями, а погиб ли Лёсик, жив ли, попал ли в плен, мы по-прежнему не знали.
Дальше папа подробно рассказывает о том, как благодаря одному из авторов сборника «Корабелы в боях за город Ленина» (М., 1971) Л.М. Видуцкому (который в начале войны тоже был студентом кораблестроительного факультета и тоже ушел в ополчение) вступил в переписку с Советом ветеранов 264-го ОПАБ (отдельного пулеметно-артиллерийского батальона), нашел хотя бы след погибшего брата и даже побывал в 1987 году в Ленинградской области, в деревне Низино на церемонии открытия мраморной плиты в память о погибших, на которой значится и имя Клементия Эммануиловича Мильчина. Там от председателя Совета ветеранов Н.И. Семьянова он узнал обстоятельства смерти брата:
Погиб Лёсик 22 сентября 1941 года, т. е. за три дня до расформирования разгромленного, по существу, батальона, вместе со всей своей 4-й ротой. Из нее уцелел, кажется, лишь один боец. Остальные были уничтожены немцами, несмотря на то что наши занимали доты и дзоты укрепрайона. Вся беда была в том, что укрепрайон был развернут для обороны Ленинграда со стороны войск, наступающих на Ленинград по направлению к нему, а немцы вышли к укрепрайону со стороны Ленинграда, и ОПАБ оказался беззащитным. Немцы были недосягаемы для огня пушек и пулеметов из дотов и дзотов. А бойцам батальона, их занимавшим, не выдали личного оружия в расчете на вооружение огневых точек. По рассказу Семьянова, немцы огнеметами выжигали находившихся в дотах и дзотах. Нетрудно представить, какой ужасной была смерть бойцов 4-й роты. Так, видимо, погиб и Лёсик.
Ему только-только исполнилось 22 года. Он был лучше меня, толковее, умнее, практичнее, добрее к людям. Сколько бы он мог сделать, останься жив! Сколько людей мог бы осчастливить благодаря своему доброму нраву! А ведь таких Лёсиков погибли сотни тысяч. Общая трагедия войны. Трагедия нашей семьи. Нет, не хватает человеку разумному разума, если он продолжает уничтожать себе подобных.
В конце главы о Лёсике хочу покаяться: не сумел сделать свой рассказ более глубоким и выразительным, таким, какого Лёсик заслуживал. А ведь никто другой рассказать о нем уже не в состоянии. Грустно.
Вот некоторые из записанных папой картинок из детства:
Через строящуюся плотину Днепрогэса
Это событие забыть нельзя. Мама в то время работала в родильном доме на правом берегу Днепра, за строящейся плотиной Днепрогэса. Добираться до места работы она могла только на пригородном поезде. Он перевозил пассажиров через Днепр по железнодорожному мосту. Мама – не знаю, по какой причине, – в тот день вынуждена была меня взять с собой на работу. Но поезда то ли не было, то ли мы на него опоздали. До плотины мы, кажется, доехали на автобусе, а перебраться на правый берег не было никакой другой возможности, как по уже вчерне возведенной плотине.
Пешеходная дорожка через плотину – это длиннейшая дуга из двух рядом положенных толстых досок, которые ощутимо пружинили под ногами. Слева от такой дорожки зияла пропасть котлована, до дна которой было, кажется, метров семьдесят. В котловане копошились люди, которые с высоты выглядели букашками. Поручнем служил, насколько помнится, несильно натянутый толстый канат. Справа чуть ниже уровня дорожки плескалась днепровская вода т. н. озера Ленина. Как только мы вступили на дорожку, сердце ушло в пятки. Все казалось таким зыбким, таким непрочным – вот-вот провалимся. Тянуло смотреть на дно котлована, на острые зубцы порогов, но от этого кружилась голова, и после нескольких попыток мое любопытство иссякло. В конце концов мы добрались до правого берега. Дальнейших событий этого дня память не сохранила.
Первый трамвай в Запорожье
Вскоре после того, как заработал Днепрогэс, в Запорожье пустили трамвай. Рельсы первой трамвайной линии от порта имени Ленина, рядом с плотиной, до Южного вокзала проходили невдалеке от нашего дома, по улице тогда Михеловича (потом переименованной), которая пересекала нашу Тургеневскую под прямым углом в метрах тридцати от нашего дома. Так что когда прошел слух, что сегодня проедет первый трамвай, мы с ребятами из нашего двора и многими другими побежали на угол Михеловича – Тургенева смотреть на небывалое зрелище.
Оно было равносильно большому празднику. Первый трамвай был украшен цветами и транспарантами и, как чудо, прогромыхал мимо нас. В нем сидели счастливчики-пассажиры и приветственно помахивали руками высыпавшим по обе стороны трамвайного пути запорожцам.
Вскоре мама (наверно, под напором моих просьб) повела меня на трамвайную остановку, и мы сели – о счастье! – в трамвай и доехали до Южного вокзала, а затем вернулись обратно. В памяти сохранилось чувство гордости и удовлетворения от исполненного желания и ощущение некоторого страха от еще не испытанной ранее езды. Новым поколениям, скорее всего, трудно понять, как можно ощущать счастье от поездки на трамвае, но это было именно так.
Поездка на «эмке»
Не меньшим было счастье от первой поездки на легковом автомобиле. Мама моя слыла в Запорожье одной из лучших акушерок. Поэтому родные и знакомые или знакомые знакомых часто обращались к ней с просьбой, чтобы она приняла роды. А однажды с такой просьбой обратился к ней главный инженер «Запорожстали» по фамилии, которую трудно забыть, – Толстопятов. Не знаю, просил ли он ее принять роды на дому или домой к нему она ездила, чтобы наблюдать за состоянием здоровья роженицы, но, так или иначе, мама посещала их дом (особняк на углу той же улицы Тургенева через три квартала от нас). У мамы с семейством Толстопятовых установились вполне дружеские отношения. Хотя Толстопятовы и принадлежали к городской элите, они не кичились этим. У них был сын примерно моего возраста, и, видимо, маме предложили приехать как-нибудь со мной. И вот однажды, когда за ней прислали машину «М-1», она взяла меня с собой. Несмотря на то что путь был очень коротким и я не успел оглянуться, как мы уже были на месте, счастье переполняло меня. Отчетливо помню, как приятно было покачиваться на мягком упругом сиденье, как замечательно пахло в салоне кожей и немного бензином, специфическим запахом легкового автомобиля.
У Толстопятовых нас громким устрашающим лаем встретил большой дог, от которого я шарахнулся, но его быстро усмирили. Мой соученик Юра Лейтес, выслушав мой рассказ, как меня облаял дог, тут же сочинил историю о том, как Кадик (мое домашнее имя) покусал собаку и чуть не откусил ей ухо. История эта очень его забавляла, чего не могу сказать о себе. В квартире меня поразили прекрасные книги, детский настольный бильярд, в который мы играли с младшим Толстопятовым, и много других никогда не виданных мною игрушек, которые были тогда большой редкостью.
В 1937 году отца семейства арестовали, и семья куда-то переехала, во всяком случае, исчезла из нашего поля зрения, и судьба ее мне неизвестна.
Коклюш и первое отторжение обществом
Уже тогда, когда мы жили в собственной квартире, я заболел мучительной болезнью – коклюшем. Помню это не из-за длительных изнуряющих приступов кашля. Они были, но в память врезались не столько они, сколько два последствия этой болезни.
Первое последствие – месяц вместе с папой в деревне Верхняя Хортица, на правом берегу Днепра, за будущей плотиной Днепрогэса. Там была немецкая колония, и папа вел там прием больных. Его послали туда потому, что он хорошо владел немецким языком, о чем я уже упоминал.
Считалось, что лучшее целебное средство для заболевших коклюшем – свежий деревенский воздух. Именно поэтому папа и взял меня с собой. Деталей жизни в Верхней Хортице я не помню. Смутно в памяти всплывает теленок и разогретая солнцем мягкая пыль деревенского проселка. В общем, жизнь там была приятным последствием болезни.
Неприятное же произошло, когда я через месяц вернулся домой. Я выздоровел, и если до отъезда в Верхнюю Хортицу родители запрещали мне играть с детьми (коклюш – заразная болезнь), то теперь запрет был снят, и я, полный радостных надежд, бросился во двор играть с ребятами. Но как только я приблизился к своим дворовым приятелям, они отвергли меня самым безжалостным образом:
– Ты заразный! Не подходи к нам!
Мой жалкий лепет, что я уже здоров и незаразный, действия не возымел. И пришлось мне, глотая слезы обиды, удалиться в наш отгороженный от двора садик и там играть с самим собой. Чувство несправедливости переживалось очень остро, и именно благодаря нему сохранился в памяти злополучный коклюш.
Тузик и Васька
Мой главный домашний друг детства – Тузик, небольшая собачка рыжей масти, с острой лисьей мордочкой и слегка выпуклыми глазами. По размерам она была близка к комнатным собачкам, чуть больше нашего кота Васьки.
Взяли мы Тузика щенком у Масловых[4]. У них была такого же размера белая собачка, звали ее, кажется, Дэзи. Она и ощенилась нашим Тузиком. Ульяна Алексеевна Маслова утверждала, что Дэзи – породистая собака и что ее порода зовется «звонок». Никогда и нигде я не встречал такого названия собачьей породы. Наверно, все же Тузик был потомственный «дворянин» с примесью благородных кровей. Единственное, что отвечало названию его мифической породы, – это звонкий лай на самых высоких нотах.
Любовь Тузика ко мне, его преданность мне выражались очень непосредственно, когда я возвращался из школы. Он обычно в это время сидел на крыльце, наблюдая за жизнью улицы. Увидев меня издали, он бросался мне навстречу, бешено виляя хвостом – одно из выражений собачьей радости и счастья. Когда расстояние между нами сокращалось метров до десяти, он, повизгивая, начинал ползти ко мне на животе – следующая, более сильная степень собачьей радости и счастья. Хвост при этом молотил тротуар изо всех сил. За два-три метра до меня он в порыве захлестнувшего его чувства переворачивался на спину и визжа приветствовал меня всеми четырьмя лапами и хвостом. Когда я подходил к нему впритык, он вскакивал, кружился вокруг меня, подпрыгивал. Знаю, что он хотел лизнуть меня в лицо, чтобы я окончательно и бесповоротно убедился, как сильно он меня любит.
Сидя на крыльце, Тузик облаивал многих проходящих мимо людей, но не всех, не каждого. Особенно он возненавидел одного пожилого еврея, ходившего мимо нас в синагогу. На него Тузик лаял так яростно, что тот пожаловался на Тузика маме, а затем предпочел проходить мимо нас по противоположной стороне улицы. Должен сказать, что в этом человеке в самом деле было что-то неприятное, и видел это не только Тузик, но и я. Думаю, что он осложнил свои отношения с собачкой то ли потому, что стал по вредности своего характера дразнить ее, то ли потому, что угрожал ей, а может быть, даже пихнул ногой. Впрочем, не исключено, что Тузик со свойственной многим собакам проницательностью ощущал в этом человеке дурные наклонности и качества.
Никого Тузик никогда не кусал, но лаял он так громко и звонко, что невольно внушал некоторое опасение: «А вдруг набросится и укусит?»
К величайшему огорчению нашего семейства, Тузик очень осложнял жизнь гостям нашего дома. Стоило гостю, впервые приехавшему к нам, т. е. мало знакомому Тузику, встать ночью по нужде, как Тузик, верный страж, поднимал лай, бросался гостю в ноги и немало тем его смущал. Перебудив всех и поставив гостя и хозяев в неудобное положение, Тузик, подчиняясь успокаивающим словам, умолкал и укладывался клубком на свою подстилку в кухне, где у него в углу стояло также блюдце для еды.
Иногда я брал Тузика с собой на прогулку в Дубовую рощу или на Днепр, где он с удовольствием плавал. Однажды на пути туда с нами случился казус, заставивший меня основательно поволноваться. Дорога от нас в Дубовую рощу, расположенную недалеко от Днепра, и далее к Днепру пролегала по обрывистому берегу небольшой речки Московки. Обрыв был крутой, но не слишком высокий – самое большее в два средних человеческих роста. Мне, однако, тогда (а было мне, наверно, лет 10–11) такая высота казалась горой. Тузик предпочел спуститься к самой кромке воды, а не бежать рядом со мной по дорожке сверху. Так мы и следовали параллельными курсами: Тузик по узкой кромке у воды, я – по дорожке над обрывом. Но вскоре Тузику надоело бежать в отдалении от меня, и он попытался взобраться наверх по круче. Не тут-то было. Он скатывался обратно к воде и стал лаем выражать свое недовольство и призывать меня на помощь. Что было делать? И спуститься страшновато, и Тузика жалко. Я сначала попытался пойти обратно, чтобы дойти до места, где обрыв только начинался, не был таким крутым и где Тузик мог без всяких усилий подняться на дорожку. Но Тузик мой маневр не понял и продолжал крутиться возле места, где он предпринял неудачную попытку восхождения. Тогда я не выдержал и, цепляясь за чертополох и кусты, почти на пятой точке спустился вниз, взял Тузика на руки и выбросил его на дорожку. Затем, обдирая руки, стал карабкаться наверх сам. В конце концов мне это удалось. И воссоединенная парочка продолжила путь к цели своей прогулки без всяких приключений.
С котом Васькой Тузик жил дружно. Они иногда даже ели из одного блюдечка одновременно.
Погиб Тузик незадолго до войны. Пес он был любвеобильный. Однажды доставил мне немало переживаний. Я увидел, как он после успеха в своих любовных забавах буквально склеился со стороны хвостов со своей возлюбленной и каждый из них стал тянуть в свою сторону, причиняя, видимо, боль другому. Я растерялся, не знал, что предпринять. Видел такую картину впервые. Через некоторое время любовники расцепились, и каждый побежал в свою сторону, а я облегченно вздохнул.
Нелегкая занесла Тузика в стаю собак, добивавшихся успеха у сучки. На беду Тузика, в стаю затесался волкодав, который никому не хотел уступать первенства. А храбрый Тузик тоже не сдавался. Тогда волкодав набросился на него, и Тузик пал, разорванный пополам клыками безжалостного соперника. Об этом нам рассказали видевшие гибель Тузика соседи. Забрать то, что осталось от Тузика, вышел папа. Он и захоронил останки моего любимца. Это сейчас я хладнокровно пишу о случившемся, а тогда весть о гибели Тузика потрясла меня. Я сказал маме:
– Не пускай ко мне дедушку! – а сам отправился переживать свое горе на веранду, где и пролежал до позднего вечера, отказавшись от обеда и ужина.
На кота Ваську я мало обращал внимания. С Тузиком можно было говорить. Видно было, что он многое понимает. Кошек же из-за того, что они не понимали слов, я не жаловал, считая их существами низшего сорта. Но у Васьки были достоинства, которыми даже я не мог не восхищаться. Он вскакивал на раковину и пил воду из-под крана. Свои большие и малые дела он справлял в унитаз в уборной. Взбирался на край унитаза, садился, как человек, и – пожалуйста. Причем никто его этому не учил. Мы с гордостью демонстрировали способности Васьки гостям, если был подходящий момент.
Сталинские репрессии
Моей семьи они коснулись лишь косвенно. В 1937 году был арестован и сгинул в лагере муж маминой двоюродной сестры тети Сони Саша Кац. Он работал в порту главным бухгалтером, от политики был далек. Все родственники восхищались его веселым характером, остроумием, умением артистически рассказывать анекдоты и разыгрывать близких. Арестовали его по доносу какого-то негодяя, которого, кстати, потом, как я слышал из разговоров взрослых, судили за клевету, в том числе и за клевету на Сашу, но вернуть Сашу это не помогло. Старшей дочери после его реабилитации сообщили, что он умер от болезни в 1942 году, и выплатили какую-то смехотворную сумму денег.
Для нас это была большая утрата. Наши семьи были очень дружны, вместе встречали праздники, вместе ездили отдыхать в Крым (в Феодосию). Соня героически пыталась бороться за мужа, обивала пороги разных учреждений, ездила в Днепропетровск, Москву, но все было тщетно.
С того времени, как Сашу арестовали, мои родители в знак солидарности с Соней перестали ходить в кино и театр, объявили молчаливый траур. Всего этого я не мог не замечать, но, пожалуй, задевало это меня лишь краем. Детские интересы брали свое. Впрочем, Сашу я очень любил и никогда не мог забыть, а первые годы даже тосковал по нему.
У Сони жила в Бессарабии (тогда это была заграница – Румыния) родная сестра Муня. Как-то она добилась разрешения приехать в Запорожье, чтобы повидаться с матерью и сестрами. За ней командировали Сашу. Когда они приехали, на вокзал встречать их отправились все родственники. Был там и я. Все окружили Муню, буквально набросились на нее, совсем забыв о Саше. Никто к нему не подошел даже поздороваться. Кажется, только я это сделал, явно растрогав его таким вниманием к себе. И арестовали его вскоре после приезда Муни. Возможно, общение с иностранной родственницей тоже было поставлено ему в вину.
Мама и папа, как могли, утешали и поддерживали Соню. Она часто бывала у нас, рассказывала о своих безуспешных хлопотах, и седела на глазах.
Отзвуки политической борьбы коснулись моего уха уже в первых классах школы. Именно тогда узнал я о каких-то зловещих троцкистах, которых арестовывают за их злодейства. Троцкист – это звучало как ужасный человек. С ними нельзя было знаться. Это грозило арестом. Уже эти туманные сведения, как помнится, заложили основы для чувства страха и осторожности, которые были мне свойственны всю жизнь.
Каким я был учеником
Справедливо будет сказать, что учеником по способностям и успеваемости я был средним, не плохим и не хорошим.
Отчетливо помню, что мне плохо давались описательные дисциплины – география, история, ботаника и т. д. Теперь, кажется, я понимаю – почему. Я не обладал хваткой памятью, такой, которая позволяла бы с одного чтения запомнить содержание параграфа учебника и пересказать его, а именно этого мне хотелось. Прочесть же несколько раз и потом в качестве репетиции пересказать прочитанное самому себе не хватало времени и терпения. А пересказывать своими словами я не умел, не знал, как этому научиться. Моя робость и стеснительность запирали, связывали мой рот при ответах в классе, и мне надо было знать текст параграфа учебника наизусть, чтобы уверенно, без запинки отвечать учителю. Никак не мог я понять, что важно усвоить суть, а не форму, и безуспешно старался запомнить текст учебника в той форме, в какой он был напечатан. Отсюда и страдания, и неуверенность. Да, видимо, и текст учебника не вызывал интереса, был скучным. А вот все дополнительное к теме урока я читал с удовольствием, во мне просыпался дух открытия новых знаний. К тому же это не требовалось запоминать, и, как ни странно, дополнительные сведения, добытые собственными стараниями, укладывались в мозгу сами, и изложить их я мог без всяких усилий.
Все же и память у меня была неважная. Свидетельством может служить такой факт. Я с трудом учил и запоминал стихотворения. Мне нужно было до десяти раз повторить наизусть текст стихотворения, чтобы запомнить его и прочитать вслух в классе. В пятом или шестом классе на экзамене по русской литературе я вытянул билет с заданием: Назовите свое любимое стихотворение и прочитайте его наизусть. Первый вопрос не помню, а этот запечатлелся на всю жизнь. Меня можно было смело зачислить в счастливчики, но… стихи я читать не привык, и любимого стихотворения у меня не было. Стихотворения же, которые мы учили в течение года, выветрились из моей головы. А тут такая удача. С большим трудом я вымучил «Тучки небесные, вечные странники…» из классной программы, да и то мне повезло, что учительница, директор нашей школы Любовь Марковна, человек очень занятой, прервала мое художественное чтение на середине: конца я толком не знал.
Не могу не заметить, что и в последующем, когда я читал лекции на курсах повышения квалификации редакторов или выступал с докладами на конференциях, мне не удавалось формулировать мысли так свободно, без бумажки, как хотелось. Меня преследовала боязнь, что я что-то заранее продуманное либо забуду сказать, либо сформулирую не так точно и убедительно, как сделал это предварительно в письменной форме. Поэтому я всегда запасался подробным конспектом лекции или доклада и лишь изредка заменял их планом из кратких пунктов, которые надо будет развернуть в связную доказательную и убедительную беседу со слушателями. Причем буду ли я невидимой нитью прочно привязан к написанному тексту или смогу свободно излагать то, что хочу донести до слушателей, во многом зависело от контакта с аудиторией. Если я видел и чувствовал, что заинтересовал, увлек слушателей, то отрывался от конспекта и начинал импровизировать, хотя нередко потом и жалел об этом, поскольку выяснялось, что не все из задуманного сумел сказать, пропустил нечто важное.
На Днепре
Многие каникулы провел я в детстве на Днепре. И это были самые счастливые дни. Папа купил небольшую плоскодонку на трех-четырех человек, и, когда я стал постарше, мне разрешили плавать на ней без сопровождения взрослых, с группой соучеников, которым тоже разрешали ходить на Днепр потому, что я пользовался у их родителей доверием, воспринимался ими как исключительно положительный мальчик, осторожный и предусмотрительный. В группе непременно присутствовал Алеша Касперский, главный спортсмен нашего класса.
Обычно мы выезжали на лодке на середину Днепра и с лодки ныряли в воду. Лодка плыла по течению, а мы сопровождали ее вплавь. Лишь перед самым Старым Днепром залезали в лодку и на веслах направлялись к пустынным в будние дни пляжам Старого Днепра. Там в каком-нибудь понравившемся нам месте мы устраивали стоянку. Несколько часов там загорали, купались, соревновались – кто дальше прыгнет с места и с разбега, кто дольше продержится под водой, кто дальше заплывет против течения, кто быстрее проплывет намеченную дистанцию. Алеша был первым во всех соревнованиях, кроме одного. В плавании брассом я превосходил его, чем очень гордился.
Другой наш речной аттракцион (кроме полуторакилометрового плавания) был очень рискованным трюком. Как только на нашем пути попадался буксир, тянущий за собой караван барж, мы не могли устоять от соблазна проскочить на веслах между буксиром и первой за ним баржей. Расстояние между ними было достаточно большим, трос натянут на высоте метра полтора, так что большого труда пересечь под тросом линию движения каравана не составляло. Нужно было разогнать лодку и приблизиться к этой линии у кормы буксира так, чтобы был запас расстояния, делавший относительно безопасным путь нашей лодки, перпендикулярный линии движения каравана. Обычно мы пересекали эту линию за много метров до носа первой баржи, так что лихие крики, которыми мы сопровождали свой трюк, не вполне отвечали тому точному расчету, который позволял нам обоснованно не бояться налететь на баржу. Все же и с буксира, и с баржи по нашему адресу звучали весьма нелестные крепкие слова, в общем вполне заслуженные.
Плавание и гребля настолько полюбились мне, что когда после войны я приезжал в Запорожье летом провести отпуск, то предлагал свои услуги лодочникам в качестве гребца-перевозчика. Грести на большой лодке, вмещающей 18–20 человек, большими веслами было, конечно, не то, что на нашей лодчонке. Но мне и хотелось большой физической нагрузки, да к тому же еще и полезной. Один из лодочников, пожилой житель острова Хортица, охотно принимал мои услуги, и мы оба были довольны. К сожалению, забыл, как его звали.
В засушливое лето Днепр ниже плотины Днепрогэса мелел и на середине реки против порта в старом городе образовывались небольшие песчаные острова, на которые любили заплывать с городского пляжа самые азартные пловцы. Делал это не раз и я. На острове обычно загорали, отдыхали, а затем возвращались обратно на общий пляж.
Из походов на Днепр прочно запомнилась дорога домой. Если не было возможности переправиться через Ореховку на лодке, приходилось идти до железнодорожного моста, перекинутого в метрах двухстах от станции, причем сразу же за станцией начинались пески. Место было открытым. Возвращались мы часто к обеду. Солнце в это время палило безжалостно. Ноги вязли в песке. Вскоре от свежести после купания не оставалось и воспоминания. Лицо и шея покрывались потом. Лишь перейдя мост и достигнув Дубовой рощи, мы могли несколько передохнуть от жары. Но самым трудным участком на пути домой было место, где кончалась река Московка, вдоль берега которой пролегала тенистая дорожка, и начинались городские улицы. От улицы Кирова, первой пересекавшей наш путь домой, до улицы Артема тянулся выжженный солнцем пустырь. Это была последняя трудная преграда. Солнце здесь палило особенно безжалостно. Мы обливались потом. Губы пересыхали. Ввалившись домой, мы набрасывались на холодный компот, предусмотрительно заготовленный мамой. Оторваться от него было очень трудно. Пили, во всяком случае я, как любил говорить Вова Браиловский[5], «от пуза», т. е. так, что пузо наливалось, становилось тугим, как барабан. В доме было прохладно, так как на дневные часы окна закрывались ставнями. И желание больше никогда-никогда не ходить днем через пустырь постепенно исчезало. На следующий день все повторялось в точности.
За год до начала войны я уже наловчился переплывать Днепр. Делать это было нелегко. Когда выходил после этого на другой берег, ноги дрожали и подгибались от усталости. Чтобы достичь намеченного на другом берегу места, приходилось заходить вверх по течению и плыть под углом 45 градусов против течения.
В начале войны, уже после того, как наш класс вернулся из совхоза в Запорожье, я решил посетить Днепр для прощанья с ним, будучи уверенным, что расставание неизбежно. Вместе со мной, кажется, был Мося Цуреф. Днепр был пустынным, осиротевшим. Переправы на хортицкий пляж не было. Мы решили добраться до него вплавь. Сложили одежду и поплыли на боку, держа сверток на полусогнутой свободной руке. На Хортицу мы добрались без осложнений, а вот на обратном пути, когда мы уже были недалеко от берега, я оплошал: рука, державшая сверток, неожиданно подломилась от усталости и одежда ненадолго оказалась в воде. Приплыв к берегу, разложил одежду, чтобы высушить ее. К сожалению, в верхнем кармане рубашки лежал комсомольский билет, и он не сильно, но промок по краям.
Расстался я с Днепром уже после пятидесяти. В 1980-е годы я приезжал в Запорожье по приглашению Вовы Браиловского и жил на его садовом участке. От участка до Днепра было очень далеко, и хотя я побывал несколько раз на берегу, но, что называется, только отметился. Ни переезжать на Хортицу, ни плавать в Днепре уже не стал. Одному было неинтересно, а Вова к Днепру был безразличен.
Лишь еще один раз выкупался я в Днепре, но не в Запорожье, а где-то между Запорожьем и Херсоном во время так называемой «зеленой стоянки» теплохода, который совершал круиз Киев – Херсон – Одесса и обратно. Союз журналистов наградил меня бесплатной путевкой (остальные пассажиры выиграли путевки по билетам лотереи, устроенной Союзом журналистов). В то время я был деканом редакторского факультета Института журналистского мастерства при Центральном доме журналиста. Должность звучала чересчур громко и пышно, а на самом деле я лишь составлял план занятий – перечень тем для лекций – и находил лекторов, способных провести соответствующие занятия. И сам входил в число лекторов. Вот и все. Деканство было общественным, а за лекции Союз журналистов платил, и по тем временам по неплохим ставкам.
Достопримечательности Запорожья
Наверно, я не составляю исключения, признаваясь в любви к городу, в котором вырос. У многих вздрагивает сердце, когда они слышат о своем родном городе. То же происходит и со мной при одном упоминании Запорожья.
Поэтому не могу не написать о достопримечательностях моего города, о том, чем он гордился.
Когда я был маленьким, то Запорожье было еще районным центром Днепропетровской области. Секретарь Днепропетровского обкома компартии Хатаевич был в городе легендарной фигурой. Даже малыши знали, что он построил для них детскую железную дорогу в Днепропетровске. Возможно, что авторитет был вполне заслуженным. Но позже это не помешало Хатаевича расстрелять.
Днепрогэс был, пожалуй, главной достопримечательностью Запорожья в годы моего детства, да и позднее. Он сделал город знаменитым на всю страну. Это я сознавал уже в начальных классах. Мы все гордились Днепрогэсом.
До войны большое число зевак собирались у шлюзов рядом с плотиной Днепрогэса, через которые корабли спускались или поднимались на 70 метров и продолжали свой путь в Херсон или Киев. Шлюзовались тогда корабли очень медленно, но наблюдавшие терпеливо дожидались, когда наконец сровняются зеркала вод в соседних камерах, неспешно откроются соединяющие их ворота и корабли осторожно переползут из одной камеры в другую. Процесс этот завораживал.
Переезд или проход через плотину тоже казался интересным. С одной стороны вровень с плотиной плескался Днепр, а с другой зиял пугающий своей высотой обрыв. В далекой низине из воды торчали острые верхушки скал, а между ними были видны лодки рыбаков, казавшиеся лилипутскими. По бокам плотины текли ручейки днепровской воды. Озеро Ленина вверх по течению Днепра перед плотиной поглотило не то городок, не то село. Когда летом Днепр мелел, то из воды озера показывался купол погребенной под водой церквушки.
Вторая достопримечательность Запорожья – это, конечно, остров Хортица, где некогда размещалась Запорожская сечь – центр украинского казачества. После войны Хортица стала заповедником, там открылся музей, но все это произошло, когда я уже давно уехал оттуда.
Был еще дуб Екатерины на правом берегу, за плотиной Днепрогэса. Но в детстве я о нем только слышал, а повидал лишь в начале сентября 1982 года, когда совершал круиз Киев – Херсон – Одесса. На обратном пути у нас была остановка в Запорожье с осмотром достопримечательностей, и в том числе дуба Екатерины. Это действительно огромное дерево, и обхватить его руками могут только несколько человек. Но насколько истинна легенда о том, что под ним останавливалась отдохнуть Екатерина Великая, неизвестно.
Кроме того, побывали мы и на экскурсии в турбинном зале Днепрогэса. Раньше я его если и видел, то только на картинках. И хотя я чувствовал себя в городе уже немножко чужим, но все же в некотором смысле ощущал себя вернувшимся из далеких краев родственником.
Чисто местной достопримечательностью, так сказать, только для запорожцев, была Дубовая роща (по-украински Дубовий гай). Это сравнительно небольшой лесок в старой части Запорожья, недалеко от Днепра и второго запорожского порта. Летом мы проходили по Дубовой роще почти каждый день, так как через нее пролегала тенистая дорога к Днепру в районе устья его притока Ореховки.
Знаменита Дубовая роща была так называемым дубом Махно. По легенде, которую знал каждый запорожский мальчишка, на этом дубу батька Махно устроил засаду. На суку дуба, скрытом густыми листьями, он посадил пулеметчика, который обстреливал противника с высоты. В самом деле, на краю рощи со стороны города стоял дуб, в ствол которого были вбиты толстенные костыли. Легенда гласила, что по ним пулеметчик взбирался на дуб. Правда это или нет – не знаю, но мы, когда были маленькими, принимали это за чистую монету и рассматривали «дуб Махно» с восхищением.
Сейчас «Дубовий гай» считается городским парком. В него входят не только дубовая, но и прилегающие лиственные рощи. Везде стоят скамейки и киоски, построена летняя эстрадная площадка. Но, пожалуй, без этих примет современной городской культуры Дубовая роща была приятнее.
Чтение в детстве
Читать я научился до школы, с очень небольшой помощью взрослых. Книги привлекали меня с самого раннего детства. Но таких детских книг, какие издавались позднее, я не видел.
В доме книг у нас было немного. В основном это были фундаментальные труды по специальностям мамы и папы, т. е. по акушерству и стоматологии. Ни папа, ни мама книгочеями не были.
Откуда появлялись художественные книги, не помню. Однако одна из первых прочитанных книг запомнилась очень хорошо, не столько по содержанию, сколько по влиянию на мои вкусы. Это была книга из «Золотой библиотеки приключений» – одна из многочисленных робинзонад. Почему-то на меня очень сильное впечатление произвели описанные в ней страдания «робинзонов» от того, что им приходилось есть мясо без соли. Без нее мясо казалось таким пресным, таким невкусным, что еда не доставляла им никакого удовольствия, поглощение пищи превращалось в постылую обязанность. С тех пор я всегда старался хоть щепоткой соли, но посыпать мясо, которое ел за обедом, будь то кусочек вареной курицы или котлета.
Чтение мое было беспорядочным. Никто им не руководил. Читал то, что попадало под руку. Папа записал меня в библиотеку Медсантруда – профсоюза медицинских работников. В ней были и детские книги. Но пользовался я ею сравнительно недолго. Отвадила меня от этой библиотеки библиотекарша, которая, принимая сдаваемые мной книги, непременно просила меня пересказать содержание прочитанного. Мне это было не по душе. Отказаться я не мог, а говорить складно не умел, а потому и не любил. Я сам себе казался страшно косноязычным. Вот и перестал ходить за книгами в эту библиотеку. Теперь я думаю, перетерпи я воспитательную работу этой женщины, может быть, быстрее и лучше научился бы излагать свои мысли. Так или иначе, но я предпочел уйти из библиотеки Медсантруда. Дальше круг моего чтения определялся обменом книгами с одноклассниками.
Любовь к чтению привела к тому, что я просил родителей вместо обычных подарков ко дню рождения и к другим праздникам выписывать мне газеты и журналы. Как я уже упоминал выше, мы в разные годы получали «Пионерскую правду», «Комсомольскую правду», «Литературную газету», «Пионер», «Костер», «Еж», «Чиж», «Красную новь», «Новый мир», «Знамя», «Литературный современник», «Технику – молодежи», «Литературный критик». Перечень, скорее всего, не исчерпывающий, но достаточно показательный. Все это я читал.
Из журнальных и газетных публикаций запомнились «Тайна двух океанов» Адамова (его печатала «Пионерская правда»), научно-фантастический роман Ю. Долгушина в «Технике – молодежи» (название не могу сейчас вспомнить), рассказы Кассиля в «Пионере» (особенно о мальчике, который на все реплики отвечал: «Мало ли что» – а возмущение собеседника парировал холодным: «Тем более»), «Старые знакомые» Ю. Германа, «Люди из захолустья» А. Малышкина (этот писатель мне очень нравился).
Любил я журнал «Техника – молодежи». Может быть потому, что технику и технические проблемы понимал не очень хорошо, а понять хотелось.
Было у нас дома собрание сочинений Максима Горького, которое мы получали по подписке (не то в 20, не то в 25 томах). И, как ни странно, я, кажется, прочитал почти все его тома подряд. Было выписано также собрание сочинений А. Малышкина. Подписался папа и на «Историю гражданской войны». Полученным перед войной первым томом я очень гордился и даже пытался его читать, но, честно говоря, одолел лишь небольшую часть.
Одной из любимейших книг детства были «Три мушкетера» Дюма. Перед самой войной мне необыкновенно повезло: я купил в книжном магазине, который регулярно посещал, «Трех мушкетеров» в детгизовской серии «Библиотека приключений и фантастики». Я и мечтать не смел о такой удаче.
Насколько ценил я это приобретение, можно судить по такому факту. Когда стало ясно, что мы в ночь с 18 на 19 августа 1941 года покинем Запорожье и надо припрятать от возможного грабежа все самое ценное, то я спустился в погреб, вырыл там ямку, спрятал в ней, обернув в кусок клеенки, «Трех мушкетеров» и засыпал их землей. Это был мой клад. Увы, когда после войны мои родители вернулись в Запорожье и отсудили нашу квартиру, моего клада в погребе уже не было. Видимо, воры искали, не зарыты ли в погребе драгоценности, и набрели на книгу. За неимением другого захватили ее.
Из книжных событий детства одно связано с романом Николая Островского «Как закалялась сталь». Как-то я, придя домой, увидел на диванной полочке завернутую в газету книгу. На мой вопрос, что это за книга, Лёсик ответил:
– Это мамина книга по акушерству. Не трогай ее.
Вскоре он ушел. А нужно сказать, что я уже рассматривал мамино руководство по акушерству, хранившееся у нас дома, рассматривал потому, что оно обещало раскрыть женскую тайну, уже привлекавшую меня. Так что я легко нарушил запрет – раскрыл таинственную книгу, чтобы рассмотреть, что там внутри. К моему удивлению, я увидел, что Лёсик меня обманул. Это была «Как закалялась сталь» Николая Островского. Я начал ее читать, и судьба Павла Корчагина меня очень увлекла, так что я не мог от нее оторваться. Павка Корчагин стал моим любимым героем.
Оказывается, Лёсику ее дали только на сутки или двое. Боясь, что я, начав ее читать, не дам ему возможности, когда он вернется из школы, проглотить ее за вечер и часть ночи, он и обманул меня. Все же я успел прочитать большую часть книги, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Она воссоздавала жизнь героя. Это было главным.
Впоследствии, когда моя старшая двоюродная сестра Зина старалась убедить меня, что роман Островского художественно слабый, я отвергал ее нападки. Я не понимал, что такое эта художественная слабость, а она не могла привести убедительные для меня доводы своей правоты. С Лёсиком мы роман, увы, не обсуждали.
Пробелом в моем чтении была поэзия. Я любил стихи Маяковского, но поэтические произведения практически не читал, и это наверняка обеднило мой духовный мир, сделало его прозаическим не только в прямом, но и в переносном смысле. Рационализм и прагматизм стали ведущими чертами моей натуры по той же причине. К этому надо присовокупить и неумение воспринимать и понимать музыку во всей ее глубине и тонкости. Все это сделало мое душевное устройство односторонним и обедненным. Попытки преодолеть эту односторонность я предпринимал, но безуспешно. Ходил вместе с женой на цикл органных концертов, но душа моя оставалась холодной, а мысли витали далеко от звуков. Если я волевым усилием заставлял себя браться за чтение поэтических сборников, это тоже ничем хорошим не кончалось. Каждый из них я бросал, прочитав лишь десяток страниц. Чтение стихов быстро утомляло. Душа моя оставалась холодной. Ни музыка, ни стихи ее не разморозили. Я и музыку, и стихи воспринимал рационально. Они задевали мои душевные струны только тогда, когда я улавливал в них некую мысль, некий сюжет. Печально, но факт.
Во всяком случае, именно чтение определило мою судьбу. Интерес к книгам, возникший в детские годы, стал ведущим в моей жизни. Так как, быть может, мне не с руки будет вернуться к этой теме дальше, то кратко напишу, как это проявлялось уже не в детские годы.
Огромную радость испытал я, увидев в библиотеке сочинского госпиталя, куда я попал поздней осенью 1942 года, целым и нетронутым полный комплект номеров журнала «Интернациональная литература».
Во время учебы в дагестанской школе я стал активистом поселковой библиотеки. Помогал библиотекарям в работе и был допущен к книжным полкам, что необычайно расширяло возможности выбора и обогащало мои библиографические познания.
Когда я начал учиться в Москве, то постепенно стал собирать собственную библиотеку. Книги тогда были огромным дефицитом. В продажу новых книг поступало очень мало и в небольшом числе экземпляров, несмотря на то что в Германии в счет репараций книги повышенного спроса печатались огромными тиражами.
Охотники за книгами собирались по воскресеньям (книги очень часто именно в этот день появлялись на прилавках) перед открытием у книжного магазина «Москва». Располагался он тогда не напротив Моссовета, как сейчас, а справа от него (если стоять к нему лицом) на той же стороне. Я неизменно старался быть среди этих охотников. Несколько десятков человек, дождавшись открытия магазина, сразу становились в очередь в кассу и уж затем, узнав, какая новая книга или книги появились в продаже, оплачивали покупку. Не всегда новые книги доставались всем любителям.
С книгами, приобретенными в «Москве», или без них гурьба книгодобытчиков отправлялась по одному и тому же маршруту в другие магазины. Наш путь лежал в проезд Художественного театра, где нашим вниманием пользовался Дом политической книги напротив театра и магазин № 46, ставший впоследствии Домом учебной книги. Дальше мы спускались по Кузнецкому мосту, заглянув в магазин подписных изданий, шли в Лавку писателей и магазин № 6. Этот последний был конечным пунктом для большинства. Но не для меня. В следующем квартале Кузнецкого моста находился магазин Гизлегпрома, впоследствии ставший магазином «Москниги» № 33. Он был предметом моего повышенного интереса: там продавались книги по редакционно-издательскому делу. В этом магазине я приобрел «Язык газеты», одним из авторов которого был ведущий преподаватель нашего редакционно-издательского факультета К.И. Былинский, его же книжечку «Основы методики и техники литературной правки» (2-е изд. М., 1945), очень хорошую книгу А.Ф. Добрынина «Редакционно-техническое оформление книги», выпущенную Гизлегпромом перед самой войной, в 1940 году. К сожалению, мне не удалось сохранить ее в своей библиотеке. Я дал ее почитать заведующей корректорской издательства «Искусство» Анне Борисовне Бельской, под началом которой работал, а она забыла мне вернуть, вскоре ушла на пенсию, и я потерял с ней связь. Проявил явную беспечность, о чем впоследствии очень сожалел. А.Ф. Добрынин разрабатывал те же темы, что позднее и я. Он был моим предшественником и учителем, так как именно он привлек мое внимание к проблемам культуры книги, ставшим для моей литературной работы главными.
Война
Начало моему взрослению положила Великая Отечественная война. Она перевернула жизнь всей нашей семьи, оставила ее без крова, «освободила» от домашнего скарба, унесла жизнь старшего брата, сделала меня на всю жизнь инвалидом, хотя и не таким увечным, как многих. Жертвами войны стали многие наши родственники. В Одессе были расстреляны мамин родной брат Иосиф и его жена, в Барановке – папин родной брат Исаак. В Ленинграде погибли от голода родная папина сестра тетя Сарра и ее муж. Военные потрясения сильно укоротили жизнь папы: после войны он прожил всего пять лет. Бедствия войны обрушились на нашу семью так же, как на сотни тысяч других семей.
Несостоявшийся отдых в Алуште
Накануне войны я окончил девятый класс. Мои родители и родители Вовы Браиловского решили нас поощрить и купили нам путевки в дом отдыха в Алуште. Мы уже предвкушали, как месяц проведем на берегу Черного моря вдвоем. Будем купаться, загорать, развлекаться, наслаждаться обществом друг друга. Пляж в Алуште замечательный – песчаный берег. Наша семья однажды провела в Алуште летний месяц. Я, правда, тогда был маленьким.
Вечером 22 июня мы должны были выехать в Симферополь. Были уже закуплены билеты. Но… война.
Еще до того, как Молотов выступил по радио с сообщением о том, что Германия напала на Советский Союз, рано утром в Запорожье молниеносно распространились слухи, что началась война, что немецкие самолеты бомбят наши города. Мама принесла эти вести домой. Я, оболваненный советской пропагандой, отказывался верить. Стал уверять маму, что быть этого не может: ведь мы заключили с Германией Пакт о ненападении. Сейчас поражаюсь своей глупости, но так было, хоть и стыдно в этом признаваться.
После радиовыступления Молотова пришел домой папа. Перед моими глазами до сих пор стоит сцена на веранде, где мы с мамой сидели, пораженные сообщением о начале войны. Особенно ошарашен был я. Пришел папа, зашел к нам на веранду, сел на стул и заплакал. Видеть, как папа, человек суровый, не склонный проявлять какие-либо эмоции, плачет, было тогда странно и непонятно. Теперь я понимаю, что он уже предвидел все несчастья и беды, которые обрушатся на нас. Он знал немцев и их армию не понаслышке, так как в Первую мировую войну провел три года в немецком лагере для военнопленных. Он отчетливо сознавал, что благополучная довоенная жизнь рухнула.
В совхозе «Переможець»
Через несколько дней наш класс вместе с классным руководителем, учителем биологии Петром Андреевичем Сарбеем выехал в Акимовку под Мелитополем, в совхоз «Переможець» («Победитель») для участия в сельхозработах.
У школьников нашего возраста были две возможности. Райком комсомола посылал школьников либо на село, либо в истребительные батальоны. Из нашего класса второй путь выбрали только Алеша Касперский и Шура Юдельсон. Я подумывал об этом пути, но не рискнул, посчитал себя не готовым для военных действий с ходу. В общем, почти весь класс отправился во главе с Петром Андреевичем в совхоз.
В совхозе нас разделили на две группы. Девочкам поручили копнить сено. Мальчиков же отправили пропалывать лесополосы – плоды грандиозного сталинского плана преобразования природы. Плоды выглядели, правда, очень жалко. Все же степной совхоз, видимо, рассчитывал защититься лесопосадками от суховеев и надеялся с их помощью задержать снега.
Деревца были высажены, видимо, совсем недавно. Это были чахлые кустики, чуть ли не палочки, еле возвышавшиеся над сорняками, которые нам предстояло выполоть под корень. По всей вероятности, у совхоза не было возможностей своими силами ухаживать за деревцами. А тут подвернулись мы.
Оглядываясь сейчас на эту нашу работу в начале войны на местах, которые подвергнутся оккупации, я вспоминаю прополку лесополос как сцену из театра абсурда. Во всяком случае, руководство совхоза могло бы более рационально использовать нас в предвидении потерь и тяжестей войны.
Мне за мои длинные ноги поручили быть еще и землемером – отмерять шагами, сколько погонных метров лесополосы мы пропололи. В норму мы, кажется, так и не сумели уложиться, но питание свое в конечном счете оправдали.
Жара в первое военное лето стояла страшенная, а укрыться в ровной от горизонта до горизонта степи было негде. Воду для питья (а пить хотелось все время) нам подвозили на подводе.
В первый день мы по неведению выпили воды из колодца, которым, как оказалось, в совхозе пользовались только для водопоя скота. В близкой к Перекопу местности вода из некоторых колодцев содержала английскую соль. Результат – понос, от которого я не сразу избавился.
Снова в Запорожье
Пробыли мы в совхозе до конца июля или начала августа, точно не помню. Что я делал после возвращения в Запорожье до 18 августа, когда фронт вплотную подошел к Запорожью, память не сохранила.
Папа очень хотел, чтобы военкомат призвал его на военную службу. В Запорожье формировался персонал ряда эвакогоспиталей. И многих знакомых врачей призвали для службы в этих госпиталях. В частности, Самуил Моисеевич Лейтес, папин коллега, зубной врач, отец моего соученика Юры, надел военную форму.
Но сколько папа ни ходил в военкомат, ему отказывали, так как он с самого начала войны был назначен начальником пункта ПВО.
Те врачи, которых мобилизовали и зачислили в штат эвакогоспиталей, смогли загодя спокойно выехать вместе с госпиталями в эшелонах на место дислокации и даже захватить самую необходимую часть домашнего скарба. Так случилось, например, с С.М. Лейтесом, который вместе с семьей выехал с эшелоном на Кавказ до того, как немецкие войска подошли к Запорожью и началась паника.
Бегство из Запорожья
18 августа немцы подошли к Запорожью со стороны правого берега напротив Днепрогэса. Плотину Днепрогэса взорвали, и огромный водяной вал покатился на остров Хортицу и город. В старом городе вода вплотную подошла к Московской улице, за квартал до нашего дома. Было это еще засветло, так что я, спустившись по нашей улице к Московской, увидел подступившую сюда воду собственными глазами.
Наступил вечер. Темное украинское небо озарялось вспышками. Слышались взрывы бомб и снарядов. Папа выяснил, что женщины, старики и дети могут еще выехать из Запорожья эшелонами. Поэтому мама с дедушкой отправились на Екатерининский вокзал (Запорожье-2), откуда и выехали на открытой платформе на юг, в сторону Орехова и далее Ростова-на-Дону.
У мужчин, не желавших оставаться в городе, который может вот-вот перейти во власть немцев, выбора не было. Надо было уходить пешком. Я, как уже упоминал, закопал в квартирном погребе «Трех мушкетеров», незадолго до того купленных в книжном магазине (невиданное везение!). И мы с папой, взяв с собой небольшие заплечные вещевые мешки, куда сложили самое необходимое, двинулись в путь пешком по шоссе, ведущему к г. Орехову. Рассчитывали, что там удастся сесть в поезд до Ростова-на-Дону.
Поспешность, с которой мы бросили все и отправились из города, объяснялась только паникой. Позднее выяснилось, что наши войска смогли удержать немцев на правом берегу. Запорожье не сдавалось еще чуть ли не полтора месяца. Однако стремительность, с которой немцы продвигались по Украине, не очень настраивала рисковать. Немцы вполне могли ворваться в город, а для нас – мы уже знали – это означало верную гибель.
Отчетливо помню чувство какой-то граничащей с тупостью легкости, с которой я шагал в неизвестность, не понимая, что нашей довоенной мирной жизни пришел конец, что впереди нас ждут тяжелые испытания. Вспомнил, как перед войной наша пятерка, возглавляемая десятиклассником Женей Курицыным, заняла 1-е место в пешем переходе на 5 километров с заполненными песком противогазными сумками через плечо. Ясно, что я плохо сознавал трагичность происходящего.
Вышли мы под вечер. По дороге нас нагнала подвода, принадлежавшая какому-то папиному знакомому, кажется работнику прокуратуры. Он с членами своей семьи шел пешком. Низкорослая же лошадка тянула подводу с вещами. Папе предложили положить наши рюкзаки на подводу, чтобы легче было идти. Это было очень кстати, так как по дороге у него неожиданно пошла кровь из ушей – видимо, следствие стресса из-за рухнувшей в одночасье семейной жизни. Знакомый посадил его на подводу.
Под бомбежкой. Ранение
Утром 19-го мы достигли села Кирово, где наши попутчики решили сделать привал. Лошадь распрягли и пустили пастись. Телегу поставили под раскидистым деревом в метрах пятнадцати от дороги, где и мы уселись перекусить.
Папа сел, прислонившись к стволу этого дерева, а я в нескольких шагах от телеги. Не подозревая о приближающейся опасности, я с удовольствием лакомился бутербродом с моим любимым вареным языком.
Вдруг послышались удары колокола и одновременно с этим гулкие взрывы. Уже потом я узнал, что немецкие самолеты бомбили дорогу, по которой мы только что двигались к Орехову. По этой дороге шло много народу: беженцы вроде нас, колонны призывников, еще не успевших надеть армейскую форму. Колокол и взрывы заставили меня инстинктивно броситься под телегу, но, как потом выяснилось, спрятаться под ней мне удалось только наполовину, по пояс. Ноги оставались за ее пределами. Помню, что бросился я под нее животом на землю. Дальше была темнота. Я, видимо, потерял сознание. Когда очнулся, то увидел, что лежу на спине и в руке зажимаю недоеденный бутерброд. Ощущение было такое, что меня пригвоздили к земле. Я приподнял голову, чтобы разглядеть, что случилось. И увидел, что правой штанины как не бывало. Ее всю срезало осколками. А нижняя часть левой ноги превращена в кровавое месиво. Осколок срезал часть голени размером с ладонь.
Мне повезло необыкновенно. Я сидел и закусывал на том самом месте, где зияла воронка от сброшенной немцами бомбы в полтора-два метра диаметром. Не бросься я под телегу, от меня бы осталось мокрое место. Если бы успел укрыться под телегой целиком, был бы цел и невредим. Но, увы, мои длинные ноги остались снаружи. Ранивший меня осколок, еще горячий, лежал рядом, ощерившись острыми зубцами краев. Боли поначалу не помню. Видимо, был как в полусне, ошарашенный происшедшим, и еще не сразу осознал, что, собственно, случилось.
Все попутчики отделались только испугом. Папа был слегка контужен взрывной волной, отчего не сразу стал действовать. Но он быстро пришел в себя и бросился на дорогу, чтобы остановить какую-нибудь попутную машину и отвезти меня в больницу. На счастье, мимо проезжала полуторка воинской санчасти. Она остановилась, и военврач (может быть, фельдшер) осмотрел мою ногу и быстро сделал перевязку. Затем на «стуле» из переплетенных рук меня донесли до полуторки и погрузили в крытый брезентом кузов. Папе врач сказал, что они едут в Орехов и отвезут меня в санчасть расквартированной там дивизии.
И мы поехали. По дороге я болтал какую-то чушь вроде того, что мне уже, наверно, не быть инструктором по легкой атлетике, каким меня мечтал видеть мой соученик Алеша Касперский, и не бегать по дорожке стадиона. Военные медики только посмеивались. Вспоминаю эту свою болтовню не без смущения. Будучи по природе очень стеснительным, разговорился я, видимо, возбужденный ранением.
В Кировской больнице
Ехали мы недолго. Узнав, что в селе есть большая больница, которая принимает гражданских раненых, военврач изменил решение, и меня завезли в эту больницу. Она была буквально забита только что раненными при бомбежке. И их все подвозили и подвозили. Немцы сбрасывали так называемые кассетные бомбы, которые поражали большую площадь и к тому же стелились над землей. Спастись от них, не спрятавшись в какое-нибудь укрытие, было очень трудно.
Меня положили на кровать, стоявшую в коридоре. Врач подошел, увидел, что перевязка мне сделана, велел сделать укол болеутоляющего (кажется, пантопона) и ушел в операционную.
Глаза мои сохранили картину: по коридору больницы несут девочку лет пяти-шести. У нее перебита нога у основания так, что держится только на одном сухожилии, как на ниточке. Тяжелое зрелище, которое долго не мог забыть.
Вскоре я провалился в сон. Проснулся я лишь на следующий день утром. Выемка от тела в кровати была заполнена кровью. Можно сказать, что я почти плавал в крови. Часов в двенадцать меня, наконец, перевезли в операционную.
Старичок-хирург с седой бородкой клинышком (такой, как у Калинина) снял повязку, отрезал болтавшиеся куски кожи вокруг раны и пробормотал, что, к сожалению, противостолбнячной сыворотки у них нет и придется обработать рану йодом. Только он может спасти от столбняка. Доктор наложил на рану марлевую салфетку, сказал: «Держись!» – и опрокинул на салфетку большой флакон с йодом.
Мне показалось, что потолок пошатнулся, как при землетрясении, но это ощущение быстро прошло. Старичок наложил повязку.
Я спросил у него, удастся ли сохранить ногу. Он ответил, что дня через два станет ясно. Все, мол, зависит от того, как дело пойдет. И меня отвезли в палату.
Нога болела, даже поворачиваться с боку на бок было тяжело. Болела и горела голова. Поднялась температура. Но главное, мучила неизвестность: «Найдет ли меня папа? Ведь он будет искать меня в Орехове, а я здесь. Если придут немцы, мне хана». Казалось, я обречен. Но думал я об этом с каким-то фатальным спокойствием: «Что будет, то будет».
Запомнился больничный обед. На второе блюдо подали вареники со сливами. Раньше мне ни видеть, ни пробовать таких не приходилось. С вишнями – да, но со сливами?.. Вареники были необычно большого размера и оказались вполне съедобными, хотя тесто было грубоватым, жестким.
На третий день в больнице появился папа, да не один, а с телегой и бойцом-возницей. Он, не найдя меня в больницах Орехова, узнал у тамошних медиков, где я мог оказаться, выхлопотал то ли у начальника Ореховского гарнизона, то ли у командира санбата телегу с ездовым и прикатил в Кировскую больницу, где и обнаружил меня. Видимо, сыграла свою роль профессиональная врачебная солидарность, которая и помогла папе найти и вывезти меня. К тому же папа оказался нужен санбату. Формировался санпоезд для отправки раненых в эвакогоспитали, и требовался врач в качестве начальника санпоезда. Папе как военврачу можно было дать такое поручение, не оголяя санбат.
Дорога в Орехов запомнилась мне почти непрерывной болью из-за тряски на многочисленных ухабах.
В Ростов-на-Дону на санитарном поезде
Когда мы прибыли в Орехов, санбат практически перестал существовать. Здание, в котором он находился, немцы разбомбили. Многие сотрудники и находившиеся на излечении раненые погибли. Тем не менее меня положили на оголенную сетку кровати в одной из уцелевших комнат и сделали укол – наконец-то ввели противостолбнячную сыворотку. Примерно через час меня на носилках перенесли в вагон санпоезда, сформированного из видавших виды пассажирских вагонов. Вскоре мы двинулись в путь.
По дороге меня все время донимал мучительный жар. Состояние было полубредовым. Спасали замечательно сочные кисло-сладкие яблоки, которые купил для меня папа. Обильный сок приятно холодил полыхавший и все время пересыхавший рот. Каким-то чудом яблоки эти смягчали и боль.
В конце концов мы остановились у перрона ростовского вокзала, который выглядел так, как будто войны не было. Запомнился перрон, крытый стеклянной полукруглой крышей. Работало радио. Звучали песни первых месяцев войны: «Вставай, страна огромная», «Так-так-так, говорит пулеметчик…».
В Ростовской областной клинике
С вокзала меня перевезли в Ростовскую областную клинику, где я пробыл дня два-три. Там мне сделали несколько перевязок и «угостили» красным стрептоцидом. Запомнился обход во главе с главным врачом, знаменитым на всю страну хирургом, армянскую фамилию которого никак не могу вспомнить. Он врывался в палату, как смерч, и в первую очередь бросался к ближайшей кровати и шарил под матрасом: не спрятаны ли там папиросы или мешочки с табаком. Затем контролю подвергались другие кровати, и только после этого он начинал осматривать больных и выслушивать ординатора и заведующего отделением. Он был яростный противник курения вообще, а в стенах клиники особенно. Сцена обыска выглядела, впрочем, анекдотически. Потому и врезалась в память.
За те дни, что я находился в Ростовской областной клинике, папа успел написать в Ворошиловск (так тогда назывался Ставрополь), куда должны были прибыть мама с дедушкой. Так мама с папой договорились, чтобы не потерять друг друга. Из Ростова мы с папой, опять в санпоезде, уже настоящем, т. е. приспособленном именно для перевозки раненых, отправились в Пятигорск.
В Пятигорской городской больнице
В Пятигорске меня сначала перевезли вместе с другими ранеными из санпоезда в госпиталь. Как только меня перенесли на носилках в палату и уложили на кровать, в палату вбежал раненый, который, услышав мою фамилию, очень похожую на фамилию его брата – Мильченко, решил, что в госпиталь привезли именно его. Он был, конечно, разочарован, что это оказалось не так. В госпитале я только переночевал. Администрация разобралась, что я лицо гражданское, и переправила меня в городскую больницу.
Лежал я в палате хирургического отделения. Палата была большая, человек на двадцать или больше. Обитали в ней люди с самыми разнообразными заболеваниями, требовавшими хирургического вмешательства: аппендицитом, язвой желудка, переломами и т. д. Лечили меня только перевязками.
Здесь я впервые после ранения стал ходить на костылях – принял снова вертикальное положение. Больница была расположена в большом парке. Осень была в Пятигорске тихая, солнечная, настоящее бабье лето. Ходить на костылях поначалу было трудно, но постепенно я освоился и стал даже бегать на них, получая от этого несказанное удовольствие. Единственное «но»: при вертикальном положении ноги в тапочку, которую я надевал на перебинтованную раненую ногу, стекал гной, в то время обильно выделявшийся из раны. Это ограничивало мои передвижения по парку. Я садился на скамейку и придавал раненой ноге горизонтальное положение, укладывая ее на один из костылей, который закреплял горизонтально между дощечками скамейки.
В палате Пятигорской больницы я впервые ощутил, что человек ко всему привыкает. Никогда не предполагал, что самые острые чувства могут почти совсем притупиться. Например, никогда бы не поверил, что смогу если не с аппетитом, то, во всяком случае, спокойно поедать обед, когда на соседней кровати покоится только что умерший человек. Но так было.
Тем временем мама с дедушкой приехали в Пятигорск, и мы впервые увиделись после расставания в ночь на 19 августа в Запорожье. Мама рассказала, как они с дедушкой путешествовали на открытой платформе. Как это не останавливало его религиозного рвения. Он надевал все свои «причиндалы» и, раскачиваясь, начинал в голос молиться. Мама пыталась уговорить его этого не делать, чтобы избежать насмешек попутчиков. Ничего не помогало. В конце концов какой-то злоумышленник украл у него молитвенные принадлежности. Для него это было большое горе.
Отправляемся в Куйбышев через Махачкалу
На семейном совете была решено не оставаться в Пятигорске, а ехать через Махачкалу в Астрахань и дальше в Куйбышев, куда переехала вместе с мужем мамина родная сестра Женя с маленьким ребенком, младшим сыном Владиком. Женя звала маму и папу приехать в Куйбышев. И хотя я не думаю, что папа и мама были настолько прозорливы, что предполагали возможный захват немцами Пятигорска, все же они решили не обосновываться в нем, а поехать в Куйбышев. Видимо, они считали, что вместе с родственниками и подальше от фронта будет легче перенести тяготы военного времени. Эта моя попытка восстановить ход рассуждений родителей, принявших решение двинуться дальше в тыл, основана на чисто логических посылках. Я не присутствовал при обсуждении родителями того, что делать дальше. Но принял их решение как должное, и оно спасло наши жизни, это несомненно. Родителей не остановило даже то, что я покидал больницу на костылях, тем более что меня это мало угнетало. Я приспособился к костылям, как будто всегда с ними ходил. Спешили мы потому, что могли не успеть до конца навигации. Ведь надвигалась зима.
Итак, 4 или 5 ноября 1941 года мы двинулись в путь. Сели на поезд до Махачкалы. Махачкалинский порт был забит. Желающих выехать на пароходе в Астрахань было более чем достаточно. Неизвестно было, когда он пойдет. Неизвестно было, попадем ли мы на него. Папа стал пропадать в порту. А чтобы мне не сидеть на холодной земле в порту, он снял маленькую полуподвальную комнатку недалеко от порта, где мы все и обитали в ожидании парохода.
Увы, нашим планам добраться до Куйбышева не суждено было сбыться. Парохода все не было. Затем всех известили, что навигация прекращена и парохода на Астрахань в этом году больше не будет.
В больнице моряков
Тем временем мне отчего-то стало худо. Вызвали скорую помощь. Она отвезла меня в портовую больницу – больницу моряков. Официально она называлась Городской больницей Каспводздрава. Случилось это, судя по сохранившейся справке больницы, 14 ноября. Пробыл я в этой больнице месяц, до 15 декабря 1941 года.
В это время папа не сидел сложа руки, а искал выхода, как быть дальше, где жить, как найти работу. От кого-то он узнал, что в Буйнакске находятся эвакогоспитали, в том числе и те, что сформированы из запорожских медработников. Буйнакск находится недалеко от Махачкалы. Их связывало железнодорожное сообщение. Папа съездил туда и нашел себе место в одном из госпиталей. Снял комнату, где они с мамой поселились вместе с дедушкой.
Мама тоже нашла себе работу – старшей сестрой в Доме матери и ребенка. Бог знает, почему он так назывался. Никаких матерей там и в помине не было. Это был детский дом для самых маленьких, включая грудных, так или иначе лишившихся родителей. Мамина доброта, ласковость были здесь более чем кстати. Дети это сразу почувствовали, тянулись к ней.
В Буйнакске
Когда папе стало известно, что настала пора меня выписывать из больницы, он приехал в Махачкалу, и мы на поезде отправились в Буйнакск. Рана моя значительно уменьшилась в размере, и я к этому времени в больнице уже передвигался без костылей, только с палочкой. Но в Буйнакск отправился еще на костылях, чтобы не перегружать ногу.
В Буйнакске я лечился амбулаторно в госпитале, ходил туда на перевязки. И через некоторое время стал ходить с палочкой. А когда она уже перестала быть нужной, поступил на работу в тот госпиталь, где лечился, культурником. Обязанности мои были очень простыми. Я разносил книги, журналы и газеты. Тяжелораненым читал их вслух. Писал под диктовку письма. Ездил за кинофильмами для узкопленочного киноаппарата. Вот, пожалуй, и все. Очень подружился с некоторыми ранеными, особенно относительно пожилыми. Они меня принимали за сына.
Дедушка в Буйнакске нашел синагогу. Он приобрел заново все молитвенные принадлежности и благодаря этому снова смог общаться со своим еврейским богом по всем строгим правилам. Это примирило его с жизнью. Но, увы, скоро мы его потеряли. Умер он в номере бани, которую регулярно посещал. Не знаю, сколько лет ему тогда было, но полагаю, что далеко за восемьдесят. Номер с ванной можно было снимать на определенное время. Когда оно истекло, а дедушка не появился, служитель стал стучать в дверь, а не достучавшись, силой сорвал крючок, открыл дверь в номер и увидел, что дедушка мертв. Вызвали маму. Так и похоронили его в Буйнакске по еврейскому обряду. Я на похоронах не был и мертвого дедушку не видел.
В Буйнакске пришлось наблюдать поразившую меня картину. В город прибыл санпоезд с ранеными моряками из Севастополя. Слух об этом сразу распространился среди жителей как сигнал бедствия. Весь гарнизон был поднят на ноги. Не успел поезд дойти до вокзала, как матросы уже принялись атаковать винницы (так в Дагестане назывались винные погребки). Впервые пришлось наблюдать вблизи лихое, буйное, анархичное племя. Патрули вылавливали матросов в винницах, чтобы препроводить в госпиталь.
Призыв в Красную Армию
В августе 1942 года наступило время призыва в армию всех родившихся в 1924 году. Получил повестку и я. Рана моя на ноге еще не закрылась, но была небольшой, и никто из членов медкомиссии не обратил на нее внимания. Подумаешь, маленькая повязка: какая-нибудь ссадина или порез. А я промолчал и был направлен в Сухумское военно-пехотное училище вместе с несколькими десятками других восемнадцатилетних, получивших среднее образование. В их числе был и мой соученик Юра Лейтес, который вместе с родителями обосновался в Буйнакске и сумел окончить там школу. Перед призывом он работал на Буйнакском консервном заводе и, захлебываясь, рассказывал о том, как лакомился там черешнями, вишнями, персиками. Учитывая скудное питание военного времени, его можно было понять.
Итак, с сопровождающим командиром мы двинулись в путь. Поезд, в котором мы первоначально ехали, состоял частично из пассажирских вагонов еще дореволюционной постройки. На них была надпись Сталинград – Воронеж или что-то в этом роде, точно не помню. Их угоняли от наступавших немцев. Вагон, в который сели мы с Юрой, был мягким, вероятно 1-го класса. Так что первую часть пути мы совершали со всеми удобствами. Затем нам пришлось пересесть в товарный поезд, составленный из открытых платформ с высокими бортами. Все бы ничего, но во время одной из длительных стоянок неподалеку от бахчи ребята насобирали арбузов и дынь и всю дорогу лакомились ими. Причем не просто лакомились, а старались арбузными корками поразить прохожих, имевших несчастье оказаться вблизи от поезда, который вез нас в Сухумское военное училище. Ни я, ни Юра в этом хулиганстве участия не принимали. Смотреть на эти упражнения было неприятно. Но попытки урезонить резвившихся молодцов терпели неудачу. Кончилось это все тем, что состав был остановлен где-то в степи. Оказалось, что в этом поезде ехал военный прокурор, которому эти забавы пришлись не по нутру. Его сопровождали вооруженные красноармейцы.
Узнав, кто занимается такими безобразиями, он решил пресечь их самым жестким образом. Нам приказали выгрузиться, построили нас в шеренгу перед составом. Прокурор был немногословен. Он сказал, что, если хоть еще один раз повторится это хулиганство, он высадит нас из поезда в степи. Будете добираться до места назначения пешком, пригрозил он.
Угроза подействовала. И дальше до Сухуми никаких происшествий больше не было.
Сухумское военно-пехотное училище
Наша жизнь в училище началась с врачебной комиссии. Была она предельно упрощенной. Начальник санчасти велел раздеться до пояса. Весь осмотр сводился у вопросу к каждому: «Жалоб нет?» Получив ответ, он отпускал подобру-поздорову. Я боялся, что он обнаружит мою рану, однако мои тревоги оказались напрасными. Повязка на ноге была скрыта брюками, и я благополучно стал курсантом.
Баня, выдача обмундирования, и мы готовы к учебе. Но учиться нам не пришлось. Не успели мы обмундироваться, как нам объявили, что поступило распоряжение направить нас в горы за Сухуми рыть окопы. В это время на Клухорском перевале шли тяжелые бои с немцами, и была угроза, что они прорвут там оборону и двинутся к Сухуми, к морю. Вот и понадобилось возводить оборонительную линию.
Рыть землю в горах непросто. Каменистая почва лопате не поддавалась. Сначала приходилось обрабатывать ее киркой. На территорию училища мы уже не возвращались. Ночевали там же, где рыли окопы, на земле под навесом для сушки табака, выставляя часовых. Ложились парами. Одну шинель укладывали на землю. Она заменяла и кровать, и постель. Другой укрывались.
Каждое отделение взвода ело из одной кастрюли сообща. В лучшем случае каждому доставалось две ложки супа. Медлительным приходилось туго.
Ранку свою я перевязывать не мог. Она стала нагнаиваться и пахнуть мертвечиной. И настолько сильно, что курсанты моего отделения начали высказывать предположение, что мы роем окопы на месте какого-то захоронения.
Мой одноклассник Юра Лейтес, попавший в другое отделение нашего взвода, знал истинное происхождение запаха и, видимо, открыл мою тайну нашему командиру взвода, очень симпатичному молодому лейтенанту. Тот подозвал меня к себе и, выяснив, что мне нужна перевязка, направил меня в санчасть училища. Командовал санчастью тот самый капитан медицинской службы, который проводил так называемую медкомиссию при нашем прибытии в училище. Поскольку без его осмотра и распоряжения перевязка была невозможна, я явился к нему.
Увидев мою ранку, капитан грубо и резко набросился на меня:
– Табачком присыпаешь?!
На это я ответил, что к нему в санчасть не напрашивался. Если он считает перевязку излишней, я тотчас же вернусь в свою роту. Произнеся свою тираду, вероятнее всего очень косноязычную от злости и неожиданности попрека, я вышел из его кабинета. Видимо, он все же распорядился перевязку сделать, так как сестра наложила мне чистую повязку и снабдила бинтом на будущее. Время было обеденное, и мне выдали персональный котелок макарон, пропитанных вкуснейшим мясным соусом. Это была большая удача. Давно я так сытно не ел.
Подкрепившись, я отправился обратно в свой взвод.
На следующий день нам велели вернуться в расположение училища, где объявили, что училище расформировывается и нас распределят по разным воинским частям.
Пеший переход в Гагры. Сочи (полевой госпиталь в санатории имени Цюрупы)
С десятком других курсантов, среди которых был и Юра Лейтес, меня направили в 61-й артиллерийский полк, расквартированный в Сочи. Поздно вечером всех, кому надо было прибыть в Сочи, построили в колонну, скомандовали: «Шагом марш!», и мы пешим строем направились в сторону Гагр. От Сухуми до Гагр железной дороги тогда еще не было. Шли всю ночь по старому шоссе, вымощенному камнем. Предпочтение ему было отдано потому, что оно меньше подвергалось бомбежке немцев. Грохот и огни далеких взрывов сопровождали наш путь.
К утру мы добрались до Гагр. К сожалению, этот переход дался мне с трудом. Во-первых, я натер себе раненую ногу до кровавого волдыря на пятке. Главной причиной была измененная форма ступни. Она и во всей последующей жизни доставляла мне неприятности. Во-вторых, у меня на одном из привалов почему-то начался понос. К счастью, «просквозило» меня только один раз. От Гагр до Сочи уже была проложена железная дорога, и до Сочи мы доехали на поезде.
В полку я пробыл не более часа. Осмотрев мою ногу, военврач распорядился отправить меня в полевой госпиталь. Он был расположен тут же, в Сочи, в бывшем кремлевском санатории имени Цюрупы, занимавшем здание, которое иначе как дворцом не назовешь.
В этом госпитале я пробыл несколько суток. Он запомнился тем, что раненых нечем было кормить. Вместо супа наливали кипяток и заправляли его ложкой какого-то масла, очень напоминающего по вкусу машинное. Оно плавало в кипятке, не растворяясь. Чтобы это пойло можно было поглощать, каждому выдавали стручок горького красного перца. Он придавал так называемому супу острый вкус, делал его относительно съедобным. Правда, рот и горло после этого горели огнем, а чувство голода не исчезало. Ходячие раненые в поисках пропитания отправлялись в лес, благо он начинался сразу же за зданием госпиталя. Там можно было собрать яблочки-дички, мелкие, размером не больше сливы, а то и вишни. Поглощая их в большом количестве, можно было хоть на некоторое время утолить чувство голода. Но с риском заболеть дизентерией.
Второе, чем выделялся госпиталь, – это библиотека. Как я уже писал, в ней были подборки всех толстых журналов, и в том числе дефицитной «Интернациональной литературы». Номера этого журнала хотелось прочитать все сразу.
Дорога в эвакогоспиталь
Так как рана моя не давала надежд на быстрое излечение, было решено отправить меня для лечения в тыловой эвакогоспиталь. Группе раненых, подлежащих отправке в эвакогоспиталь, выдали на руки направление и вывели к шоссе. По нему в Сочи и далее в Туапсе на фронт доставляли снаряды, а обратно отвозили в тыл раненых.
Машины останавливались, чтобы загрузить раненых. Тяжелых загружали на носилках, а те, что, как я, передвигались своим ходом, должны были сами взбираться в кузов грузовика. Долго свободной машины в сторону Гагр не было, но в конце концов дождался и я своей очереди. Нас доставили в пересыльный пункт какого-то грузинского города. С его вокзала отправлялись санитарные поезда, развозившие раненых по разным госпиталям.
В поезде у меня внезапно поднялась температура из-за простуды, разболелось горло. Медсестра дала мне таблетки аспирина и стрептоцида, и к утру все прошло. На следующую ночь во время остановки поезда мне и еще полутора десяткам раненых велели выгружаться.
Госпиталь в Ахтале
Спускаюсь по ступенькам вагона. Кругом кромешная темнота. Ничего не видно. Глаза постепенно начинают различать, что поезд стоит между двумя уходящими в небо скалистыми стенами. Вместо вокзала небольшая деревянная сторожка. Где мы? Куда нас высадили? Спросить не у кого. Поезд ушел. Начинает светать, и мы видим с левой стороны по ходу движения поезда уходящую серпантином вверх дорогу. По ней спускается небольшой автобус. Нам предлагают сесть в него, и он, надрывно урча мотором, доставляет нас наверх, где расположен эвакогоспиталь. Узнаем, что местечко с госпиталем называется Ахтала, Алавердского района Армении. Это совсем рядом с Грузией. Здесь до войны был профсоюзный дом отдыха.
Точно не помню, но кажется, здесь и затемнение не соблюдалось, что было неожиданным.
Эвакогоспиталь поразил меня прежде всего едой – белый пышный хлеб, вдоволь картофеля. Все вкусное, сытное. После голодного сочинского госпиталя это казалось чем-то нереальным. В столовой не было, правда, чашек, и чай пили из глубоких тарелок. Непривычно, но приспособиться можно. Впрочем, это мелочь.
Медсестры – выпускницы ереванских школ, милейшие и добрейшие существа. С одной из них я долго переписывался после того, как уехал из госпиталя. Они составляли резкий контраст с санитарами-мужчинами, почему-то смотревшими на нас с плохо скрываемой злобой.
Лечили меня главным образом перевязками, пробуя разные средства заживления, даже помидорный сок, но ничего не помогало.
В поселке Двигательстрой
Я списался с родителями. Папин госпиталь № 4653 тем временем переехал из Буйнакска в поселок Двигательстрой (ныне город Каспийск), расположенный рядом с Махачкалой. В связи с переездом перешла работать в этот госпиталь и мама, стала сестрой в перевязочной.
Папа добился разрешения перевести меня из ахталинского госпиталя в госпиталь Двигательстроя. Папа приехал за мной, и мы отправились через Тбилиси в Махачкалу, а оттуда на Двигательстрой.
Попал я в госпиталь № 1084, в котором когда-то в Буйнакске работал культурником. Он тоже переехал на Двигательстрой. Заведовал там хирургическим отделением замечательный хирург, донской казак Сергей Андреевич Донсков. Мама дружила с его женой, врачом-терапевтом из госпиталя, в котором работали она и папа. Сергей Андреевич с помощью рентгеновского снимка определил, что у меня все же повреждена поверхность кости (до этого считали, что кость не задета) и что нужна операция, так как отделившиеся кусочки кости гниют и не дают закрыться ране. Их нужно вычистить.
Такую операцию он мне и сделал под общим наркозом. Наркотическим средством был хлороформ, крайне неприятный, напомнивший мне почему-то рыбий жир. Я больше всего боялся, что, будучи под наркозом и не контролируя себя, могу непристойно выражаться, что считал позорным.
Вторая операция в другом госпитале
Шло время, но язва моя никак не хотела заживать. Казалось бы, косточек, не дававших раньше ей заживать, уже не было, а она не поддавалась.
Сергей Андреевич не только вычистил мне кость, но и попытался пересадкой кожи с бедра здоровой ноги заживить язву. Но из этого ничего не вышло. Кусочки кожи не прижились.
Папа посоветовался с ведущим или главным хирургом своего госпиталя, запорожским врачом по фамилии Цукерник (имени и отчества его, к сожалению, не запомнил). Тот сказал, что попытается вылечить мою язву, но что для этого требуется еще одна операция – перерезка трофических нервов и блокада по Вишневскому (так она называлась), которую он готов сделать. Пришлось мне переводиться в госпиталь к Цукернику.
Операцию он сделал. После нее ногу загипсовали с мазью Вишневского, издававшей малоприятный запах. Родители договорились с начальником госпиталя, что, поскольку после операции никакого лечения в госпитале не требуется – нужно просто лежать, они возьмут меня домой. Меня перевезли в квартиру, где мама и папа занимали комнату, и я очутился в домашней обстановке. Казалось бы, живи и радуйся такой удаче. Но не тут-то было. На следующий день после прибытия домой у меня резко, до 40 ºС, подскочила температура. Такой поворот событий был очень неприятен для родителей, для Цукерника (который согласился на мой переезд на квартиру, явно незаконный), для начальника госпиталя. Если это последствие операции, то надо возвращаться в госпиталь, возможно, снимать гипс, искать причину воспалительного процесса. Жившая этажом выше врач-ординатор госпиталя, где мне делали операцию, по имени Лидия Моисеевна (отчество для коренной донской казачки казалось неожиданным), осмотрев меня по просьбе мамы, посчитала нужным, прежде чем предпринимать какие-то шаги, сделать анализ крови. Она не исключила возможность заболевания малярией. И в самом деле, анализ показал, что у меня самая настоящая малярия. А то, что первый приступ лихорадки случился на следующий после операции день, – это простое совпадение.
Лидия Моисеевна взялась за мое лечение, сама делала мне уколы акрихина. Все же они подействовали не сразу. Пришлось испытать несколько приступов, которые наступали каждый второй или третий день – с высокой температурой и неприятным ознобом. Так я познакомился с тем, что называется «лихорадка трясет». Каждый приступ очень ослаблял. Все же недели через полторы акрихин подействовал. Приступы прекратились. Я выздоровел. Больше малярия ко мне не возвращалась никогда.
Через месяц гипс мне сняли. Чуда не произошло. Язва не исчезла, но уже не была такой серой и вялой, как раньше. Свежие окрашенные кровью гранулы подавали надежду, что язва все же закроется.
Цукерник посоветовал делать парафиновые ванны и, кроме того, купаться в прорезиненном чулке в море. Благо Двигательстрой расположен на берегу Каспия, с чудесным золотистым пляжем. Парафиновые ванны делала мне мама. Расплавленным горячим парафином она заливала мне ногу в том месте, где была язва, обвязывала ее клеенкой и сверху бинтом. Так нужно было просидеть некоторое время. После повязка с парафином снималась, и на ногу накладывалась обычная повязка с какой-нибудь мазью.
Днем я шел на пляж, разбинтовывал ногу, надевал чулок и заплывал далеко от берега. На горизонте прямо из моря поднимался прямоугольник заводского цеха, в котором, как поговаривали в поселке, делали и испытывали торпеды. Плавать я очень любил и умел. После парафиновых и морских ванн язва очень освежилась и начала уменьшаться в размерах.
Снова становлюсь школьником
Был август 1943 года. Я продолжал лечиться в госпитале – приходил на перевязки, а жил с родителями. Можно и нужно было подумать о том, чтобы окончить среднюю школу. С разрешения госпитального начальства я поступил в 10-й класс местной школы. Вскоре медицинская комиссия предоставила мне шестимесячный отпуск по болезни с переосвидетельствованием после него. Продолжая ходить в госпиталь на перевязки, я снова стал школьником.
В Двигательстрое папа окончил школу, увидел в газете объявление о приеме в Московский полиграфический институт на технологический и механико-машиностроительный факультеты, послал документы с просьбой зачислить его как окончившего школу с аттестатом отличника на технологический факультет, получил из Москвы вызов, по которому можно было получить пропуск для поездки (без вызова в Москву не пускали), не без приключений добрался до столицы (ехал целых пять суток на так называемом «пятьсот веселом» поезде, который больше стоял, чем двигался), и там начался новый этап его жизни, о котором рассказано в следующей части мемуаров.
Жизнь редактора
Московский полиграфический институт (МПИ) и поиски работы
Как я стал студентом МПИ
Для меня поступление на редакционно-издательский факультет (РИФ) Московского полиграфического института было счастливым исполнением главного желания. Чтение и книги с детства были моей страстью. Я мечтал быть причастным к созданию книг. Профессия книжного редактора давала такую возможность.
В объявлении о приеме редакционно-издательский факультет не упоминался. Я тогда о существовании его даже не подозревал. Послал документы на технологический факультет и был зачислен на него.
На следующий день после приезда в Москву я отправился в институт, размещавшийся тогда на Садовой-Спасской, 6, где и сейчас находится его часть, хотя теперь он называется уже иначе – Московский государственный университет печати.
Ехал на метро от «Белорусской» до «Красных Ворот».
Когда пришел в институт, увидел, что в нем объявлен прием и на редакционно-издательский факультет. Но как на него попасть? На мой робкий вопрос в приемной комиссии, нельзя ли перевестись на него, прозвучал твердый ответ: перевод невозможен. Ответ не оставлял ни малейшей надежды. На литературно-редакторское отделение РИФа принимали только круглых отличников, москвичей или приезжих, не нуждавшихся в общежитии. Этим условиям я удовлетворял. Но, видимо, из-за недобора на технологический мне в переводе отказали.
Вернулся домой ни с чем, в минорном настроении. Поделился своим огорчением с дядей – Борисом Исааковичем Друхом, женатым на родной сестре моей мамы, тете Жене. Борис (буду называть его так, как звал по-домашнему) был майором внутренних войск, т. е. НКВД, интендантом. Незадолго до моего приезда в Москву ему была поручена организация прохода пленных немцев по Москве и размещение, кажется, на стадионе «Динамо», где нужно было обеспечить снабжение их пищей и водой. Он хорошо справился с хлопотной задачей, за что был награжден значком «Отличный чекист» (кажется, так он назывался). Борис был человеком действия. Он сразу же вызвался мне помочь, пойти переговорить с директором института. Помимо всего прочего он рассчитывал на влияние своей военной формы. На следующий день мы вместе отправились к директору Московского полиграфического института Хомякову. Дядя немедленно «пленил» секретаря директора, которая, узнав, что привело нас к ее начальнику, сама «провернула» мой перевод с одного факультета на другой. Возможно, она предварительно согласовала свои действия с директором. Во всяком случае, разговаривать с ним нам не пришлось.
Итак, меня зачислили на литературно-редакторское отделение редакционно-издательского факультета. Предел тогдашних желаний был достигнут.
Впервые в своей группе
В тот год на первый курс принимали только две группы – примерно по 25 человек. Одна группа – литературно-редакторское отделение, другая – художественно-оформительское.
Когда я появился в аудитории, народу в ней было еще мало. Я сел за парту. Постепенно новоявленные студенты стали заполнять комнату, обходя мою парту стороной, как будто на ней сидел прокаженный. Я оказался единственным представителем мужского пола, да еще на несколько лет всех старше. И это отпугивало девиц, только что окончивших школу. Но в конце концов одна из студенток, явившихся перед самым началом лекции, когда выбор мест был уже ограничен, не раздумывая, храбро уселась рядом со мной. Это была Лариса Иванова, племянница критика В.Я. Кирпотина, приехавшая учиться из Ленинграда. Мы, кажется, весь год просидели вместе. Один раз я даже побывал у нее дома. Мне нужна была какая-то книга. Лариса жила в квартире Кирпотина в знаменитом писательском доме в Лаврушинском переулке. Она стала женой известного ленинградского артиста театра и кино Игоря Дмитриева. Он учился в те же годы, что и мы на РИФе, в Школе-студии МХАТа. Позднее об обстоятельствах своей женитьбы он сам рассказывал, выступая во время своего юбилея на телевидении.
После окончания института Лариса вернулась в Ленинград и работала там поначалу в какой-то издательской организации, а затем редактором сценарного отдела на «Ленфильме». В один из приездов своих в Ленинград я позвонил ей, и мы погуляли по Ленинграду. О работе ее на «Ленфильме» я узнал гораздо позднее из воспоминаний известного сценариста Анатолия Гребнева, который отзывается о Ларисе очень хорошо.
Позднее группа пополнилась мужчинами. В нее пришли демобилизованные из армии уже учившиеся на РИФе до войны Юра Бем и Коля Сикорский (последний – на второй курс), а также новички – участники войны Миша Приваленко и Юра Лесков.
Занятия начались с диктанта, который нам дал Константин Иакинфович Былинский, тогда заведующий кафедрой русского языка и проректор института по научной части (вторую должность он, возможно, займет чуть позднее). Диктант был очень трудным. Былинский называл такого рода диктанты зубодробительными.
– Посмотрим, знаете ли вы грамматику, – сказал он.
Результат оказался плачевным. Лишь единицы сделали меньше двадцати ошибок. Мне удалось не превысить десяти. Не потому, что я был таким уж грамотеем, а потому, что обладал неплохой зрительной памятью. Этим результатом я был, конечно, очень горд. Хотя гордиться, собственно, было нечем. Нас сразу поставили на место, чтобы не заносились. Стало ясно, что до образцовой грамотности, обязательной для редакторов, нам явно далеко.
Диктант был затравкой для того, чтобы мы прилежно изучали грамматику и стилистику русского языка, как базу редакторской работы. Полагаю, что такое воздействие он на нас оказал.
Наши преподаватели
Оглядываясь сейчас, с высоты более чем полувекового опыта работы, на то, как было поставлено обучение в институте, могу уверенно сказать, что лингвистическая подготовка была очень хорошей. Это определялось составом преподавателей, которых Былинский сумел привлечь на свою кафедру.
Лекции по лингвистическим дисциплинам на нашем курсе читали он сам (язык газеты, литературное редактирование), Дитмар Эльяшевич Розенталь (синтаксис русского языка), Вячеслав Анатольевич Мамонов (фонетика и орфоэпия русского языка), Михаил Васильевич Светлаев (историческая грамматика русского языка). Это были известные всей стране языковеды, знатоки своих предметов.
К.И. Былинский был соавтором книги «Язык газеты». Эту книгу, как и второе издание его книжечки «Основы и техника литературной правки», я приобрел, как я уже писал, в книжном магазине Гизлегпрома на Кузнецком мосту, который я еженедельно посещал, так как там продавалась литература по редакционно-издательскому делу. Дело в том, что редакция полиграфической литературы, выпускавшая эту литературу, входила в то время в состав Гизлегпрома.
Обычно, как я уже писал, я отправлялся туда в воскресенье, после похода по основным книжным магазинам центра Москвы вместе с группой книголюбов – охотников за новыми книгами. Но однажды, когда я захотел побывать в этом магазине (позднее он стал магазином № 33 «Москниги») в будний день, то заблудился и никак не мог найти Кузнецкий мост, чем был очень поражен. Ходил вокруг да около, пересекал, по всей вероятности, и Кузнецкий мост, но никак не мог его признать, а спросить, по своему обычаю, не решался. Так и уехал домой, не побывав в магазине. Позднее очень удивлялся, как это я умудрился заблудиться в трех соснах. Но что было, то было.
Лекциями Константина Иакинфовича не все студенты были довольны. Наверно потому, что их трудно было записывать. Они всегда были импровизацией и строились на примерах всякого рода стилистических и иных ошибок, которые Былинский выписывал на карточки из современных изданий. Примеры были очень наглядными, и К.И., давая волю своему юмору, всячески издевался над незадачливыми авторами и редакторами. Слушать К.И. было очень интересно, а записывать, казалось, нечего. Именно казалось. Потому что на самом деле мы просто не умели разглядеть тот план, по которому его лекции, несмотря на их импровизационный характер, строились.
Впоследствии, читая его книги, я убедился, что, несмотря на сжатость, даже конспективность изложения, например, основ литературной правки в известной его книжечке, в ней содержалось самое главное, самое важное для редакторской работы над текстом. А то, что лекции были пронизаны иронией, настраивало на так необходимую редакторам критичность.
Выступая в мае 1979 года в МГУ на заседании, посвященном памяти Константина Иакинфовича, я постарался выделить эту черту его лекций и печатных работ. Я говорил, что у работ Константина Иакинфовича есть одна особенность, которая, возможно, мешает оценить их в полной мере, ведет к некоторой их недооценке. Эта особенность – внешняя простота изложения. Он писал широко, свободно, раскованно. Наукообразное занудство было ему абсолютно чуждо. И нужно очень внимательно вчитываться в его работы, чтобы заметить это и оценить. К.И. принадлежит, в частности, существенный вклад в разработку методики редактирования текста. Первая часть «Литературного редактирования», написанная К.И., содержит зерна основных положений теории и методики редактирования, из которых впоследствии выросли многие научные и учебные работы. Так, в третьей главе «Методика литературного редактирования» сформулированы базовые принципы редактирования текста. К.И. писал о необходимости бережно относиться к созданному автором, индивидуально подходить к каждому автору, научно обосновывать критику и правку текста, опираться при литературной правке на лингвистическую науку, в частности на грамматическую стилистику. К.И. изложил особенности обработки текста в зависимости от вида правки в соответствии с ее классификацией, введенной им в литературу. Все это составляет основу редактирования.
Я позволил себе пересказать одно из положений своего выступления только для того, чтобы показать, как благодаря редакторской практике и опыту преподавания смог по достоинству оценить то, что было недоступно мне как студенту.
Константин Иакинфович не смотрел на студентов свысока, а с любопытством приглядывался к нам. На третьем курсе я писал курсовую работу по одной из тем, которые предложил нам он, а именно – «Некрасов-издатель». Вот что я написал о ней в мемуарном очерке, вошедшем в сборник воспоминаний студентов МПИ 40–50-х годов прошлого века (Мы из МПИ. Московский полиграфический институт. М., 2005. Кн. 1):
Я очень старался.
Подолгу сидел в библиотеках. Прочитал массу книг. Но, конечно, работа не могла не быть ученической и для преподавателя интерес представляла небольшой.
Мелким почерком я исписал все правые страницы толстой 96-страничной тетради. Можно было ожидать, что К.И. прочитает ее по диагонали. Но я ошибся. Пометки в тексте (К.И. подчеркивал синим карандашом неудачные выражения, случайные пропуски слов, неоправданные повторы одинаковых и однокоренных слов и т. п.) свидетельствовали, что работа была прочитана очень внимательно, так, чтобы студент извлек из замечаний пользу. Да и заключение было относительно развернутым и выявляло слабости, указание на которые было, на его взгляд, полезно для дальнейших моих литературных экзерсисов:
Минус работы – загроможденность цитатами и ссылками и непропорциональность частей (ср. главу об «Отечественных записках» с другими).
Тема о Некрасове-издателе не может быть полно разработана, если не осветить редакторской деятельности Некрасова.
Нужно давать точные ссылки на источники.
В целом работа сделана добросовестно и старательно. Ошибок очень мало. Отлично.
К. Былинский.
Через пять-шесть лет замечания К.И. Былинскому как автору надо будет писать уже мне, редактору его книги, но об этом я расскажу, когда пойдет речь о моей редакторской работе.
Очень повезло нам с тем, что синтаксис русского языка читал Дитмар Эльяшевич Розенталь. Может быть, его лекциям недоставало блеска, но они были четки, ясны, строги, последовательны. Вдобавок он приобщал нас к русской лингвистической классике и приучал к тончайшему языковому анализу текста. Суховатый, даже скучноватый материал своих лекций он оживлял тонким остроумием, с которым отвечал на вопросы студентов. К сожалению, память не сохранила примеры розенталевского остроумия, но ощущение радости, которое оно нам доставляло, закрепилось прочно. Дитмар Эльяшевич был одним из самых остроумных людей, виденных мною в жизни, причем юмор его был самой высокой пробы, без малейшей тени банальности и тем более пошлости.
Дитмар Эльяшевич, как и К.И. Былинский, был внимателен к студентам, всегда очень серьезно выслушивал нас, пытливо вглядывался в то, что мы собой представляем. Именно эту черту его я выделил в заметке «Заглянем в “Розенталя”», напечатанной 11 апреля 1980 года в юбилейном номере учебной газеты факультета журналистики МГУ «Журналист», посвященном 50-летию научной и педагогической деятельности Д.Э.: «Его лекции поражали сочетанием глубины и серьезности с тонким юмором и остротой наблюдений. Но еще больше удивляло его необыкновенно уважительное внимание к высказываниям и мнениям студентов».
Не могу забыть, как на второй, кажется, год после окончания института столкнулся с Дитмаром Эльяшевичем в коридоре издательства «Искусство», где я тогда работал в корректорской. Он пришел провести занятие с редакторами и корректорами издательства. Увидев меня, он явно обрадовался и, поздоровавшись, сказал:
– Постойте. А ведь я помню, какую курсовую работу вы писали для меня на втором курсе.
Он на минуту задумался и добавил:
– «Согласование сказуемого со счетным оборотом с числительными два, три, четыре». Так?
– Так, – ответил я, пораженный тем, что он удержал в памяти тему рядовой студенческой работы. А ведь прошло более пяти лет. Правда, трудился я над этой курсовой истово, не жалея ни сил, ни времени. Перечитал тьму произведений классики и современной литературы, выявляя, как писатели согласовывали сказуемое со счетным оборотом, включающим числительные два, три, четыре. К однозначным выводам не пришел, но тенденции все же сумел выявить. Этим, видимо, работа и запомнилась Розенталю. А может быть, для него представлял некоторую ценность сам собранный мною языковой материал.
С ним, как и с К.И. Былинским, я много лет сотрудничал как редактор с автором, побуждал его писать для нашей редакции, а потом для издательства «Книга». На этой почве, можно сказать, у нас завязались теплые дружеские отношения. Но об этом уместнее рассказать отдельно.
Полной противоположностью строго логично выстроенным лекциям Д.Э. Розенталя были импровизационные лекции Вячеслава Анатольевича Мамонова по фонетике и орфоэпии. Это были скорее театральные представления. Небольшого роста, с очень подвижным лицом комика, выражение которого менялось с калейдоскопической быстротой в зависимости от изменчивых мыслей и чувств лектора, быстрый в движениях, Вячеслав Анатольевич беспрестанно сновал по аудитории, развлекая нас всякими историями, косвенно связанными с темой лекции. Он любил рассказывать о том, как обучался произношению у выдающихся мастеров художественного слова. Видимо, в прошлом он хотел стать артистом, а может быть, и был им какое-то время. Артистизм ему был, несомненно, свойствен. Пытался он по произношению студентов определить, кто откуда родом, и делал это удачно. Некоторые его советы, касающиеся неудобоваримых сочетаний слов, хорошо запомнились и пригодились в редакторской работе.
М.В. Светлаев, известный языковед, имя которого было на слуху благодаря учебнику русской грамматики, написанному им в соавторстве с С.Е. Крючковым, лекции в буквальном смысле слова читал, т. е. произносил по записям. Материал (историческая грамматика русского языка) был скучный, сухой, а его ценности и важности мы не понимали. Помню, что как ни старался я вникнуть в существо этого материала, сделать это мне не удавалось. Не помню даже, как мы сдавали экзамен или зачет по этому предмету: все полностью выветрилось из памяти, ни малейшего следа не осталось.
Что касается нашей подготовки для непосредственной практической работы в издательстве, то она была, можно сказать, неровной. Одни дисциплины из этого комплекса читались так, что давали всю необходимую основу для работы по специальности. Из других в силу разных причин мы могли извлечь лишь какую-то частицу того, что могло пригодиться на практике.
На первое место я ставлю экономику и организацию издательского дела. Курс этот читал нам Владимир Александрович Маркус. Он был практиком, работал в то время, когда у нас преподавал, заместителем директора издательства «Большая советская энциклопедия». Вскоре, правда, из-за своего еврейского происхождения был понижен в должности до заведующего производственным отделом того же издательства. В издательской кухне он разбирался очень хорошо и старался доходчиво раскрыть нам ее тайны. Лекции, которые он читал нам, стали основой выпущенного в 1949 году Гизлегпромом его учебника «Основы организации и экономики книгоиздательского дела». Этот учебник выдержал четыре издания. Последнее вышло в 1983 году. Все издательские работники послевоенного времени овладевали предметом В.А. Маркуса по его учебнику. Курс его был привлекателен, во всяком случае для меня, своей конкретностью и приближенностью к издательской практике.
Выпускник нашего литературно-редакторского отделения Вадим Соколов, работавший после окончания института в «Литературной газете», организовал в ее редакции круглый стол с целью обсудить проблемы образования и подготовки редакторов. Он собрал на него ряд выпускников РИФа. Естественно, что он пригласил принять участие в этом круглом столе и меня как редактора, готовившего литературу для редакционно-издательских работников. Один из вопросов для обсуждения был сформулирован так: Какой из учебных курсов оказался наиболее практически нужным для издательской работы? Не помню, как отвечали другие участники, но я без колебаний сказал:
– Курс организации и экономики издательского дела Владимира Александровича Маркуса. Все, чему он нас учил, очень пригодилось на практике.
Кажется, с этим были согласны многие из участников круглого стола.
В.А. Маркус начал выступать в печати со статьями на книгоиздательские темы еще в 1924 году. В журнале «Народное просвещение» (1924. № 4/5) он напечатал статью «Государственное издательство РСФСР за пять лет своего существования (1919–1924 гг.)». Первая его статья на экономические книгоиздательские темы появилась в 1930 году – «О методах определения номинала» в журнале «Хозяйство печати» (1930. № 4). С 1932 по 1945 год В.А. не один раз выпускал работы по экономике издательского дела. Среди них были книги: «Издательская калькуляция: Основы предварительной калькуляции» (М., 1933); «Основные вопросы экономики в книгоиздательском деле» (М., 1938); «За строжайшую экономию бумаги» (М., 1943), были и статьи: «Основные измерительные единицы полиграфической и издательской продукции» (Полиграфическое производство. 1940. № 4); «Авторская и издательская правка [в экономическом аспекте]» (Большевистская печать. 1941. № 1). Конечно, об этом я узнал только теперь, изучив соответствующий указатель литературы, но это подтверждает справедливость суждения о том, что преподавал нам экономику и организацию издательского дела человек, прекрасно знающий предмет, активно выступавший в печати на темы этой дисциплины. К тому же Маркус был человек живой, горячо заинтересованный в деле, которым он занимался, и потому выбран в качестве преподавателя особенно удачно.
Вслед за курсом В.А. Маркуса по практической полезности я ставлю курс основ полиграфии. Его у нас читал Василий Васильевич Попов, читал увлеченно, стараясь заразить нас любовью к таинствам полиграфического воспроизведения и тиражирования изданий. На занятия он приходил с рулонами художественных репродукций, с портфелем, ломившимся от множества книг и журналов, которые он демонстрировал нам в качестве образцов и примеров.
Как и В.А. Маркус, Василий Васильевич не только преподавал, но и был практическим работником в своей области. Тогда он занимал какой-то пост в ОГИЗе (кажется, в его техническом управлении) и был, кроме того, заместителем главного редактора журнала «Полиграфическое производство» (затем «Полиграфия»). Последнюю должность он занимал много лет при сменяющихся главных редакторах из крупных руководителей издательской и полиграфической отрасли (П.А. Попрядухин, Н.Н. Кухарков, Н.И. Спихнулин, Н.И. Синяков).
Впоследствии мне пришлось несколько лет работать под руководством В.В. Попова в редакции полиграфической литературы издательства «Искусство» и узнать его гораздо ближе, но об этом я расскажу, когда речь пойдет о моей редакторской работе.
Издательскую, редакционную и полиграфическую кухню он знал не понаслышке. Он начал свою работу еще в Госиздате – был техническим и выпускающим редактором журнала «Книга и революция». Познав на практике полиграфическую технику и технологию, он стал писать на темы полиграфии и художественно-технического оформления книги еще в конце 20-х годов. Он автор рецензий на книги Л.И. Гессена «Оформление книги: Руководство по подготовке рукописи к печати» (Л.: Прибой, 1928) в «Печати и революции» (1928. Кн. 1); П.И. Суворова «Литография» (1927) в том же журнале (1927. Кн. 3); О. Зейберлиха «Основы книгопечатного дела» (М., 1929) в «Полиграфическом производстве» (1929. № 7); «Краткие сведения по наборному делу» П. Коломнина в том же журнале (1929. № 7). В 1933 году выходит первая книга В.В. Попова – «Фотонаборные машины: Очерк развития и современного состояния». Затем Василий Васильевич начинает преподавать и на этой основе выпускает учебные книги: в 1934 году выходит его учебное пособие для полиграфических техникумов «Общий курс полиграфии: Техника полиграфического производства». В 1939 году Гизлегпром выпускает второе издание этого труда уже в качестве пособия для издательских работников. Выступает Попов и со статьями на темы наборного производства и глубокой печати. Журнал «Большевистская печать» публикует его статью обобщающего характера «Большевистской печати – мощную техническую базу» (1940. № 8). Как и В.А. Маркус, Василий Васильевич Попов был в издательско-полиграфической отрасли далеко не рядовым деятелем, а проблемы этой отрасли принимал очень близко к сердцу. Все это не могло не сказываться на содержании его лекций. И я могу смело сказать, что благодаря курсу В.В. Попова я, будучи гуманитарием, смог позднее редактировать книги по технике и технологии полиграфии не как профан, а как человек, более или менее разбирающийся в содержании этих книг.
Когда В.В. завершал у нас свой курс, в стране развернулась борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. И он, увы, стал одной из жертв этой борьбы по той простой причине, что описывал в своем «Общем курсе полиграфии» зарубежные полиграфические машины. Конечно, не из низкопоклонства перед иностранным, а потому, что других не было: отечественное полиграфическое машиностроение делало тогда только первые шаги. Но кого интересовала суть, когда каждому предприятию, учреждению, учебному заведению надо было продемонстрировать, как они борются против зла, на которое указала партия. К тому же находились любители половить рыбку в мутной воде, извлечь из этой борьбы двойную выгоду: и борцом прослыть, и место освободившееся занять. Короче говоря, Василия Васильевича из института удалили, и экзамен по курсу мы сдавали уже другим преподавателям – Николаю Ивановичу Синякову, читавшему будущим технологам курс репродукционных процессов, и Александру Ивановичу Колосову («девичья фамилия» – Клоц), преподавателю, который читал технологам курс наборного производства и который, как поговаривали, особенно отличился в борьбе с «низкопоклонниками».
Мы быстро смекнули, что, отвечая на вопросы, нужно, увы, быть как можно дальше от учебника и лекций Василия Васильевича. Поступать так было очень неприятно, но не заваливать же экзамен, который, если не ошибаюсь, входил в число государственных. Все же от этого осталось чувство гадливости.
С преподаванием курса редактирования – основной для нас дисциплины – дело обстояло не так хорошо, как хотелось бы. Вел этот курс Иван Михайлович Скворцов, практикующий редакционный работник. Тогда он заведовал редакцией по сельскому хозяйству «Большой советской энциклопедии». До того работал редактором и заведующим редакцией в Сельхозгизе. В лекциях он ограничивался главным образом ремесленными рецептами редакторской правки и редакторского поведения. Помню, как он не без гордости говорил нам, что благодаря осторожности и осмотрительности не пропустил ни одной существенной идеологической или иной ошибки. И объяснял, как выработать такую осторожность. Его лекции содержали разумные практические советы, но они были разрозненными, не сложившимися в систему. Большая часть времени отводилась практическим занятиям. Мы рецензировали и правили небольшие – в две-три странички – тексты из календаря или журнала. Они и сами по себе были ужасны, а их еще и нарочно ухудшали перед тем, как раздать нам. Польза от таких упражнений, конечно, была, но не слишком большая для работы в книжном издательстве. Иван Михайлович их проверял и писал свое заключение.
В то время теоретическая и методическая часть курса еще не была разработана. Иван Михайлович только начинал свою преподавательскую деятельность. Видимо, поэтому подготовка велась на базе газетных и журнальных текстов, а особенности редакторской подготовки книг упускались.
Иван Михайлович делился с нами своим редакторским опытом, а редактор он был явно неплохой и человек милейший.
Когда после окончания института я мыкался в поисках работы, то решил обратиться за помощью к нему. В его редакции мест не было, но он дал мне прекрасную характеристику (см. ниже в главке «Безуспешные попытки найти работу»).
Был у нас и курс редактирования художественной литературы. Читал его Анатолий Константинович Котов, главный редактор, а затем директор Гослитиздата. Лекции у него были интересные, наполненные живыми фактами издательской жизни, касались главным образом текстологических проблем при издании классики, но он был перегружен работой в издательстве, часто болел, и поэтому встречались мы с ним, увы, редко. Впечатление он производил очень хорошее.
Небольшой факультативный курс по энциклопедиям провел у нас А.И. Дробинский, выдающийся знаток энциклопедического дела.
Историю издательского дела СССР вел директор Издательства АН СССР Алексей Иванович Назаров. Его история была копией «Краткого курса истории ВКП(б)», иллюстрированной примерами из области издательского дела. Лекции Назарова были скучны до зубовного скрежета, что, впрочем, не помешало ему позднее издать их в виде книги «Очерки истории книгоиздательства» (М., 1952).
Впоследствии А.И. Назаров занялся историей книгоиздания всерьез, работал в архивах и написал исследование «Октябрь и книга: Создание советских издательств и формирование массового читателя, 1917–1923» (М., 1968). Хотя оно было выдержано в том же идеологическом духе, но содержало ценный фактический материал.
Практически нацеленными были занятия корректурой, которые вел Михаил Ильич Уаров, опытнейший издательский работник, автор учебника корректуры и «Справочника корректора», написанного в соавторстве с К.И. Былинским (2-е изд. М., 1946). Благодаря ему мы оказались подготовленными к практической работе корректора, и это очень пригодилось мне и жене, моей сокурснице. Когда мы не смогли найти место редактора, то «пошли в корректоры» и успешно справлялись с этой работой. Еще раньше после практики в корректорской издательства «Молодая гвардия» заведующая корректорской доверила нам чтение корректур в виде внештатной работы, что очень поддержало наш немощный семейный бюджет.
Лучше всего нас «натаскали» в практической стилистике, ее основные нормы мы усвоили неплохо и умели ими пользоваться. Нас хорошо подготовили к литературной правке, и хотя это невольно упрощало наши представления о смысле и задачах редакторской работы, практически эти знания и умения оказались очень полезными.
Из этого краткого обзора видно, что в нашей профессиональной подготовке руководство факультетом опиралось на практиков. Это, на мой взгляд, было правильно, тем более что кадры научных работников и преподавателей в этой области еще не были подготовлены.
Общее гуманитарное образование, которое давал институт, в целом надо оценить положительно.
Из преподавателей общеобразовательных дисциплин выделялся Владимир Яковлевич Рабинович, читавший курс всеобщей истории. Пламенный оратор и рассказчик, он вечно не укладывался во временные рамки и задерживал нас после звонка на перемену. Когда же студенты начинали роптать, он говорил:
– Сейчас кончаю, сейчас кончаю.
А закончив, отпускал нас сакраментальной фразой:
– Ну, идите кушать ваш омлет!
Тогда в Москве был очень распространен американский яичный порошок, и омлет из него неизменно присутствовал в меню институтского буфета.
Попутно упомяну, что особо нуждающимся студентам выдавалась дополнительная продовольственная карточка, сокращенно называвшаяся УДП. Не помню, как точно расшифровывалась эта аббревиатура, но изобретательный народ быстро окрестил ее: «Умрешь Днем Позже».[6]
Западную литературу читал сначала Александр Федорович Иващенко и делал это очень убедительно и системно. Но он вскоре перешел на работу в Институт мировой литературы, и курс западной литературы ХVIII – ХХ веков стала вести у нас его жена Елизавета Петровна Кучборская. Лекции ее, в отличие от строгой логичной манеры Иващенко, были проникнуты эмоциональностью и личным отношением к писателям и произведениям. Если Иващенко держал себя на далеком от нас расстоянии, то Елизавета Петровна, наоборот, старалась быть к нам ближе. Ей мало было просто прочитать лекции и выяснить, насколько студент освоил западную литературу по произведениям, лекциям и литературоведческим книгам; ее интересовало, какое впечатление произвело классическое произведение этой литературы именно на него, какие мысли пробудило, какие чувства вызвало. Так, когда я сдавал экзамен, Елизавета Петровна взяла у меня билет, который я вытащил, прочитала его, отложила в сторону и сказала примерно следующее:
– Я не буду спрашивать вас по билету. Мне хочется знать, что вы думаете о романах Стендаля.
И с неподдельным интересом слушала тот лепет, на который я тогда был способен. Слушала так, как будто я делал замечательные, выдающиеся литературоведческие открытия и тончайшие наблюдения. Было даже как-то не по себе.
Не думаю, что она поступила так потому, что ее интересовал именно я и именно мое восприятие литературы. Когда Елизавета Петровна скончалась, один из ее бывших студентов И. Панкеев, учившийся у нее на факультете журналистики МГУ, куда она перешла из МПИ вместе со всем литературно-редакторским отделением, опубликовал в «Книжном обозрении» посвященные ей воспоминания. Из них явствовало, что и он (через несколько десятилетий) был для нее так же интересен, как в свое время я и, не сомневаюсь, другие студенты разных лет обучения.
Елизавета Петровна, видимо, хотела, чтобы мы западную литературу знали не по обязанности, а ради собственного духовного обогащения.
Несколько студентов нашей группы помимо лекций по западной литературе посещали кружок по ее изучению, который вела Нора Яковлевна Галь, впоследствии известный переводчик, автор книги «Слово живое и мертвое: Из записок переводчика и редактора», выдержавшей пять изданий. Плохо помню, как проходили занятия кружка, но то, что мы узнавали на них много такого о литературе, о чем и не подозревали, это несомненно.
Нора Яковлевна перед тем, как мы пришли в институт, вела семинар по истории западной литературы. Но затем семинар из учебного плана был исключен, и ей разрешили лишь руководство кружком, хотя заслуживала она по своим знаниям и педагогическому таланту гораздо большего. К концу учебы на первом курсе, к нашему огорчению, прикрыли и кружок. Нору Яковлевну отстранили от педагогической работы, вероятно, по двум причинам. Во-первых, ей повредил злополучный пятый пункт, который тогда уже начинал становиться чем-то вроде желтой шестиконечной звезды на одежде. Во-вторых, был арестован ее однокашник по литературному факультету Педагогического института, директор Издательства иностранной литературы Б.Л. Сучков, с которым она немало общалась. Вскоре он был реабилитирован и даже возглавил Институт мировой литературы АН СССР, но это произошло лишь через несколько лет. Так или иначе, но кружок исчез, а институт лишился прекрасного педагога.
По какой-то причине я посетил Нору Яковлевну у нее дома. Вероятнее всего, она обещала мне дать какую-то книгу. Затем я стал навещать ее более или менее регулярно. Нора Яковлевна интересовалась, как я оцениваю то или иное событие общественной или литературной жизни, высказывала свою точку зрения. В общем, это были беседы на самые разнообразные темы. Они дали мне необыкновенно много для общекультурного и интеллектуального развития, для понимания литературных явлений, сыграли роль второго института, скорее даже университета с превосходным гуманитарным образованием.
Запомнились, хотя и по-разному, преподаватели философских дисциплин.
Вера Ивановна Соловьева, читавшая курс диалектического материализма, прославилась своим полным неописуемого удивления возгласом:
– Как, вы не читали Шпенглера?!
Она имела в виду его знаменитую книгу «Закат Европы», а ведь подавляющее большинство студентов нашей группы и фамилию-то Шпенглера услышало впервые из ее уст.
Во всяком случае, В.И. Соловьева не была ортодоксом. Она старалась пробудить в нас философскую жилку, по возможности широко захватывая всю философию, не только марксистско-ленинскую, что в условиях того времени было, вероятно, даже рискованным шагом. Но она так была предана своему предмету, что риска просто не замечала.
Две другие философские дисциплины (историю философии и исторический материализм) читал у нас сравнительно молодой человек по фамилии Кузнецов, имени и отчества которого я, увы, не помню. Как лектор он был слабоват. А запомнился главным образом тем, что гораздо больше философских проблем его волновала тема любви и дружбы. При этом всем в пример он ставил Маркса и его, как он произносил, Женю. Всех это очень веселило.
Примечательны были лекции по истории искусства, которые читал у нас член-корреспондент АН СССР Алексей Алексеевич Сидоров, выдающийся знаток графики. Весь поток (и редакторы, и художники) собирался в актовом зале института, гас свет, и на экране проецировались изображения, которые Алексей Алексеевич громким, очень акцентированным голосом комментировал, обращая наше внимание на детали принципиального значения. Особенно забавно произносил он слово «птица». На письме это произношение передать трудно. Он сильно ударял на звук «пэ», резко переходя к звуку «ти», и глухо заканчивал слогом «ца». Получалось нечто вроде «пээтица». Мы всегда внутренне смеялись, когда на экране появлялось изображение какого-нибудь крылатого существа, и ждали, когда он произнесет это слово. Лекции между тем были содержательными и очень полезными. Правда, сосредоточиться в темноте было трудновато.
Занятия по истории западноевропейского изобразительного искусства вел у нас превосходный его знаток профессор М.И. Фабрикант. Примечательны они были еще и своей наглядностью, так как проходили в залах Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Не повезло нам с преподавателем истории русской литературы ХVIII – ХIX веков. Это был пожилой человек с красивой фамилией Горностаев. Читал он, уткнувшись в свои записки, скучно, нудно.
Занятия по истории русской литературы начала ХХ века и советской литературы вела молодая преподавательница И.В. Мыльцина, старавшаяся делать это творчески, нешаблонно. Она же занималась с нами рецензированием. Мы писали рецензии на только что появившиеся в печати произведения и издания отечественной художественной литературы.
У меня сохранились две мои рецензии с ее нелестными замечаниями: на повесть Эм. Казакевича «Двое в степи» и на новое издание «Обрыва» И.А. Гончарова.
Рецензия моя на повесть Казакевича была положительной. В ней оспаривалась рецензия в «Литературной газете», автор которой бездоказательно обвинял автора в оправдании дезертирства. Мыльцина же (не знаю, искренно ли или из опасения идти наперекор партийной критике, расценившей повесть как идеологическую ошибку) в заключении обозвала меня адвокатом Казакевича, неверно анализирующим повесть, и оценила мою рецензию четверкой с двумя минусами.
Что же касается рецензии на «Обрыв», то она посчитала, что я мало написал об издании (возможно, имея в виду текстологическую подготовку, которой я не касался), и отметила как недостаток перегруженность цитатами.
Зато мою дипломную работу об изображении А.Н. Толстым исторических событий в трилогии «Хождение по мукам» Ирина Владимировна оценила очень высоко, сказав, что если бы существовала оценка 6 баллов, она бы ее не колеблясь поставила. Самой этой работы у меня нет, остались только черновики, и пересказывать основные идеи и выводы я не стану, помню только, что я убедительно показал некоторую искусственность и неточность в изображении А.Н. Толстым событий Гражданской войны; писал я и о том, что Толстой делает основных героев пассивными свидетелями ряда событий, и это мало что добавляет к обрисовке их образов.
На этом можно было бы закончить рассказ о наших преподавателях, если бы мне, как я уже упоминал, не выпала удача со многими из них сотрудничать как редактору с авторами. Но об этом ниже, там, где речь пойдет о моей редакторской работе.
Атмосфера институтской жизни
Итак, Полиграфический институт дал нам достаточно хорошую подготовку для редакторской работы. Но не менее важно и то, что мы учились в живой творческой атмосфере, что не было явных препятствий для самодеятельного движения, которое тоже необыкновенно обогащало. У нас, например, существовал Клуб выходного дня. Его организовали наиболее энергичные и предприимчивые студенты Виталий Рочко, Гриша Чудаков и некоторые другие. Встречи с интересными людьми, лучшими представителями литературы и искусства страны, сами по себе были необыкновенно интересны и занимательны. Но, кроме того, для руководителей клуба и их помощников они служили превосходной школой изобретательности и находчивости, учили умению общаться со знаменитостями и убеждать их в совершенной необходимости встречи со студентами далеко не именитого тогда вуза.
В рамках клуба проходили и вечера самодеятельности. Мне, например, напрочь лишенному артистического дара, пришлось играть роль графа Альмавивы в отрывке из «Женитьбы Фигаро», исполнявшемся на французском языке. Режиссировала постановку Ирина Михайловна Ободовская, преподавательница французского языка, ставшая впоследствии известной широкому кругу читателей благодаря книге «Вокруг Пушкина» (М., 1975), которую она подготовила вместе с мужем М. Дементьевым и в которой были впервые опубликованы письма Натальи Николаевны Пушкиной и ее сестер Е.Н. и А.Н. Гончаровых. Книга эта выдержала два издания.
Еще одним проявлением творческой атмосферы был выпуск студенческого журнала, в котором я участвовал как литературный редактор. Оформляли его Юра Красный и Алеша Пушкарев, художники следующего за нашим курса. Все сочинения каллиграфически переписала поражавшая своей тонкой красотой студентка-художница явно японского происхождения, у которой был роман с Юрой. Успеха журнал, впрочем, не имел, и первый номер остался единственным. Все же это тоже свидетельствовало о свободной творческой атмосфере в институте, хотя за его пределами начал во всю силу действовать идеологический террор, знаменем которого была газета ЦК партии «Культура и жизнь».
Конечно, и в институте идиллии тоже не было. В многотиражке «Сталинский печатник» публиковались статьи Е. Немировского и Л. Теплова, которые тщились доказать, что книгопечатание изобретено на Руси, печатались опусы верноподданных, громившие космополитов и т. п.
Однако дух вольницы все же был силен. Именно он привел к тому, что на отчетно-выборной комсомольской конференции института в зале Дома дирекции ВДНХ студенты провалили кого-то из списка, заготовленного комитетом комсомола, и партком, чтобы добиться своего, постарался под каким-то надуманным предлогом провести повторное голосование уже в здании института. Все возмущались, но поделать ничего не смогли.
Памятные эпизоды моей студенческой жизни
Вспоминаются эпизоды студенческой жизни, важные, возможно, только для меня.
Один из таких эпизодов связан с посещением декады детской книги в Колонном зале Дома союзов. И вот почему. Поскольку первое время я в своей группе был лишен мужского общества, то поневоле сблизился со студентами-художниками нашего курса. В их группе юношей было больше, чем девушек. На переменах во время перекура я обсуждал с ними всякие дела.
Из них особую симпатию к себе вызывал у меня Саша Слуцкер. Ходил он с палочкой. Видимо, потерял ногу на войне. Его смущенная улыбка выдавала доброту, стеснительность и скромность. Мы оба получили пригласительный билет на декаду детской книги. Саша предложил мне пойти туда вместе. Он попросил меня зайти за ним и дал свой адрес. Жил он у родственников где-то на Мясницкой. Когда я пришел, он еще собирался, был не одет. Я был поражен, увидев, что у него протезы не на одной, а на обеих ногах. И при этом он иногда умудрялся двигаться даже без палочки. Догадаться, что он потерял обе ноги, было очень трудно. Рисовал он все время. Мне очень нравились его штриховые рисунки. Они так ловко передавали движения и позы людей. Я был убежден, что он станет иллюстратором. Но он после окончания института попал по распределению в Отдел новых шрифтов НИИполиграфмаша и стал заниматься созданием наборных шрифтов. Совсем недавно, в 2002 году, я прочитал в газете, что он был удостоен премии международного конкурса за один из своих шрифтов, чему необыкновенно порадовался.
На втором курсе профком выдал мне талон на приобретение костюма. До этого я ходил в старых, видавших виды, застиранных гимнастерке и брюках, полученных при выписке из госпиталя. Так что для меня это было большим событием в жизни.
Из художников нашего курса выделялся своими работами и суждениями еще один фронтовик, Слава Плотников, живший в Подольске. До сих пор, вспоминая о нем, ощущаю горькое чувство: из-за тяжелой болезни после ранения он, не завершив образования, скончался. Тогда весть о его кончине потрясла всех, кто его знал. Думаю, что книжное, а может быть, и изобразительное искусство потеряло в его лице большой оригинальный талант.
Судьбоносная встреча
Произошла означенная в заголовке встреча в День Победы – 9 мая 1945 года.
Вечером я шел от своей тети, маминой двоюродной сестры Веры Ческис, по Никольской (тогда улице 25 Октября) к метро «Дзержинская» (ныне «Лубянка») и столкнулся со своей сокурсницей Ниной Фельдман, которая вместе со школьной подругой направлялась на Красную площадь. Я присоединился к ним.
На нашем курсе Нина входила в некое, как сейчас бы сказали, неформальное объединение, включавшее, помимо меня, нескольких студенток (Сану Бальчеву, Катю Гушанскую – эту пару в свою очередь связывала тесная дружба – и Лиду Антипину). Мы с ними ходили вместе в кино, сидели рядом на лекциях, были друг к другу чуть ближе, чем к другим сокурсникам. Так что встреча с Ниной в такой день была вдвойне приятной и произвела на меня сильное впечатление, тем более что у меня не было в то время друга, а тяга к дружбе, потребность в человеке, с которым можно было бы делиться своими мыслями и чувствами, советоваться, была всегда велика, а в то время особенно.
Я стал бывать у Нины дома. Она с мамой жила тогда в Савеловском переулке на Остоженке (Метростроевской), недалеко от станции метро «Дворец Советов» (позднее переименованной в «Кропоткинскую»). Мы вместе готовились к экзаменам. Я влюбился. Нина отвечала взаимностью. Подготовка к экзаменам перемежалась долгими поцелуями. Мы были счастливы.
Очень скоро я уже не мыслил жизни без Нины и после второго курса уговорил ее поехать со мной на летние каникулы в Запорожье, чтобы познакомиться с моими родителями.
Написал маме и папе о Нине. Нина также написала им письмо.
В ответ мама прислала ей письмо (папа был в это время в больнице после первого инсульта):
Дорогая Ниночка!
Получила Ваше письмо. Спасибо большое. Очень рада была ему. Уже считаю время, когда Вы с Кадинькой к нам приедете. Надеюсь, что Вы у нас себя будете чувствовать, как дома. Я хотя Вас не видела, но пишу Вам, и у меня такое впечатление, что я Вас хорошо знаю. Больше того, мне кажется, что я бы Вас узнала при встрече. Не хвастаясь, милая Ниночка, скажу, что в наш дом все охотно едут. Нет, правда, у меня того настроения. Вам Кадинька говорил, наверно, про нашу утрату, но приходится мириться. Здоровье Эм. Кл. сейчас совсем хорошее. Пока он еще в больнице, так как ему там делают разные электрические процедуры. Скоро уже возьму его домой. Будьте здоровы! Всех благ! М. Мильчин.
Поездка была удачной. Мы прекрасно провели лето в Запорожье. И мое желание жениться на Нине только укрепилось.
Я вытянул счастливый жребий. Союзу с Ниной я обязан всеми своими успехами в жизни. Женитьба на ней позволила мне остаться в Москве, где для моего профессионального роста были хоть какие-то перспективы. Возвращение в Запорожье или поездка по направлению на работу в каком-либо областном издательстве вряд ли сулила мне то, чего я добился в Москве.
Но я бы ни за что не согласился назвать эту женитьбу браком по расчету. Главным была любовь. Конечно, я не сбрасывал со счетов и возможность благодаря этому жить и работать в Москве. Но это двигало мною меньше всего. Я чувствовал, что любим, что Нина – человек, на которого можно опереться в жизни. И не ошибся. Она взяла на себя всю бытовую сторону жизни, все, что мне дается с колоссальным нервным напряжением. Я мог благодаря этому всецело отдаться издательской и литературной работе. За Ниной я чувствовал себя как за каменной стеной.
Не было бы встречи в День Победы, неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Встреча же привела к тому, что 1 июля 1947 года мы поженились. Сегодня, когда я пишу эти строки, с того времени прошло 63 с лишним года. И я могу благодарить Бога за эту встречу. Потому что всеми своими удачами и успехами я обязан Нине и нашей замечательной дочке Верочке. Она родилась 7 сентября 1953 года, окончила филологический факультет МГУ и аспирантуру, защитила диссертацию. Умница, она прославилась своими переводами с французского, которые были неоднократно отмечены отечественными и французскими премиями, а также историко-литературными исследованиями русско-французских литературных связей. К тому же она заботливая дочка, которая помогает мне советами и содействует моим литературным занятиям. Верочка одарила нас внуком Костей, ставшим заметным журналистом, книжным обозревателем.
Успехи известных мне выпускников МПИ
Как редактору коллективной монографии «Основы оформления советской книги» (М., 1956) мне пришлось встретиться с еще одним однокурсником – Левой Подольским, которого пригласили оформлять это издание как уже хорошо проявившего себя художника книги.
Вообще, выпускники РИФа своей работой и творчеством доказали, что уровень институтского образования был высоким.
Михаил Приваленко из нашей группы успешно работал главным редактором Курского книжного издательства, а затем председателем Курского радиокомитета.
Николай Сикорский стал заведующим кафедрой редактирования сначала Заочного полиграфического, а затем и очного. Он много лет был главным редактором сборника «Книга. Исследования и материалы», организовывал книговедческие научные конференции, несколько лет возглавлял Библиотеку СССР имени В.И. Ленина. Ему обязано книговедение и первым учебником по редактированию, и подготовкой новых научных и педагогических кадров.
Юрий Бем много лет заведовал книжной редакцией издательства «Правда».
Лидия Антипина возглавляла одну из книжных редакций «Молодой гвардии», Ира Пахомова стала одним из ведущих редакторов издательства «Детская литература».
Успешно работали на разных редакционных должностях и другие наши выпускницы. Так что завет К.И. Былинского они выполнили. На выпускном вечере нашего курса он обратился к уже бывшим студенткам с такой ироничной, но исполненной смысла просьбой:
– Только будьте, пожалуйста, редакторами, а не редакторшами.
Из студентов других курсов в поле моего зрения были: Рая Облонская, писательница и переводчик, воспитанница и друг Норы Яковлевны Галь; Владимир Порудоминский, ставший писателем и выпустивший книги о Владимире Дале и его словаре, о Владимире Гаршине и др.; Ксения Остроумова (Накорякова), кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ, автор нескольких книг по методике и истории редактирования в России; Вадим Соколов, критик, сотрудник «Литературной газеты», член Союза писателей; Олег Вадеев, признанный в своем Политиздате лучшим редактором; Марк Тилевич, ставший заместителем главного редактора журнала «За рулем»; Галя Алямовская, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ВНИИ полиграфии. Этот перечень можно было бы продолжить, но и по названным именам можно судить, что МПИ подготовил для издательской отрасли надежные кадры.
Институт сформировал из нас профессионалов, старавшихся наилучшим образом проявить себя на своих местах и сыгравших немалую роль в совершенствовании и развитии книгоиздательского дела и отечественной печати. Сегодня название Московский полиграфический институт заменено другим, но любое упоминание этого названия заставляет учащенно биться сердце и радоваться тому, что оно, как и редакционно-издательский факультет, не забыто.
Радость от окончания института и диплома с отличием была перечеркнута обстановкой в стране в то время. Шел 1949 год. Самый разгар борьбы с так называемым космополитизмом. За нею стоял чуть прикрытый антисемитизм. Чего стоила расшифровка русских псевдонимов писателей и критиков еврейской национальности. Мы с женой и наши однокашницы Рита Гуревич и Сарра Бальчева стали жертвами национальной дискриминации. Мы были единственными выпускниками, которых, несмотря на дипломы с отличием, комиссия направила на периферию. Обида на несправедливость была очень сильной, и мы с Саррой Бальчевой даже не пошли на выпускной вечер.
В Управлении руководящих кадров Главполиграфиздата
Нас с женой по окончании учебы комиссия направила на работу в Архангельское книжное издательство. На мое письмо к директору этого издательства я получил такой ответ:
Уважаемый тов. МИЛЬЧИН!
В ответ на Ваше письмо сообщаю, что в настоящее время в нашем издательстве вакантных должностей нет за исключением должности главного редактора.
О направлении Вас в наше издательство Главполиграфиздат нам ничего не сообщал.
Стало ясно, что решение комиссии исполнить невозможно. Вернувшись в Москву после летнего отдыха, мы все же были озабочены тем, чтобы нас не заслали куда-нибудь в тьмутаракань. С письмом директора Архангельского издательства мы пошли в Управление руководящих кадров Главполиграфиздата, которое занималось распределением выпускников нашего института, к инспектору Беликову. Но ему письма из Архангельского издательства было недостаточно, чтобы отпустить нас восвояси и предоставить так называемое свободное распределение, точнее – свободу от распределения, свободу устраиваться на работу самим. Он сначала должен был убедиться, что ни в одном издательстве за пределами Москвы (московские и ленинградские исключались: не для нас) нет нужды в редакторах. Он звонил при нас в Читу, еще куда-то. Нам несколько раз пришлось наведываться к Беликову. Но в конце концов, убедившись в бесплодности своих попыток выслать нас из Москвы, он дал нам бумагу о том, что мы можем распорядиться своей судьбой сами.
Безуспешные попытки найти работу
Сначала были попытки устроиться с помощью знакомых моих родственников.
У моей двоюродной сестры школьный соученик работал в Машгизе. Она написала ему, попросив помочь мне с устройством на работу. Мы встретились с ним. Он был очень приветлив и участлив, но помочь мне не мог. Вакантных мест младшего редактора на тот момент в Машгизе не было, а без диплома инженера претендовать в Машгизе на должность редактора – напрасный труд.
Затем я побывал в Академии Генерального штаба, где преподавал друг юности моей родной тети Анны Львовны, генерал-майор инженерных войск Шмульзон, прославившийся во время Великой Отечественной войны (кажется, фамилия у него была уже иная, но я ее не запомнил). Он тоже был очень приветлив и произвел на меня очень хорошее впечатление. Но и он сказал, что, к сожалению, ничем мне помочь не может.
Не оставалось нам, мне и жене, ничего другого, как искать работу самостоятельно.
Но прежде чем начать ходить наугад в издательства, я решил использовать собственные издательские знакомства.
На ум пришло, что Иван Михайлович Скворцов, наш преподаватель редактирования, работал заведующим редакцией в издательстве «Большая советская энциклопедия». Я пошел в Главполиграфиздат, в здании которого размещалось тогда это издательство. Разыскал Ивана Михайловича.
Он встретил меня очень тепло, по-дружески. В его редакции мест не было, но он, как я уже упоминал, дал мне характеристику, чтобы, приходя в издательства с улицы, я имел хоть какую-то рекомендацию. Написал он вот что:
Тов. Мильчина А.Э. я знаю как бывшего студента Московского полиграфического института. На практических занятиях по редактированию тов. Мильчин А.Э. обнаружил умение разбираться в сложных текстах и находить лучший вариант при правке. Отредактированный им текст обычно вполне отвечал таким требованиям, которым должен отвечать оригинал, сдаваемый в набор.
Особо следует отметить четкую политическую направленность тов. Мильчина А.Э. при редактировании, умение найти и исправить неправильные или недостаточно ясные политические формулировки.
Не сомневаюсь, что тов. Мильчин А.Э. будет хорошо работать литературным редактором.
Характеристика эта мне не помогла, но я ее воспринял как большую похвалу и был очень благодарен Ивану Михайловичу за сочувствие и человечное отношение.
К Анатолию Константиновичу Котову я не стал обращаться, так как он меня не знал, да и Гослитиздат был не тем издательством, в котором при тогдашних условиях можно было на что-то рассчитывать.
Больше в издательствах знакомых у нас не было.
Правда, мой бывший сокурсник, Николай Сикорский, работал референтом у председателя Комитета по высшей школе Кафтанова. Мы были в добрых отношениях. Поэтому я подумал: «А вдруг у него есть какие-то связи? Комитет ведь дает издательствам гриф на учебники». Пошел к нему. Он был очень любезен, но сказал, что помочь мне не может. Возможно, в самом деле не мог.
Начал я без особой надежды заходить в издательства. В памяти сохранилось посещение Издательства Академии наук СССР. На бегу в коридоре столкнулся со мной главный редактор этого издательства Ефим Семенович Лихтенштейн и сразу отказал, ссылаясь на отсутствие вакантных мест младших редакторов и редакторов. Поэтому беседовать со мной он счел излишним. Возможно, он не обманывал. Тем более что в это издательство к тому времени была уже принята одна наша выпускница – Неля Володина. Сейчас я думаю, что все же ему не следовало так поступать. Даже при отсутствии вакантных мест познакомиться с претендентом было совсем не бесполезно. Но, видимо, сыграла свою отрицательную роль привычка принимать только по блату.
Стало понятно, что приходить в издательства с улицы, не имея опыта издательской работы и располагая только дипломом с отличием, характеристиками И.М. Скворцова и издательства «Молодая гвардия» (где мы проходили практику), бессмысленно. Положение было отчаянное. Октябрь перевалил за половину, надо было зарабатывать на жизнь, а перспектив на работу никаких. Выручил господин случай.
Как я был принят на работу в «Искусство»
Не помню, куда я направлялся, но, проходя по правой стороне Цветного бульвара в сторону Трубной площади, я вдруг перед входом в первый от Самотечной площади двор увидел вывеску:
Комитет по делам искусств СССР
Издательство «Искусство»
Вывеска была довольно невзрачной. Наверно, я видел ее и раньше, так как много раз проходил мимо, когда шел на Центральный рынок или в цирк. Мы ведь жили тогда в Самотечном проезде, совсем недалеко от этого места. Но бросилась в глаза она только в тот раз. На ловца и зверь бежит. Попытка не пытка: зайду.
Я пересек длиннющий двор, в конце которого находилось трехэтажное здание издательства. Впрочем, таким оно было только с внешней стороны, с противоположной стороны над землей возвышался только один, третий этаж. У первых двух этажей только фасадная сторона была с окнами. Противоположная же представляла собой глухую стену: здание как бы врыли в земляной холм.
Нашел на первом этаже отдел кадров. Меня встретила худощавая молодая женщина, инспектор отдела кадров Зоя Петровна Кондратьева. Не было в ней ничего от советских кадровиков, с подозрительностью смотрящих на тех, кого они принимают на работу. На мой вопрос, нет ли в издательстве места младшего редактора, она ответила, что свободных мест младшего редактора у них нет, и спросила:
– А корректором не хотите поработать? У нас сейчас как раз освобождается место.
Оказывается, работавший корректором Юлиан Козловский, артист по образованию, сразу по окончании Щепкинского училища не нашедший места в московских театрах, как раз перед моим посещением издательства «Искусство» был принят в труппу Театра имени Пушкина. Он и освободил место для меня.
Я, недолго думая, согласился.
– Пишите заявление о приеме, заполните анкету и пойдем, я вас представлю заместителю директора по производству и заведующему производственным отделом.
Заместителем директора по производству был тогда Николай Семенович Козлов, в прошлом наборщик Первой Образцовой типографии, судя по налитому краской лицу, любитель закладывать за воротник. Выслушав Зою Петровну, он, ничего не спрашивая, подписал мое заявление.
Производственным отделом заведовал опытный полиграфист Яков Абрамович Днепровский. Познакомившись со мной и узнав, что у меня есть опыт внештатной корректорской работы для издательства «Молодая гвардия», он отвел меня в корректорскую, где я познакомился с ее заведующей Анной Борисовной Бельской, тоже расспросившей меня, умею ли я держать корректуру.
Когда я вернулся к Зое Петровне, она сказала, чтобы я завтра выходил на работу. Она завела трудовую книжку, первая запись в которой помечена 17 октября 1949 года: Зачислен в Производственный отдел на должность корректора.
Меня так легко приняли на работу по нескольким причинам.
Во-первых, Зоя Петровна не была настоящим кадровиком, который истово проводит партийную кадровую политику, в частности следит за национальным составом коллектива. Антисемитизм был ей явно чужд. Она была учетно-секретарским инспектором, и только.
Во-вторых, «Искусство» было в то время ведомственным издательством Комитета по делам искусств при Совете министров СССР, а оклады в этом ведомстве были намного ниже, чем в других центральных издательствах, которые входили в систему Главполиграфиздата. Так, месячный оклад корректора (мой оклад) составлял 550 р., и пойти на работу с таким окладом мог лишь человек, которому нельзя было рассчитывать ни на что иное[7]. Правда, когда через несколько месяцев «Искусство» перешло в систему Главполиграфиздата, оклады его работников были приравнены к окладам других центральных издательств той же категории, я стал получать сначала 698 р., а затем, повышенный в должности до старшего корректора, целых 790 р. Но во время моего поступления в «Искусство» такой молодой человек, как я, с высшим редакторским образованием, имеющий некоторый опыт корректорской работы, был желанным кадром для издательства, если, конечно, оно могло позволить себе не следовать политике государственного антисемитизма.
А поскольку моя жена Нина с января 1950 года тоже нашла работу (поступила корректором в Издательство иностранной литературы), даже при наших мизерных заработках мы уже смогли более или менее сводить концы с концами.
Итак, я стал работником издательства «Искусство». Как описать жизнь и работу издательства? Необычайно сложная задача. Конечно, художественно воссоздать эту жизнь еще сложнее, чем документально, но и последнее более чем сложно. И я, предвидя эту сложность, пасовал перед ней и никак не мог решиться начать рассказ о двух издательствах, в которых мне пришлось работать, – «Искусстве» (с 1949 по 1963 год включительно) и «Книге» (с 1964 по август 1985 года), но, вспоминая эпизоды из истории издания то одной, то другой книги, детали издательской жизни, я понял, что даже осколки этой издательской истории ценны, и нужно, не стремясь выстроить историю издательства в те годы, когда я в нем работал, постараться воссоздать эти осколки. То есть это будет не история, например, издательства «Книга», а страницы из его истории.
Будет ли от них польза? Утверждать не берусь, но думаю, что будет.
Могу судить об этом хотя бы по откликам читателей на мои рассказы об истории издания книги Лидии Чуковской «В лаборатории редактора» (Октябрь. 2001. № 8), о выходе второго издания «Писателя и книги» Б.В. Томашевского (Новое литературное обозрение. 2001. № 48) и книги В.Э. Вацуро и М.И. Гиллельсона «Сквозь умственные плотины» (Новое литературное обозрение. 2000. № 44).
Правда, нужно отдавать себе отчет, что в моем рассказе об издании любой книги есть две стороны: одна касается моей собственной биографии, влияния этой истории на мое сознание и душу, на мое профессиональное становление, другая – истории данной книги.
Легче всего мне описывать историю издания книг, которые я сам редактировал. Ведь это эпизоды моей собственной редакторской биографии.
Когда я стал заведовать редакцией, а затем был назначен заместителем главного редактора и, наконец, главным редактором, то смотрел на издание книг с другой стороны; вмешиваться приходилось главным образом в тех случаях, когда обычное течение подготовки и выпуска книги нарушалось то ли конфликтом автора с издательством, то ли трудностями художественного или полиграфического воплощения. Но и это интересно и по-своему важно, так как характеризует профессиональные и социальные обстоятельства и особенности издательской жизни того времени.
И еще одна оговорка. Рассказывая о своей жизни в издательстве, я буду говорить и о тех сотрудниках, которые, возможно, не оказали существенного влияния на работу издательства, но зато оставили след в моей душе.
В издательстве «Искусство»
В корректорской
Заведующая корректорской А.Б. Бельская
Анна Борисовна Бельская держала корректорскую в строгости не только по части дисциплины. Она была требовательна, добивалась высокого качества работы. Для этого применялась система обязательных пометок: корректор, читающий сверку, помечал ошибки, пропущенные корректором, читавшим верстку, а корректор, читающий верстку, – ошибки, которые пропустил вычитчик. Такие ошибки обводились красным карандашом. Анна Борисовна, просматривая корректурные оттиски, вела учет качества работы корректоров, и он отражался на премиях.
Зорко следила Анна Борисовна и за выполнением норм. Ежедневно каждый корректор заполнял рапортичку, и корректор-учетчик выводил процент выполнения норм.
Таковы были внешние условия работы в корректорской.
Бельскую побаивались. По рассказам корректоров, Юлиан Козловский, умевший подражать голосам, пугал их, когда Бельская куда-то уходила. В коридоре перед корректорской он ее голосом что-то произносил, создавая впечатление, что она вот-вот появится в комнате. То-то потом было смеху.
Коллеги-корректоры
Состав корректорской был очень пестрым. Окончившая исторический факультет МГУ Галя Троицкая (насчет имени не уверен) в корректорской появлялась лишь время от времени, так как была, по сути, корректором журнала «Театр» и бóльшую часть рабочего времени проводила в редакции этого журнала. Умная и много знающая, она, конечно, была находкой для «Театра».
Две молоденькие недавние выпускницы редакционно-издательского техникума Фаня Бергер и Зина Гинзбург составляли ядро коллектива. Фаня – знаток пунктуации, хорошо разбиралась в самых сложных случаях. Она очень серьезно относилась к своей работе и отлично выполняла ее. Поэтому ей поручалась корректура наиболее сложных и ответственных работ. Зина – молодая мама, веселая, улыбчивая, относилась к работе легко, но работала неплохо.
Самой большой достопримечательностью корректорской был Сергей Петрович Червяков. Небольшого роста, худощавый, с бородкой клинышком, как у Михаила Ивановича Калинина. Бедно, но опрятно одетый. Профессиональный революционер, но не большевик. Из разговоров с ним я так и не понял, был ли он членом какой-либо партии или боролся с царизмом сам по себе. Помню, что он был близко знаком со старым большевиком Владимирским, отцом главного редактора «Искусства» по изоизданиям. В корректорскую Сергей Петрович пришел из Института марксизма-ленинизма, где работал не один год, но затем таких, как он, из этого учреждения вычистили. Его трудоустроили в корректорскую «Искусства». То, что он уцелел в годы репрессий, – чудо. Тем более что, работая в издательстве, он единственный не был членом профсоюза. Как я понял, в знак не высказываемого им, но явного протеста против сущности советских профсоюзов, которые вместо того, чтобы защищать интересы трудящихся, были союзниками работодателей. А ведь это лишало Сергея Петровича возможности получать оплату во время болезни: нечлены профсоюза не могли пользоваться льготами социального страхования. Он, правда, почти не болел, а даже если плохо себя чувствовал, все равно приходил на службу, но все же ставил себя в незавидное положение. Ведь жена его не работала. Сын, лейтенант, погиб на фронте. Однако никакие уговоры, кто бы и как бы их ни вел, не помогали. Он был непоколебим.
Ко мне он благоволил. Я тоже испытывал к нему большую симпатию. Одно то, что он был в прошлом профессиональным революционером, внушало к нему большое уважение. Слово «революционер» было тогда для меня овеяно славой, означало подвижничество и героизм. Тем не менее, увы, я мало узнал о его биографии и последовательного представления о ней так и не составил. Разговаривали мы с ним только во время кратких перекуров в коридоре. О себе он рассказывал мало, а у меня не хватало пытливости для расспросов, о чем я потом очень жалел.
Жил Сергей Петрович недалеко от издательства, на Сретенском бульваре, вблизи от Трубной площади.
Анна Борисовна держала его в основном на подчитке и учете выработки, а когда он стал плохо слышать, перевела его исключительно на подсчет выработки корректоров. Ушел он из корректорской, когда уже совсем ослабевшее зрение не давало ему работать, но когда это было и когда он умер, не знаю. Я ведь вместе с редакцией перешел в другое издательство.
Очень сожалею, что задавал ему мало вопросов. От всей его личности веяло чистотой и надежностью.
Позднее меня появился в корректорской еще один представитель мужского пола – Толя Толкушкин. Моложе меня по возрасту, он, как и я, был во время войны ранен в ногу при бомбежке. И рана его долго не заживала. В прошлом наборщик-линотипист, он был хорошим корректором благодаря хваткому уму и природному чутью языка.
Отношение Анны Борисовны к моим возможностям было поначалу очень скептическим. И она испытывала меня на подчитке, лишь изредка допуская читать первую корректуру. Я еще не успел полностью завоевать ее доверие, когда она отправила меня в командировку в Первую Образцовую типографию. Было это либо в конце ноября, либо в самом начале декабря.
Читаю этикетки для Выставки подарков И.В. Сталину
Как выяснилось на месте, центральные издательства делегировали своих корректоров для чтения корректурных оттисков этикеток к экспонатам Выставки подарков И.В. Сталину в связи с 70-летием со дня его рождения.
Конечно, для меня, проводившего рабочие дни, похожие один на другой, за столом в корректорской издательства, выезд в типографию для такой экзотической цели стал событием. Но пишу я о нем не по этой причине, а потому, что, полагаю, в советской истории это маленький, но значимый штрих в ряду других проявлений культа Сталина. И если никто о нем не упомянет, он будет забыт.
Почему послали меня? Думаю, что решающую роль сыграли два обстоятельства: первое – высшее редакторское образование и хоть какое-то знание иностранного языка, второе – членство в комсомоле (в корректорской, насколько помню, других комсомольцев не было). Было и третье: Анна Борисовна считала, что мое отсутствие меньше всего отразится на работе корректорской.
Так или иначе, я оказался в Первой Образцовой типографии в большой комнате, где за столами уже корпели над корректурами коллеги из других центральных издательств.
Набирали этикетки крупным гротесковым шрифтом. Текст состоял, насколько помню, из названия предмета, присланного в подарок, сведений о дарителе и названия страны, в которой он жил. Боже, каких только подарков среди них не было, из каких только стран они не были присланы. Какие могли быть сомнения в пламенной любви к нашему вождю народов простых людей чуть ли не всего мира! Боготворение, никак не меньше. Конечно, все это не без оргработы национальных компартий, но все же.
Над переводами иноязычных текстов трудились переводчики и редакторы Издательства литературы на иностранных языках и Издательства иностранной литературы. Затем оригиналы этикеток поступали в набор, а из наборного цеха – к нам, корректорам.
Читать надо было с двойным вниманием: последствия любой опечатки – все отчетливо понимали – могли быть самыми страшными. Мы были наслышаны о корректорах, которые проглядели опечатки и были арестованы как враги народа. А тут этикетки к подаркам Сталину. Так что подписывали в печать только чистые корректурные оттиски, без поправок.
Читать пришлось почти двое суток, не выходя из стен типографии, днем и ночью. Ночью, правда, корректурные оттиски поступали не так интенсивно, как днем, и возникали «окна», которыми мы пользовались, чтобы вздремнуть, положив голову на руки.
Во время одного такого ночного «окна» меня разбудил посторонний шум. Подняв голову, я увидел группу явных начальников во главе с человеком, напоминавшим внешним видом старого рабочего-революционера, каким его изображали в фильмах о революции. Это были ответственные работники ЦК ВКП(б), приехавшие проверить ход изготовления этикеток. Главным был Григорий Федорович Птушкин, инструктор ЦК ВКП(б), ведавший полиграфией и потому ответственный за сроки и качество выполнения работы, порученной Первой Образцовой. Он погрозил мне пальцем, осуждая спанье, хотя, конечно, не мог не понимать, что мы не отлыниваем от чтения, не задерживаем корректуру, о чем кто-то из нас ему и сказал. Но больше я уже не дремал.
Закончилась для меня проверка «в бою» благополучно. Даже благодарность объявили в приказе директора издательства «за успешную работу в сжатые сроки по редактированию, печати и выпуску этикеток “Выставки подарков И.В. Сталину”». Так записано в моей трудовой книжке.
Проверяю тексты альбома «Дзержинский»
Второй случай, когда мне доверили выполнить ответственное задание за пределами издательства, на сей раз в одном из помещений Института марксизма-ленинизма, был связан с изданием альбома «Дзержинский».
Номинально его готовила к выпуску редакция альбомов «Искусства». Фактически же руководили подготовкой ответственные сотрудники Института марксизма-ленинизма и художник Соломон Бенедиктович Телингатер. Он 8 лет перед Отечественной войной работал художественным редактором Партиздата – Госполитиздата. Еще совсем недавно был старшим художественным редактором Воениздата, откуда его уволили (наверняка по 5-му пункту), но все же, как талантливому художнику, члену партии, обладавшему опытом оформления изданий политической литературы, ему доверили оформление такого сложного альбома, выпускавшегося, вероятно, в связи с каким-то юбилеем железного Феликса, а может быть, и для того, чтобы укрепить моральный дух т. н. органов. Уверен, что Телингатера выбрали для оформления альбома не в издательстве.
Соломон Бенедиктович, как я убедился во время работы над альбомом, был хорошим организатором и знатоком полиграфического производства и всех нюансов подготовки изобразительных оригиналов. Он вникал во все мелочи и давал четкие распоряжения. Так что работа шла более или менее гладко.
Моя задача была несложной. Текстов в альбоме было немного – вступительная статья и подписи под репродукциями, но среди оригиналов документов было множество газет со статьями самого Дзержинского или материалами, связанными с его деятельностью. Текст каждой статьи или корреспонденции надо было прочитать и выявить все буквенные, орфографические и смысловые ошибки, чтобы в альбоме они были воспроизведены в исправном виде. Перескочившие буквы в слове, пропуски букв, строки, перевернутые вверх ногами или идущие в неверном порядке, – все эти погрешности в газетах того времени были представлены в изобилии. Конечно, те, кто руководил подготовкой альбома, не могли допустить, чтобы читатели альбома потешались над нелепыми ошибками в документальных текстах, которым они должны были внимать. Поэтому графики и ретушеры исправляли все ошибки, помеченные мною на фотоотпечатках газетных текстов, так что в альбоме они предстали перед читателями набранными верно. И тут фальсификация, хотя и относительно невинная.
После мрачноватого помещения издательства на Цветном бульваре, ютившегося в старом здании, где многие кабинеты были выгорожены фанерными стенками, строгая чистота в помещении Института марксизма-ленинизма, красные ковровые дорожки, поглощавшие шум шагов, белые стены с красивыми деревянными панелями произвели на меня сильное впечатление. Поразили меня и завтраки, разносимые буфетчицей, – красиво запечатанные баночки простокваши, бутерброды и что-то еще, незапомнившееся. Я впервые столкнулся с тем, как снабжали привилегированных партийных работников, и это не могло меня не удивить.
Проработал я в Институте недели две-три, после чего вернулся в корректорскую издательства.
Альбом «Феликс Эдмундович Дзержинский» вышел в 1953 году.
Делаю корректорскую карьеру
Мое положение в корректорской упрочилось. Анна Борисовна постепенно начала подключать меня к вычитке, наиболее сложному виду корректорской работы, который мне был особенно интересен, поскольку вычитка во многом близка работе редактора. А мои познания в области литературного редактирования позволяли мне делать полезные замечания по рукописям. И, например, именно поэтому сотрудница редакции литературы по изобразительному искусству Наталья Лапшина, которая вскоре стала заведовать этой редакцией, просила, чтобы именно я вычитывал рукописи книг, которые она редактировала. Авторы книг этой редакции допускали обычно довольно много стилистических ошибок самого разного рода, и мои замечания и предложения помогали улучшить литературный уровень их книг.
Благодаря моей сосредоточенности на вычитке меня через восемь месяцев после начала работы в корректорской перевели на должность старшего корректора.
Я относился к своей корректорской работе весьма серьезно и, в частности, овладел техникой вычитки и корректуры драматического произведения, у которой были свои особенности. Особенности эти нигде не были зафиксированы и передавались устно от опытных корректоров к новичкам. Да и ошибок я пропускал очень мало.
Одно время в издательствах стали создавать так называемые сквозные бригады отличного качества. Не миновало это движение и наше издательство. И когда для выпуска книги Бэлзы о чешских композиторах и чешском оперном театре стали формировать такую бригаду, в которую входили ведущий, художественный и технический редакторы книги, корректоры и выпускающий, в нее включили Фаню Бергер, безусловно лучшего корректора издательства, и меня. Почему книгу Бэлзы выпускало издательство «Искусство», а не «Музыка», мне неведомо. Но, так или иначе, мы выпустили книгу без единой опечатки. Движение это быстро угасло, так как создавать бригаду для каждой книги было невозможно. Все же для самых ответственных и сложных изданий этот способ организации работы можно успешно использовать, но в «Искусстве» он быстро был забыт.
Когда в ноябре 1951 года Бельская ушла на пенсию, меня сделали и.о. заведующим корректорской, и я не стал полноправным ее заведующим только потому, что вскоре перешел на должность редактора в редакцию полиграфической литературы.
Я совсем не жалею, что два с половиной года провел в корректорской. Этот опыт потом мне очень пригодился.
В коллективе издательства
Соломон Наумович Шапиро
С.Н. Шапиро работал в планово-экономическом отделе издательства и стал моим приятелем на почве футбольного «боления». Внешне он был вылитый Михоэлс. Мне он нравился своим ироничным отношением к жизни и людям. Мы вместе ходили на футбольные матчи его любимого московского «Динамо», иногда в сопровождении Сергея Соколова (технический редактор по образованию, он стал книжным художником-оформителем и сотрудничал с «Искусством»).
Любитель острого слова, Соломон Наумович был мне очень симпатичен. Чем-то, видимо, привлекал его и я, хотя он был старше меня. Мы обменивались мнениями о событиях издательской жизни и жизни страны. В общем, это была если не дружба, то что-то очень близкое к ней. К сожалению, когда редакции изобразительной продукции перешли в воссозданный Изогиз, в это издательство перешел и Шапиро, и мы невольно перестали общаться, но в памяти моей он остался светлой страницей.
Стремлюсь стать редактором
Быть корректором, имея редакторское образование, мне, конечно, не хотелось. Я стремился стать редактором.
Пройдя в Московском полиграфическом институте хорошую школу, я вскоре после его окончания столкнулся с тем, что в издательствах эту школу не ценят. К нам, выпускникам МПИ, относились как к специалистам второго, если не третьего сорта. В цене были только те, кто получил образование, соответствующее содержанию литературы, выпускаемой издательством. В поисках работы мы натыкались на один и тот же ответ: «Нам нужны специалисты». Как будто мы, получившие высшее образование в МПИ, не специалисты.
Когда я думаю, почему мне так хотелось быть редактором, почему это было мечтой, то одна причина проста и понятна. Как редактору мне предстояло заниматься тем, чему меня обучили в институте, – редактировать, т. е., как я тогда понимал, оценивать и править тексты книг, делая их лучше. Конечно, тогда мне хотелось стать редактором прежде всего потому, что, раз я получил высшее образование и специальность редактора политической и художественной литературы, как значилось в дипломе, то и должен им стать. Корректору ведь достаточно среднего специального образования.
Но была и другая причина, которую я тогда почти не сознавал: мною, как я понимаю сейчас, двигал сложный комплекс побуждений.
Во-первых, мне хотелось работать с автором, помогать ему.
Во-вторых, мне хотелось доказать самому себе и особенно другим, что профессия редактора действительно нужна, что без профессионально подготовленного редактора, получившего специальное редакторское образование, книги будут выходить хуже, чем могли бы.
В-третьих, меня выводило из себя отношение к редактору как к страшному врагу автора, источнику его страданий и неприятностей. Профессия редактора всегда была и остается объектом насмешек и издевательств, и очень часто, увы, вполне обоснованных.
Мой школьный друг продемонстрировал это на примере воспитания внучатого племянника, которого, когда он не слушается и капризничает… устрашают (и это прекрасно действует) директором. «Сейчас, говорят, придет директор и задаст тебе». Следующая инстанция – проректор, затем – корректор. И, наконец, – редактор. «Редакторов почему-то он боится больше всех», – писал не без умысла мой друг.
Шутки шутками, а сознавать, что ты выбрал профессию, которую многие и за профессию не считают, воспринимают как вспомогательную, без которой, в конечном счете, можно и вообще обойтись, было больно и неприятно. Неужели ошибся в выборе? Неужели в самом деле это так? Ведь некоторые основания для подобных утверждений у хулителей профессионального редакторского образования действительно были. Вот в «Искусстве» большинство редакторов – специалисты без редакторского образования, думал я тогда, и ничего – справляются. Ну, может быть, не полностью, но оставшееся несделанным все же менее важно, чем сделанное. А справляются они, видимо, потому, что получили хорошее образование, прекрасно знают предмет своих книг, обладают широкой общей культурой. Редакционно-издательскими премудростями овладевают на практике.
Правда, работая корректором, вычитывая, например, рукописи искусствоведческих книг, подготовленных редакциями литературы по изобразительному, театральному или киноискусству, я видел, как много в них стилистических недостатков, как плохо их редакторы разбираются в чисто книговедческих требованиях к книге. Редакторами там были главным образом искусствоведы, окончившие искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, либо театроведческий факультет ГИТИСа, либо киноведческий факультет ВГИКа. Слабости их редакторской работы, во-первых, делали мою работу вычитчика более содержательной. Помогая редакторам-специалистам устранять стилистические погрешности и соблюдать книговедческие требования, я становился как бы соредактором книг, которые вычитывал (в корректурах эти возможности были ограничены жесткими рамками допустимого объема правки). А во-вторых, эти слабости убеждали меня в том, что профессиональное редакторское образование редактору необходимо. Впрочем, понимал я и то, что редактор, не получивший специального образования в той или иной области, не сможет точно оценить произведение, предназначенное к изданию, помочь автору усилить достоинства и устранить недостатки в том, что касается самого содержания. Ведь как бы красиво книга ни была издана и как бы прекрасно она ни была написана, грош ей цена, если по содержанию это не более чем средненькая компиляция, если автор не сумел раскрыть тему своей книги или если работа его не обладает новизной, не расширяет и не углубляет читательские знания. А редакторами в книжных редакциях «Искусства» были в основном люди не только прекрасно подготовленные в своей области, но и творческие, умные, прекрасно образованные, с хорошим художественным вкусом. Многие из них стали авторами превосходных книг и статей. Наталья Павловна Лапшина выпустила монографию «“Мир искусства”: Очерки истории и творческой практики» (М., 1977), Ирина Ивановна Никонова – монографию о М.В. Нестерове (вышла двумя изданиями), Ростислав Борисович Климов – монографию о голландской живописи, Юрий Александрович Молок – монографию «Владимир Михайлович Конашевич», книгу о В.А. Фаворском, статьи в сборнике «Искусство книги» (несколько его выпусков он же и составил), Григорий Юрьевич Стернин – монографию «А.А. Агин» и многие книги по истории русского искусства ХIХ века.
Не могу не сделать здесь отступление. Я с большой радостью прочитал в «Новом литературном обозрении» (2003. № 60) в обзоре Галины Ельшевской, что издательство ОГИ выпустило в 2002 году посмертно сборник работ Р.Б. Климова «Теория стадиального развития искусства и статьи» (512 с.). Ельшевская пишет о несомненной гениальности теории, несмотря на ее незавершенность, оценивает ее как «памятник интеллектуальной мысли». Что касается Климова-редактора, то, пожалуй, самый подробный его портрет нарисовал в своих «Воспоминаниях старого пессимиста» Игорь Голомшток (Знамя. 2011. № 4). А Юрий Овсянников, работавший в «Искусстве» после того, как я вместе с редакцией уже перешел в издательство «Книга», написал в своих посмертно опубликованных воспоминаниях «Рядом с книгами, вместе с книгами» (Звезда. 2002. № 11):
Много полезного перенял я у искусствоведов и литературных редакторов экстра-класса – Ростислава Климова и Юрия Молока. Высокому худому эстету Климову следовало по характеру и внешнему облику носить цилиндр, а он ходил в берете, сдвинутом на ухо, как делают это портовые рабочие во Франции. Великолепный знаток истории искусства, он редактировал тогда объемистые тома «Памятников мирового искусства». Каждый фолиант включал несколько сот иллюстраций. Климов сам подбирал их и сам готовил макет. Размерами подчеркивал значимость того или иного произведения, подбирал параллели, сталкивал разнохарактерные работы, короче, выстраивал наглядную историю развития пластических искусств в тот или иной период. Скрадывал, сглаживал просчеты не всегда удачных вступительных статей, которые представляла Академия художеств. Наблюдать за работой Климова, за его почти шаманским перекладыванием бесчисленных фотографий было не просто поучительно. То было завораживающее зрелище, дарившее не только наслаждение, но и радость обретения новых знаний (с. 217).
Должен признаться, что я, как и многие сотрудники «Искусства», узколобо понимал мотивы заведующей редакцией Ирины Ивановны Никоновой, которая, вопреки общему режиму работы в издательстве, установила для Ростислава Климова индивидуальный режим дня: он мог приходить в издательство не в девять ноль-ноль, а по собственному усмотрению. Многих это раздражало. Они объясняли это влюбленностью Ирины Ивановны в Климова, что было лишь частью правды. На самом деле она действовала так потому, что сознавала его гениальность, понимала, что издательская работа не должна мешать его искусствоведческому творчеству, что это важно для отечественного искусствоведения, а редакторскую работу он выполнит прекрасно и при свободном режиме. Так что честь ей и хвала за это.
Точно так же относилась она и к особенностям натуры Юрия Александровича Молока, закрывала глаза на его опоздания и защищала его от нападок кадровиков. Она знала, что свою редакторскую работу он выполнит отменно, где бы и когда он ею ни занимался. Ирина Ивановна заботилась о существе дела, а не о форме. Это было непросто, но она сумела преодолеть сопряженные с этим неприятности, сама демонстрируя безупречную дисциплинированность.
Можно сказать, что издательству «Искусство» крупно повезло в том, что в редакции литературы по изобразительному искусству оказались такие редакторы. Но все они были в большей степени научными или специальными редакторами, чем редакторами книжными, в чем я и убеждался, вычитывая рукописи. Соблюдение норм грамматической стилистики, книговедческих требований было для них делом второстепенным, если не третьестепенным. Вставал вопрос: а нужны ли вообще в редакции литературные редакторы с сугубо редакторским образованием (такие, как я)?
Впоследствии, когда мне пришлось преподавать курс редактирования на факультете повышения квалификации МПИ и во Всесоюзном институте повышения квалификации работников печати, я не мог не замечать, насколько интеллектуальный, общекультурный и лингвистический уровень большинства редакторов таких издательств, как «Мысль» или «Искусство», выше, чем у большинства редакторов техничeских издательств. Сейчас я понимаю, что это было следствием хорошего гуманитарного образования и широкого круга чтения, овладения книжной культурой на практике.
Слушатели порой спрашивали меня, какого редактора я ставлю выше: того, у которого образование специальное отраслевое, или того, у которого образование редакционно-издательское. Например, применительно к техническому издательству кто предпочтительнее – инженер или выпускник редакционно-издательского факультета? Я обычно отвечал, что на такой вопрос однозначный ответ невозможен. Редактор с редакционно-издательским образованием, овладевший знаниями отрасли, может не уступать редактору со специальным отраслевым образованием и даже превосходить его, а «отраслевик», если он обладает литературным даром и книжными знаниями, может превосходить редактора с образованием редакционно-издательским. Это подтверждает и практика. Но в любом случае, обязательно подчеркивал я, важно не забывать, что работа редактора – работа литературная. Он в первую очередь литератор, так как работает со словом, с текстом. Без такого умения он не в состоянии справиться со своими обязанностями.
Мне трудно было смириться с тем, что многие объявляли мою специальность вообще ненужной. Я искал контрдоводы, находил их, но не мог успокоиться, так как не мог не ощущать и силу доводов своих противников. Ведь запись в моем дипломе, что я окончил полный курс МПИ по специальности «редактирование политической и художественной литературы», действительно вызывает некоторое недоумение: как можно одновременно специализироваться на редактировании произведений двух таких разных литератур?
Уже тогда, в самом начале своего редакторского пути, я свои размышления на тему работы редактора обнародовал в заметке для… издательской стенгазеты. У меня чудом сохранился черновик этой заметки от 20 апреля 1961 года:
О редакторской работе можно сказать немало горьких слов. Они и произносятся. Еще чаще вертятся на языке. Редакторы встречают их сочувственно, понимающе.
Да и в самом деле.
Это работа неблагодарная. Затрачиваешь подчас уйму труда, выбиваешься из сил, чтобы помочь автору, а книгу ругают.
Это работа незаметная. Имя редактора стоит на каждой книге, но кому известно, какую часть ума и сердца вложил он в эту книгу, а его товарищ – в ту.
Это работа многогранная. Кому, как не редактору, приходится расплачиваться за то, что автор, спеша выполнить свои обязательства перед редакцией, сдает не вполне завершенный труд, а издательство, запаздывая и стремясь сдержать слово, данное читателю, идет на компромисс и поручает редактору «убирать» за автором «мусор», не оставляя времени для подлинно редакторской деятельности.
Это работа, в которой много «техники». Редактору нужно позаботиться и о перепечатке рукописи, и о машинистке получше, и о считке, и о том, чтобы оформление было заказано хорошему художнику, и о сроках. Ему нельзя позабыть о вычитке, о корректурах, о тираже, о бумаге, о ткани для переплета, о гонораре – всего не перечислишь. А фотолаборатория, производственный отдел, техническая редакция… У редактора эта рукопись сегодня одна из немногих, там она – одна из многих.
Все это так. И все же ее, эту редакторскую работу, нельзя не любить.
Разве не она приносит большую, подлинно творческую радость, когда удается организовать встречу автора с темой, с той темой, которая нужна читателю в жизни, с той темой, в которой наиболее полно отразится талант и душевное богатство автора.
Творческий человек, а таков любой настоящий автор, всегда богат идеями, замыслами. Но далеко не всегда он умеет направить свою творческую энергию в наиболее благоприятном для себя и для дела направлении. Иной раз произведение никогда и не родится только потому, что так и не сошлись пути издательства и творца.
Зато что может быть радостнее сознания, что вот эта хорошая и нужная книга, быть может, и не существовала бы, если бы ты, редактор, не заставил автора загореться ее темой, не увидел, что автор и тема рождены друг для друга, не сделал все от себя зависящее, чтобы создать автору наилучшие условия для творческой работы над рукописью.
А разве не редакторская работа помогает автору не только улучшить форму и содержание произведения, избежать ошибок и читательских нареканий, но и яснее увидеть достоинства и недостатки собственного литературного мастерства или художественного таланта.
Да, есть за что любить редакторскую работу, если редактор поступает как деятель литературы, а не просто как служащий учреждения, отвечающий за издание той или иной книги. Эти мысли не новы. Их можно было бы не повторять, если бы за мелкими будничными делами их не забывали.
20 апреля 1961 годаИменно с этой заметки я начал осмыслять феномен редакторской профессии, что в конце концов стало главным делом моей жизни, что побудило меня написать несколько книг о работе редактора и редактировании как профессиональном занятии.
То, что я переживал и обдумывал тогда, оказалось зерном, из которого выросла вся моя творческая – авторская, составительская, педагогическая, редакторская – деятельность.
Так отношение к диплому МПИ как к неполноценному побудило меня отстаивать профессию редактора, что, в общем, я продолжаю делать до сих пор. И хотя положение редактора в российском издательстве советской эпохи резко отличается от его положения в издательстве сегодняшнем (государственном или частном, все равно), полагаю, что старался я не зря, что и сегодня редактор и редактирование насущно необходимы. Хотя мои взгляды на эти предметы, конечно, эволюционировали, но по сути они не изменились. Заинтересовавшихся отсылаю к моей статье «Ответ из ХХ столетия» в журнале «Полиграфист и издатель» (1999. № 9).
Но я ведь трудился в корректорской, а чувствовал, что могу и должен быть редактором. Поэтому, набравшись храбрости, пошел к директору издательства, милейшему Николаю Никаноровичу Кухаркову, просить, чтобы, когда представится возможность, он перевел меня в какую-нибудь редакцию. Он не исключил такую возможность, но сказал, что если я, например, хочу работать в редакции литературы по истории и теории театра, то должен окончить театроведческий факультет ГИТИСа.
Он, как и многие, придерживался той точки зрения, что хорошим редактором специальной литературы может и должен быть только специалист соответствующей отрасли.
Поступаю в экстернат театроведческого факультета
Что ж, раз так, поступлю в экстернат театроведческого факультета ГИТИСа. Для этого нужно было написать рецензию на театральный спектакль и не опозориться на собеседовании по истории театра. Эти испытания я успешно выдержал. Рецензию я написал на спектакль Театра Советской Армии «1919-й» по пьесе Всеволода Вишневского. Выбрал я этот спектакль, во-первых, потому, что он был последним из увиденных, и, во-вторых, потому, что заметил удачные режиссерские находки, т. е. то, о чем можно написать. Не помню, поддался ли я угару культа Сталина, чтобы использовать это в корыстных целях. Полагаю, что нет. Как бы там ни было, рецензию мою читавший ее преподаватель оценил как отличную. Собеседование по истории театра выветрилось из памяти совершенно. Судя по тому, что мне вручили зачетную книжку, то, о чем меня спрашивали, я знал.
Однако экстернат вскоре был позабыт. Правда, я подготовился к экзамену по психологии, прочитал соответствующий учебник и даже пришел в ГИТИС сдавать этот предмет, но преподавателя не нашел и вернулся домой ни с чем.
Появление в «Искусстве» редакции полиграфической литературы
А в это самое время в «Искусстве» развивались события, ставшие для меня судьбоносными. Не знаю точно, когда именно, то ли в конце 1951 года, то ли в начале 1952 года, в «Искусстве» появилась новая редакция – редакция полиграфической литературы.
У многих это вызывало недоумение: «Какое, мол, отношение полиграфия имеет к искусству?» Объяснялось создание редакции несколькими причинами. Ее заведующим был назначен бывший мой преподаватель в Полиграфическом институте Василий Васильевич Попов. Он одновременно был заместителем главного редактора журнала «Полиграфическое производство», а Николай Никанорович Кухарков, директор «Искусства», занимал одно время крупный пост в ОГИЗе и был по совместительству главным редактором этого журнала. Из хорошего отношения к Попову Николай Никанорович согласился принять в состав «Искусства» убыточную редакцию полиграфической литературы.
Главное же, Главполиграфиздату надо было коренным образом улучшить подготовку и переподготовку кадров. Без специальной литературы (учебников, практических пособий, справочников) сделать это было немыслимо. Необходимо было для этого укрепить редакцию полиграфической литературы, а редакция находилась в составе Гизлегпрома, поскольку по официальной классификации полиграфическая промышленность, как ни странно, считалась подотраслью промышленности легкой. Гизлегпром, однако, явно не был способен решить новые задачи. Во-первых, для него редакция полиграфической литературы была, как говорится, пришей кобыле хвост: на первом месте, конечно, стояла литература текстильная. Во-вторых, поднять качество полиграфической литературы этому издательству было очень трудно из-за недостатка выделяемых ему ресурсов. Вдобавок заведовавшая редакцией в Гизлегпроме Елизавета Михайловна Алехина окончила редакционно-издательский факультет МПИ и слабо разбиралась в полиграфии, а отсутствующие знания подменяла фанаберией. Поэтому Главполиграфиздат предложил возглавить редакцию Попову. На этот выбор повлияла и бесконечная влюбленность Василия Васильевича в полиграфию, и то, что он был автором популярного общего курса полиграфии, который, хотя Попова и разругали за якобы низкопоклонство перед зарубежной полиграфической техникой, тем не менее был очень полезен для начального полиграфического образования будущих инженеров-полиграфистов и издательских работников. Руководство Главполиграфиздата ценило и успешную работу Попова в Германии, где он вместе с группой специалистов занимался выбором полиграфического оборудования для отправки в Советский Союз по репарациям. Василий Васильевич, видимо, дал согласие на заведование редакцией при условии совместительства с работой заместителя главного редактора журнала «Полиграфическое производство» и переводе редакции в другое издательство.
Хотя для издательства «Искусство» полиграфическая литература не была профильной, тем не менее точки соприкосновения существовали. Литература по художественному оформлению книг и других изданий была частью литературы по изобразительному искусству. К тому же в «Искусстве» уже работала редакция, выпускавшая техническую литературу, – редакция литературы по фото– и кинотехнике. И как кинотехника была технической базой фото– и киноискусства, так полиграфическая техника была технической базой печатного искусства.
Таковы мои предположения, которые, думаю, очень близки к истине.
Так или иначе, редакция полиграфической литературы оказалась в «Искусстве».
Любопытно, что, хотя эта редакция в 1953 году уже находилась в составе «Искусства», в постановлении Совета министров СССР «Об улучшении издания массовой художественной изобразительной продукции и литературы по вопросам искусства» от 3 февраля 1953 года, согласно которому из «Искусства» выделялось новое издательство – Изогиз, в перечне редакций, которые следует сохранить в составе «Искусства», редакция полиграфической литературы не значилась, что немудрено, поскольку на это издательство возлагался «выпуск искусствоведческой литературы и литературы по вопросам кино». И тем не менее редакция полиграфической литературы в «Искусстве» осталась (видимо, это было в компетенции Главиздата Министерства культуры СССР).
Двум редакциям – книжной и журнальной – отвели три комнаты в левом (от входа) конце первого этажа. Из двух малюсеньких комнат одну – площадью не более 4 кв. метров, где помещался только один письменный стол, – заняла редакция «Полиграфического производства», состоявшая помимо Василия Васильевича еще из одного редактора, исполнявшего обязанности и секретаря редакции, Натальи Сергеевны Грачевой, выпускницы редакционно-издательского факультета МПИ 1945 года. Эта комнатка как бы продолжала и заканчивала коридор первого этажа, и окон в ней не было.
Комната книжной редакции была довольно большой (площадью, наверно, 30–35 кв. метров). Из нее дверь вела в кабинет заведующего редакцией; он был невелик, но все равно раза в полтора больше журнальной комнатки.
При переводе в «Искусство» штат редакции был расширен. Е.М. Алехина осталась в ней в качестве старшего редактора. В качестве другого старшего редактора Василий Васильевич пригласил инженера-полиграфиста Глеба Александровича Виноградова, работавшего до этого в НИИполиграфмаше и уже известного печатными работами по истории полиграфии, в частности выпущенной НТО полиграфии и издательств книгой «Наборные машины русских изобретателей». Он был инвалидом ВОВ, потерял на войне ногу и ходил на протезе. Человек он был живой, компанейский и мог помогать советами редакторам, не имевшим технического образования (а они-то и составляли костяк редакции).
Перед выбором: редакция полиграфической литературы или редакция журнала «Театр»
В редакции полиграфической литературы были вакантные места редактора, и кто-то из работников редакции (вероятнее всего, Мирра Зархина, окончившая наш редакционно-издательский факультет через год после меня) порекомендовал Василию Васильевичу меня на должность редактора. И он согласился, тем более что меня в издательстве ценили.
А параллельно с этим ответственный секретарь журнала «Театр» Семен Клебанов (отчество забыл) стал уговаривать меня перейти в редакцию этого журнала в качестве литературного редактора. Правда, такой должности в штате редакции не было, и номинально, говорил он, я буду числиться корректором, а фактически буду литературным редактором. Предложение тоже заманчивое. Интересный объект редактирования – статьи о спектаклях, пьесы. И возможность посещать любые театры.
Оба предложения сошлись буквально в один день. Надо было выбирать. Я не спал ночь, все оценивал плюсы и минусы одного и другого. И в конце концов выбрал редакцию полиграфической литературы. В ней я стану редактором не только фактически, но и официально, и это главное. В редакции же «Театра» я буду на птичьих правах. Уйдет Клебанов, и что тогда? Как в воду глядел! Его вскоре со строгим партийным взысканием уволили из редакции за использование служебного положения в личных целях: он брал поборы с драматургов за редактирование их пьес, принятых к публикации.
Переход из корректорской в редакцию полиграфической литературы оказался для меня большой, можно сказать, судьбоносной удачей.
В редакции полиграфической литературы
Первый блин комом – рукопись «Работнику районной типографии»
Итак, я сел за редакторский стол. ВасВас (прозвище Василия Васильевича среди своих) поручил мне вытащить из небытия залежавшуюся в редакции рукопись не то пособия, не то справочника «Работнику районной типографии», сочиненную каким-то харьковским автором, ветераном-полиграфистом из наборщиков старой закалки. Дело он, вероятно, знал, но писать не умел и точного представления, какой должна быть эта книга, явно не имел. Я практически стал писать эту книгу заново, что было глупо, так как знаниями и точным пониманием, каким должен быть справочник работника районной типографии, я не обладал. Автор, например, наборные операции и процессы описывал подробно. А вернее было в таком пособии ограничиться только сведениями, которые наборщик районной типографии не мог найти в общих учебниках и пособиях. Да и быть соавтором не редакторская задача. Однако, воодушевленный работой, о которой мечтал, и стремлением помочь ВасВасу выпутаться из сложного положения (60 % гонорара автору или уже были выплачены, или он получил на них полное право), я, высунув язык, консультируясь у Глеба Виноградова, обложившись полиграфическими книгами, сооружал это пособие-справочник. Но ни к чему путному эти мои старания привести не могли, поскольку я не был знаком с работой районных типографий. И в конце концов пришлось признаться Василию Васильевичу, что мне не по силам вытащить эту работу, подготовить ее к изданию.
Первые книги, подготовленные мною к изданию
Первым изданием, которое вышло с указанием в надвыпускных данных: Редактор А.Э. Мильчин, был 6-й выпуск продолжающегося сборника «Материалы по обмену опытом рационализации и изобретательства», который подготовило Техническое управление Главполиграфиздата. Это управление возглавлял тогда Николай Иванович Спихнулин. Он же был и титульным редактором. Спихнулина я упомянул не случайно, так как именно по моей работе над сборником он составил свое мнение обо мне как редакторе, что впоследствии, когда на совещании в Отделе пропаганды ЦК КПСС решалась моя судьба, позволило ему сказать обо мне несколько добрых слов. Редакторские заслуги мои, впрочем, были невелики. Но я был дотошен, сумел улучшить текст литературно, и это в целом, вероятно, оставляло хорошее впечатление. А главное, я впервые сам делал пусть не книгу, а брошюру, но я руководил процессом ее издания, работал с художниками-графиками, с художественным и техническим редакторами, с титульным редактором. От меня во многом зависело качество издания. Я был счастлив.
Второй моей редакторской работой был сборник «Опыт стахановцев московских полиграфических предприятий», который знаменателен для меня тем, что на нем я впервые столкнулся с грубой опечаткой. Не помню, появилась ли она на последнем этапе, после подписания в печать, или я не заметил ее в сверке, которую подписывал в печать, но, так или иначе, была искажена фамилия одного автора – ретушера из Первой Образцовой типографии В.Г. Бушкина, которого наборщик-правщик превратил по созвучию в Пушкина. Пришлось мне вручную тушью превращать П в Б во всем тираже, благо он был небольшим (кажется, 2000 экз.). Весь тираж привезли в редакцию. Я вооружился лезвием от безопасной бритвы, ручкой с пером и бутылочкой черной туши. Сначала счищал верхнюю часть правого вертикального штриха буквы П, затем тушью остаток этой буквы превращал в Б. Выходило неплохо. Кажется, кого-то из младших редакторов мне выделили в помощь. Тем не менее ушло на это дня два. Урок был хороший. Я твердо уяснил, что внутреннюю сверку оставлять на усмотрение корректора опасно и редактору надо требовать ее на просмотр.
Две упомянутые выше книги – это вся моя продукция за 8 месяцев 1952 года, первого года работы редактором. В следующем, 1953 году вышли уже 7 книг, которые я отредактировал.
Редакторская подготовка полиграфических книг
Все это были книги полиграфические, предметом четырех из них были полиграфические машины – наборные, по изготовлению печатных форм, печатные, матричный пресс. В общем, я с головой погрузился в технический мир полиграфии. Конечно, я не мог помочь авторам советом по существу и был вынужден лишь улучшать стиль, но книги эти были сложными, с большим числом иллюстраций – чертежей, схем и таблиц, и требовались большие организационные и технические усилия, чтобы соединить все составные части оригинала в сжатые сроки.
Сегодняшнему сотруднику издательства, имеющему дело с компьютерной подготовкой оригинала, принтерами, сканерами, трудно себе представить все эти сложности.
Требовалось сделать очень многое.
Сдать исправленный текст авторского оригинала в машинописное бюро, получить и считать перепечатанные страницы с авторским оригиналом, внести в эти страницы поправки, перепечатав их на машинке и вклеив на страницы оригинала, проставить на полях этих страниц в месте, куда желательно поместить иллюстрацию, ее номер. Не подвергшиеся правке страницы оригинала можно было не перепечатывать, но и то лишь в том случае, если издательские пишущие машинки были идентичны по шрифту с той, которая использовалась для перепечатки авторского оригинала, иначе типография могла вернуть оригинал как неподобающе оформленный.
Считывали обычно двое: редактор читал вслух текст по напечатанному в машбюро оригиналу, а младший редактор или другой редактор подчитывал, т. е. следил по правленому авторскому оригиналу и указывал редактору пропуски и вымыслы машинистки.
Если в оригинале формул было не меньше, чем текста, предпочтение отдавалось считке «с пальцем». Разложив на столе слева страницы правленого авторского экземпляра, а справа – перепечатанные в машбюро и водя пальцем по строкам лежащей слева страницы, редактор сличал их с соответствующими строками страницы, лежащей справа, водя по ним карандашом или ручкой.
Больше всего времени при втором способе считки уходило на вписывание формул в оригинал.
Очень трудоемким было изготовление так называемых дубликатов – копий тех частей оригинала, которые в типографии не могли набирать вместе с основным текстом из-за ограниченных возможностей наборных машин. Поэтому их параллельно набирали либо вручную, либо на других наборных машинах. К дублируемым частям оригинала относились в большинстве случаев:
– тексты, которые требовалось набрать шрифтом иного кегля, чем кегль шрифта основного текста (петитом при корпусе, нонпарелью при петите и т. п.). Такими были, например, сноски, внутритекстовые примечания и примеры;
– заголовки, помеченные на набор шрифтом иной гарнитуры, чем гарнитура шрифта основного текста, или большего кегля.
Кроме того, нужны были дубликаты таблиц и формул.
Для того чтобы изготовить дубликаты заголовков, петита, формул, подписей к иллюстрациям, таблиц, требовалось либо перепечатать все их заново, а в оригинале перечеркнуть эти тексты цветным карандашом, либо вырезать их из первого экземпляра, заменить текстами из второго экземпляра (копии) и также перечеркнуть цветным карандашом, пометив буквой Д (дубликат).
Львиная доля времени уходила на переписку формул, причем двойную: сначала в самом оригинале, затем – в дубликатах формул. Тут изобретали всякие приемы, чтобы повысить производительность этого ручного труда (например, писали формулы под копирку в дубликатах так, что копии их одновременно оказывались в оригинале, или, если формул на странице было много, то для нее делали дубликаты текста, а ее, зачеркнув текст, клали в дубликаты формул). Только с появлением в издательствах ксероксов эта ручная работа была механизирована.
Получив изготовленные графиками и ретушерами оригиналы иллюстраций, надо было вместе с автором сверить их с авторскими подлинниками, вернуть на поправку, если были допущены ошибки, затем на обороте каждой указать название книги, номер иллюстрации и оригинала (некоторые иллюстрации состояли из нескольких оригиналов).
Когда для нашей редакции выделили машинистку, которая перепечатывала оригиналы только для нас, то мы, чтобы ускорить подготовку дубликатов и устранить часть технической работы, научили ее изготовлять оригиналы во время перепечатки. Ей надо было, как только она дойдет до части страницы, помеченной на поле буквой «Д», вынуть бумагу из машинки, наложить на перепечатываемую страницу лист копирки и лист чистой бумаги, снова вложить весь комплект в машинку и печатать дублируемый текст. В первом экземпляре оказывалась копия дублируемого текста, а в дубликаты можно было подложить его первый экземпляр. Конечно, это усложняло работу машинистки и несколько удлиняло перепечатку оригинала, но избавляло редакторов от рутинного и, в сущности, бессодержательного труда.
Одним словом, техническая работа при подготовке таких книг в тогдашних условиях занимала, наверно, три четверти рабочего времени.
Помимо всего прочего нужно было рассчитать свои действия так, чтобы не терять времени на ожидание одной части, когда уже готова другая.
Вся эта титаническая работа, превращавшая редакции издательства в заготовительный цех типографии, ушла в прошлое, и я пишу об этом только для того, чтобы, если суждено будет издателям и редакторам ХХI века читать эти строки, они знали, насколько велика была в докомпьютерную эпоху доля технической работы редакций.
Некоторые издательства того времени, чтобы освободить редакторов от чисто технической работы, объединили всех младших редакторов в отдел подготовки оригиналов. Там оригиналы считывали, изготовляли дубликаты, занимались т. н. чисткой (впечатывали поправки, пропуски или, напечатав их, наклеивали на страницы оригинала), устраняли другие погрешности перепечатки.
В редакции полиграфической литературы сложных книг было немало. Мне уже на второй год пришлось готовить к изданию изобилующий формулами, таблицами, сносками, сложнейшими иллюстрациями учебник П.Я. Розенфельда «Оборудование для изготовления печатных форм» из серии «Конструкции и расчет полиграфических машин». В редакции был тогда только один младший редактор, Лиза Незнамова, окончившая литературный факультет педагогического вуза. Но у нее много времени занимали обязанности секретаря (должности секретарей редакции в то время упразднили при очередном сокращении административных штатов): ведение картотеки, оформление договоров и платежек и т. п. Так что мне, чтобы сдать оригинал в корректорскую на вычитку по плану-графику, приходилось готовить оригинал почти полностью самому, делая все то, что описано выше. Правда, редакторы помогали друг другу. Иногда, когда до сдачи оставалось несколько дней, а подготовка оригинала была нулевой, на нее бросалась вся редакция. Работа кипела. Считывали с пулеметной скоростью. Входили в азарт. Оставались на многие часы после окончания рабочего дня, брали работу домой. Все ради того, чтобы соблюсти график. В пылу этой работы можно было вполне забыть, в чем главное назначение редактора. Это все равно как если бы инженер-конструктор сам становился к станку, чтобы воплотить в материале свой инженерный замысел. Главным становилось одно – сдать оригинал вовремя. Все содержательное в работе редактора отходило на задний план. Редакторы превращались в технических сотрудников, которым совершенно не требовалась квалификация работника с высшим образованием. Причем избежать этого было невозможно.
Находились, правда, высоколобые редакторы, которые пренебрегали этой стороной работы, целиком перекладывая ее на младших редакторов. Из-за этого срывались планы и множились ошибки в изданиях.
Единственной пользой для редактора в этой технической работе была возможность еще раз насквозь прочитать оригинал (если редактор участвовал в считке) и проконтролировать свою и авторскую работу – устранить не замеченные ранее ошибки, исправить стилистические и иные погрешности, ускользнувшие ранее от редакторского ока.
В первые годы моей работы издательским редактором техническая подготовка оригиналов занимала, наверно, две трети рабочего времени. Утешало только то, что таким образом я все-таки тоже участвовал в создании книги и что в конце концов и этот труд превращался в сигнальный экземпляр, который радовал глаз и который хотелось без конца листать, гладить, поворачивать и так и эдак.
Работа над полиграфическими книгами пригодилась мне в будущем, когда я начал редактировать литературу по редакционно-издательскому делу и составлять справочники для редакторов и авторов. Я на собственном опыте познал труд редактора технических книг и мог учитывать потребности и интересы таких редакторов.
Первая моя серьезная редакторская накладка
В 1953 году одной из книг, которые мне пришлось редактировать, была монография научного сотрудника ВНИИ полиграфии Н.А. Спасского «Клей для переплетных работ».
Выделяю эту книгу по нескольким причинам. Во-первых, она знаменательна для меня тем, что готовил я ее оригинал к набору – клеил дубликаты – в день похорон Сталина. В издательстве, как и везде, были введены дежурства. Меня назначили дежурным по издательству. Я сидел у телефона в кабинете директора, вырезал таблицы из первого экземпляра оригинала и наклеивал их на чистые страницы – изготовлял дубликаты, а в первый экземпляр на место вырезанных вклеивал те же таблицы из второго экземпляра оригинала. Таблиц в книге было очень много.
Это трудоемкое занятие не могло занять мои мысли целиком, и я то и дело задумывался: «Что же теперь будет? Ведь умер человек, который вел страну. Кто может его заменить? И чем эта замена обернется?» Думаю, что те же вопросы звучали в головах многих соотечественников. Советская пропаганда уверяла их в сверхъестественной гениальности вождя, которому страна обязана абсолютно всеми победами и достижениями. Лишь те, кто пострадал по его вине, знали истинную цену его деятельности, да и то, наверное, не все.
Нетрудно догадаться, что мне захотелось взглянуть на то, как москвичи идут прощаться с вождем в Колонный зал Дома союзов, где был выставлен гроб с его телом. Я знал, что их маршрут пролегает по бульварному кольцу, т. е. и через Трубную площадь, до которой от издательства было пять минут ходу. Договорившись со сторожем, что я ненадолго отлучусь, я отправился на Трубную площадь. Там бульварное кольцо было отгорожено от Цветного бульвара огромными военными грузовиками и цепью солдат, чтобы в колонну не могли влиться люди из прилегающих к бульварному кольцу улиц. Что творилось в колонне, видно было плохо.
Недолго постояв у машин, я вернулся в издательство и продолжил свою работу.
Во-вторых, книга Спасского знаменательна для меня тем, что заставила разбираться в ее содержании и построении. Не сразу, но в результате такого разбора я понял, почему некоторые таблицы трудно было понять, хотя вообще-то табличная форма придумана именно для того, чтобы облегчать и убыстрять восприятие и понимание материала.
Я сумел перестроить некоторые запутанно построенные таблицы так, что они стали ясными с первого взгляда.
Этот опыт анализа и перестройки таблиц очень пригодился мне впоследствии. Именно с показа плохо построенной таблицы из авторского оригинала книги Спасского и ее перестройки начинается книга «Редактирование таблиц. В помощь редактору и автору», написанная мною в соавторстве с М.Д. Штейнгартом и изданная «Искусством» в 1958 году. Именно таблицы в книге Спасского привлекли мое внимание к этой форме передачи содержания, заставили подвергать придирчивому критическому анализу таблицы в рукописях следующих книг, редактором которых мне довелось быть. Мне удалось нащупать принципы оценки табличной формы. Это навело меня на мысль, что авторы и редакторы многих книг, в сущности, не владеют техникой построения таблиц, методикой их анализа и оценки, что понятая мною в ходе работы над рукописью Спасского суть построения таблиц может стать подспорьем и для тех, кто пишет книги, и для тех, кто их редактирует. Впрочем, тогда это было скорее ощущением и в стремление поделиться своим опытом еще не вылилось. Но, во всяком случае, возможность улучшить будущую книгу хотя бы в таком отношении удовлетворяла мои творческие амбиции и делала редакторскую работу над техническими книгами более осмысленной. Ведь я мало что мог сделать для того, чтобы, например, читатель-студент технического учебника получил то, что ему нужно, чтобы он действительно мог овладеть учебной дисциплиной наилучшим образом. Конечно, я старался упростить текст, литературно улучшить его, искал вместе с автором наиболее удачную форму выражения мысли, если фразы были запутанными или заштампованными и из-за этого малопонятными.
Тогда я еще не сознавал, что, выделив таблицы как объект анализа и оценки, найдя методы их улучшения в интересах читателя, я, в сущности, сделал то, что необходимо делать по отношению ко всем элементам издания, а именно подвергать их критическому разбору с позиции читателя, проверяя, все ли в них правильно и функционально, нет ли того, что мешает читательскому восприятию и пониманию, что усложняет работу читателя с книгой, делает книгу неудобной, снижает производительность читательского труда. На практике в книгах царил прецедент. Автор писал свою работу по образцу предшествующих работ, близких по теме и назначению, и не пытался вообразить, как с ней будет работать читатель.
В-третьих, монография Н.А. Спасского показала мне, как легко можно стать жертвой собственной беспечности. Дело в том, что в каждой технической книге могли содержаться сведения, не подлежащие оглашению в открытой печати. Обычно на страже таких тайн стояли цензоры Главлита: они требовали представления справок, удостоверяющих, что в издании нет сведений, закрытых для печати. Но на этот раз цензором была прикрепленная к издательству «Искусство» моя сокурсница Оля Савельева, в один год со мной и женой окончившая художественно-оформительское отделение редакционно-издательского факультета МПИ и направленная на работу в Главлит. Она проверяла в основном изоиздания, и опыта работы с техническими книгами у нее не было, отчего она без раздумий, как и я, подписала сигнал на выпуск в свет.
Когда это произошло и Центральный коллектор научных библиотек (ЦКНБ) разослал экземпляры книги заказавшим ее библиотекам, в редакции появился Н.А. Спасский, бледный и подавленный, и сказал, что в рецепте одного клея названо некое вещество № 8, которое является закрытым, и состав такого клея он не имел права приводить.
Что было делать?
Я прежде всего позвонил Савельевой и поехал к ней, чтобы рассказать о случившемся. Она тоже пришла в ужас. По собственному ли почину или посоветовавшись с начальством, Оля предложила сделать выдирку, попросить библиотеки вернуть разосланные экземпляры в издательство для поправки, а в тираже, благо небольшом и еще не вывезенном из типографии на базу Союзкниги, выдрать страницу с упоминанием злополучного вещества № 8 и вклеить отпечатанную страницу с оборотом без состава клея с указанным веществом.
Так я приобщился к технике т. н. выдирки.
Сначала пришлось съездить в ЦКНБ и получить список рассылки с адресами библиотек, которым книга Спасского была выслана, затем напечатать более 50 писем с просьбой прислать книгу в редакцию в связи с необходимостью исправить серьезную ошибку под гарантию, что затем исправленная книга будет отправлена обратно.
Кроме того, я подготовил оригинал для набора злополучной страницы с выброшенным веществом № 8 и ее оборота и отправил его в типографию для нового набора. Получив корректуру, подписал ее в печать, и типография прислала в редакцию отпечатанный тираж страницы с оборотом. Тем временем отдел распространения издательства доставил в редакцию тираж книги Спасского (3000 экз.) – больше 350 пачек по 8 экз. в пачке. Каждую пачку надо было распаковать, вынуть экземпляр, раскрыть его на соответствующей странице, подложить под ее корешок металлическую типометрическую линейку, отступив примерно на 10 мм от корешка, и, плотно прижав линейку по всей плоскости страницы, рвануть ее на себя, вырвав тем самым страницу, требующую замены. После этого промазать клеем оставшуюся от страницы полоску, взять экземпляр отпечатанного листка, наложить его краем на промазанную полоску так, чтобы наружный край страницы-вклейки совпал с наружным краем блока, и закрыть книгу. И так с каждым из восьми экземпляров пачки, после чего восстановить упаковку и приняться за следующую пачку. В течение нескольких дней я с помощью коллег по редакции занимался этой трудоемкой операцией, мысленно проклиная Спасского и себя за промашку.
В течение месяца, а может быть, и больше прибывали бандероли с книгой Спасского из библиотек. Каждую книгу я обрабатывал точно так же, как и книги из пачек тиража, и отсылал обратно.
Так я на собственном печальном опыте убедился, как непрост в нашей стране процесс выпуска технических книг. Хотя, в сущности, вся суматоха была, скорее всего, напрасной. Вряд ли Спасский, назвав, на свою и мою голову, вещество № 8 в составе переплетного клея, раскрыл опасную для страны тайну. Упоминалось ведь только название вещества, а не состав. Но бюрократический порядок выше смысла.
Все же мой редакторский опыт стал шире, а вся история убедила, что редактор набирается опыта на шишках, набитых в результате собственных ошибок.
Два урока профессора Катушева
Еще одну книгу выпуска 1954 года не могу не упомянуть потому, что один из ее авторов открыл мне секрет совершенствования редакторского мастерства, в верности которого я убеждался потом постоянно.
Это книга Я.М. Катушева и В.И. Шеберстова «Основы теории фотографических процессов» (М., 1954).
Я.М. Катушев, профессор Московского государственного института геодезии и картографии, начал свою педагогическую деятельность еще до революции. Узнав, что я буду редактором его с Шеберстовым книги (а он был основным автором: ему принадлежало, наверно, не менее ¾ книги), он сказал мне:
– Вы у меня многому научитесь.
Я мысленно улыбнулся этой стариковской уверенности Катушева. И напрасно. Он действительно научил меня многому, а главное, очень важному.
Почти все мои поправки он отверг, но не просто так, а объясняя, почему предложенная мною редакция фразы, улучшая ее стилистически, чуть-чуть меняет ее смысл во вред делу. Да и текст был выверен десятилетиями лекций и предыдущими изданиями учебника. Катушев был корифеем фотографической теории. К тому же он обладал опытом общения с редакторами и знал их слабости.
Катушев показал мне, что моя правка – результат недостаточного знакомства с предметом книги. Короче говоря, благодаря ему я понял, как осторожно надо править авторский текст, как важно, прежде чем исправлять, точно знать, допустил ли автор ошибку, и как полезно уметь письменно сформулировать, почему текст нуждается в правке.
Несомненно, Катушев был прав: я многому у него научился.
С тех пор я предпочитал не сразу править текст, а сначала излагать свои замечания и предложения в виде редакторской рабочей рецензии. Это несколько удлиняло мою работу, но зато в процессе формулирования письменных замечаний легче было найти пути наиболее краткой и точной правки, сделать более убедительными предложения автору. Кроме того, это позволяло тщательно обдумывать замечания, мысленно подвергать их критике и отвергать, если не находились аргументы против предполагаемых контрдоводов автора.
В сложных случаях я искал, как исправить текст, не сам, а вместе с автором. Хотя, конечно, мелкие грамматико-стилистические ошибки (вроде неверного согласования прилагательного или глагола с существительным) я исправлял по ходу чтения, не оговаривая их в рабочей рецензии.
Второй урок Я.М. Катушева, еще более важный, хотя я не сразу убедился в его правильности, – вывод, что не только автор учится у редактора, как считал М. Горький, но и редактор учится у автора, точнее авторов, произведения которых он готовит к изданию. Каждый новый автор – это еще один класс или курс редакторской школы, а редактор, не умеющий извлекать уроки из работы с автором, не может расти профессионально.
Впоследствии Бенедикт Сарнов, выступая в ЦДЛ на обсуждении первого издания книги Л. Чуковской «В лаборатории редактора» (М., 1960), подтвердил то, в чем я убедился на практике. Он сказал: «Писатель обогащает редактора, совместная их работа – процесс взаимного обогащения».
Тут надо прибавить еще одно: обогащает не только совместная работа, но и само общение, которое выходит за рамки производственных отношений. Общение мое, например, с Лидией Корнеевной Чуковской или Виктором Васильевичем Пахомовым было для меня вторым университетом.
Впервые редактирую книгу о редактировании
Среди книг, над которыми я трудился в 1954 году, была одна маленькая книга (всего 70 страниц), которая знаменательна для меня тем, что она была не о полиграфии, а о редактировании. Это книга В.А. Максимовой «Как Горький редактировал рукописи». О самом этом предмете – редактировании, работе редактора – я уже тогда много размышлял. Так что книга В.А. Максимовой оказалась для меня особенно ценна и важна. И хотя она досталась мне случайно (впрочем, может быть, и не совсем случайно: ведь заведующий редакцией знал о моем интересе к теме «работа редактора»), она стала первой из книг для редакторов, которые позднее моими усилиями постепенно составили, можно сказать, целую библиотеку. Тогда я, конечно, этого не предвидел, а просто радовался, что буду редактировать книгу на такую тему.
Валентина Алексеевна Максимова, молодой научный сотрудник Института мировой литературы в секторе Горького, написала эту книгу не потому, что ее волновали проблемы редактирования. Она видела поправки Горького в рукописях советских авторов, и ей хотелось познакомить читателей с этой стороной деятельности писателя, проанализировать и обобщить то, что двигало его рукой, показать, чего он добивался. Ей пришлось разрешение на публикацию получать от авторов рукописей, которые правил Горький. И она мне рассказала, что Ф.В. Гладков, в отличие от В.С. Гроссмана и А.С. Макаренко, наотрез отказался дать свое согласие, из-за чего интересный материал остался за пределами книги. Читая уже в 2006 году в первой книге воспоминаний Бенедикта Сарнова «Скуки не было» то, что он написал о Ф.В. Гладкове, который был директором Литературного института в то время, когда Сарнов там учился, я отчасти понял, почему он не дал разрешения Максимовой опубликовать фрагменты из рукописей своих произведений с правкой Горького. Сарнов пишет: «…директор нашего института Федор Васильевич Гладков, который вел у нас семинар прозы, не уставал всякий раз напоминать нам, что подлинным основоположником социалистического реализма был именно он, а никак не Горький» (с. 183). Как же можно было согласиться на публикацию горьковской правки при таком самомнении?!
Книга Максимовой – первый ее авторский книжный опыт. Наблюдения и выводы были в ней, в общем, поверхностными, а текст – ученическим. Поэтому над рукописью пришлось основательно поработать вместе с автором. Все же какое-то представление о работе Горького-редактора, пусть в несколько упрощенном виде, эта книга читателю давала. Да и на фоне полного отсутствия в то время каких-либо работ о редактировании художественной литературы книжечка Максимовой была для редакции большой находкой. Мне же она доставила особенное удовольствие. Впервые пришлось работать с текстом, в содержании которого я более или менее хорошо разбирался и которое меня глубоко интересовало.
К тому же моя редакторская помощь автору оказалась существенной. И это отразилось в дарственной надписи на книге:
Аркадию Эммануиловичу Мильчину с глубоким уважением и горячей благодарностью за помощь в написании этой книги. В. Максимова. 16.IV.54.
В отличие от оригиналов других книг нашей редакции, которые главная редакция «Искусства» подписывала в набор не глядя, оригинал книжечки Максимовой тогдашний главный редактор В.Е. Вавилина, вскоре ставшая главным редактором журнала «Работница», оставила у себя и прочитала. По одному из фрагментов текста она сделала замечание, содержание которого я не помню, но я подверг это место значительной правке, после чего Вавилина подписала оригинал в набор. То, что она не отвергла работу Максимовой, меня успокоило. Ведь я понимал, что книжечка эта не лишена слабостей.
«Вычитка рукописи» А.Н. Почечуева
Это была вторая книга о редакционной работе, которая досталась мне как редактору, и единственная на эту тему в 1954–1955 годах. Остальные девять были посвящены полиграфической технике и технологии.
Книга А.Н. Почечуева, выходившая уже третьим изданием, пользовалась большой популярностью у редакторов и корректоров. Она содержала практические советы, касающиеся редакционного оформления различных элементов текста. И хотя ей не хватало систематичности, ее практическая нацеленность облегчала работу корректоров-вычитчиков и соответствующую часть работы редакторов. За это ее и ценили. Автор книги, Александр Николаевич Почечуев, редактор-ветеран с большим опытом, начал работу еще в 1920-е годы в Госиздате. Поскольку третье издание издавалось практически молнией к Всесоюзному совещанию работников издательств и полиграфии 1955 года, у меня не было времени на то, чтобы написать редакторское заключение по рукописи с замечаниями, которые бы позволили придать книге систематичность и обогатить ее недостающими материалами. Но одно замечание и предложение автору я все же сделал. Главка о вычитке драматических текстов была очень бедной. Я же во время работы в корректорской поднаторел в вычитке пьес и знал правила редакционного оформления их текста, которые нигде не были зафиксированы и передавались лишь устно, от опытных корректоров к новичкам. Автор согласился с моим предложением дополнить книгу текстом об особенностях вычитки пьес. Я и написал всю главку «Вычитка драматических произведений».
Это был мой первый опыт авторской работы над произведением по редакционно-издательскому делу. Опыт этот утвердил меня во мнении, что необходимо создавать справочные и методические пособия для редакционно-издательских работников и авторов, которые бы не только фиксировали рекомендации и правила, пока лишь устно передававшиеся от одних работников к другим, но и объясняли, почему надо поступать именно так, а не иначе. Тем более что разные издательства давали разные рекомендации, причем никак их не обосновывая.
Обстановка в редакции
В целом о такой благоприятной, дружеской, почти семейной атмосфере, которая царила в редакции, можно только мечтать.
Работе аккомпанировали шутки и смех. Главным вдохновителем и созидателем был заведующий редакцией Василий Васильевич Попов, человек добрейшей души, любивший шутку, анекдот, умевший открывать в любом серьезном нечто забавное. Он предоставлял редакторам свободу, будучи уверенным, что мы не подведем. И мы не подводили. Когда кто-либо запаздывал со сдачей рукописи в производственный отдел и нависала угроза срыва плана-графика сдачи, все бросали свои дела и помогали попавшему в прорыв – выполняли всю ту трудоемкую техническую работу по подготовке оригинала, о которой я уже рассказал. Иногда засиживались из-за этого в редакции до позднего вечера. Общая работа еще больше сближала и укрепляла дружеские отношения.
Очень часто обедать в перерыв ходили всей редакцией в ресторан «Узбекистан», находившийся неподалеку.
На день рождения каждому не только преподносили совместный подарок, но и вручали остроумный адрес. Приведу несколько для примера:
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ПРОФВОЖДЬ ТОВАРИЩ МИЛЬЧИН А.Э.
Широкие профсоюзные массы двух объединенных в одной профгруппе редакций [книжной и журнала «Полиграфическое производство»] шлют Вам свой почтительно-подхалимажный привет и поздравляют Вас с высокоторжественным для нас днем Вашего пришествия в этот мир.
Прекрасно понимая ответственность возложенных на Вас обязанностей по руководству трудящихся издательства «Искусство», мы хотим повысить Вашу представительность изящным галстуком, предохранить шарфом Вашу шейку, дабы Вы не застудили ее и не лишили тем самым нас удовольствия слушать Ваши руководящие выступления. Мы хотим также, чтобы при помощи жидкости, находящейся в прилагаемом флаконе, от Вас всегда исходило бы приятное для трудящихся благоухание.
Дорогой товарищ Мильчин А.Э., мы еще раз заверяем Вас, что в знаменательный день 10 декабря 1954 года мы все, как один, отдадим свои голоса за Вашу кандидатуру в местный комитет издательства.
Подписи: В. Попов
Н. Грачева
Г. Пащинская
Г. Виноградов
8 декабря 1954 г.
ДОРОГОЙ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ БЫВШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВОЖДЬ
АРКАДИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ!
В Вашей жизни на тридцать первом ее году настал светлый период разгрузки от многотрудных обязанностей председателя местного комитета издательства.
Чуткий коллектив двух редакций, учитывая это обстоятельство, решил, что сейчас Вам уже не подходит темный портфель. Поэтому мы позволяем себе преподнести Вам новую, светлую папку, которая гораздо больше подходит для бережного транспортирования (поточным методом) светлых редакционно-издательских рукописей из редакции домой и обратно.
8. ХII.55 г.
Подписи: М. Зархина, В. Ларина, М. Борищева, Н. Грачева, Р. Фетисова, Е. Незнамова, Г. Пащинская, Г. Виноградов
ГОРЯЧО И НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ НАМИ АРКАДИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ!
Мы знаем, как горячо и вдумчиво Вы относитесь к вопросам книжного оформления. Прямым свидетельством этого является Ваша большая работа по редактированию книги «Основы оформления советской книги», увенчавшаяся почти своевременным (20 декабря) появлением сигнального экземпляра.
Коллективы двух дружественных редакций, имеющих некоторое отношение к вопросам искусства оформления, хотят, чтобы Ваше внутреннее оформительское содержание находило бы достойное выражение и в Вашем внешнем оформлении. Это желание побудило нас преподнести Вам (в ознаменование одной важной, но, к сожалению, прошедшей даты 8 декабря) некоторые элементы оформления – форзац и закладку, которые, надеемся, будут хорошо гармонировать с переплетом и всеми внутренними элементами Вас как объекта художественного оформления.
Примите, Аркадий Эммануилович, наши заверения и приношения.
Подписи: В. Попов, М. Борищева, Н. Грачева, А. Артамонов, Р. Фетисова, Г. Виноградов, В. Ларина, Е. Незнамова
В ходу были розыгрыши. У меня сохранилось забавное письмо якобы от читателя наших книг (стиль и орфография автора):
ЗАВЕДУЮЩЕМУ РЕДАКЦИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
от изобретателя, инвалида I группы Т.А. РАКАНА
Несмотря на то, что я инвалид без всех конечностей и печатаю кончиком носа, уже много лет занимаюсь творческим изобретательством в области полиграфии. Об этом неоднократно писали газеты «Советская Россия» (статья «Гений-самоучка»), «Неделя» «Известий» (статья «Есть и сейчас Мересьевы») и журнал «Рационализатор и изобретатель» (очерк «Его вторые руки»).
В этом последнем очерке рассказывалось о полиграфической машине-агрегате, который я изобрел и сконструировал за эти годы.
Машина-агрегат, которую я назвал «Перипатетический Телепат», состоит из следующих основных узлов:
1. Электронно-оптическое считывающее устройство, которое самостоятельно читает оригинал (текст и иллюстрации), затем все это преобразует в электронные импульсы, которые поступают в долговременное запоминающее устройство.
2. Долговременное запоминающее устройство имеет прямую связь с кибернетическим редактором, который мгновенно производит наилучший вариант правки. Кибернетический редактор основан на принципе полупроводниковых триодов и по размерам не превышает обычной пишущей машины.
3. В это время в зависимости от количества поступившей информации вступает в действие наборное устройство, оригинальное по своей конструкции. Набранный текст и иллюстрации затем просматриваются «фотоглазом» и при помощи импульсов передаются на формный материал (пластмасса, резина, дерево, обработанное парами Теллурия-10).
После ряда несложных операций по обработке формы последняя попадает в печатающее устройство, которое способно производить печать в 1–6 красок.
Производительность агрегата – до миллиона слов в час, так как все электронные процессы проходят в нем практически мгновенно.
Обслуживающий агрегат персонал состоит всего из двух человек – из инженера и уборщицы (существенный недостаток агрегата – обилие производимого им мусора). Правда, отходы можно использовать для производства переплетов, для этого в комплект машины встроено специальное устройство, прессующее мельчайшую пыль и полимеризующее ее в пластмассовые цветные пластины.
Если эта тема Вас заинтересует, то прошу немедленно сообщить мне, чтобы я мог выслать Вам подробный проспект. При назначении мне суммы гонорара прошу учесть мою многодетность (у меня – шесть детей школьного возраста и один, кроме того, с нездоровой психикой) и определить мне наивысшую ставку.
С приветом! Т.А. Ракан
P.S. В связи с тем, что сейчас моя вся пенсия уходит на усовершенствование агрегата, прошу Главного редактора выслать мне в счет будущего гонорара 150–200 рублей. Директор Вашего издательства тов. Караганов, который направил меня по этому адресу, обещал мне всяческую поддержку.
Еще раз привет. Т.А. Ракан
Дата у меня не сохранилась. Но относится письмо наверняка к 1950-м годам, когда редакция была еще в составе издательства «Искусство». Нужно отдать должное сочинителю: некоторые идеи действительно нашли воплощение в компьютерной технике.
Впрочем, несмотря на общую благоприятную и просто приятную атмосферу в редакции, избежать трений и даже конфликтов не удавалось.
Один из конфликтов был связан со мною и чуть не обернулся бойкотом. Поводом, толчком послужил мой отказ остаться после работы, чтобы отметить день рождения Андрея Артамонова, старшего редактора, возглавлявшего группу редакторов, ведущих издания книготорговой тематики. Не потому, что у меня были какие-либо претензии к Андрею. И к товарищам по редакции я тоже относился хорошо. Причина – в моей излишней осторожности, в нежелании попасть в щекотливую ситуацию: я опасался неприятностей по партийной линии за участие в выпивке в рабочем помещении. Я не доверял нашему новому младшему редактору Фетисовой, члену партии, поскольку она появилась в нашей редакции, кажется, из Высшей партийной школы и была замечена (не только мною) в каких-то отношениях с отделом кадров. Я слишком дорожил работой, которая досталась мне непросто. Было бы глупо потерять ее по такой дурацкой причине. Однако прямо я причину даже тем, с кем был более близок, не назвал. Просто ушел, не остался, чем, конечно, оскорбил остальных.
Особенно неистовствовала Мирра Зархина, большая лентяйка, которой не нравилось подчиняться мне. У нее был свой участок – книги по оформлению печатной продукции. Но она подходила к делу не творчески, предпочитала ограничиваться тем, что ей поручали редактировать, да и книги эти вела более как технический организатор, не очень заботясь о стилистической и иной помощи автору.
Я, например, в порядке контроля (правда, уже после описанного инцидента) читал за ней рукопись пособия В.Н. Ляхова о внешнем оформлении советской книги, написанную на основе защищенной кандидатской диссертации. Ляхов – талантливый человек, тогда только начинавший публиковаться. Он прекрасно говорил, но писал неважно. Текст его книги изобиловал канцелярскими оборотами, грамматико-стилистическими ошибками, и мне пришлось внести в него немало исправлений. Не случайно автор, который с благодарностью принял мои поправки, подарил мне свою книгу с такой надписью:
Дорогому Аркадию Мильчину, страдающему той же страстью к книге, что и автор этого не совсем удачного труда. С надеждой, что в дальнейшем нам повезет больше, чем теперь. В. Ляхов. 28/ХII.66 г.
В общем, у Зархиной был корыстный интерес призывать к бойкоту – ей хотелось поставить меня на место в глазах коллектива не только редакции, но и издательства.
Но бойкота не получилось, точнее он быстро выдохся, потому что работники издательства знали меня лучше Зархиной, хотя она и старательно завязывала знакомства в других редакциях. Да и внутри нашей редакции меня уважали за преданность делу.
Все же попытка бойкота нервы мои потрепала изрядно. И ошибочность моего поведения в полной мере я признаю только сейчас. Тогда обида мешала мне это понять.
Изъяны в работе редакции полиграфической литературы
В работе редакции по выпуску литературы для книгоиздательских работников мало чувствовалось организационное начало, план выпуска формировался без четко выработанных принципов. Что приходило само и было приемлемо, то и шло в работу. Некоторую упорядоченность придавала лишь серийность.
Василий Васильевич Попов, заведовавший редакцией, хорошо ладил с людьми и терпеть не мог конфликтов. Не помню, чтобы он хоть раз кого-то отругал, даже если для этого были все основания. Нахмурится – и все. Сразу же постарается забыть.
Для него не было большего удовольствия, чем рассказать забавный анекдот, пошутить. Так, он любил повторять анекдот об одном зрителе шедшего тогда в кинотеатрах Москвы чехословацкого фильма «Дикая Бара». Героиня фильма выходила из озера или реки, где она купалась в чем мать родила, и в тот самый момент, когда казалось, что она предстанет во всей нагой красоте, по экрану двигался поезд, заслоняя берег и девушку. Так вот, зритель из анекдота идет смотреть этот фильм чуть ли не десятый раз, удивляя знакомых. На вопрос зачем он отвечает: «А вдруг поезд опоздает». Любимым присловьем ВасВаса была фраза «знатока» французского: «Лом – человек, лафам – его жена».[8]
Василию Васильевичу я обязан тем, что стал редактором. Он ведь совершенно не знал меня и согласился взять в редакцию, опираясь лишь на свою интуицию и положительные оценки моей работы в корректорской. И главное: для него 5-й пункт не имел ровно никакого значения.
Однако моя благодарность за доверие не мешала мне видеть, что работа редакции подчинялась стихии. В силу загруженности работой в журнале «Полиграфическое производство» и преподавательской деятельностью Василий Васильевич не успевал заниматься перспективным планированием по всем направлениям работы редакции, намечать темы, искать для них авторов или хотя бы руководить таким процессом.
В распределении книг между редакторами не было порядка. Чаще всего каждому доставалась та рукопись, которая подоспела ко времени, когда он освободился от работы с предыдущей. Отсюда господство стихийности и случайности в ущерб последовательности, целеустремленности, усилению созидательного начала в работе редакции. Во всяком случае, такого разделения труда, при котором бы каждый вел какую-то группу тематически и содержательно близких книг, не было. А именно это сулило, на мой взгляд, выгоды и позволило бы редактору, ведущему группу книг, не ограничиваться только подготовкой к изданию поступивших в редакцию рукописей, а задумывать новые книги, подыскивать для них авторов, т. е. заниматься не только редакторской работой над рукописью, но и издательским творчеством.
Такое разделение труда в редакции напрашивалось прежде всего потому, что она выпускала книги трех весьма различных тематических разделов: 1) по книгоиздательскому делу, 2) по полиграфии, 3) по книжной торговле. Эти три подотрасли одной отрасли в силу специфики каждой несомненно требовали специализации редакторов.
Однако само название редакции (редакция полиграфической литературы) делало издание литературы по книгоиздательскому делу и книжной торговле в ее рамках чем-то второстепенным, и такое положение сохранялось бы, возможно, еще многие годы, если бы не Всесоюзное совещание работников издательств и полиграфии 1955 года.
Всесоюзное совещание работников издательств и полиграфической промышленности 1955 года
Совещание это прошло в Колонном зале Дома союзов 14–19 февраля 1955 года. Оно было большим событием в жизни отрасли. Поэтому Главиздат Министерства культуры, которому в то время подчинялась книгоиздательская отрасль, старался не ударить в грязь лицом. Ко всему прочему было известно, что в совещании должен принять участие В.М. Молотов, тогда заместитель Председателя Совета министров СССР, опекавший отрасли культуры. Это поднимало статус совещания. Можно было рассчитывать на укрепление материальной базы.
Главиздат по такому случаю все «мыл и красил». Срочно были подготовлены к совещанию основополагающие для деятельности издательств нормативные документы: «Примерное положение об издательстве», инструкция «Подготовка рукописи к изданию», проект «Технических условий на сдачу и приемку готовой продукции». Нашей редакция поручили их издать.
В Главиздате этими документами занимался работавший в Отделе центральных издательств Николай Никандрович Накоряков, один из старейших деятелей советского книгоиздания. Накоряков часто приезжал в редакцию, благодаря чему удалось познакомиться с этим незаурядным человеком, возраст которого тогда приближался к семидесяти пяти. Небольшого роста, не по возрасту подвижный, даже прыткий, он производил впечатление человека живого, умеющего и любящего работать. Он ничем не напоминал крупного чиновника советского культурного ведомства. Работать с ним было легко и приятно. Он не строил из себя начальника, выслушивал замечания и если отвергал их, то старался объяснить – почему.
Готовясь к совещанию, Главиздат не мог не ощущать, как недостает издательским работникам (редакторам, корректорам, художникам) профессиональной литературы, и, стремясь хоть как-то заполнить бреши и дать возможность участникам совещания приобрести побольше книг по издательскому делу, обязал редакцию выпустить к совещанию все что только возможно. И если в годы, предшествовавшие совещанию (1953 и 1954), редакция выпустила по 4 книги по издательскому делу, то в 1955 году их было выпущено уже 12 (считая названные выше нормативные документы).
В серии «В помощь редакционно-издательским работникам» стереотипными изданиями вышли «Как Горький редактировал книги» В.А. Максимовой и «Редактирование иллюстраций в технической литературе» Р.Ф. Тумановского. Вообще, для этой серии 1955 год оказался особенно урожайным: ее пополнили третье издание «Вычитки рукописи» А.Н. Почечуева, «Безграночный метод издания технической литературы» А.И. Конторовича, второе издание «Техники корректуры» Л.М. Каменецкого, «Калькуляция книжно-журнальной продукции» И.А. Розенцвейга. Помимо серийных книг в том же году были выпущены учебник для техникумов «История письменности и книги» Е.И. Кацпржак, «Основы организации и экономики книгоиздательского дела» В.А. Маркуса.
Распространенная в советских условиях кампанейщина сыграла в тот момент положительную роль. Она помогла не только расширить выпуск литературы для издательских работников, но и (при содействии Н.Н. Накорякова) внести в проект решения Всесоюзного совещания пункт о преобразовании редакции полиграфической литературы в редакцию литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле. С идеей такого преобразования я носился уже давно. Конечно, меня подогревала и возможность при этом заниматься редактированием не технической, а гуманитарной литературы, в содержании которой я разбирался лучше. Пункт этот остался в принятом постановлении совещания и был реализован «Искусством».
В редакции литературы по издательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле
Становлюсь старшим редактором группы, готовящей литературу по книгоиздательскому делу
В реорганизованной редакции образовались три группы редакторов, каждой из которых руководил старший редактор.
Меня приказом от 1 октября 1955 года перевели на должность старшего редактора, и я возглавил группу, которая должна была заниматься подготовкой и выпуском книг по издательскому делу. О большем и мечтать не приходилось.
Глеб Александрович Виноградов, и до этого бывший старшим редактором, встал во главе группы по полиграфической литературе, Андрей Михайлович Артамонов возглавил группу, которая должна была заниматься литературой по книжной торговле.
Такая структура была очень полезной для редакции не только потому, что позволяла редакторам специализироваться, но и потому, что расширяла их функции, позволяла старшим редакторам групп вести творческую организаторскую работу, придумывать темы в соответствии с потребностями отрасли и пожеланиями читателей, находить для них авторов.
Таким образом, исполнилась моя мечта – теперь я мог заниматься подготовкой литературы для издательских работников вообще и редакторов в частности не от случая к случаю, а исключительно и только ею. А главное, получил возможность задумывать книги, которые помогали бы книжным редакторам и другим издательским работникам, а также авторам совершенствовать свою деятельность, а тем самым повышать качество и ассортимент книг, что я определял как сверхзадачу.
Это тем более назрело, что если книги по издательскому делу до этого времени еще худо-бедно все же выходили, хотя и в недостаточном количестве и ассортименте, то книги по проблемам редактирования были большой редкостью, а те, которые выходили, касались в большинстве случаев технической стороны дела. Такими были, например, уже упоминавшаяся «Вычитка рукописи» А.Н. Почечуева или выпущенная двумя изданиями книга Ратмира Тумановского «Редактирование иллюстраций в технической литературе» (М., 1953 и 1955), которую автор, технический редактор по опыту работы, посвятил главным образом технической обработке авторских оригиналов иллюстраций.
После выпуска в 1941 году пособия К.И. Былинского «Язык газеты» с разделом стилистики, а в 1944 и 1945 годах двух изданий его же книги «Основы и техника литературной правки» появилось лишь несколько книг о редактировании. Это «Редакционно-техническое оформление книги» А.Ф. Добрынина (М.; Л., 1946), где речь шла о назначении и оформлении аппаратных частей книг; «Техника редактирования книги» Н.П. Ермолова (М., 1946. 63 с.), посвященная технической стороне подготовки технических книг; «Редактирование технической литературы» В. Лазарева (М., 1948) на узкую тему об употреблении технических терминов в книгах Издательства стандартов; наконец, брошюра И.Ф. Бельчикова «Редактирование табличного материала» (М., 1954. 36 с.), посвященная не анализу содержания и формы таблиц, а их техническому редактированию, их оформлению. Вот, собственно, и все.
Между тем в те же годы «Литературная газета» и «Советская культура» посвятили проблемам редактирования целые полосы. Крупные статьи о редактировании опубликовали журнал «Октябрь» (Замошкин Н. Заметки о редактировании // 1953. № 4) и «Нева» (Фридман С. О «таинствах» редактирования // 1957. № 5). И во многих из них звучал призыв к обобщению опыта работы наших лучших редакторов, редакторской деятельности крупных писателей. Эти статьи помогли мне утвердиться в мысли, что редакторы нужны, что они творческие работники и среди них есть немало тех, кому авторы благодарны за помощь.
Первые шаги в качестве старшего редактора
Итак, было ясно, что нужно создавать библиотеку книг о редактировании для редакторов и авторов, где бы обобщался опыт анализа и оценки произведений разных видов литературы и изданий. Таких книг практически еще не было.
Для меня создание такой библиотеки было не просто должностной обязанностью, но и делом, в котором я был лично заинтересован по причинам, о которых я уже писал выше. Я страстно хотел доказать, что редактор – это профессия, необходимая ничуть не меньше, чем другие профессии, и что изречение «редактор – деятель литературы» вовсе не пустое, а исполненное глубокого смысла.
Вообще, две генеральные идеи-цели определили все стороны моей деятельности: редакторской, издательской, авторской, преподавательской.
Первая: редактор – профессия, без которой ни издательство, ни общество обойтись не может, причем профессия творческая, необходимая читателю, издателю, автору, литературе и, в конечном счете, культуре. Не только потому, что редактор критикует произведение автора в интересах читателей и культуры, но и потому, что обобщает требования к произведениям-книгам одного типа и исходя из этого помогает автору совершенствовать его произведение-книгу.
Вторая: книга должна быть функционально совершенной, чего те, кто ее делает, отчетливо не осознают. Они руководствуются главным образом прецедентом и не стремятся оценить, насколько содержание и форма каждого элемента создаваемой книги отвечают его объективным функциональным задачам, насколько он способен удовлетворить разнообразные потребности и запросы читателей.
Я понимал, что профессия редактора не может развиваться и совершенствоваться, если профессиональный труд не будет осмысливаться теоретически, если профессиональный опыт не будут раскрывать и обобщать в печати. Я был глубоко убежден, что профессия не может называться профессией, если широко бытует мнение, что редактором может быть любой специалист с высшим образованием. Более того, я считал ошибочным мнение, что человек без специального образования в той области, которой занято данное издательство, редактором быть не должен. А ведь на этом была построена вся кадровая политика. Да, действительно, без специального образования заниматься редактированием, т. е. анализом и оценкой содержания и формы произведений, предназначенных к изданию, очень затруднительно. Но и одного такого образования вовсе не достаточно, чтобы стать полноценным профессионалом-редактором. Иначе пришлось бы согласиться с тем, что редактор – не профессия, а одно из возможных занятий специалиста, например инженера. И что между профессионалом-инженером, работающим на производстве, и профессионалом-инженером, ставшим редактором в издательстве, нет никакой разницы, что второму достаточно того, что знает первый.
Именно поэтому я, став старшим редактором группы, отвечающей за выпуск литературы по книгоиздательскому делу, все свои мысли сосредоточил на том, чтобы, исходя из того, что уже есть и чего не хватает, выработать концепцию выпуска этой литературы.
Серия «В помощь редакционно-издательским работникам»
Литература для книгоиздательских работников в то время выпускалась главным образом в рамках серии «В помощь редакционно-издательским работникам». Редакция полиграфической литературы начала ее выпускать, еще находясь в Гизлегпроме. Как можно понять по темам изданий, никакого продуманного плана серии в Гизлегпроме не существовало. Перешедшая в «Искусство» редакция выпустила в этой серии книги на очень разные темы: от редактирования художественной литературы писателями-классиками до оформления таблиц, от аппарата книги до экономики издательской деятельности, от корректуры до технической обработки изобразительных оригиналов и способов издания. Читательский адрес у этих книг был разный, поскольку редакционно-издательские работники – это и разные редакторы (ведущие, художественные и технические), и корректоры, и экономисты (калькуляторы, бухгалтеры, плановики). Так что объединение этих книг в одной серии было достаточно искусственным, формальным.
В моем архиве сохранился проект «Тематического плана издания брошюр “В помощь редакционно-издательским работникам”» с примечанием: «Предполагается издать в течение первого полугодия 1952 года тиражом 5 000 экз.» (имелся в виду тираж каждого выпуска). Из этого плана, включавшего 24 темы, ясно, что он был составлен не позднее 1951 года, т. е. года, когда редакция полиграфической литературы перешла из Гизлегпрома в «Искусство», скорее всего по инициативе Главиздата (Н.Н. Накорякова) в связи с письмами работников издательств о нужде в профессиональной литературе. Из всего этого плана редакция полиграфической литературы уже в «Искусстве» выпустила четыре книги (Максимовой о Горьком-редакторе, Е.М. Алехиной и А.В. Западова об аппарате книги, И.Ф. Бельчикова о табличном материале, Почечуева о вычитке). Хотя в проекте плана у каждой темы был указан предполагаемый автор, не уверен, что по договоренности с ним. Да и не помню, чтобы предпринимались попытки заключить с ними договор. План из области мечтаний. Да и темы многих брошюр были слишком широки, чтобы их можно было плодотворно реализовать.
Например, по плану директор Гослитиздата А. Котов должен был написать книгу «Редактирование художественной литературы». Тема необъятная. В небольшой книге она могла быть представлена либо очень поверхностно, либо суженной до какой-то подтемы (например, редактирования изданий русской классической литературы, да и то с какими-то временными рамками, так как литература ХVIII века очень отличается от литературы ХIХ века).
То же самое можно сказать и о теме «Редактирование политической литературы». В качестве предполагаемого автора был назван заместитель главного редактора Госполитиздата Н.И. Матюшкин. Вряд ли реалистично было рассчитывать, что в небольшой книге можно раскрыть особенности редактирования всех видов и жанров политической литературы.
Ничем не проще тема «Редактирование научно-технической литературы», поскольку эта литература включает в себя необъятный конгломерат видов, подвидов и жанров.
Мало этого. Один из разделов проекта плана был назван «Рукописи, подготовленные редакцией полиграфической литературы» и включал совершенно не вписывавшиеся в серию книги большого объема: «Основы организации и экономики в книгоиздательском деле» В.А. Маркуса (12 авт. л.), «Планирование и учет в книгоиздательском деле» В.В. Лемана (18 авт. л.), – при том что у других книг серии объем был не больше 4 авт. л. Сюда же были включены находившиеся в производстве книги «Оформление и полиграфическое исполнение 4-го издания Сочинений В.И. Ленина» и даже «Сборник учебных планов и программ для курсов повышения квалификации редакторов, корректоров и технических редакторов».
Одним словом, проект плана был поспешный и непродуманный. Получив все эти материалы, я поначалу продолжил тематическое планирование книг для работников издательств в рамках серии «В помощь редакционно-издательским работникам» и составил черновой план этой серии, в котором было два больших раздела: «А. Для редакторов» и «Б. Для художественно-технических редакторов и корректоров». Таким образом, я ограничил серию изданиями для тех, кто в издательствах делает книги.
В разделе А темы были сгруппированы в шесть подразделов:
1. Группа книг о редактировании отдельных элементов и частей изданий (аппарата в разных видах книг и типах литературы, таблиц, иллюстраций, композиции произведения, языка и стиля произведений разных видов литературы).
2. Группа книг о специфике редактирования отдельных видов литературы (художественной, научной, технической, учебной, официальной).
3. Группа книг о наследии редакторов – писателей-классиков (Короленко, Некрасова, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина).
4. Группа книг о технике редакторской работы (вычитка, корректура, техническая подготовка оригиналов изданий и т. п.).
5. Группа книг об организации и экономике издательской деятельности (работе редакции, тематическом планировании, рецензировании, отношениях издательства и автора, издательства и типографии, массовой работе издательства и т. п.).
6. Группа книг об оформлении изданий (иллюстрациях, внешнем оформлении, архитектонике и т. п.).
В разделе Б темы были сгруппированы в два подраздела по читательскому назначению: для художественно-технических редакторов; для корректоров. В первом подразделе предусматривались издания, которые впоследствии вошли в «Библиотеку оформителя книги» (о ритмической структуре книги, о выразительных средствах набора, о композиции и архитектонике книги, о фактуре в оформлении книги, о художественном конструировании книги и художественном конструировании учебных изданий, об оформлении справочных изданий, о типизации изданий). Во втором подразделе были намечены темы о технике корректуры и о вычитке.
Вот такая попытка составить более или менее систематизированный список того, что нужно издать для редакционно-издательских работников. Но, видимо, очень скоро я отказался от идеи выпуска книг в рамках серии «В помощь редакционно-издательским работникам». Нигде я этот отказ не сформулировал и сейчас могу только догадываться о причинах такого решения.
Думаю, что прежде всего меня отпугивала необходимость ограничивать себя выпуском книг на узкие темы, которые были продиктованы сложившимся типом выпусков серии. А крупные работы втискивать в рамки серии было нелепо. О том, что они предназначены для редакционно-издательских работников, говорили их заглавия, и в пометке с названием рассматриваемой серии они не нуждались. А попытка классификации книг для разных категорий издательских работников, которая приведена выше, пригодилась в дальнейшем при планировании, но и только.
Анкеты без ответа
Первым делом я посчитал необходимым разослать в издательства составленную мною анкету, чтобы выяснить, в каких книгах редакционно-издательские работники испытывают наибольшую нужду, какие из выпущенных книг они одобряют, а какие оказались для них малополезными.
Анкета содержала преамбулу и три вопроса, для ответа на которые было оставлено место:
АНКЕТА
Редакция литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле издательства «Искусство» обращается ко всем издательствам и редакционным работникам с просьбой ответить на несколько вопросов, связанных с изданием литературы по книгоиздательскому делу (редактированию, оформлению книги, корректуре, экономике, планированию и организации работы в издательстве, истории издательского дела и т. п.).
1. Какие из вышедших книг по издательскому делу вы оцениваете положительно? В чем их достоинства?
2. Какие новые книги по издательскому делу (назовите темы и кратко раскройте их) вы считаете необходимым издать?
3. Считаете ли вы целесообразным издание справочника для редактора? Каким вам представляется его содержание?
Отпечатано было 2000 экземпляров.
Результат оказался жалким. Из разосланных 2000 экземпляров в издательство вернулось только 17 анкет. Я их сохранил как реликвию своего редакторского романтизма. Мое огорчение от такого провала было столь велико, что я даже написал заметку под рифмованным заглавием «Анкеты без ответа», в которой ополчился на нерадивых редакционно-издательских работников, не пожелавших, вопреки собственным профессиональным интересам и потребностям, откликнуться на мой зов. Послал я ее, вероятно (точно не помню), в «Советскую культуру», которая то и дело помещала на своих страницах материалы о редакторской работе, но опубликована она не была. Копия этой заметки сохранилась. Она исполнена упреков по адресу руководителей издательств, редакционно-издательских работников центральных издательств (только три – из Госполитиздата и «Искусства» – ответили на вопросы анкеты). Похвалил в заметке редакторов Лениздата (прислали четыре анкеты). В заключении я пытался объяснить самому себе причины безразличия. Верить, что издательские работники считают литературу для них ненужной, я отказывался. Непопулярность самой формы анкетного опроса отвергал, хотя на самом деле позднее из работ по конкретной социологии узнал, что, как правило, на анкеты по разным причинам отвечает лишь очень незначительное число опрошенных. Не принял я во внимание и то, что само распространение анкет внутри издательства могло быть пущено на самотек тем работником секретариата, который их получил, но не знал толком, что с ними делать и кому раздать.
Впрочем, даже немногие возвращенные анкеты содержали полезные сведения, которые я использовал при тематическом планировании выпуска книг. В неопубликованной заметке о неудаче с анкетами я посчитал необходимым рассказать, какие книги по издательскому делу наша редакция выпустит в 1957 году. Это «Основы редактирования» (возможно, имелся в виду сборник статей «О редактировании», который вышел не в 1957, а в 1959 году); «Литературное редактирование» К.И. Былинского и Д.Э. Розенталя; практическое пособие по стилистике для издательских работников (подразумевалось учебное пособие для издательских техникумов «Практическая стилистика современного русского языка» В.А. Мамонова и Д.Э. Розенталя); «Редактирование научной книги» (монография Е.С. Лихтенштейна); «Издание и редактирование литературы по передовому опыту в сельском хозяйстве» (книга Г.Д. Каплана «Редактирование отраслевой литературы»); «Издательство и автор» (монография А.И. Ваксберга); «Художественное редактирование» (имелась в виду книга «Основы оформления советской книги», которую редакция успела выпустить в 1956 году); ежегодник «Искусство книги» (вышел, к сожалению, только в 1960 году); «Справочная книга корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина (вышла только в 1960 году).
Конечно, эти книги были подготовлены не столько в ответ на пожелания издательских работников, сколько потому, что нужда в таких книгах не вызывала сомнений. Но даже немногочисленные ответы на вопросы анкеты все же показывали, по каким направлениям нам стоит двигаться в издании литературы по книгоиздательскому делу вообще и для редакторов в частности.
В заметке не были названы еще несколько книг, выпущенных редакцией в 1957 году. Это пособие «Аппарат книги» в серии «В помощь редакционно-издательским работникам» – 36-страничная брошюра, откровенно слабая рукопись которой была представлена Е.М. Алехиной и спасена Александром Васильевичем Западовым, заведующим кафедрой редактирования на факультете журналистики МГУ, которого В.В. Попов пригласил в качестве соавтора Алехиной. Это также обзор К.И. Былинского и М.В. Зарвы «О языке массовой литературы» (с грифом Главиздата Министерства культуры СССР).
С 1956 года начала выпускать учебные пособия по редактированию кафедра редактирования Московского заочного полиграфического института, возглавляемая Н.М. Сикорским. В 1956 году вышел сборник «Лекции по теории и практике редактирования» (Вып. 1. – 188 с.). В 1957 году был опубликован второй выпуск этого сборника.
Можно назвать еще книгу: Бельчиков Ю.А. Учебное пособие по практической стилистике и литературному редактированию / Ю.А. Бельчиков, В.П. Вомперский. М., 1957. 196 с.
Все это радовало, но не удовлетворяло. Потому что мало помогало редакторам совершенствовать свое мастерство, упрощало представление о работе редактора.
На что делать упор в издании литературы для редакторов
Интуитивно я полагал, что помочь редакторам расти профессионально могут прежде всего и главным образом сами редакторы, если будут обобщать и осмысливать свой опыт. А нужно это не только им самим, но и авторам и литературе всех видов. Ведь того, что по разным причинам не смогли сделать сегодняшние авторы, можно потребовать от авторов завтрашних, обосновав эти требования анализом и критикой тех рукописей, над которыми редакторы трудятся сегодня.
Такого же мнения придерживались и некоторые редакторы в ответах на вопросы. Так, не назвавший себя редактор из Барнаула писал:
Опыт лучших редакторов – в живой, непосредственной форме рассказ о практике работы. Такие брошюры или книги должны не только (и, может быть, не столько) раскрывать приемы анализа текста и правки его, но и показать методику работы с авторами, если можно так выразиться, с педагогической точки зрения. Это можно сделать даже в художественной форме – нечто вроде «Золотой розы» Паустовского. Скажем, «Записки редактора».
Итак, литературу о редактировании и работе редактора надо было создавать. Но для того, чтобы делать это не в потемках, повинуясь только интуиции, а осмысленно, надо было руководствоваться точным и ясным теоретическим пониманием того, что такое редактирование, что общего в работе редакторов, имеющих дело с произведениями самых разных видов литературы, в чем зерно, предмет редактирования, что делает его необходимым и важным. Утверждения, что от редактора один только вред, я уже слышал. В то же время читал я и признания писателей, благодарных редактору, который помог им улучшить произведение, избавить от промахов и неточностей, отыскать способ его усовершенствовать. Без верного теоретического представления о сути редакторской деятельности не отделить важное от второстепенного, не выбрать темы книг, которые требуется создать, не оценить полученные рукописи.
Результатом усиленных размышлений на эти темы стала написанная мною в 1960–1961 годах статья «О предмете редактирования», опубликованная в сборнике «Книга. Исследования и материалы» (М., 1962. Вып. 7. С. 354–362) в разделе «Материалы, сообщения, заметки» (о ней я подробнее рассказываю в главе «Мое авторство»). Ей было предпослано уведомление, что она печатается в порядке обсуждения (оговорка, возможно сделанная по моей просьбе). Любопытно, что в третьем издании БСЭ в статье «Редактирование» упомянута именно эта заметка, которую справедливее было бы назвать статьей. Думаю, что в какой-то мере она вобрала в себя то, что писала о редактировании Лидия Чуковская. Впоследствии схожие мысли высказывал в своих статьях Б. Кобрин.
Сначала я задумывал книги, нужные редакционно-издательским работникам, и подыскивал для них авторов, а затем, когда почувствовал, что мой опыт может быть полезен другим, и сам взялся за их сочинение. Полагая при этом, как уже упоминалось, что сверхзадача руководимой мною редакционной группы – повышение качества книг в стране, я четко осознавал, что качество это в первую очередь зависит от авторов и что, значит, наши книги должны содержать рекомендации и советы, полезные и нужные не только редакторам, но и авторам.
Именно такой была книга «Редактирование таблиц», написанная мною в соавторстве с М.Д. Штейнгартом (М., 1958). В ней я делился опытом работы над таблицами, который помогал бы авторам и редакторам делать их наглядными и выразительными, понятными с первого взгляда.
Вообще идея, что редакторам и авторам нужен прежде всего конкретный опыт, а не общие слова и призывы, была главной движущей силой в моей редакторской работе. Именно она породила замысел выпуска продолжающегося сборника статей о редакторском опыте. Для него сначала было выбрано неудачное и скучное лобовое заглавие «Редакторы книги об опыте своей работы». С 3-го выпуска мы заменили его более лаконичным и более выразительным заглавием «Редактор и книга». Кроме того, в сборник с таким заглавием могли писать не только редакторы, но и авторы.
Получив в МПИ специальное редакторское образование и диплом профессионального редактора политической и художественной литературы, я, приступив к работе редактора, не мог не сознавать, что в принципе был брошен в воду не обученным по-настоящему плавать. В какие-то азы редакторской работы нас, конечно, посвятили, но это были всего лишь начала литературного редактирования. Нас научили соблюдать нормы практической, грамматической стилистики главным образом на уровне фраз: уже немало, но явно недостаточно.
Практика в «Молодой гвардии» тоже не дала всего того, что требуется знать и уметь делать ведущему редактору книги: как наладить взаимоотношения с художественным и техническим редакторами, с корректорами и машинистками, с сотрудниками производственного отдела и бухгалтерии. Редакционно-издательский процесс достаточно сложен из-за участия в нем многих специалистов и требует от ведущего редактора дипломатических ухищрений, чтобы его работа не лежала без движения, не попала к худшему исполнителю и т. д. и т. п. Всему этому приходится обучаться на ходу, и работа над каждой новой книгой наделяла бесценным практическим опытом. Немало дала и работа в корректорской, позволившая освоить и традиционные редакционно-технические правила, принятые в данном издательстве, и общие, закрепившиеся в практике большинства издательств.
Однако главной школой редактора были авторы. Редактор растет, прежде всего общаясь с авторами (как и автор обогащается в работе с толковым редактором). Так я ответил И. Рахманиной, которая по поручению журнала «Книжное дело» готовила беседу со мной (она опубликована в № 1 этого журнала за 1994 год). Так оно и было и есть на самом деле. Я повторил уроки профессора Я.М. Катушева, о которых уже писал выше.
Для меня учеба у авторов была двойной: одной – как у всех, другой – такой, какая могла быть только у редактора книг по редакционно-издательскому делу.
Так, редактируя книгу А.И. Ваксберга «Издательство и автор», я познавал основы авторского права и юридические нормы взаимоотношений с авторами.
Редактируя книги К.И. Былинского и Д.Э. Розенталя по литературному редактированию и пунктуации, грамматической стилистике, я становился во сто раз «подкованнее» в знании этих предметов.
«Основы оформления советской книги» и «Книжное искусство» В.В. Пахомова вооружили меня художественно-оформительскими знаниями, без которых не обойтись редактору и издателю.
Книги по экономике издательского дела В.В. Лемана, Н.Г. Пельтиновича помогали понимать, как влияет на результаты издательской деятельности ее хозяйственно-финансовая сторона.
Книги и статьи о своем опыте редакторов (Л.К. Чуковской, Г.Д. Каплана, Кл. Рождественской, Г. Померанцевой, Б. Кобрина и др.) учили, как важно бережно относиться к автору, прислушиваться к его возражениям, не считать, что только твоя точка зрения единственно верная, что могут быть разные подходы к одному предмету, показывали, что не всегда правомерно оценивать стиль строго по нормам грамматической стилистики и т. д.
На собственном опыте я убедился, что если придирчиво посмотреть на рукописи глазами читателей, то станет ясно, что они страдают изъянами не только индивидуальными, присущими данному автору, но и повторяющимися, свойственными многим авторам. Все это нащупывалось только в процессе самой практики, скорее интуитивно, чем сознательно и целенаправленно. Ведь книга – сложный организм, а между тем в МПИ никто ни разу даже не упомянул ни о композиции и рубрикации книги, ни о рабочем оглавлении и его роли для разбора и оценки произведения, предназначенного к изданию, ни о работе с иллюстрациями.
Извлекаю уроки из практики
Каждый неточный шаг, каждую свою ошибку я не только переживал как неудачу, но и старался осмыслить, найти причину, чтобы в дальнейшем не повторять ничего подобного. Именно поэтому я взял за правило выводить на основе опыта полезные рекомендации.
Один из таких уроков гласил, что не каждому автору можно полностью доверять, и, значит, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не попасть впросак и не поплатиться ничем не оправданными затратами.
Одно судебное дело было в этом отношении более чем поучительным. Мы затеяли ленинградский выпуск сборника «Редактор и книга». Для того чтобы упростить работу, организовали общественную редколлегию из ленинградских редакторов, которая подбирала авторов, обсуждала их предложения или планы-проспекты статей и предлагала издательству заключить договоры с авторами, чье предложение или план она одобрила. Один из таких авторов на основе договора прислал в издательство статью. Она не вполне соответствовала плану и, по нашему мнению, требовала от автора дополнительной работы, чтобы можно было ее с пользой для читателя опубликовать в сборнике. Свои замечания мы послали председателю общественной редколлегии, чтобы он переговорил с автором и попросил его еще поработать над статьей. Тот предложил автору ее переделать в соответствии с требованиями издательства. Автор без возражений забрал статью. Но подошло время сдавать рукопись сборника в набор, а переделанную статью автор не возвращал. Мы послали ему письмо с просьбой сделать это, а в ответ получили повестку в суд с иском на 60 % причитавшегося ему гонорара. Поскольку издательство в срок, установленный для оценки произведения, письменно не известило его о своем решении, он получил право на 60 % гонорара. Мы же послали письмо не ему, а председателю редколлегии для устной передачи замечаний автору, исходя из его порядочности, которой он не проявил. Судья, выслушав наши возражения, принял самое мудрое решение: выплатить автору 25 % гонорара, а не 60 %, которые тот требовал. Именно такую сумму составлял по типовому договору аванс, и он этот аванс заработал: все же статью написал, а редакция не отклонила ее полностью, значит, в недобросовестности его обвинить было нельзя. Вот пусть и получит 25 %. Больше с этим автором мы постарались дела не иметь. А вся эта история убедила в том, как важно строго соблюдать юридические нормы взаимоотношений издательства с автором.
Извлечь уроки я старался и из ошибок, допущенных другими издательскими работниками.
Так, на всю жизнь я запомнил грубую ошибку технического редактора Алексея Николаевича Чичерина. О нем говорили, что он в прошлом известный в узком кругу поэт-конструктивист. Внешний вид и поведение бывшего поэта, правда, внушали большие сомнения в этом. Но в 2000 году, читая книгу М.Л. Гаспарова «Записи и выписки», я убедился, что это не выдумка, а факт биографии Алексея Николаевича. В «Воспоминаниях о Сергее Боброве», включенных в эту книгу, М.Л. Гаспаров воспроизводит бобровские рассказы об Алексее Николаевиче:
Говоря о стиховедении, случилось упомянуть о декламации, говоря о декламации – вспомнить конструктивиста Алексея Чьи!черина, писавшего фонетической транскрипцией. У него была поэма без слов «Звонок к дворнику» – почему? «Потому что очень страшно. Ворота на ночь запирались, пришел поздно – звони дворнику, плати двугривенный, ничего особенного. Но если всматриваться в дощечку с надписью, и только в нее, то смысл пропадет, и она залязгает чем-то жутким: “ЗъваноГГ – дворньку!” Это как у Сартра: смотришь на дерево – и ничего, смотришь отдельно на корень – он вдруг непонятен и страшен; и готово – ля нозé. Чичерин анонсировал какие-то свои вещи с пометкой “пряничное издание”. «Да, мы с женой получаем посылочку, в ней большой квадратный пряник, на нем неудобочитаемые буквы и фигуры, а сысподу приклеен ярлычок: “Последнее сочинение Алексея Чьи!черина”. Через день встречаю его на Тверской: “Ну, как?” – “Спасибо, – говорю, – очень вкусно было”. – “ Это что! – говорит, – самое трудное было найти булочную, чтобы с такой доски печатать: ни одна не бралась!”»
Когда он о ком-нибудь говорил хорошо, это запоминалось по необычности. Однажды он вдруг заступился за Демьяна Бедного: «Он очень многое умел, просто он вправду верил, что писать надо только так, разлюли-малина» (с. 389).
В 1950-е годы, когда я сталкивался с Алексеем Николаевичем по работе как с техническим редактором полиграфических книг, которые я готовил к изданию, ничего не говорило о бывших или нынешних его поэтических занятиях. Как он стал техническим редактором, не знаю. Работать с ним было трудно. Всегда мрачный, он требовал от редакторов (часто в резкой, чтобы не сказать грубой, форме) делать многое из того, что должен был делать сам. Поэтому нередко возникали свары, кончавшиеся в лучшем случае его брюзжанием, в худшем – хлопаньем дверью.
Ему поручали вести главным образом технические книги нашей редакции и редакции литературы по фото– и кинотехнике. Но первое мое близкое знакомство с Чичериным состоялось, когда я еще работал в корректорской, и было связано с ЧП – перепечаткой то ли всего тиража, то ли одного печатного листа отдельного издания пьесы Чехова или Островского. При читке в корректорской чистых листов выяснилось, что в нескольких случаях строка, которая должна была начинать полосу, почему-то ее завершала. Техническим редактором был Алексей Николаевич. Стали исследовать, почему это случилось и кто виноват: издательство или типография, и если издательство, то кто конкретно – корректор или технический редактор. Оказалось, что во внутренней сверке Алексей Николаевич, чтобы избежать висячей строки (начальной строки абзаца, завершающей полосу), на нескольких полосах дал указание перенести висячую строку на следующую полосу, но не указал на ней, куда именно надо поставить переносимую строку – в верх или в низ полосы. И верстальщик бездумно засадил ее в низ полосы, т. е. не туда, куда было нужно. Конечно, только сдуру можно было при переносе строки на следующую полосу поставить ее не в начало полосы, но, с другой стороны, издательство обязано было указать, куда именно надо поставить переносимую строку, а оно этого не сделало. Типография стояла на своем: рабочему, мол, некогда думать. Затраты на перепечатку пришлось нести издательству.
На Алексея Николаевича был сделан начет. И это было серьезным уроком не только для него. Вывод, который я сделал для себя: давая указание о правке, непременно поставь себя на место правщика, проверь, правильно ли он поймет словесное или графическое указание.
На всю жизнь я запомнил беду, постигшую Алексея Николаевича Чичерина, и с тех пор никогда не забываю при переносе строк пометить на другой полосе, куда именно надо поставить переносимую строку или строки.
Так что собственная практика убедительно доказывала, что нет учителя лучше, чем опыт, а значит, упор нужно делать на литературу об опыте.
Издание справочной литературы для издательских работников
Одна из идей, которыми я руководствовался, замышляя и планируя книги для редакционно-издательских работников, – необходимость создания справочников и справочных пособий для редакторов, корректоров и авторов. По нескольким причинам.
Во-первых, выше вероятность того, что справочные издания, в отличие от монографий и практических пособий, будут прочитаны хотя бы выборочно, потому что читатели-профессионалы будут искать в них ответы на свои вопросы. И, значит, такие справочники могут реально повысить квалификацию работников и качество издаваемых книг. Другие виды изданий все же привлекают внимание значительно меньшего числа читателей.
Во-вторых, справочная литература, как наиболее практически полезная, пользуется бóльшим спросом у читателей-покупателей, и ее тиражи превышают тиражи других видов изданий.
Например, тираж «Справочника нормативных материалов для издательских работников» В.А. Маркуса (М., 1958) равнялся 15 тыс. экз., в то время как тираж других книг с тем же читательским адресом не превышал 5 тыс. экз.
А если справочное издание для издательских работников нужно не только им, но и другим категориям читателей (авторам книг и статей, учителям языка и литературы), его тираж может возместить убытки по малотиражным полиграфическим учебникам.
Так, тираж «Справочника по орфографии и пунктуации для работников печати» К.И. Былинского и Н.Н. Никольского, выпущенного нашей редакцией в 1957 году 3-м изданием, составлял 100 тыс. экз.
В-третьих, у справочных изданий было еще одно преимущество – более высокий, чем у других видов изданий, номинал одного авторского листа. Так что цена справочных изданий была выше, чем у ряда других видов изданий, что немаловажно для экономики редакции.
В-четвертых, в редакционно-техническом оформлении книг разных издательств царил разнобой. Каждое издательство изобретало для своих книг собственные правила и рекомендации. И когда я выше сокрушался о том, как мало выпускается книг по редакционно-издательскому делу, то я имел в виду книги, выпущенные нашей редакцией полиграфической литературы. Если же взглянуть на списки книг по редакционно-издательскому делу, выпущенных другими издательствами, то их было не так уж и мало. Но основную массу их составляли инструкции по подготовке рукописи для авторов, редакторов и корректоров. Они содержали доморощенные рекомендации и правила, опиравшиеся на местную традицию, обоснованность которой ничем не подтверждалась. С 1948 по 1961 год включительно около 20 издательств выпустили более 30 инструктивных изданий. Напрашивалось создание справочника, который бы предложил и обосновал одинаковые правила и рекомендации для всех издательств, независимо от их ведомственной подчиненности.
Именно поэтому я уговорил Владимира Александровича Маркуса составить «Справочник нормативных материалов для издательских работников», который был выпущен в 1958 году (см. об этом ниже, в главке «Редактор и издатель книг своих преподавателей»).
В том же 1958 году вышло еще одно справочное издание – «Справочник автора книги» И.Я. Данилова, пользовавшийся большой популярностью среди редакторов и авторов технических издательств и несколько раз переиздававшийся (в 1962 и 1966 годах). И.Я. Данилов, однако, поступил безнравственно: большую часть своей книги он списал с книги П.И. Орлова «Справочник автора технической книги» (М.: Оборонгиз, 1940). Я это обнаружил, когда готовил книгу к изданию. Что было делать? А нужно сказать, что представил Данилов рукопись в образцовом виде: ее приятно было взять в руки, удобно читать. Оригиналы иллюстраций можно было сразу посылать в цинкографию. Да к тому же книга объявлена в тематическом плане. И я взял грех на душу: стал, не меняя смысла, переписывать текст так, чтобы он не совпадал с текстом Орлова, только для того, чтобы нас вместе с Даниловым не обвинили в плагиате.
Безусловно, справочным изданием была и книга «Трудные случаи пунктуации» (М., 1959), которую я заказал своим бывшим преподавателям К.И. Былинскому и Д.Э. Розенталю. Она вышла тиражом 50 тыс. экз. Вслед за нею вышла «Справочная книга корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина (М., 1960) тиражом 25 тыс. экз.
В 1965 году появилось задуманное мною и заказанное О.В. Риссу справочное пособие «Что нужно знать о корректуре», выдержавшее три издания.
В 1966 году по предложению одного слушателя моих лекций на факультете повышения квалификации МПИ вышла составленная мною «Памятная книжка редактора». Тогда это было нечто вроде записной книжки, но ее продолжением стали уже солидные справочные издания на ту же тему: «Памятная книжка редактора» (М., 1980) и «Памятная книга редактора» (М., 1988).
Особенно я горжусь тем, что придумал «Справочник по правописанию и литературной правке», заказанный мною Д.Э. Розенталю и впервые вышедший в 1967 году, когда редакция уже вошла в состав издательства «Книга». Справочник этот переиздавался бесчисленное множество раз даже после смерти Д.Э. Розенталя. Об этой книге я более подробно рассказываю в части, посвященной издательству «Книга».
Моя редакторская работа в 1956 году
Хотя все мои мысли в реорганизованной редакции были заняты литературой по редакционно-издательским проблемам, среди 10 книг, которые вышли в 1956 году с моим именем как ведущего редактора, 8 относились к полиграфической технике и технологии. Объяснялось это прежде всего тем, что работа над ними началась еще до реорганизации.
Одна из двух книг редакционно-издательской тематики выделялась объемом и значением. Эта книга – «Основы оформления советской книги» коллектива авторов, подготовленная ВНИИ полиграфии под редакцией А.А. Сидорова и В.А. Истрина.
Ее показатели: объем – свыше 36 учетно-издательских листов, 22 главы, 15 авторов. Одно это говорило о большой сложности работы редактора над нею. Но главная сложность состояла в том, что это была первая в стране книга о художественном оформлении и художественном редактировании книги, что повышало ответственность редакции.
Из-за большого числа авторов тексты глав различались по стилю, и это разрушало цельность книги. Некоторые главы приходилось сильно править.
Большое число иллюстраций, среди которых вклейки и наклейки, требовало больших технических усилий редактора при подготовке их к производству.
Но я работал над этой книгой с большим воодушевлением. Во многих своих частях она была новаторской. Особенно это касалось глав, написанных Виктором Васильевичем Пахомовым. Их отличала продуманность, четкость и ясность формулировок. Впервые написал он о том, что такое художественное редактирование и какова методика этой деятельности. Никто до него так обоснованно не раскрыл тему композиции внутренних элементов книги. Мне было ясно, что эта книга подводит если не научную, то близкую к ней базу под практическую деятельность издательских работников. Осознавал я и то, что благодаря этой книге ощутимо повысилась моя квалификация как редактора.
Из остальных книг не могу не выделить книгу директора издательства и типографии газеты «Правда» Б.А. Фельдмана «Технология производства массовых иллюстрированных журналов». Номинально в надвыпускных данных книги стоит фамилия другого редактора – Е.М. Незнамовой – или, кажется, фамилии нас двоих, точно не помню. В сущности, я был не редактором, а помощником автора. На эту роль меня рекомендовал Борису Александровичу Фельдману Василий Васильевич Попов, который был с ним в дружеских отношениях, но предпочел отказаться от роли редактора: он предложил ее мне, не сомневаясь, что я его не подведу. Борис Александрович прислал за мной машину в какой-то из выходных дней, мы познакомились, и с этого дня начались мои поездки к нему. На встречах мы обсуждали, как поступить с тем или иным материалом, который он предлагал включить в книгу. Мне предстояло выстроить книгу из довольно разнородных материалов так, чтобы они органично входили в нее, не выпадая и не выпирая из общей структуры. Кроме того, я литературно правил текст.
Прежде чем я приступил к этой работе, Борис Александрович справедливо посчитал нужным организовать для меня экскурсию по цехам типографии, чтобы я предметно познакомился с оборудованием и технологией, о которых написана книга.
Оплачивал он эту мою работу из своего кармана, и это дополнение к моей зарплате было совсем не лишним для тощего бюджета моей семьи. Кроме того, когда книга вышла, Б.А. преподнес мне «Спидолу» с выгравированной надписью.
Не могу, однако, не признаться, что некоторый не совсем приятный осадок от этой работы у меня остался. Все же Б.А. Фельдман пользовался для своей книги теми материалами, которые были написаны или разработаны не им лично, а лишь под его руководством. Я ездил к нему и от него на служебных машинах «Правды». Этически все это было не совсем чисто, но так поступали многие руководители НИИ и предприятий. Так или иначе, книга вышла, и я утешал себя тем, что ее недостатки компенсировались той пользой, которую могли извлечь читатели из описанного в ней опыта типографии газеты «Правда».
Редактор и издатель книг своих преподавателей
То обстоятельство, что я был редактором, ведущим литературу по книгоиздательскому делу, свело меня с бывшими преподавателями, выступавшими в качестве авторов редакции. Первыми авторами-преподавателями, сочинения которых мне пришлось редактировать, были К.И. Былинский и Д.Э. Розенталь. Приступая к чтению рукописи их учебника «Литературное редактирование», я, безусловно, испытывал смущение. Еще вчера Константин Иакинфович и Дитмар Эльяшевич были для меня непререкаемыми авторитетами, а сегодня мне, их ученику, надлежит их критиковать, а им – считаться с моими замечаниями. Но страхи были напрасными. С обоими работать оказалось необыкновенно легко и просто. А то обстоятельство, что я был одним из тех, кому книга предназначалась, и уже из опыта знал, что читателю нужно, делало мои замечания во всяком случае не лишними.
К.И. Былинскому так понравилась моя работа, что он попросил меня быть специальным редактором его учебного пособия – «Практикума по современному русскому литературному языку» в двух частях (Ч. 1. Орфография; Ч. 2. Синтаксис. М.: Изд-во МГУ, 1956). Думаю, что он учитывал и мой корректорский опыт, который для таких изданий был весьма важен.
Любопытно, что когда меня в 1960 году принимали в Союз журналистов, то на заседании Правления московской организации Союза кто-то из его членов, увидев в списке книг, редактором которых я был, «Литературное редактирование», буркнул: «Что там у Былинского редактировать?» Мне неловко было ему возражать, но сам Константин Иакинфович оценивал наше сотрудничество совсем иначе. На подаренной мне книге «Очерки по стилистике русского языка» (М., 1959) он написал:
Дорогому бывшему моему ученику, а теперь блестящему редактору с благодарностью. К. Былинский.
Как ни приятно читать такую лестную характеристику, все же сам я считаю, что она очень завышена: Константин Иакинфович по своей доброте явно преувеличил мои редакторские заслуги.
В 1957–1960 годах мне довелось быть редактором еще нескольких работ К.И.: третьего переработанного издания его и Н.Н. Никольского «Справочника по орфографии и пунктуации для работников печати»; его и Д.Э. Розенталя «Трудных случаев пунктуации» (М., 1959); наконец, «Справочной книги корректора», написанной им в соавторстве с А.Н. Жилиным. Здесь в разделе о написании названий пришлось с помощью практикантки упорядочивать расположение и содержание параграфов, опираясь на составленную мною классификацию тем. К.И. охотно принимал редакторскую помощь бывшего ученика.
Сотрудничество с Дитмаром Эльяшевичем Розенталем продолжалось долгие годы и вылилось в дружеские творческие взаимоотношения. Он не раз подчеркивал это в дарственных надписях на книгах. Например:
Дорогому Аркадию Эммануиловичу Мильчину в знак многолетней дружбы. Д. Розенталь. 1971.V.6.
Или на своем «Справочнике по пунктуации» (М., 1984):
Дорогому Аркадию Эммануиловичу Мильчину в знак сердечных проверенных временем дружеских отношений. 1984.V.3.
Но особенно дороги мне теплые надписи на книгах, которые были задуманы мною и написаны Дитмаром Эльяшевичем по моему заказу, что и засвидетельствовано им в надписях. Например, на первом издании словаря-справочника «Управление в русском языке» (М., 1981) дарственная надпись гласила: Дорогому Аркадию Эммануиловичу Мильчину, инициатору создания этой книги, в знак искренней признательности. 1981.Х.19, а на втором издании (М., 1986): Дорогому Аркадию Эммануиловичу Мильчину, крестному отцу и постоянному куратору этого издания, с сердечной признательностью. Д. Розенталь. 1986.III.29.
Впервые мне пришлось встретиться с Д.Э. как с автором в 1955–1956 годах. Параллельно с подготовкой «Литературного редактирования» его и К.И. Былинского мне надо было решить судьбу не слишком удачной рукописи учебника для редакционно-издательских техникумов «Практическая стилистика современного русского языка», написанного также нашим бывшим преподавателем В.А. Мамоновым. Учебник перекочевал к нам со всеми затратами из «Советской России», издательства, которое до создания «Книги» выпускало учебные издания для техникумов системы Министерства культуры РСФСР, но в том виде, в каком рукопись поступила к нам, издавать ее было нельзя. Я попросил Д.Э. выступить в роли титульного редактора учебника. Работа В.А. Мамонова страдала отсутствием упорядоченности в изложении и требовала очень большой редакторской работы, граничащей с соавторством. Поэтому Д.Э. согласился быть редактором всего издания только в том случае, если ему поручат дополнить книгу разделом синтаксической стилистики. На этом сошлись, и учебник был спасен.
Работать с Д.Э. было легко и интересно. Он был мягок в общении, старался пойти навстречу редактору, но убедить его было совсем не просто. Зато он стремился понять оппонента, охотно обсуждал замечания, и если не соглашался, то лишь после тщательного обдумывания и объяснения причины. Так что благодаря этому и я, и другие редакторы прошли у Д.Э. вторую школу, уже практическую.
Писал он строгим языком, по смыслу очень точно, и мои замечания стилистического и другого характера даже в больших его работах можно было пересчитать по пальцам. Мое редакторское участие выражалось главным образом в том, что в случаях, когда возможны пунктуационные или стилистические варианты, я просил Дитмара Эльяшевича детально, на примерах показывать, как делать выбор, чем при этом руководствоваться. Он показывал, но с большой осторожностью, не желая давать жесткие рекомендации: делай так и только так, а не иначе. Он предвидел, что на практике это может привести к неверным исправлениям и замечаниям.
Кроме того, я вспоминал собственные и коллег стилистические затруднения, которые не нашли отражения в его книге, и предлагал дополнить ее рекомендациями, которые помогали бы разрешать подобные затруднения.
После того как я стал заведующим редакцией, затем заместителем главного редактора, наконец, главным редактором издательства «Книга», быть ведущим редактором книг Д.Э. я уже не мог, но все они были написаны и изданы по моему почину, чем я очень горжусь.
Так, идея «Справочника по правописанию и литературной правке» пришла мне в голову потому, что редакции необходима была книга массового спроса, чтобы компенсировать колоссальные убытки от издания малотиражных и сложных полиграфических учебников. И действительно, этим справочником широко пользовались не только редакционные работники и авторы, но и учителя русского языка средней школы. Только «Книга» переиздала этот справочник четыре раза, а затем бесчисленное количество раз это делали другие издательства, лишь незначительно меняя заглавие. Для первого издания справочника, чтобы проще было им пользоваться, я составил предметный указатель, который в последующих изданиях неизменно повторялся. Д.Э. был им очень доволен.
Успехом пользовался и созданный Д.Э. по моему предложению «Справочник по пунктуации» (М., 1984). Во многом он повторял «Трудные случаи пунктуации» К.И. Былинского и Д.Э. Розенталя. Мне было, однако, известно, что участие в той книге К.И. Былинского было более редакторским, чем авторским; целиком перепечатывал и представлял рукопись один Розенталь. Именно поэтому родилась мысль изменить заглавие, что давало бы возможность Розенталю выступить в качестве единоличного автора, а издательству – выпустить книгу более широкого плана и с более заманчивым для читателя заглавием (недаром ее тираж составил 100 тыс. экз.).
К большому моему сожалению, в моих воспоминаниях о Дитмаре Эльяшевиче слишком мало сказано о нем как о человеке и гораздо больше – о его отношении ко мне. Но таково свойство моей слабеющей памяти, лучше всего сохраняющей то, что касается меня, и хуже – то, что касается объекта воспоминаний. Увы, память моя эгоцентрична, а главное, слишком обща, чтобы воспроизвести реплики и картинки, позволяющие увидеть человека таким, каким он был в жизни. Не могу, увы, вспомнить ни одной остроумной реплики Дитмара Эльяшевича, ни одного некнижного ответа на сложные вопросы грамматической стилистики. Помнится только впечатление уклончивости этих ответов, стремление уйти от рецептов, продиктованное пониманием того, что живой язык нельзя омертвлять посредством жестких правил. Именно поэтому так недовольны были многие корректоры: ведь он старался не говорить, что в таком-то случае надо поступать так и только так.
Корректорам надо было во время нормированной работы быстро и просто решать казус, а не разбирать каждый случай, тогда как, по Розенталю, выбрать вариант, наиболее подходящий условиям контекста, можно только после подобающих размышлений и рассуждений. Как составитель и титульный редактор «Справочной книги корректора и редактора» (М., 1974) я попросил Д.Э. составить для нее «Словарь управлений». Содержание восьми страниц нонпарели понравилось читателям. И это побудило позднее предложить Дитмару Эльяшевичу написать словарь-справочник «Управление в русском языке». Первое издание его появилось в 1981 году, второе – в 1986-м.
Со второй половины 1985 года я вышел на пенсию, и мы с Д.Э. продолжали общаться в основном по телефону. Он звонил мне, когда нуждался в совете по своим издательским делам.
Один раз (видимо, в 1986 году) я встретил его в коридоре «Книги». Он шел ощупью, явно из-за резко ослабевшего зрения. Сердце сжалось от этого печального зрелища. Ведь он всегда был бодрым, полным жизненной энергии, обладал колоссальной работоспособностью.
Еще с одним нашим преподавателем мне довелось длительные годы сотрудничать как с автором и составителем. Это Владимир Александрович Маркус. В 1955 году редакция литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле выпустила второе, переработанное и дополненное издание его учебника «Основы организации и экономики книгоиздательского дела». Издание это пришлось отстаивать в борьбе с Полиграфическим институтом, подробности которой изложены в главке «Подводные камни редакционной работы».
Затем мы еще два раза (в 1976 и 1984 годах) выпускали этот учебник уже в издательстве «Книга».
В 1957 году, понимая, как необходим издательским работникам сборник нормативных документов, и зная, что В.А. изучил их вдоль и поперек, я обратился к нему с просьбой составить такой сборник. Он почему-то отказался. Стараясь добиться его согласия, я прибег к последнему доводу, который расшатал его, казалось бы, непоколебимую позицию. Я сказал ему: «Владимир Александрович! Вот увидите, все издательские работники в спорных случаях всегда будут говорить: “Надо посмотреть Маркуса!” или “Надо заглянуть в Маркуса!”»
В.А. сдался. И в 1958 году наша редакция выпустила составленный им «Справочник нормативных материалов для издательских работников». Он стал незаменимым подспорьем в работе издателей и несколько раз переиздавался в связи с обновлением многих документов. Последнее издание «Книга» выпустила в 1987 году под измененным заглавием – «Нормативные материалы по издательскому делу: Справочник». Мое предсказание сбылось: фамилия составителя стала именем нарицательным, слившись с книгой.
В.А. был человек необычайно живой, горячий, искренно увлеченный своим делом. Писал он, правда, стараясь не отдаляться от текста документов, сотворенных в Госкомиздате и отличавшихся чиновничье-канцелярским стилем, что не могло не сказаться отрицательно на стиле учебника. На мой вкус, лучшим было первое издание, написанное очень просто, без буквалистской опоры на документы.
После того как В.А. вынудили уйти из «Советской энциклопедии», он целиком связал свою жизнь с Московским полиграфическим институтом. Ему было больше семидесяти, когда он защитил кандидатскую диссертацию.
Запомнилось мне собрание в актовом зале на Садовой-Спасской. Институт торжественно отмечал, кажется, 75-летие Владимира Александровича. Кто-то попросил:
– Владимир Александрович, раскройте секрет: как вы сумели сохранить бодрость и завидную работоспособность?
– Я старался воспринимать окружающее с юмором, – ответил юбиляр.
Последние годы работы в МПИ он был деканом художественно-оформительского факультета. Многие художники, учившиеся там, с большим теплом вспоминали его доброе отношение к студентам, его заботу о них.
В частности, Аркадий Троянкер, известный дизайнер, с 1979 по 1987 год работавший главным художником издательства «Книга», вспоминал, как В.А. спас его от исключения из МПИ. Приходилось наблюдать, как искренне радовался встречам с В.А. другой художник, выпускник МПИ Дмитрий Аникеев, несколько лет руководивший отделом художественного оформления «Книги». Его лицо буквально начинало светиться радостью при виде В.А.
Последние годы жизни В.А., когда он уже не работал, мы (неизменный редактор его книг Валентина Федоровна Ларина, заведующая редакцией литературы по книгоиздательскому делу Евгения Васильевна Иванова и я) старались более или менее регулярно навещать его. Он был очень рад нашим встречам. Читал нам свои стихи, рассказывал о прошлом, о знакомстве с Луначарским и его заместителем историком Покровским, принявшим В.А. на работу в Наркомат просвещения, где юный выпускник юрфака университета исполнял обязанности управляющего делами, и давшим ему очень хорошую характеристику во время так называемой чистки. Эту характеристику В.А. нам показывал.
Большое впечатление на нас произвел рассказ В.А. о его конфликте с Н.К. Крупской. Увидев, как теснятся работники руководимого ею отдела в небольшой комнате, при том что она занимает весьма просторный кабинет, В.А. решил восстановить справедливость и провести рокировку помещений. Затея не удалась. Крупская пожаловалась Покровскому на самоуправство В.А., и он вынужден был смириться.
В.А. стал одним из немногих деятелей нашей отрасли, перешагнувшим вековой рубеж.
Когда за несколько лет до его столетия мы были у него и затронули эту тему, он сказал, что не верит в возможность стать таким долгожителем. Но когда ему исполнилось девяносто девять, он с усмешкой произнес:
– Теперь мне уже любопытно дожить до ста лет, узнать, как это выглядит.
Все издатели и полиграфисты торжественно отметили его 100-летие. В день юбилея в его квартире одна делегация издателей и полиграфистов сменяла другую.
В общем, то, что мне в качестве редактора довелось общаться с несколькими нашими преподавателями как с авторами, позволило узнать их ближе и убедиться в том, что учили нас знающие специалисты и хорошие люди. Боюсь только, что тому, кто будет читать эти воспоминания, может показаться, что я больше пишу о себе, чем о наших учителях. Конечно, любому старому человеку хочется, чтобы его заслуги не были забыты. Но хотел я к тому же на примере собственного редакторского сотрудничества с авторами – бывшими преподавателями показать, что не так уж плохо нас обучали редакторской профессии, если мы сумели справиться с редактированием книг своих учителей и заслужили их одобрение.
Машинописный оригинал-макет
Длительность производства книг в стране была слабым местом советского книгоиздания в середине ХХ века. В среднем от сдачи оригинала в типографию до появления сигнального экземпляра отпечатанной книги проходило не менее полугода, а на практике большинство книг рождалось почти целый год.
Как сократить этот срок? В поисках ответа ломали головы многие издатели и полиграфисты.
В конце 1950-х годов один из них, Исаак Борисович Эйдельнант, лишь недавно освободившийся благодаря Хрущеву из заключения, исследовал все этапы производственного процесса и пришел к выводу, что главная причина его длительности – корректурный обмен. Гранки, верстки и сверки подолгу пролеживают на всех этапах и в типографиях, и в издательствах, и это растягивает процесс производства.
Эйдельнант предложил метод, который позволил бы издательствам подписывать оригинал книги в печать и полностью избавил их от корректурного обмена.
Издательства должны были для этого готовить текстовой оригинал в виде машинописного оригинал-макета. Страницы такого оригинала следовало печатать так, чтобы число строк в каждом абзаце соответствовало числу строк в наборе шрифтом намеченных гарнитуры, кегля и начертания, а число строк на странице – числу строк в полосе набора намеченного формата.
Эйдельнант не только предложил этот метод, но и стал его горячо пропагандировать. В 1957 году наша редакция в серии «В помощь редакционно-издательским работникам» выпустила книгу Эйдельнанта «Издание книг по оригинал-макету», изготовленную как раз по этому методу. В ней детально разъяснялось, как готовить машинописный оригинал-макет, если книга с иллюстрациями, как избежать расхождений между числом строк в оригинале и в наборе. В издательствах развернулось движение за выпуск изданий этим методом.
Конечно, лучше всего подходили для издания по такому методу книги текстовые. Я стал горячим поборником метода Эйдельнанта. Мне хотелось как можно быстрее выпустить книги, которые я тогда редактировал: «Писатель и книга. Очерк текстологии» Б.В. Томашевского (М., 1959) и «Редактирование отраслевой литературы. Из опыта работы» Г.Д. Каплана (М., 1961). Первая книга содержала три полосные иллюстрации и две, занимавшие три четверти полосы. Текстовая часть была достаточно сложной: сноски, стихотворные цитаты, петит внутри основного, корпусного текста, наборные схемы, хотя и несложные. Все это не могло не затруднять изготовление оригинал-макета. Тем не менее он был подготовлен и подписан в печать 21 ноября 1958 года, а в производство его сдали, как свидетельствуют выпускные данные, 12 декабря того же года. Вышла книга в 1959 году; месяц выпуска я не отметил, но точно, что это был первый квартал. Не помню, сколько времени ушло на изготовление оригинал-макета. Но в целом производство этой книги заняло меньше времени, чем обычно. Правда, избежать опечаток не удалось.
Благоприятствовало мне то, что к редакции была прикреплена машинистка-надомница, которую я мог детально проинструктировать. Печатать оригинал-макет надо было, не механически придерживаясь среднего числа знаков в строке, а с учетом ее буквенного состава. Если в строке попадались несколько широких или прописных букв, надо было уменьшать ее на 1–2 знака, если же строка, наоборот, содержала только узкие буквы, несколько запятых и точек, число знаков в ней надо было увеличить на 1–2 знака. Так что многое зависело от понимания машинисткой сути задач. Конечно, так перепечатывать правленный редактором оригинал было сложнее.
В подготовке книги Г.Д. Каплана я выполнял роль не только ведущего, но и технического редактора, однако в надвыпускных данных под рубрикой Технический редактор значатся две фамилии: помимо моей еще техреда В. Борисовой, поскольку производственный отдел все же посчитал нужным проконтролировать не свойственную ведущему редактору работу. Из-за этого оригинал поступил в типографию через 9 дней того, как в самом конце января 1961 года оригинал-макет был сдан в производственный отдел, и вышла книга, если мне память не изменяет, в первом квартале того же года. Так что мой опыт можно считать удачным.
И.Б. Эйдельнант, видя тот энтузиазм, с которым я поддерживал его метод, вовлек меня в его пропагандирование. Вместе с замечательным техническим редактором «Искусства» Инессой Георгиевной Румянцевой (впоследствии она была назначена заведующей отделом художественного оформления «Искусства») мы даже выезжали в Ленинград, чтобы поделиться нашим опытом подготовки машинописных оригинал-макетов.
И.Б. Эйдельнант сумел всколыхнуть весь советский издательский мир. Непомерно большие сроки производства книг в самом деле были пороком, бичом издательского производственного процесса в стране. Поэтому Главиздат нацелил издательства на этот метод издания, суливший для некоторой категории книг существенное сокращение сроков выпуска.
Переход на работу по методу машинописного оригинал-макета превратился в нечто вроде общественного движения, своеобразного варианта стахановского метода в издательско-полиграфической отрасли. Движения такого рода вообще характерны для советского образа жизни и работы. Достаточно было кому-то привести более или менее убедительные доводы в пользу того, что нечто является именно тем самым центральным звеном, за которое стоит только потянуть, как оно вытянет из прорыва всю громоздкую цепь производства (отрасли), устранит главные его беды и разрешит проблемы, и руководящие органы развертывали кампанию за повсеместное внедрение этого предложения. Напомню о сквозных бригадах качества, о которых я уже писал раньше.
Кампанейщина вообще была чертой жизни советского общества. Выражалось это и в слоганах для каждой пятилетки («Пятилетка качества» и т. п.). По степени вовлеченности каждого коллектива в очередную кампанию оценивалась работа его самого и его руководителей. Избежать этого было практически невозможно, хотя нередко пользы от кампании было на грош, а бесплодной суеты и пустых потерь времени предостаточно. При этом любопытно, что за нами последовали и другие социалистические страны.
Так, Олег Вадимович Рисс, помня о том, как я приезжал в Ленинград для того, чтобы обучить коллег методу подготовки машинописного оригинал-макета, 05.12.66 писал мне:
Да, чуть не забыл сообщить Вам интересную новость. Наш главный технолог В.А. Урбанович, человек просвещенный, следящий за немецкой полиграфической литературой, рассказал мне, что в ГДР, кажется с 1 января 1967 г., повсеместно переходят на оригинал-макет по нашему (?) примеру, причем разработали подробные методические инструкции для линотипистов, корректоров, редакторов и др. Не придется ли нам через несколько лет ездить за опытом внедрения машинописного оригинал-макета в ГДР?
Теоретически метод должен был сократить сроки производства книг, но на практике все оказалось иначе. Возникли трудности, которые сделали выигрыш в сроках выпуска книги практически несущественным.
Далеко не все типографии способны были силами своих корректорских обеспечить набор без ошибок. Так, в книге Б.В. Томашевского «Писатель и книга» пришлось вклеить список из девяти замеченных опечаток. Поэтому типографии посылали в издательства корректурные оттиски подписанных в печать книг как бы на внутреннюю сверку. Так что корректурный обмен не исчез, он стал лишь меньшим по объему.
Качество самого оригинал-макета не всегда удовлетворяло требованиям, и полосы в наборе оказывались то меньше, то больше по числу строк, чем полагалось. В теории, если машинистка печатала оригинал, придерживаясь среднего числа знаков в строке ± 1–2 знака, то в набранном абзаце число строк должно было быть таким же, как в оригинал-макете, но на практике этого, увы, не получалось. Очень многое зависело от стиля работы линотиписта – тяготел ли он к большим апрошам или, наоборот, к малым[9], а заранее машинистке это, конечно, было неизвестно. К тому же книгу могло набирать несколько линотипистов с разными стилями набора. Короче говоря, очень часто книга, сверстанная по оригинал-макету, требовала технической (технологической) правки, т. е. ожидаемого выигрыша во времени производства не получалось. Корректурной правки было меньше, но она все равно оставалась.
К недостатку метода относилось и то, что автор и редактор лишались возможности видеть свою книгу такой, какой она предстанет перед читателем. Для некоторых авторов и редакторов это означало ущемление их прав, для них совсем небезразличны были даже варианты переносов, качество верстки.
Наконец, книги, подписанные в печать в виде машинописного оригинал-макета, все равно пролеживали без движения на всех этапах наборных процессов. Вызвано это было тем, что в типографиях одновременно велось производство многих книг разных издательств. Не все они могли быть подписаны в печать в оригинале. Книги, подписанные к печати в оригинал-макете, нередко поступали в типографию в один день с обычными оригиналами, подписанными только в набор. «Переварить» их одновременно типография была не в силах, а значит, очередь в наборе и верстке книг не исчезала. Поэтому построить производственный процесс всех книг по единому графику типографии практически могли лишь на бумаге.
Только в случае, если типография искусственно создавала для книг, подписанных в печать в оригинал-макете, внеочередной набор и верстку, производственный цикл их мог сократиться. Но зеленая улица для прохождения таких изданий вела бы только к увеличению срока производства других книг, и средние сроки производства это бы не сократило.
Несмотря на горячую поддержку метода, я не закрывал глаза на его изъяны и принял участие в дискуссии о методе машинописного оригинал-макета, организованной редакцией «Полиграфического производства». В № 5 за 1961 год была напечатана моя статья «Оригинал-макет нужен, но какой?». В ней я ратовал за такой оригинал-макет, какой мы видим сегодня при компьютерном наборе, позволяющем автору читать полосы макета в том виде, в каком их увидит читатель, т. е. набранные тем же шрифтом, с той же разбивкой на строки.
Несмотря на то что предложенный И.Б. Эйдельнантом метод не дал ожидаемых от него результатов, он сыграл безусловно положительную роль, подготовив издателей и полиграфистов к переходу к т. н. репродуцируемому оригинал-макету, когда в издательствах стали изготовлять сначала макеты на электронных печатающих машинах с типографскими шрифтами, а затем и оригинал-макеты, набор которых выполнен на компьютере.
Подводные камни редакционной работы
Редактор советского издательства всегда должен был быть готов к тому, что конкурент издаваемого им автора либо просто его недруг при первом удобном случае начнет строчить письма-жалобы, письма-доносы в высшие инстанции и обвинять этого автора в страшных грехах.
Отмываться от таких обвинений было нелегко. Страдал автор, страдал редактор. Усугублялось их «вина», если корреспондент был не просто конкурентом автора, но конкурентом высокопоставленным, если он занимал должность, позволяющую причинить крупные неприятности или воспрепятствовать изданию книги.
В 1961 году наша редакция выпустила написанную А.И. Ваксбергом по моей просьбе небольшую книгу «Об авторском гонораре». Тут же главный юрисконсульт Главиздата С.М. Сутулов написал начальнику Главиздата А.П. Рыбину письмо-рецензию, в которой доказывал на основе явных придирок, что редакция выпустила брак, вредный для дела. Сутулов был лицом заинтересованным, сам публиковал книги по авторскому праву. Естественно, что его пером двигало не столько стремление указать на якобы низкое качество выпущенной книги, сколько обида от того, что не ему предложили написать книгу на эту тему. Вот он и постарался возвести мелкие упущения в ранг существенных ошибок, чуть ли не пороков.
Мы вместе с Ваксбергом подготовили ответ, в котором многие замечания Сутулова отвергли как малообоснованные. Признавая же справедливость нескольких замечаний, мы аргументировано доказывали, что они не дают права квалифицировать книгу как вредную и ошибочную.
Александр Павлович Рыбин нас принял, выслушал, признал наши доводы состоятельными и дело закрыл. Но пример был показательным и не единственным в моей издательской практике. Особенно опасны были подобные выпады на стадии рецензирования рукописи учебных изданий, когда рецензентами выступали кафедры конкурирующих вузов, например Московского и Львовского полиграфических институтов. Процесс подготовки книги к изданию надолго затягивался из-за необъективности критики.
Другой подводный камень, который нам удалось с большим трудом и не без потерь обойти, касался учебника В.А. Маркуса «Организация и экономика издательского дела».
Когда мы включили в план второе издание этого давно не выпускавшегося учебника, Московский полиграфический институт послал возражения в Министерство высшего и среднего специального образования, предлагая вместо переиздания учебника, материал которого якобы устарел, подготовить новое издание силами авторов с кафедры экономики. А все дело было в том, что пришедший в то время на кафедру Борис Семенович Горбачевский захотел быть автором или соавтором такого учебного издания. Вот он и начал ставить палки в колеса. Однако редакция не пошла у него на поводу.
Во-первых, я, учившийся у Владимира Александровича и считавший его учебный курс самым практичным и дельным, не мог согласиться с такой оценкой книги Маркуса. А что касается устаревшего материала, ни он, ни мы, разумеется, не собирались выпускать книгу без замены такого материала новым.
Во-вторых, Б.С. Горбачевский, редактор по образованию и способный литератор, автор популярных книг, не был экономистом с опытом издательской работы и, значит, скорее всего, мог главным образом компилировать, поэтому его претензии казались нам несостоятельными. Отказ же кафедры МПИ положительно оценить учебник Маркуса мы квалифицировали как корыстное интриганство.
Поскольку получить гриф министерства в этих условиях было невозможно, мы решили выпустить книгу В.А. Маркуса не как учебник или учебное пособие, а как пособие практическое. Для нас такое решение было даже экономически более выгодным, так как номинал на практические пособия был выше, чем на учебные издания.
Механизм ценообразования в книжной сфере был тогда очень простым. Государство установило номинал на 1 учетно-издательский лист книги в зависимости от вида издания. Номинал на учебные издания для высшей школы был 3,2 копейки, а номинал на практические пособия – 4,6 копейки. Основания: учебные издания должны быть дешевыми, доступными для студентов. Это было хорошо для покупателей и плохо для издателей, так как при такой цене книга могла быть безубыточной только при большом тираже, а тиражи наших учебных изданий были малыми, из-за чего издательство несло большие убытки.
А книга Маркуса и без грифа служила учебным изданием, как ни противились Б.С. Горбачевский и под его влиянием кафедра экономики МПИ. Наша правота подтверждается и тем, что следующие издания этой книги выходили с грифом учебника.
Книга Е.С. Лихтенштейна «Редактирование научной книги»
Книга эта обобщала полезный редакционно-издательский опыт автора, в ту пору занимавшего должность главного редактора Издательства АН СССР, но в целом была эклектичной, включала мало связанные между собой главы, была по сути сборником, в который автор поместил даже материалы составленного А.Н. Жилиным для Издательства АН СССР руководства «Подготовка рукописи к изданию» (М., 1950). Конечно, эти материалы обобщали опыт работы издательства, одним из руководителей которого был Ефим Семенович Лихтенштейн, но все же налицо был случай прямого, непереработанного заимствования. Вдобавок речь там шла о редакционно-технических мелочах, относящихся к вычитке. Наконец, трудно было бы объяснить читателю, почему в книгу, названную «Редактирование научной книги», включена глава «Редактирование научно-популярной и научно-фантастической литературы». То есть объяснить было можно: автор ранее публиковал статьи и рецензии на эти темы. Но тогда следовало бы изменить заглавие книги. Поскольку речь шла о редакторском опыте самого Лихтенштейна, возможно, подошло бы заглавие «Редактирование книги. Из опыта редактирования научной, научно-популярной литературы и аппарата книги». Не помню, высказал ли я такое предложение в рабочем редакционном заключении по рукописи, но то, что я обратил в этом заключении внимание на явные недостатки и сделал немало справедливых, думаю, замечаний, – это точно. Однако заведовавший тогда редакцией Г.А. Виноградов предпочел не обострять отношений с маститым автором и решил сам быть издательским ведущим редактором. В качестве внештатного редактора он пригласил (кажется, по предложению самого Лихтенштейна) опытного редактора И.В. Малышева (тот был тогда, если мне не изменяет память, главным редактором Издательства Академии педагогических наук). Когда книга вышла в том виде, в каком ее составил Лихтенштейн, он все же подарил ее мне с многозначительной надписью:
Аркадию Эммануиловичу – воину на книжном фронте. С уважением. Е. Лихтенштейн. 29.02.58.
Воин-то воин, но потерпевший поражение. Большой беды, впрочем, от того, что книга вышла без учета моих замечаний, не произошло. Просто ее можно было значительно, хотя и не кардинально улучшить.
Знакомство с Олегом Вадимовичем Риссом. Его «Беседы о мастерстве корректора»
Задумывать новые по теме или типу книги, привлекать к сотрудничеству с редакцией людей творческих, способных создать ценные работы на редакционно-издательские темы, было для меня самым радостным в моей редакторской работе, приносило наибольшее удовлетворение, тем более что суета редакционных дел была во многом пустой и выматывала своими организационно-техническими пустяками.
Так, не могу не гордиться тем, что нашим автором во многом благодаря мне стал ленинградский журналист Олег Вадимович Рисс, с которым мы сначала вели чисто деловую переписку, а затем стали эпистолярными друзьями. Наша переписка длилась без малого 30 лет (с 1957 по 1986 год – год его кончины).
О судьбе Олега Вадимовича, о его человеческих качествах я сначала написал в послесловии к его книге «У слова стоя на часах» (М., 1989), а затем в составленном на основе нашей переписки подробном, очень большого объема его жизнеописании.[10]
В 1957 году наша редакция готовила к изданию книгу Е.С. Лихтенштейна «Редактирование научной книги», об издании которой я писал выше. Автор – тогда главный редактор Издательства Академии наук СССР – позаботился о том, чтобы полиграфическое исполнение ее взяла на себя подведомственная этому издательству прославленная ленинградская типография № 1. В ней Олег Вадимович Рисс работал в то время корректором. К нему на корректуру попала верстка книги Лихтенштейна. Как человек небезразличный к тому, что он делает, он посчитал необходимым поделиться с нашей редакцией впечатлениями от этой книги и высказал пожелание написать на основе своего опыта работы в типографии АН СССР брошюру о корректуре научной книги, а также предложил выпустить цикл брошюр о корректуре.
Мне его предложение показалось интересным, и в ответ я подготовил письмо, подписанное заведующим редакцией Г.А. Виноградовым (я даже печатал его дома на домашней пишущей машинке), где попросил Олега Вадимовича подробно изложить, каким он мыслит содержание своей брошюры и каким представляет содержание других брошюр цикла. Это было необходимо еще и потому, что редакция готовила к выпуску в 1958 году «Руководство по корректуре» Л.М. Каменецкого, в то время корректора типографии газеты «Известия». Письмо было помечено датой 11 декабря 1957 года. К сожалению, оно не сохранилось.
Олег Вадимович быстро прислал план своей брошюры «Методика корректуры». В ответ 24 декабря 1957 года я написал следующее письмо, подписанное опять-таки заведующим редакцией Г.А. Виноградовым:
Глубокоуважаемый Олег Вадимович!
Ваше письмо и план брошюры «Методика корректуры» получили и с интересом прочитали. Теперь ясно, что мы вплотную подошли к этапу, на котором можно заключать договор, но, прежде чем это сделать, разрешите высказать несколько замечаний.
О форме изложения материала в будущей книге. Нам хотелось бы получить от Вас рукопись не учебно-инструктивной книги, полезной, но в какой-то мере скучной, а рукопись книги-беседы, живой, увлекательной, глубоко интересной беседы старого опытного корректора с молодым, рождающей любовь к профессии, вызывающей гордость за нее. Вы сами высказали такое пожелание. Мы всячески его приветствуем. Это не значит, конечно, что не нужны четкий план и последовательность изложения. И при том плане, который Вы прислали, материал книги может быть изложен в форме живой, непринужденной беседы. Назвать книгу лучше «Беседы старого корректора».
Теперь о самом плане. В целом он не вызывает возражений, но глава 7 «Корректура таблиц и выводов» выпадает из книги. Почему, спросит читатель, автор повел речь только о таблицах и выводах, почему он забыл о других сложных видах набора? Либо нужно вообще отказаться от этой главы, либо ввести главу об особенностях подхода корректора к каждому из сложных видов набора, а не только к таблицам и выводам. В зависимости от решения последнего вопроса будет определяться и объем книги.
Просим Вас высказать свое отношение к нашим замечаниям и сообщить срок, который Вам нужен для создания книги.
В следующем письме Олег Вадимович предложил на выбор несколько заглавий для своей книги, среди которых первым было «Беседы корректора о мастерстве». Мы выбрали его, но несколько подправили, о чем я ему и написал уже от собственного имени:
Из предлагаемых Вами названий нам кажется наиболее подходящим первое, но в несколько измененном виде: «Беседы о мастерстве корректора». Вы легко поймете, чем вызвано это изменение, если сравните два таких названия: «Беседы корректора об искусстве» и «Беседы об искусстве корректора» (07.01.58).
Так было найдено заглавие, под которым книга и вышла. А уже в конце 1958 или в начале 1959 года рукопись «Бесед…» была в нашем распоряжении. Во всяком случае, 18 февраля 1959 года уже в качестве заведующего редакцией я написал автору:
Прежде всего, хотелось бы поздравить Вас с несомненной удачей: рукопись получилась новой, оригинальной по жанру, интересной, живой по изложению. Лучшее в «Беседах…» – подлинная, глубокая увлеченность Ваша своим делом. Эта увлеченность помогает донести до читателя скрытое за будничностью, обыденностью корректорского труда его большое значение, поднять читателя-корректора в собственных глазах, вдохнуть осмысленность в каждый корректорский прием.
В письме содержалось небольшое число частных замечаний. Загруженный другими редакторскими работами и новыми для себя обязанностями заведующего редакцией, я, увы, не стал ведущим редактором книги; готовила ее к изданию В.Ф. Ларина, сделавшая это с любовью к автору и книге.
Так родилась первая книга О.В. Рисса, вышедшая в конце 1959 года. Нас, правда, огорчил низкий уровень ее полиграфического исполнения, но зато обрадовала высокая оценка, которую дали книге К.Г. Паустовский в письме к автору и П.Н. Берков, поместивший похвальную рецензию на нее не где-нибудь, а в журнале «Известия АН СССР. Отделение языка и литературы».
Меня же утешала дарственная надпись автора:
Глубокоуважаемому Аркадию Эммануиловичу Мильчину – одному из «крестных отцов» этой книжечки от признательного автора. Ленинград. 13/II 60.
Поблагодарив Олега Вадимовича за то, что он возвел меня в ранг «крестного», я в заключительной части ответного письма постарался убедить его не прерывать связи с нами:
Куда Вы собираетесь отдать свои новые работы? Нам нужно обязательно продолжать сотрудничество, если у Вас есть желание, конечно. Вы для нас автор желанный. Помните это (18.02.60).
Письмо послужило толчком к продолжению переписки, до этого бывшей только деловой. Сегодня, вспоминая об этом, я радуюсь тому, что сумел инстинктивно ощутить в Риссе скрытые возможности талантливого литератора. А в результате читатели получили еще несколько хороших книг, не теряющих свое значение и сегодня.
Встречи в редакции со знаменитостями
За время работы в редакции запомнились три встречи, точнее наблюдения за тремя выдающимися людьми, посетившими редакцию. К сожалению, я не могу назвать точных дат, так как не вел дневника.
Правда, дату первого посещения, а именно прихода в редакцию замечательного художника Николая Ивановича Пискарева, я могу восстановить по косвенным данным. Это случилось тогда, когда почему-то все сотрудники во главе с Василием Васильевичем Поповым ушли в отпуск, оставив меня, лишь недавно появившегося в редакции, одного. И мне пришлось держать корректуры книг за других редакторов, в том числе подписную корректуру 4-го издания «Общего курса полиграфии» В.В. Попова, и он это отметил в датированной дарственной надписи на книге:
Аркадию Эммануиловичу Мильчину, принявшему много мук при выпуске этой книги, от признательного автора. 5/XI-52 г. В. Попов.
Таким образом, можно более или менее точно сказать, что увидел я Н.И. Пискарева в редакции летом 1952 года. Редакция готовила к выпуску альбом шрифтов московских художников. Составителем и автором вступительной статьи был Абрам Григорьевич Шицгал, а титульным редактором – Пискарев.
Николай Иванович приехал, видимо, откуда-то из Подмосковья. За плечами у него висел вещевой мешок воинского образца. Чертами лица и остроконечной бородкой он напоминал Валерия Брюсова. Поскольку кабинет заведующего редакцией был свободен, я отвел туда Шицгала и Пискарева, чтобы ничто не мешало их работе.
В мнениях и оценках положений статьи они, видимо, расходились. Поначалу я присутствовал при их разговоре-споре. Но затем шумный, крикливый Шицгал очень утомил меня, и я оставил их в кабинете. Из-за закрытой двери доносились яростные крики Абрама Григорьевича и едва слышные тихие возражения Николая Ивановича. Если мне память не изменяет, один раз Пискарев в знак протеста даже сделал попытку уйти, но Шицгал не дал ему это сделать. В конце концов они до чего-то договорились. Сцена эта была из ряда вон и потому прочно засела в памяти.
Жалею, что я тогда не вник в суть разногласий. Имя Пискарева уже тогда было для меня именем большой книжной знаменитости, именем историческим. Поэтому поразил его внешний вид, такой обыденный, такой скромный, казалось бы совершенно не подходящий для человека, вписавшего свое имя в историю русской книги.
Второй знаменитостью, увиденной мною в редакции, был Сергей Владимирович Образцов. В то время театроведческая редакция «Искусства» готовила к изданию его книгу о посещении Японии с впечатлениями о японском театре. Редактор книги Ольга Николаевна Россихина спустилась со своего третьего этажа в нашу редакцию на первом, чтобы посоветоваться со мной об оформлении сложного входа в книгу. Не успел я разобраться, что к чему, как в редакцию вбежал нетерпеливый Образцов, который хотел знать, как проходит консультация и к какому решению мы с Россихиной пришли. С какими трудностями встретился редактор, я в памяти не сохранил, зато увидел, каким любознательным и активным был Сергей Владимирович Образцов.
Третьей знаменитостью, посетившей нашу редакцию, был Корней Иванович Чуковский. Заведовавший тогда редакцией Г.А. Виноградов, видимо с подачи своей жены, профессиональной переводчицы, вынашивал идею издания книги Чуковского об искусстве перевода. Вот Корней Иванович и пришел, чтобы обсудить условия договора. Ничего из этой идеи не вышло. Обязательным условием автора был самый высокий гонорар – 400 р. за авторский лист, невиданный для нашей редакции, да и редчайший даже для редакций искусствоведческих. Это и послужило главным препятствием для издания прекрасной книги, но зато я увидел близко замечательного сказочника, историка литературы и критика. Поразила его привычка постоянно улыбаться, а может быть, точнее сказать, усмехаться. Каждую реплику он произносил с веселой усмешкой. Думаю, что это была такая защитная маска.
Альманах «Искусство книги»
Основатель этого издания – Соломон Бенедиктович Телингатер, один из ведущих советских художников книги. Он задумал, собственно говоря, не альманах, а альбом-ежегодник, который бы демонстрировал в репродукциях лучшие работы художников книги за год. Таким и был первый выпуск «Искусства книги» (М., 1960) – альбом репродукций переплетов, обложек, иллюстраций, признанных лучшими в предшествующем году.
Но затем издание подобного ежегодника застопорилось. Причин, вероятно, было несколько. Подготовить такой альбом было совсем не просто, требовались энергичные действия и финансовая база, а также составитель-энтузиаст или группа таких составителей, способных, не жалея времени, отбирать лучшие работы года, организовать их съемку и т. д.
Однако, как ни удивительно, такие энтузиасты нашлись. За составление второго выпуска «Искусства книги» взялись по собственному почину преподаватель художественно-оформительского факультета МПИ и один из теоретиков художественного оформления книги Воля Николаевич Ляхов и старший редактор редакции литературы по изобразительному искусству искусствовед Юрий Александрович Молок. Принцип альбома-ежегодника они полностью не отвергли, но задумали и подготовили подлинный альманах, который предполагал не только показ лучших работ года, но и искусствоведческий их анализ, обзоры выставок художников книги, портреты выдающихся художников книги, если на год, который был отражен в альманахе, приходился их юбилей. Таким и стал второй выпуск «Искусства книги», вышедший уже в 1961 году. Оформил его художник Б.А. Маркевич. Художник, которого приглашали оформить очередной выпуск альманаха, почитал за честь такую работу, и каждый выпуск был в этом отношении по-своему хорош, не похож на другой.
Союз художников создал общественную редколлегию издания, в которую вошли ведущие художники книги, искусствоведы и представители издательств: Д.А. Шмаринов (председатель), Т.Г. Вебер, А.А. Каменский, Е.И. Коган, К.С. Кравченко, С.Б. Телингатер. С седьмого выпуска в редколлегию был включен Д.С. Бисти. Он практически заменил скончавшегося С.Б. Телингатера. Редколлегия обсуждала состав каждого выпуска, ее члены читали материалы, которые также обсуждались на заседаниях. Мне приходилось принимать участие в этих заседаниях, и должен засвидетельствовать тщательность и обдуманность подхода членов редколлегии к составу и материалам альманаха. У каждого выпуска, начиная с третьего, помимо издательского редактора был ответственный редактор, выбранный редколлегией, – либо ее член, либо искусствовед, так сказать, со стороны (так, редактором шестого выпуска был Ю.Я. Герчук). Альманах выходил до 1987 года; всего вышло десять выпусков.
Очень жаль, что в ХХI веке нет такого издания: не показываются и не подвергаются искусствоведческому анализу лучшие работы, не обобщается и не обсуждается новый опыт.
Мои редакторские работы 1957–1963 годов
«Редакторы книги об опыте своей работы», «Редактор и книга» (1958–1961)
Продолжающийся сборник, первоначально озаглавленный несколько неуклюже «Редакторы книги об опыте своей работы», с третьего выпуска получил более привлекательное заглавие – «Редактор и книга». Я задумал этот сборник, был первым его составителем и редактором и отношу его к плюсам в своей редакторской работе. Он отвечал генеральной идее, которую я положил в основу издания литературы о редактировании и редакторах.
Интуитивно я чувствовал, что не рецепты и не правила способны помочь редакторам овладевать мастерством. Только опыт во всей его конкретности, позволяющий понять, какими условиями были продиктованы действия редактора, почему он в данном случае делал такие, а не иные замечания или предлагал такие, а не иные поправки, послужит настоящим уроком для других редакторов. Копировать же эти действия при редактировании другой работы – значит обречь себя на неудачу, поскольку автор – другой, особенности работы – другие.
Лишь много позднее я прочитал подтверждающую справедливость моих ощущений максиму Эжена Ионеско: «Как ни странно, как ни парадоксально это звучит, но текст должен сам задавать критерии его оценки» (Иностранная литература. 1997. № 10. С. 122).
Редактор, который действует только по правилам и рецептам, утрачивает творческую составляющую в своей работе, становится ремесленником.
Вдохновляла меня на создание сборника статей об опыте редактирования и мысль, что творчески работающие редактор и рецензент – участники не только издательского, но и литературного процесса.
Анализируя и оценивая произведение, предлагаемое к изданию, редактор помогает издательству вынести верное обоснованное решение: издавать – не издавать, и если издавать, то с какими изменениями. Но при этом он в своем заключении порой высказывает замечания и соображения, которые сегодня реализовать невозможно из-за того, что сделать это не по силам данному автору, или не позволяют сроки, или препятствуют индивидуальные особенности произведения. Однако такие замечания и соображения могут пригодиться при создании других произведений подобного рода. Таким образом редакторы и рецензенты могут внести свой вклад в совершенствование литературного процесса. При одном условии: если замечания и соображения редакторов и рецензентов не будут пылиться в архивах, а станут достоянием других редакторов, рецензентов и авторов. Вынести их на свет божий и должны помочь задуманные сборники.
Мысли хорошие, плодотворные. А вот исполнение оказалось слабеньким. По трем причинам.
Причина первая. Реализация замысла требовала от редактора-составителя энергичных действий – походов во многие издательства и редакции, знакомства с редакторами и заведующими редакциями, вдохновенной пропаганды своих идей, чтобы вовлечь в ряды авторов все новых и новых сторонников. Я же, увы, не обладал такими качествами: мешала замкнутая, стеснительная натура. К тому же требовалось подготавливать рукописи к изданию по индивидуальному плану-графику, держать корректуры. А тут еще в ноябре 1958 года меня назначили временно исполняющим обязанности заведующего редакцией.
Причина вторая. Наиболее толковые редакторы предпочитали быть авторами статей и книг по своей специальности, а вовсе не писать о редактировании. Например, искусствовед стремился написать искусствоведческую статью или книгу. И если мне удалось уговорить редактора книг по изобразительному искусству, сотрудника нашего издательства Г.Ю. Стернина написать статью о научном редактировании, то, думаю, только потому, что тогда редакторская работа была ему внове и он интересовался ее влиянием на научную литературу об изобразительном искусстве. Позднее он покинул редакторское кресло и стал известным автором книг и статей о русском искусстве главным образом второй половины ХIХ века.
Причина третья. Для того чтобы написать содержательную статью об опыте редактирования одной или нескольких книг, надо было во время самой работы над книгой или книгами делать выписки, накапливать материал. Вдобавок не каждая книга дает материал для такой статьи, поэтому даже если бы редактор согласился ее написать, свое обещание он мог выполнить далеко не сразу.
Все же на первый выпуск удалось набрать пять статей. Пользовался я для поиска авторов разными средствами. Например, когда главный редактор Издательства Ленинградского университета Б.Д. Летов пришел в редакцию, чтобы выяснить, заинтересованы ли мы в книге «Короленко-редактор», я в ходе беседы попросил его помочь в подыскании в ленинградских издательствах авторов для сборника. В моем архиве сохранилось его письмо ко мне, где он сообщал:
По Вашему поручению я вел переговоры с некоторыми наиболее опытными редакторами ленинградских издательств. Первые результаты переговоров таковы: статьи о работе с молодыми писателями могут дать редакторы с многолетним стажем, работающие в ленинградском отделении издательства «Советский писатель», – Довлатова Маргарита Степановна и Троицкий Александр Александрович. О некоторых особенностях редактирования прозаических произведений может написать редактор того же издательства Всеволод Петрович Воеводин. Интересный материал по упорядочению и модернизации пунктуации в произведениях поэтов-классиков накоплен редакцией «Библиотеки поэта». Статью на эту тему могут дать (в соавторстве) – Ксения Константиновна Бухмейер и Сима Моисеевна Пинус. Писать всем им лучше по адресу издательства: Невский проспект, 28, Дом книги, Ленинградское отделение изд-ва «Советский писатель».
В Ленинградском отделении Детгиза большой опыт накоплен в редакции научно-популярной литературы. Писать о своей интересной работе с авторами могут Лидия Алексеевна Джалалбекова и Григорий Павлович Гроденский. Адрес: Ленинград, набережная Кутузова, д. 6, Дом детской книги, Ленинградское отделение Детгиза.
Буду продолжать переговоры и в других издательствах. Думаю, что заслуживающие внимания люди найдутся в Лениздате, Судпромгизе, Медгизе, Сельхозгизе и других местах. О результатах буду сообщать по мере того, как достигну каких-либо положительных результатов. В первую очередь собираюсь обратиться в Ленинградское отделение Издательства Академии наук. Там есть редакторы с «монументальным» опытом…
К сожалению, письмо не датировано, а конверт не сохранился. Но судя по тому, что Г.П. Гроденский откликнулся на призыв и прислал статью «Редактирование переработанного издания (6–9-е издания “Лесной газеты”)», опубликованную в первом выпуске сборника, а во втором выпуске появилась статья ленинградского редактора А. Девеля «Проблема заглавия», усилия Б.Д. Летова не пропали даром. В третьем выпуске были опубликованы статьи ленинградских редакторов В. Браиловского (Издательство АН СССР) «Редактирование литературоведческих изданий» и Д. Шехурина «Ясность и доступность изложения (Из опыта работы над научно-технической статьей)».
Почему не сложилось с другими названными Б.Д. Летовым потенциальными авторами, не помню. Но знакомство с В. Браиловским натолкнуло меня на мысль организовать общественную редколлегию из ленинградских редакторов для подготовки сборника статей их коллег из разных ленинградских издательств. Он согласился быть председателем такой редколлегии. И в результате пятый выпуск сборника вышел с таким текстом на обороте титульного листа:
Статьи ленинградских авторов (А. Бессмертного, Г. Мишкевича, А. Лепина, А. Ляпуновой) подготовлены общественной редколлегией ленинградского отделения Союза журналистов в составе: В.А. Браиловский (председатель), Г.П. Гроденский и К.Ф. Куликова.
Мы не могли просто указать состав редколлегии, потому что в сборник вошли и две статьи московских авторов.
Вот так, встречаясь с авторами издаваемых нами или предлагаемых ими к изданию книг, я с их помощью заказывал статьи для сборника.
Делал попытки и я сам. Например, прочитав статью Ф.И. Панферова о большой работе редакторов журнала «Октябрь», я созвонился с ним и попросил принять меня. Мне хотелось получить не только статьи, но и тексты с редакторской правкой из архива редакции. Встреча в редакции «Октября» состоялась. Но разговор ничего не дал. Об архиве они (в разговоре участвовал член редколлегии журнала И. Падерин) ничего путного сказать не могли, да и рекомендовать авторов для сборника не стали. Так что ушел я ни с чем.
Все же мой круг общения был слишком узким для решения тех задач, которые я возлагал на сборник. Особенно бледным оказался первый выпуск.
Только две статьи в нем были по-настоящему содержательными и полезными: Г. Стернина «Оценка рукописи научной книги. Некоторые наблюдения редактора искусствоведческой литературы» и Г. Гроденского «Редактирование переработанного издания».
Г. Стернин, мой коллега по издательству «Искусство», не выходил за рамки своей науки, опирался только на материал научных книг по изоискусству, но его выводы были вполне применимы для оценки научных книг других отраслей знаний.
Г. Гроденский делился полезным опытом работы редактора над переизданием хорошей книги, намечая круг редакторских действий при таком виде работы.
Остальные же статьи были очень слабыми. И понятно почему. Можно сколько угодно обобщать действия редакторов, которые готовили и редактировали брошюры об опыте партийной работы, все равно брошюры эти ничего, кроме тоски зеленой, у читателя не вызывали. Да и при всей правильности ведущего тезиса статьи двух редакторов Политиздата Украины (от авторов нужно добиваться конкретности и убедительности) брошюры, которые они величайшими усилиями созидали, оставались казенными, пустыми и неинтересными, написанными таким же стертым языком, как и статьи о практике редакторской работы над ними. И тут ничего поделать было невозможно. Единственная польза этой статьи заключалась в том, что она защищала сборник от обвинений в аполитичности.
Более живой была статья редактора Харьковского областного издательства Я. Донского «Из опыта редактирования книг новаторов производства», но и она не слишком возвышалась над газетными статьями о передовом опыте рабочих.
Толковая и полезная статья А. Гусева «Об изучении зарубежного книжного рынка и отборе иностранных книг для перевода и издания» могла быть использована лишь узким кругом редакторов.
Все же первый выпуск был ценен тем, что положил начало этому изданию. Я пользовался малейшей возможностью, чтобы привлечь к участию в сборнике новых авторов. Вот характерный пример из моего письма к О.В. Риссу:
Когда Валентина Федоровна [Ларина – редактор книги Рисса «Беседы о мастерстве корректора»] была в Ленинграде, Вы, кажется, познакомили ее с заместителем главного редактора Лениздата (фамилию я забыл), которому мы по возвращении Валентины Федоровны в Москву послали пространное письмо с просьбой принять участие в наших сборниках «Редакторы книги об опыте своей работы» и сам сборник (первый выпуск). Но ответа до сих пор нет. Если Вам не трудно, узнайте, пожалуйста, можем ли мы рассчитывать на силы Лениздата в этом отношении. В письме сообщался и перечень тем, и задачи, которые мы ставим перед сборником.
Второй сборник, вышедший через два года после первого, по качеству и содержательности значительно его превосходил. Некоторые статьи в этом выпуске и сегодня не потеряли свою актуальность и заслуживают того, чтобы войти в списки литературы для тех, кто обучается профессии редактора. Заметки редактора серии «Жизнь замечательных людей» Г. Померанцевой полны тонкими наблюдениями, очень ценными для правильной постановки работы редактора с автором. В статье заведующего редакцией сельскохозяйственной литературы издательства «Московский рабочий» Б. Кобрина «Успех сельскохозяйственной книги. Из практики редактора» проанализированы типичные пороки литературы такого рода – обилие общих мест, несоответствие текста читательскому назначению издания и т. д. Причем сделано это с опорой на большой фактический материал и разбор текстов. Полезны были и другие статьи – о редакционной подготовке переводных монографий в области естественных наук и техники, об особенностях маршрутных путеводителей, о выборе заглавия для книг. Впервые были расширены жанровые рамки материалов сборника – помещена рецензия на книгу редактора.
Сборники об опыте редакторской работы стимулировали появление не только новых статей, но и книг. Так, статья Б. Кобрина подтолкнула редактора Сельхозгиза Г.Д. Каплана, обладавшего многолетним редакторским опытом, к тому, чтобы предложить нашей редакции книгу «Редактирование отраслевой литературы». Сначала Каплан появился в редакции с карточками из своей картотеки: на карточки он в течение многих лет выписывал из редактируемых рукописей тексты с изъянами и варианты избавления от них с анализом причин и доказательством того, что это действительно изъяны. Поскольку это, как правило, были типичные случаи, то они приобретали значение учебных. Подобными изъянами пестрели тексты многих книг. Каплан предложил систематизировать их, осмыслить так, чтобы от частных случаев подняться до общих выводов. Мы охотно приняли это предложение, и в 1961 году его книга вышла в свет. К величайшему сожалению, автор скончался незадолго до ее выхода. На переплете книги Каплана художник в качестве эмблемы поместил заглавие сборника «Редакторы книги об опыте своей работы» и тем самым поставил книгу в один ряд с этими сборниками. В четвертом выпуске сборника (уже под новым заглавием «Редактор и книга») мы поместили статью Б. Кобрина, в которой он, отдавая должное всему полезному, что было в книге, полемизировал с некоторыми принципиальными положениями автора, весьма важными для понимания задач и содержания редактирования.
Первые два выпуска сборника не остались незамеченными. Главный редактор сборника «Книга. Исследования и материалы» Н.М. Сикорский опубликовал в этом сборнике (М., 1962. Сб. 6) рецензию «Обобщение опыта редакторов книги», в целом одобрительную, но все же содержавшую упрек, что при всей полезности статьи не достигают той цели, которую ставила перед собой редакция, а именно: авторы все же не делают шаг вперед от повседневной редакционной практики к теории, к глубокому осмыслению своей деятельности.
Мы с Сикорским по-разному понимали, что такое теоретические обобщения в статьях об опыте редактирования.
Его как педагога интересовали некие общие принципы, учебные формулировки, объясняющие, как надо действовать.
Меня и многих редакторов – отчего данная книга после ее анализа и оценки стала лучше и что конкретно может последующую подобную книгу сделать еще лучше.
Это не значит, что я не видел слабости сборников, наличие в них проходных статей. Но важно было уже то, что получила воплощение сама идея обнародовать редакторский опыт.
Вышедшие в 1962 и 1963 годах третий и четвертый выпуски сборника с измененным заглавием существенно отличались от первых двух. В них появились статьи писателей, критиков, литературоведов. Они писали об острых проблемах редакционно-издательского дела, но состав авторов уже не позволял называть сборники «Редакторы книги об опыте своей работы». Отсюда и поиск нового заглавия, которое открывало бы страницы сборника для всех творцов книги – не только редакторов, но также и авторов, и рецензентов.
Уже третий выпуск сборника был более разнообразным по составу авторов и содержанию. В нем были опубликованы работы писателя В. Вересаева, критика Б. Сарнова, литературоведа Б. Эйхенбаума. В статьях двух первых с большой остротой заявлялось о недопустимости произвольного вмешательства редактора в авторский текст. Архивист Е. Коншина опубликовала текст рассказа В.Г. Короленко «Лес шумит» с редакторской правкой А.П. Чехова (Чехов правил рассказ не для печати, а для самого себя и многое сокращал).
В то же время в сборнике сохранялся раздел «Редакторы об опыте своей работы», что было принципиально важно. Как ни странно, это лишь осложняло подготовку сборников к изданию, так как статьи тех редакторов, что сами вызвались их писать, нередко были очень сырыми и не отвечали задачам сборника. Казалось бы, статьи редакторов можно сразу подписывать в набор. На самом деле это было не так.
Больших совместных усилий автора и редактора, т. е. моего, потребовала, например, статья опытного редактора Госполитиздата П.А. Павелкина «Работа редактора над рукописью общественно-политической книги». Когда после долгих проволочек из-за болезни Павелкин представил рукопись статьи, то мои рабочие замечания по ней заняли 16 машинописных страниц, напечатанных через один интервал.
Статья была написана как очень краткий курс лекций для начинающих редакторов, не имеющих никакого представления о редакционной работе, хотя сборник об опыте работы не учебное пособие. Кроме того, материал статьи был недостаточно систематизирован: много повторов, материал на одну тему разбросан в разных местах, есть отклонения от темы и т. п. Все это было следствием неудачной композиции и отсутствия четкого плана – всего того, с чем автор сам воевал в своей статье. Павелкин принял все мои замечания и, прислав рукопись после доработки, написал мне:
С большинством Ваших замечаний я согласен и постарался учесть их в процессе доработки. Нужно было на полтора-два месяца отойти от рукописи, чтобы при новом чтении стали ясны ее недостатки. А Вы своей критикой помогли мне лучше понять недостатки и подметить и такие, мимо которых я мог пройти.
Правда, дальше в письме шли возражения против некоторых частных замечаний. После того как я поработал со статьей, возникла необходимость встретиться с автором, чтобы снять некоторые вопросы. П.А. Павелкин предложил для ускорения не вызывать его в Москву, а приехать к нему на дачу в Кратово, что я и сделал. Мы пришли к согласию, и статья была напечатана. Я написал обо всем этом только для того, чтобы показать, как непросто было редактору готовить к печати статьи других редакторов.
Не меньше хлопот потребовала еще одна статья из третьего выпуска – Д.Е. Шехурина. Объем моих рабочих замечаний – 18 страниц машинописного текста через полтора интервала. Во-первых, статья намного и совершенно неоправданно превышала договорный объем (5,5 авторского листа вместо трех). Во-вторых, так же как Павелкин, Шехурин включил в статью материал, уместный только в учебном пособии, но не подходящий для статьи по обмену опытом, а также многое, вовсе не относящееся к теме.
Хоть и со скрипом, автор согласился с моими замечаниями. Мне пришлось основательно над ней поработать, и несмотря на то, что автор не со всеми моими поправками был согласен, он написал мне:
…вообще статья отредактирована очень хорошо, за что я Вам искренно признателен (18.06.61).
Выпуск четвертого сборника «Редактор и книга» был еще более разнообразным, чем третий. В нем появились разделы «Оценка рукописи художественного произведения», «Обсуждаем проблемы редакторского труда», «Писатели-редакторы», «Организация редакционной работы», «Редакционно-издательская техника». Многие статьи (Л. Чуковской, Ст. Рассадина, Б. Кобрина, Ф. Левина, Ю. Тимофеева) были остро полемичными. Сборник раскрывал редакторский опыт М. Горького, П. Павленко, С. Маршака.
В дальнейшем сборники «Редактор и книга» выходили нерегулярно (вып. 5 – в 1965 году; вып. 6 – в 1973 году; вып. 7 – в 1975 году; вып. 8 – в 1979 году; вып. 9 – в 1982 году; вып. 10 – в 1986 году). На десятом выпуске сборники прекратили свое существование. Перегруженный своими обязанностями заместителя главного редактора, а затем главного редактора издательства, я уже не мог принимать в их подготовке непосредственного участия, хотя и подталкивал редакцию к их продолжению и даже писал для них статьи (о библиографических ссылках – в вып. 5, об издательской культуре – в вып. 9), привлек некоторых авторов.
Я старался не оставлять своими заботами литературу для редакторов вообще и сборник «Редактор и книга» в частности. Так, ради того, чтобы поспособствовать его возрождению, я написал О.В. Риссу, который в это время служил корректором в редакции журнала «Звезда»:
Я бы хотел просить Вас исподволь готовить материалы для статьи в сборнике «Редактор и книга» с обобщением материала по фактическим ошибкам, которые допускают авторы, на основе контрольного чтения «Звезды». Какие бывают типы фактических ошибок. Некая практическая классификация. Почему и когда их пропускают или допускают. По каким признакам узнавать необходимость проверки (что проверять) и т. д. и т. п. Все-таки в книге это осталось в значительной мере за бортом. Может быть, и другой вариант статьи – статья-рецензия на чью-либо редакторскую работу над фактическим материалом конкретной книги или нескольких конкретных книг. Что не сделал и что должен был сделать редактор этих конкретных книг. Но это не спешно, и я затеял разговор только для того, чтобы вы думали о такой возможности и могли собирать материал для очень важного выступления в профессиональной печати. Сборники «Редактор и книга» надо возродить обязательно (12.08.77).
А после того, как в 1985 году меня вынудили уйти на пенсию, я и вовсе ничего не мог сделать для того, чтобы сборники продолжали выходить, тем более что времена изменились.
Однако и сегодня во многих статьях из разных выпусков сборника современные редакторы найдут немало того, что может обогатить их понимание собственной работы.
Сборник «Редактор и книга» – предмет моей гордости. Может быть, он и не сыграл значительной роли в истории отечественного издательского дела, но все же он помог утвердить важную мысль, что редактор – это профессия. Он повышал авторитет редактора не только содержанием своих материалов, но даже самим своим появлением и существованием. Он поднимал планку требований к редактору, боролся против извращений в редакторской работе, защищал одно из важнейших прав автора – право на защиту произведения от всякого искажения. Думаю, что лучшие его выпуски (третий и четвертый) рождены всей общественной атмосферой того времени, получившей название оттепели.
Сборник удостоился похвалы и краткого разбора Лидии Корнеевны Чуковской, о чем я узнал только теперь, в 2011 году, из ее писем к Л. Пантелееву. Отвечая на вопрос Пантелеева: «Кто такой Мильчин?» – она 3 августа 1962 года сообщает ему:
…это редактор моей книги [ «В лаборатории редактора»]. В третьем сборнике замечательная статья Сарнова, интересные материалы из архива Чехова, Короленко, Вересаева, Эйхенбаума – и несколько статей совершенно безграмотных. В сборнике четвертом будут воспоминания о С[амуиле] Я[ковлевиче]: Шварца, Григорьева (!!!), Золотовского (!), Рахтанова, Будогоской (Шварц великолепен; Григорьев, к моему удивлению, толков; Золотовский глуп; Будогоская бледновата; Рахтанов ленив, т. е. хочет вспомнить да ленится).
А вот в 5 № Мильчин мечтает поместить отрывок из Вашего письма о редакторе, который я Вам пошлю.
<…> Сборники эти – дело полезное.
В 4-м будет моя статья «Процесс прохождения» (полный вариант того, что было в «Лит. газете»). <…>
От С[амуила]Я[ковлевича] хорошее письмо. И он пишет для Мильчина воспоминания о редакции (Пантелеев Л. Переписка, 1929–1987 / Л. Пантелеев, Л. Чуковская. М., 2011. С. 201; далее эта переписка цитируется с указанием в скобках страницы).
В другом письме к Пантелееву, от 18 декабря 1962 года, Лидия Корнеевна делает попытку и его привлечь к участию в сборнике «Редактор и книга»:
Между прочим, Мильчин, мой редактор, мечтает о том, чтобы Вы написали для сборника «Редактор и книга» статью о губительности редактирования, изымающего «грубости», об уничтожении ритма и т. д. Если Вы склонны – он напишет Вам сам (С. 204).
Пантелеев ответил 26 декабря 1962 года:
Относительно Мильчина – не надо сейчас. Если выберу время и захочется написать – сообщу ему, если разрешите, через Вас (С. 205).
Попытка привлечь к участию в сборнике «Редактор и книга» С.Я. Маршака
В сборнике «Редактор и книга» не удалось опубликовать заказанные нами С.Я. Маршаку для сборника заметки и воспоминания о его редакторской работе. Он не успел их закончить, но все-таки благодаря Л.К. Чуковской и нашему заказу стал их писать, и в незавершенном виде они были опубликованы его сыном в «Новом мире» (1968. № 9).
Лидия Корнеевна, чью книгу и статьи я редактировал, рассказывала Самуилу Яковлевичу обо мне и сборнике. Поэтому мне посчастливилось познакомиться с ним и получить его согласие написать очерк о редакции, которой он руководил в Ленинграде, что было закреплено посылкой письма-заказа издательства.
Было это в 1961–1962 годах, когда готовился к изданию тот самый четвертый выпуск сборника «Редактор и книга», в который вошла подборка воспоминаний «О редакторском искусстве Маршака», составленная В.И. Глоцером. Владимира Иосифовича Глоцера я поддержал в начале его литературного пути – напечатал его рецензию, поспособствовал тому, чтобы он получил командировку от издательства в Ленинград для беседы с теми, кому помог стать писателями блистательный редактор С.Я. Маршак. Результатом этих бесед и стала подборка о Маршаке-редакторе.
Что я не преувеличиваю свою роль в творческой жизни Глоцера, он подтвердил сам. Когда в 1964 году у него вышла книга «Дети пишут стихи», книга очень хорошая, он подарил мне ее с надписью:
Моя жизнь была бы вдвое хуже, если б я не знал Вас.
Дорогому Аркадию Эммануиловичу Мильчину с любовью.
В. Глоцер. 12.8.64.Позже поддержал я и замысел Владимира Иосифовича записать рассказы выдающихся художников детской книги о своем творчестве. Он снова получил командировку от издательства в Ленинград и напечатал некоторые из этих рассказов в альманахе «Искусство книги», а затем выпустил отдельную книгу «Художники детской книги о себе и своем искусстве» (М., 1987), ценную для истории оформления и иллюстрирования нашей детской книги. На ней он написал:
Аркадию Эммануиловичу Мильчину, издателю и человеку, с любовью. Никто не сделал столько для этой книги, как Вы.
Владимир Глоцер. 7.IV.1988 г.А ведь Глоцер славился своим дурным характером, из-за которого ссорился со многими издателями и редакторами.
Но я сильно забежал вперед.
Составляли и редактировали четвертый выпуск «Редактора и книги» мы вместе с Эдвардой Борисовной Кузьминой. Назначенный тогда исполняющим обязанности заведующего редакцией, я, естественно, не мог все свое время отдавать редакторской работе и нуждался в соредакторе-помощнике. Им и стала Кузьмина, человек литературно одаренный, деятельный и к тому же обладающий хорошими связями в литературных кругах.
Вместе с ней мы и побывали у Маршака в доме на улице Чкалова. Причину нашего визита не помню. Скорее всего, он был связан с необходимостью определиться со сроками получения статьи Самуила Яковлевича.
Сам визит запомнился очень хорошо, потому что именно тогда Твардовский прислал Маршаку, как члену редколлегии «Нового мира», гранки повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Самуил Яковлевич находился в тот день под таким сильным впечатлением от повести, что ему во что бы то ни стало надо было поделиться своим восхищением. Подвернулись в тот миг мы, и он стал читать нам своим глухим, хрипловатым, чуть задыхающимся голосом сцену кладки кирпичной стены.
У меня сохранилось лишь одно из двух адресованных нам писем Маршака, связанное с переговорами о статье для сборника. Первое либо утрачено, либо попало в архив редакции. В нем Самуил Яковлевич в ответ на наши мольбы прислать статью пенял нам за то, что мы вступили в члены «Общества уничтожения Маршака».
Именно на эти упреки мы с Э.Б. Кузьминой отозвались следующим письмом, копия которого у меня сохранилась:
5 июля 1962 г.Дорогой Самуил Яковлевич!
Хотя Вы и зачислили нас в «Общество уничтожения Маршака», мы, как видите, не стали его активными членами. И не будем. Однако напомнить о себе и своей просьбе мы обязаны. Что поделаешь – очень нужна Ваша статья. Очень. И нам, и особенно читателям сборника «Редактор и книга».
Мы от души надеемся, что в Крыму Вы чувствуете себя лучше. Так ли это? Вопрос о самочувствии, поверьте, не ради формы. Как очень плохие члены злополучного «общества» мы думаем о Вас по-человечески, а не как настырные издатели.
Всего доброго, Самуил Яковлевич!
Ждем от Вас утешительных вестей.
А. Мильчин и Э. Кузьмина.
Ответ на это наше письмо задерживался, и я вынужден был повторно напомнить о себе:
25 августа 1962 г.Дорогой Самуил Яковлевич!
Не знаю, получили ли Вы мое письмо месячной давности. Возможно, оно затерялось. Так или иначе, хотелось бы знать, сможете ли Вы статью о редакции детской литературы закончить в самое ближайшее время. Сборник готов, и дело только за Вами. Пускать без Вашей статьи нельзя. И задерживать очень трудно.
Что делать, Самуил Яковлевич?
Очень прошу Вас ответить, а еще лучше – вместо ответа прислать статью.
Всего Вам доброго! И простите за приставание: такая уж у нас судьба, у редакторов.
На это письмо Самуил Яковлевич ответил:
Крым. Ялта. Судейский пер., 5
Дом писателей им. Чехова
4–IX–1962 г
Дорогой Аркадий Эммануилович!
Статью свою я написал примерно до половины, но не знаю, удастся ли мне закончить ее в течение месяца. Я еще очень слаб и немощен после двух лет тяжелой болезни. Поработав полчаса, я вынужден ложиться, прерывая иной раз статью на полуслове. А тут еще меня бомбардируют письмами секретари Союза писателей, требующие от меня к концу сентября – к октябрю выступления на предстоящем совещании и пленуме.
Не знаю, что Вам посоветовать.
Очевидно, надо выпускать Ваш сборник без моей статьи или ждать ее месяц – два.
Решите сами.
Очень не хочется мне комкать статью, которая уже переросла намеченные ранее размеры. Да и надрывать здоровье непосильной срочной работой в моем возрасте непозволительно.
Я знаю, как горячо и ревностно Вы относитесь к своему делу, и мне очень не хочется огорчать Вас.
Но было бы очень плохо, если бы спешкой я статью испортил.
Может быть, дать ее в одном из следующих сборников, если Вы намерены и в дальнейшем издавать книги о редакторской работе?
Напишите мне.
Крепко жму руку.
Ваш С. Маршак.Пришлось выпускать сборник без статьи Самуила Яковлевича – статьи, которая должна была стать его украшением. Тогда это нас огорчило безумно.
Позднее я побывал у Самуила Яковлевича дома еще раз. Кажется, по его приглашению. Он был болен и принимал меня, лежа в постели. Разговор носил общий характер и касался главным образом тех дел, которые тогда занимали Самуила Яковлевича. На прощание он подарил мне книгу своих стихов с дарственной надписью.
Вскоре С.Я. Маршак скончался, и стало ясно, что нашей мечте о публикации его статьи в сборнике «Редактор и книга» не суждено сбыться. Нам ведь не было известно, годится ли для печати написанная часть статьи.
А когда сын Самуила Яковлевича опубликовал эту часть под названием «Дом, увенчанный глобусом» в «Новом мире» (1968, № 9), было обидно, что он ни словом не обмолвился о том, для какого издания она готовилась. Но позднее, когда время притупило эмоции, мы не могли не признать – главное свое дело мы сделали. Без Лидии Корнеевны и нас эта статья скорее всего вообще не была бы написана.
«Редактирование таблиц» А.Э. Мильчина и М.Д. Штейнгарта
Почему эту свою соавторскую работу я включил в число редакторских?
По той простой причине, что она была одновременно и авторской, и редакторской.
Перечитывая письма ко мне Олега Вадимовича Рисса, я натолкнулся на такое место в письме от 27.10.66:
…Ваша старая книжица «Редактирование таблиц» пользуется популярностью у нас [в типографии им. Володарского] в наборном цехе (стр. 113–124, глава «Основные технико-орфографические правила»). Вчера заместительница начальника цеха опять просила ее принести. Вот бы выпустить справочную книгу и для наборщиков! Не секрет, что технико-орфографические правила не совсем удачно составлены, и многих важных практических сведений в них нет.
Конечно, это еще раз доставило удовлетворение: книга оказалась полезной не только тем, кому она прямо была адресована, – редакторам и авторам. И тут же вспомнилась вся история написания этой первой моей книги.
Авторов у нее, правда, два. Второй – Михаил Давидович Штейнгарт. Идея выпустить такую книгу принадлежит как раз ему. Он, редактор Машгиза, учившийся в Московском заочном полиграфическом институте, написал на эту тему дипломную работу и принес ее в нашу редакцию, так как институт рекомендовал ее к изданию.
Когда я познакомился с этой работой, то пришел к выводу, что хотя в ней есть полезные вещи, но до полноценной книги она явно не дотягивает. В своем заключении я постарался сформулировать условия-требования, при которых она могла быть принята к изданию. При этом я опирался на собственный редакторский опыт. В книгах по полиграфии, которые я редактировал, было немало таблиц, и я, анализируя и оценивая их, не мог не видеть некоторых типичных недостатков в их содержании, построении и оформлении. И пытался найти способы эти недочеты устранить. Таким образом, у меня накопился некоторый опыт и материал, который мог основательно расширить содержание книги, предлагаемой к изданию М.Д. Штейнгартом, и восполнить пробелы в его рукописи.
Кроме того, когда я, испытывая неудовлетворенность таблицами в редактируемых книгах, стал искать в литературе советы, как их улучшить, то ничего не нашел. Все написанное и напечатанное не было нацелено на практическую авторскую и редакторскую работу. Более того, содержало ошибочные рекомендации.
Я предложил заключить с М.Д. Штейнгартом договор после того, как он представит в редакцию переработанный с учетом моих замечаний план-проспект. Он это сделал, и договор с ним был заключен. Но когда настал срок представления рукописи, Михаил Давидович пришел с повинной. Он написал только часть работы, а его некстати призывают на офицерские сборы и несколько месяцев он не сможет заниматься рукописью. Поэтому он предложил мне закончить рукопись в качестве соавтора.
Дело это было деликатное: мое согласие могло быть истолковано как использование служебного положения в корыстных целях. Конечно, это совершенно не соответствовало истине. М.Д. Штейнгарта никто не вынуждал делать такое предложение. Такой выход он придумал сам. А в том, что я могу обогатить рукопись с пользой для дела, у меня сомнений не было. К тому же выпущенная в 1954 году книжечка И.Ф. Бельчикова «Редактирование табличного материала» не выдерживала никакой критики, позорила редакцию. Автор, преподаватель курса технического редактирования, писал, собственно, о техническом оформлении таблиц. Когда же касался существа табличной формы, то обнаруживал полное ее непонимание. И как ведущий редактор литературы по книгоиздательскому делу я чувствовал свой долг – дать редакторам и авторам книгу, которая бы выправила ошибки и недостатки книжечки И.Ф. Бельчикова.
В «Лекциях по теории и практике редактирования» (М., 1956. Вып. 1) статью «Редакционная обработка таблиц» напечатал Е.С. Лихтенштейн, тогда главный редактор Издательства АН СССР и преподаватель МЗПИ. Эта статья также была далека от насущных практических запросов редакторов и авторов. Прочитав ее, я записал на последней странице такое резюме:
Многие вопросы оставлены без ответа: Как определить редактору, необходима ли таблица или без нее можно обойтись? – Какие таблицы лучше переводить в графики или диаграммы? – Какие бывают таблицы по содержанию и построению (виды их)? – Какие в связи с этим предъявляются к ним требования? – Когда необходима перестройка таблиц? – Как ее осуществить? – Возможно ли свободно менять боковик на головку и наоборот? – Как обрабатывать текстовые таблицы? – Какие существуют виды выводов, их построение и требования к ним в связи с этим?
Подобные вопросы я задавал самому себе, редактируя рукописи книг нашей редакции. И старался сам отыскать ответ, который бы позволил улучшить таблицы и выводы, сделать их такими, чтобы читатель сразу схватывал их суть и лишь потом наводил частные справки.
Заведующий нашей редакцией Г.А. Виноградов посоветовал Штейнгарту обратиться с просьбой о соавторстве к директору издательства. Копия этого заявления у меня сохранилась. В нем Штейнгарт излагал обстоятельства, не позволяющие ему завершить работу над рукописью, и сообщал, что попросил меня стать его соавтором. Кончалось заявление так:
В дополнительном соглашении прошу предусмотреть следующее распределение гонорара:
1. Штейнгарту М.Д. – 2/3 гонорара.
2. Мильчину А.Э. – 1/3 гонорара.
Прошу обратить внимание на то, что мое обращение с изложенной просьбой к А.Э. Мильчину вызвано уверенностью, что его знания в области редактирования таблиц позволят ему завершить работу над рукописью. Других компетентных в этой области товарищей, которые могли бы проделать указанную работу, я не знаю.
10 января 1957. ШтейнгартДиректор «Искусства» К.С. Кузаков против моего соавторства не возражал, и издательство заключило дополнительное соглашение к договору с М.Д. Штейнгартом, причем гонорар в нем был распределен не так, как предлагал Штейнгарт, а в равных долях. Объясняется это тем, что практически всю книгу писал я, а из его дипломной работы взял только некоторые примеры и его комментарии к ним. Книга была выстроена мною по-новому. Если посчитать объем примеров, которые я нашел в книгах по издательскому делу и полиграфии, то он составит по крайней мере две трети общего объема. Примеры подбирались для иллюстрации и доказательства тех положений, которые могли бы помочь редакторам правильно анализировать и оценивать таблицы.
Многое тогда нащупывалось как бы в темноте, интуитивно. Но книга быстро завоевала популярность. На нее были напечатаны в общем похвальные отзывы.
Любопытно, что когда в «Книжном деле» (1994. № 1) печаталась беседа со мной, то во врезке беседовавшая со мной Инна Рахманина написала, что когда она сказала своему коллеге, что едет беседовать со мной, тот очень удивился: «Сколько же лет Мильчину? Ведь я начинающим редактором чуть ли не сорок лет назад учился по его книге редактировать таблицы» (с. 54).
Мне тогда шел 34-й год, и действительно с тех пор (т. е. с 1958 года) прошло почти сорок лет. А когда Рахманина беседовала со мной, мне шел 70-й год.
В дальнейшем я продолжил свои исследования таблиц и на основе книги «Редактирование таблиц» и новых материалов написал главу для «Справочной книги корректора и редактора» (М., 1974). Эту главу с дополнениями я перепечатывал в последующих справочных изданиях для авторов и редакторов с моим участием, в том числе в последнем «Справочнике издателя и автора» (М., 2008). В ней рекомендации формулировались гораздо более отчетливо. Поэтому когда М.Д. Штейнгарт подал уже в издательство «Книга» заявление с предложением переиздать нашу с ним книгу, я его не поддержал. Ничего нового переиздание этой книги читателю дать не могло и вдобавок оказалось бы убыточным, так как тираж вряд ли превысил бы 3000 экз.
В «Редактировании таблиц» уже содержались зернышки последующих моих книг и статей. Книга показывала, какие функции и каким образом выполняют таблицы, при каких условиях они полностью удовлетворяют читателя, а при каких читатель сталкивается с препятствиями и трудностями. Она советовала, как этих препятствий и трудностей избежать.
Функциональный подход стал инструментом не только редакторской, но и авторской моей работы.
Взять элемент текста или издания и посмотреть, каким он предстает во многих десятках книг. Затем проанализировать, в каких случаях и почему этот элемент не может удовлетворить читателя, а в каких, наоборот, найденные автором и издателем решения удачны – все для того, чтобы посоветовать автору и редактору, как нужно действовать в тех или иных случаях.
«Писатель и книга» Б.В. Томашевского[11]
Став ответственным за выпуск литературы по издательскому делу, одной из главных своих задач я считал издание книг о работе редактора и редактировании как профессиональной деятельности. Таких книг тогда было очень мало, да и те, что были, как я уже писал выше, касались главным образом технической стороны редакторской работы.
Текстология – составная часть работы редактора классических произведений художественной литературы. Поэтому выпущенная в далеком уже 1928 году книга Б.В. Томашевского «Писатель и книга», у которой в подзаголовке стояло: «Очерк текстологии» и которая давно стала библиографической редкостью, не могла не привлечь моего внимания. Прочитав ее, я понял, что хотя она несколько устарела, но могла бы послужить хорошей основой для современной книги на ту же тему. Недолго думая, весной 1957 года я написал Борису Викторовичу Томашевскому:
Уважаемый Борис Викторович!
В издательстве «Искусство» существует редакция литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле. Эта редакция призвана выпускать в числе других книги для редакционных работников, обобщающие ценный издательский опыт, помогающие редакторам повышать свое мастерство, глубже и всестороннее изучать книгу как особое явление культуры. Среди таких книг должна быть, безусловно, и книга, обобщающая опыт подготовки и издания произведений русской классической литературы, показывающая достижения и вскрывающая недостатки в этой области деятельности. В основу подобной книги должно, по нашему мнению, лечь изложение теории и практики текстологической работы – основного и главного раздела редакторской работы при издании классических произведений.
Не могли ли бы Вы взяться за написание этой книги? Мы не формулируем точно тему ее и название вполне сознательно, так как хотим сделать это совместно с Вами, если, конечно, Вы согласитесь с нашим предложением. Нам очень бы хотелось, чтобы автором такой книги стали именно Вы.
Сейчас перечитывая это очень топорно написанное письмо, я удивляюсь тому, что в нем ни слова нет о напрашивавшемся вопросе о возможности выпуска переработанного издания «Писателя и книги». Все равно ответ был неутешительным:
Ленинград. 30 мая 1957Глубокоуважаемый товарищ Мильчин!
Прошу извинения за поздний ответ. Ваше письмо пришло в мое отсутствие, и я прочел его только по возвращении в Ленинград.
Я полагаю, что Вы совершенно правы, и издание книги, посвященной теории и практике текстологической работы, было бы своевременно. К сожалению, в настоящее время я никак не могу взяться за это дело. Просто переиздавать мою книгу 1928 г. «Писатель и книга» невозможно, так как за эти 30 лет сделано в этой области очень много, чего нельзя обойти вниманием. С другой стороны, в настоящее время провозглашаются (и от имени, казалось бы, компетентных инстанций) принципы, с моей точки зрения противоречащие элементарным основам критики текста; мало того, что провозглашаются, – и применяются на деле, что ведет к массовой порче текстов наших классиков. Это требует подробных возражений. А я в настоящее время настолько связан многими взятыми мной по неосторожности литературными обязательствами, которые выполняю с трудом и с запозданием, что не имею никакой возможности предпринять данный труд. Я надеюсь обратиться к нему, когда освобожусь от всего прочего, но, видимо, это будет нескоро.
Во всяком случае, я очень признателен Вам за Ваше письмо, касающееся вопроса мне близкого и связанного со значительной частью проделанного мною за многие годы моей работы.
С искренним приветом
Б. ТомашевскийВскоре после этого письма 24 августа 1957 года Борис Викторович скончался, и казалось, что на моей затее можно поставить крест. Но неожиданно в редакцию пришло письмо вдовы Б.В. Томашевского Ирины Николаевны Медведевой, впоследствии ставшей широко известной благодаря опубликованной за рубежом под псевдонимом книге, оспаривающей принадлежность «Тихого Дона» М.А. Шолохову.
В отдел полиграфии изд-ва «Искусство»От Томашевской-Медведевой И.Н.6 декабря 1958 года
В связи с тем, что издательство обращалось к моему покойному мужу Б.В. Томашевскому с предложением переиздать его книгу «Писатель и книга» – сообщаю издательству, что книга может быть в настоящее время переиздана с дополнениями и поправками, взятыми из конспектов курса по текстологии, читанного Томашевским в 1950–1955 годах в Ленинградском университете. Книга может быть сдана в готовом виде в ноябре 1958 года.
И. Томашевская-МедведеваВ датировке письма Ирина Николаевна ошиблась. Письмо могло быть написано только в 1957 году, поскольку она сама сообщала, что может представить оригинал в ноябре 1958 года.
Получив письмо Ирины Николаевны, я, конечно, очень обрадовался, но все же, помня об отношении самого Б.В. Томашевского к переизданию книги и предвидя, что при заключении договора на нее у руководства издательства «Искусство» могут возникнуть сомнения в целесообразности переиздания книги 1928 года, я решил заручиться мнением авторитетного литературоведа-текстолога и в том же декабре 1957 года послал письмо известному ленинградскому литературоведу Исааку Григорьевичу Ямпольскому. Я попросил его высказаться относительно возможности выпуска этой книги вторым изданием, несмотря на отрицательное отношение к этому самого автора, и, если он считает это возможным, отрецензировать ее с современных позиций и оценить предложение И.Н. Медведевой о дополнениях.
Предупредил я И.Г. Ямпольского и о том, что мы рассчитываем снабдить книгу вступительной статьей и комментариями.
Ответ И.Г. Ямпольского был благоприятным.
Ленинград. 12 января 1958.Уважаемый тов. Мильчин! (Извините – не знаю Вашего имени и отчества.)
Только что получил Ваше письмо и спешу ответить.
Я считаю заслуживающей всяческого одобрения и поддержки мысль издательства «Искусство» о переиздании работы одного из основателей советской текстологии Б.В. Томашевского «Писатель и книга».
Разумеется, если бы не внезапная кончина Б.В. Томашевского, он бы обновил и дополнил книгу, так как за тридцать лет в области издания русской классики сделано немало (в том числе и самим Борисом Викторовичем), многие вопросы прояснились. Но поскольку он не успел это сделать, нужно, по моему мнению, переиздать книгу, дополнив ее сохранившимися университетскими лекциями и снабдив предисловием. В таком виде книга Б.В. Томашевского, несмотря на то, что кое-что, как считал он сам, в ней устарело, будет, бесспорно, очень полезна.
Что до рецензии, то я бы охотно ее написал, но до осени настолько занят, что не имею физической возможности сделать это.
Когда будете осуществлять это издание, хорошо подумайте об авторе вступительной статьи – это не такой простой вопрос.
Всего лучшего
И. ЯмпольскийОбстоятельства складывались как нельзя более благоприятно для нового издания «Писателя и книги», и, вооруженный письменным отзывом И.Г. Ямпольского, я постарался как можно быстрее заключить договор с И.Н. Медведевой на текстологическую подготовку издания, примечания и дополнения к нему.
Параллельно надо было срочно найти авторитетного специалиста, который сумел бы написать вступительную статью и представить ее в издательство за короткий срок, не позднее ноября 1958 года, когда должна была поступить рукопись книги от И.Н. Медведевой. Из нескольких возможных кандидатур я остановился на двух именах – С.М. Бонди и Б.М. Эйхенбауме. И, помня предупреждение И.Г. Ямпольского, решил, прежде чем принять окончательное решение, посоветоваться с ним. Он быстро прислал ответ:
Ленинград, 22 янв. 1958Уважаемый Аркадий Эммануилович!
Вы спрашиваете меня, как я отношусь к кандидатуре С.М. Бонди как автора вступительной статьи к книге Б.В. Томашевского. Думаю, что это самая подходящая кандидатура. Если С.М. Бонди согласится написать статью, это, без сомнения, будет очень хорошо. Статья будет содержательная, и С.М. Бонди найдет, конечно, соответствующий тон, что весьма существенно.
Что касается рецензии, то я охотно написал бы ее, но не могу Вам твердо обещать, что мне удастся это сделать. У меня много обязательств и служебной работы, а здоровье, к сожалению, крайне ограничивает мои возможности, так что при всем желании я могу Вас подвести. Поэтому осенью я, если будет малейшая возможность, напишу рецензию, но Вы имейте в виду и другого рецензента.
Всего лучшего
И. ЯмпольскийНе помню точно причин, по каким «роман» с С.М. Бонди не состоялся. Кажется, я просто не сумел с ним связаться, да и прослышав, что в соблюдении сроков он не слишком обязателен, быстро остыл и решил обратиться к Борису Михайловичу Эйхенбауму, тем более что Ирина Николаевна Медведева одобрила такой выбор. Борис Михайлович согласился и в установленный срок представил очень хорошую статью. Более того, уверовав в меня, Борис Михайлович предложил нашей редакции издать его работу «Основы текстологии», подробный проспект которой он уже разработал. Увы, какой-то рок и ему помешал это сделать. Вскоре после того, как мы заключили с ним договор на такую книгу, 24 ноября 1959 года Борис Михайлович скоропостижно скончался, так и не осуществив своего замысла. Но поскольку представленный им проспект книги был столь подробен, что напоминал скорее конспект, то я включил его в третий выпуск сборника «Редактор и книга» (М., 1962).
Когда сборник вышел, я послал его дочери Бориса Михайловича Ольге Борисовне. Вот что она написала мне в ответ:
Милый Аркадий Эммануилович!
Спасибо Вам большое за присылку экземпляра. Вы даже представить себе не можете, как мне радостно было увидеть напечатанной именно эту папину работу. Ему так хотелось написать книгу, и он бы ее написал, вероятно, очень увлекательно и живо – так он за свою жизнь привык к текстологии и полюбил эту, казалось бы, суховатую науку. И очень хорошо, что Вы снабдили этот конспект примечаниями и своей вступительной заметкой. Короче говоря – не зря Борис Михайлович называл Вас «милый Мильчин».
Мне очень жалко, что я – не литературный работник и мало что могу сделать с тем, что есть в архиве Бориса Михайловича. Но, вероятно, когда-нибудь многое из того, что в этом архиве есть, – появится в свет.
Будьте здоровы.
Так как этой книги еще в продаже нет, – я размахиваю ею, – и все мне завидуют. Она еще выглядит очень завлекательно.
О. ЭйхенбаумВернусь, однако, к «Писателю и книге». Со вступительной статьей Б.М. Эйхенбаума работать мне пришлось, естественно, мало. В основном мои замечания сводились к тому, чтобы несколько смягчить тон его суждений о воззрениях некоторых московских текстологов, – снять резкость оценок, оставив их суть. Борис Михайлович с этим согласился. Мое письмо к нему с этими замечаниями, к сожалению, осталось в архиве редакции, а его ответное письмо я передал М.О. Чудаковой, не позаботившись снять ксерокопию, что и не позволяет мне воспроизвести его здесь.
Я несколько забежал вперед; стоит также привести сохранившиеся у меня письма и записки Ирины Николаевны, представляющие некоторый интерес.
Одно из писем касается неосуществленного замысла издания другой книги Б.В. Томашевского, замысла, который – кто знает – может быть, и будет когда-нибудь воплощен в жизнь. Договор на «Писателя и книгу» так вдохновил Ирину Николаевну, что она поспешила прислать в редакцию заявку на сборник работ Б.В. Томашевского «Вопросы издания классиков»:
В редакцию литературы по книгоиздательскому делуиздательства «Искусство»Предлагаю к изданию книгу Бориса Викторовича Томашевского «Вопросы издания классиков» (25 авт. листов).
Данная книга состоит из работ Б.В. Томашевского 1930–1957 гг. и ни в какой мере не совпадает с его книгой 1928 года «Писатель и книга», написанной с инструктивно-учебной целью.
Сборник «Вопросы издания классиков» представляет собой книгу, в которой эрудированный филолог, историк литературы делится своим опытом тридцатидвухлетней работы над текстами произведений классической литературы и их изданием. В сборник входят статьи по общим проблемам текстологии (как прикладной отрасли филологической науки), по отдельным сложным текстологическим казусам в установлении текста произведений классиков, а также рецензии на различные издания, общие критические статьи о работе издательств над изданиями классиков и выработанные по просьбе издательств инструкции.
Основную, первую часть книги составляют работы Б.В. Томашевского по отдельным вопросам установления текстов. Все эти работы, несмотря на свой академизм, имеют вполне литературный характер. Читать их легко и занимательно. Выпуск книги «Вопросы издания классиков» имеет не только практическое значение фиксации многолетнего опыта одного из основоположников советской текстологии (название этой практической дисциплины принадлежит Б.В. Томашевскому), но и общекультурное значение.
Книга эта демонстрирует советское достижение в области, которую за рубежом считают привилегией западных филологов.
И. ТомашевскаяПереговорив с главным редактором издательства «Искусство» (им тогда был Александр Васильевич Караганов), я подготовил ответ Ирине Николаевне от его имени, который он подписал:
Глубокоуважаемая Ирина Николаевна!
Издательство в принципе не возражает против издания сборника статей Б.В. Томашевского «Вопросы издания классиков» в 1960–1961 году. Окончательное решение вопроса об издании этого сборника может быть принято по представлении проспекта сборника, уточнении его состава.
Главный редактор издательства «Искусство»(А.В. Караганов)Мысль подготовить сборник возникла у Ирины Николаевны, когда она выбирала две-три статьи Б.В. Томашевского для приложения ко второму изданию «Писателя и книги» в качестве образцов применения текстологических взглядов к сложным практическим случаям. Об этом говорит фраза из ее письма от 21 апреля 1958 года, в котором она, не дождавшись ответа на свою вторую заявку (не прошло и десяти дней со дня отправки ее в издательство), просит «написать относительно второй книги, что важно для конструкции “Приложения”». Хороших статей оказалось так много, что выбрать две-три лучшие было нелегко.
В открытке от 3 июня 1958 года Ирина Николаевна сообщает мне о том, как идет подготовка оригинала «Писателя и книги»:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Спасибо за весточку, а главное, за расположение к трудам Томашевского. Я, по правде сказать, была уверена, что изд-во не станет говорить о 2-й книге прежде выхода 1-й. Темпы, с которыми идет «Текстология» в Вашей редакции, и так беспримерны. Особенно удивительны они кажутся для издательства, которое имеет прочную славу в смысле «темпов». Деньги переведены. Спасибо за содействие. Книга перепечатана и один из трех экземпляров у меня здесь [в Гурзуфе] в работе. «Приложения» будут состоять из двух глав статьи Б.В. в пушкинском «Лит. наследстве» – это 2 печатных листа. Еще лист соберу из мелочей по Достоевскому и Пушкину. Я буду в Ленинграде 4–5 июля и к 1-му постараюсь выслать Вам рукопись. Привет.
И. Томашевская.На мое предложение составить к новому изданию «Писателя и книги» предметный или тематический указатель Ирина Николаевна ответила так:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Составив словник для указателя, я убедилась в том, что указатель будет слишком куцый и что в общем все сводится к нескольким темам, фиксированным в оглавлении. Это побудило меня лишь расширить оглавление за счет подтемок. Посылаю Вам это изделие с тем, чтобы Вы исправили, если найдете нужным, формулировки и дали оглавление с примечанием (о том, что названия подтемок дано редакцией). А может быть, в соответствующие места ввести так называемые «фонарики»?
Решайте, как лучше. Что касается тематического указателя, то я думаю, что и более умелый составитель не добился бы хорошего результата. Впрочем, может быть, и добился бы, но сейчас нет времени делать такой указатель.
Посылаю Вам указатель с обозначением страниц издания 1928 г., так как машинописные экземпляры у нас расходятся в пагинации. Надеюсь на Ваше письмецо в Гурзуф.
Всех благ и доброго отдыха
Ир. Томашевская.Гурзуф. 27 августа 1958 годаКнига была напечатана с расширенным оглавлением вместо предметного указателя. Сегодня я бы этим не ограничился, а тогда сроки поджимали. Тем более что рукопись надо было подписать в печать в виде машинописного оригинал-макета (выше я уже рассказал об этом методе, который мы тогда пропагандировали). Через месяц после подписания в ноябре 1958 года оригинал-макета к печати он был сдан в типографию, и в первом квартале 1959 года книга уже вышла в свет. Правда, пришлось вклеивать список опечаток, которых, может быть, удалось бы избежать, если бы в издательстве держали корректуру.
Судя по письму И.Н. Медведевой от 6 ноября 1958 года, она все же сделала попытку оснастить книгу вместо указателя словарем: обратилась с просьбой составить его к одной из сотрудниц редакции «Библиотеки поэта», литературоведу-текстологу Ксении Константиновне Бухмейер:
Да, насчет словаря думаю, что его сделать не удастся. Бухмейер писала, что делает, но не знаю, успеет ли. Скажу Вам по телефону.
В этом же письме Ирина Николаевна отвечала на мои замечания по тексту и делилась своими сомнениями:
О статье «Сочинения русских классиков в изданиях Академии наук» скажу следующее. Б.М. Эйхенбаум, просматривая «Приложение», отметил, что статья носит характер служебного резюме и написана именно для недр учреждения. Мне показалось, что отчасти он прав. Посмотрите и, сравнив обе статьи, решите этот вопрос. Если сочтете возможным – оставим статью.
Статья в книге осталась: она могла помочь издателям при составлении текстологических инструкций.
В статье для «Нового литературного обозрения» я ничего не писал о моем приезде в Ленинград для разрешения вопросов, о чем меня просила Ирина Николаевна. Ответив на часть из них в упомянутом письме от 6 ноября 1958 года, она написала:
Я еду в Ленинград прямо, так как там у меня дело срочное. Очень прошу Вас позвонить мне в Ленинград числа 13–15-го по телефону А 164-82. Лучше до 10 утра или после 12 ночи.
Может быть, перед отправкой в печать мне все-таки посмотреть книгу? Тогда я приеду к Вам или Вы ко мне. Последнее удобнее в смысле справок, которые под рукой. Может быть, Вы могли бы съездить на денек-два. Остановиться можно у нас, и редакция не понесет особых расходов.
И я действительно выехал в Ленинград и посетил квартиру Томашевских для снятия вопросов. Ночевать там не ночевал, сама же квартира произвела на меня очень сильное впечатление. Она была больше похожа на музей. Необыкновенная чистота, сверкающий паркет, по стенам замечательные гравюры видов Петербурга. А когда Ирина Николаевна пригласила меня за большой обеденный стол, я как провинциал чувствовал себя очень стесненным: боялся сделать что-нибудь не так, как полагается по этикету. Но, кажется, обошлось.
Когда Ирина Николаевна узнала от меня, что книга вышла, она прислала благодарственное письмо, которое я привожу целиком, поскольку в нем отразились некоторые черточки положения в советских условиях литератора вообще и наследника писателя в частности:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Спасибо Вам за добрую весть. Хоть с опечатками… но все же хорошо, что книга вышла. И я так признательна Вам за содействие: за мудрое доброжелательство и большую работу, которую далеко не все делают так добросовестно. Мне бы очень хотелось выразить это не в письме, а в личном общении, но, увы, до конца апреля я не смогу попасть в Москву. Из сего вытекают следующие просьбы:
1) Книгу хоть одну пришлите посмотреть. Не терпится посмотреть. Конечно – 3 экз. мне мало. Напишите, могу ли я через издательство купить 20 экз. и как это сделать в смысле оплаты, т. е. нельзя ли путем вычета из гонорара.
2) Эйхенбаум болен и уехал отдыхать. Его дочь просила, если можно, ускорить перевод гонорара. Деньги в бухгалтерии есть.
3) Я тоже ничего не имела бы против денег. Помните, Вы говорили, что какая-то сумма мне причитается за примечания или за что-то. Так как при всех своих трудах я в качестве литератора заработала минимально за эти 1½ года, то для меня важна справка о мною заработанной сумме больше, чем сама сумма. Итак, если можно попросить бухгалтерию составить такую справочку (они знают форму, так как для членов Союза писателей делается это постоянно). Что касается сумм тех и других (т. е. наследственных), то они, вероятно, так плачевны, что их можно выслать почтой. Но на всякий случай посылаю заявление о переводе на книжку. Мне очень стыдно Вас обременять всеми этими делами, но я в надежде когда-нибудь оказаться и для Вас полезной.
Всего доброго
И. Медведева. 19 марта 1959 г.Выход «Писателя и книги» не остался незамеченным. В «Вопросах литературы» (1960. № 4) была напечатана положительная рецензия Б.Я. Бухштаба.
Главное же заключается в том, что книгу Б.В. Томашевского удалось возродить к новой активной жизни, сделав ее достоянием более или менее широкого круга авторов, редакторов, текстологов, литературоведов. Она вошла в список основной литературы, рекомендуемой студентам, которые готовят себя к профессии редактора, и вместе с проспектом «Основ текстологии» Б.М. Эйхенбаума стала классикой отечественной текстологии.
И еще одно важное обстоятельство – редакция литературы по книгоиздательскому делу благодаря книге Б.В. Томашевского вышла за пределы того узкого круга читателей, которые были у нее до этого.
«В лаборатории редактора» Лидии Чуковской[12]
Как я уже говорил, я постоянно искал людей, которые могли бы писать не о технической, а о содержательной стороне редакторского дела. При каждом удобном случае заводил об этом разговор с приходившими в редакцию авторами и рецензентами, если только была надежда, что собеседник подскажет мне имя человека, способного по-новому рассказать о работе редактора.
Так, общаясь с Аркадием Иосифовичем Ваксбергом, я спросил его, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы написать книгу о редактировании произведений художественной литературы. Спросил его не случайно, поскольку знал, что он как практикующий адвокат, специалист по авторскому праву общается со многими писателями и осведомлен об их творческих интересах. Аркадий Иосифович спросил меня, читал ли я в только что выпущенном втором выпуске альманаха «Литературная Москва» статью Лидии Чуковской «Рабочий разговор». Узнав, что я о ней ничего не слышал, он посоветовал мне прочитать ее, сказав, что более удачной кандидатуры для написания книги о редактировании художественной литературы, чем Чуковская, мне не найти, и дал ее телефон.
Прочитав «Рабочий разговор» – статью полемическую, и притом содержательную и глубокую, – я понял, что Ваксберг прав и что если Чуковская согласится с нашим предложением, это будет большая удача. И, набравшись храбрости (мне, как всегда, мешала моя стеснительность), позвонил Лидии Корнеевне, представился и спросил, не согласится ли она написать на основе своего редакторского опыта книгу. Не помню, как и о чем еще шел разговор, но ответ был положительный. Позднее я узнал, что Чуковская и сама размышляла о книге на эту тему. Бывают же такие совпадения.
Лидия Корнеевна прислала проспект книги. Я постарался как можно быстрее оформить договор.
Рукопись Лидия Корнеевна представила в срок, в ноябре 1959 года, хотя теперь, в 2011 году, когда вышла ее переписка с Л. Пантелеевым, можно понять, чего это ей стоило:
18 апреля 1959 г.: Я уныло и бездарно корплю над пятой главой [ «Будылья татарника» – о работе редактора над стилем]. Два шага вперед, три назад. Срок, срок, срок! Мне не поспеть ни за что (С. 140).
6 мая 1959 г.: Спасибо, милый друг, что верите в мою книжку, – мне эта вера очень нужна. Я как-то растерялась и ослабела, а ведь сколько еще труда – и горя – впереди (Там же. С. 141).
11 августа 1959 г.: Я пишу книгу – упорно и медленно. Устала я. Написала кое-как V главу, теперь мучаюсь с шестой – маршаковской. Каждый день мысленно благодарю Вас за драгоценный материал (Там же. С. 143).
Драгоценный материал – это заметки Л. Пантелеева о редакторах, присланные им с письмом от 11 августа 1958 года. В примечании к нему Е.Ц. Чуковская, подготовившая к изданию том переписки, пишет: «К письму приложены заметки Л. Пантелеева о редактировании (машинопись, 13 стр.)».
Вероятно, это те самые страницы, которые во время моей работы над рукописью «В лаборатории редактора» Лидия Корнеевна дала мне прочитать и разрешила снять копию. Тогда же, восхищенный ими, я перепечатал их для собственного архива и в статье о книге «В лаборатории редактора» в «Октябре» впервые опубликовал[13], а впоследствии повторил публикацию в сборнике «О редактировании и редакторах» и на сайте . Эти заметки Лидия Корнеевна в письме к Пантелееву от 4 сентября 1958 года оценила так:
Вы сделали – и в такое трудное для Вас время – для моей книги больше, чем кто-либо; больной переписывали, вспоминали, стучали на машинке и снабдили меня материалом, которому цены нет.
Страницы Ваших писем о редакторе (те, где Вы характеризуете тупицу) так совпадают с моими черновиками, что мне было жутковато читать (С. 137).
Уже после выхода книги «В лаборатории редактора» Лидия Корнеевна просила у Пантелеева разрешения опубликовать эти страницы в сборнике «Редактор и книга», но автор почему-то этого не захотел. Я же в своих лекциях на курсах повышения квалификации редакторов, говоря о редакторской работе над языком и стилем, еще до публикации этих страниц обязательно зачитывал их слушателям, считая, что они в силу своей выразительности и яркости – одно из сильнейших противоядий против вредоносных для авторского текста редакторских действий.
А в журнальной статье о том, как издавалась книга Чуковской, я их опубликовал, так как не был уверен, что переписка Пантелеева и Чуковской когда-нибудь будет напечатана. И хотя через 10 лет это, к счастью, произошло благодаря усилиям Елены Цезаревны Чуковской, в томе переписки этого текста все же не оказалось, так как Е.Ц. не нашла его в архиве.
Вообще, Пантелеев очень помог Лидии Корнеевне в работе над книгой. Она посылала ему рукопись для оценки, и одобрение этого строгого, тонкого и глубокого ценителя вселяло в нее уверенность, так нужную любому писателю. Получив рукопись (вероятно, всех глав, кроме последних двух), он 2 марта 1959 года написал подробный отзыв на нее. Письмо это теперь опубликовано (Там же. С. 139–140), и я не стану приводить его целиком, скажу лишь, что Пантелеев особенно одобрил полемические страницы книги:
Там, где нет полемики, Вы – не в своей стихии. (С Панферовым Вы разделываетесь блестяще. Не знаю, как выдержит все это редактор, если он хоть немного похож на того, с которого Вы портрет пишете.)
По тексту книги видно, что Чуковская отнеслась к замечаниям Пантелеева очень внимательно: исправила фразу, которая показалась ему «недостаточно энергичной», ввела, как он предлагал, названия глав.
В феврале 1960 года Лидия Корнеевна послала Пантелееву сначала шестую главу («Редакционный оркестр»), а затем седьмую («Маршак-редактор»). Шестую он одобрил полностью и только попенял на то, что в главе «много Станиславского», а вот глава о Маршаке вызвала у него возражения: его память сохранила иные портреты сотрудников маршаковской редакции, особенно Ю. Владимирова и Б. Житкова (см. это подробное письмо от 25 февраля 1960 года: Там же. С. 148–150).
Ответного письма Лидии Корнеевны, из которого можно было бы понять, как она отнеслась к замечаниям Пантелеева, в «Переписке» нет. Однако по тексту этой главы в первом издании книги нетрудно заметить следы поправок, связанных с замечаниями Алексея Ивановича. И описание внешнего облика Ю. Владимирова стало несколько иным, и в портрете самого Пантелеева появились черты, почти дословно повторяющие те, которые он приводил в своем письме. И исчез из начальной главки Б.С. Житков.
Алексей Иванович был не единственным советчиком Лидии Корнеевны. Рукопись книги Лидии Чуковской поступила в редакцию уже прочитанной и выверенной ее друзьями, редакторами-литераторами Т.Г. Габбе, А.И. Любарской. В конце концов прочел ее и одобрил С.Я. Маршак. Мне, издательскому редактору, оказать такую помощь автору было, конечно, не по силам.
Рукопись мне в основном понравилась, но удовлетворила меня не полностью. Мне хотелось разговора более учебного, что ли, с показом анализа и оценки редактором художественных элементов произведения (сюжет, фабула, образ, пейзаж, портрет, членение текста на рубрики и т. д.), причем показом на конкретных примерах удачной и неудачной работы редактора. Мое пристрастие к логичности и систематичности и несколько упрощенное представление о художественном произведении как объекте, который можно разъять на составные части, каждую рассмотреть, подвергнуть критике, вместе с автором отшлифовать, а потом все собрать и благодаря этому достигнуть наилучшего результата, было тут, как я теперь понимаю, неуместно. Конечно, хорошо показать редакторам-новичкам, как отличить художественное от того, что лишь рядится в одежды художественности, но не такую задачу ставила перед собой Лидия Корнеевна. Не обучать человека с литературным образованием – иного на месте редактора художественных произведений и не мыслилось – азам профессии, а привлечь его внимание к самым острым, болевым для литературы проблемам повседневной редакторской практики – вот чего хотела Чуковская и вот чего я не учел, когда писал свою рабочую рецензию на ее рукопись.
Я тогда не осознавал, что одна из главных целей, которые имела в виду Лидия Корнеевна, создавая свою книгу, – защитить авторов от грубого произвола редакторов, создать в издательствах подлинно творческую атмосферу. Помимо чисто идеологических, многие редакторы советского времени нередко предъявляли писателям такие «художественные» требования, которые исходили из ложных, надуманных, односторонних посылок и диктовались скорее опасениями, как бы чего не вышло, чем действительными слабостями произведений. И, пользуясь властным положением, добивались своего, что не могло не вести к порче авторского текста, а порой и к творческим писательским трагедиям.
Именно поэтому разговор об отношениях «редактор – автор» приобретал тогда большое общественное звучание. Именно поэтому нельзя было не вести сражение за такую меру вмешательства редактора в авторский текст, которая не наносила бы урона творческой индивидуальности.
Лидия Чуковская, которую отец, Корней Иванович Чуковский, не совсем справедливо называл фанатиком редакционного невмешательства, одной из первых вступила публично в борьбу за права автора. В ее статьях на эти темы, в книге «В лаборатории редактора» проявился ее страстный общественный темперамент, непреклонное стремление к справедливости.
Всю силу своего гневного слова обрушивала она на бюрократизацию редакционной работы.
Книга «В лаборатории редактора» занимает в литературном наследии Лидии Корнеевны Чуковской особое место. Это первая ее крупная книга о литературе. Заглавие пусть не вводит в заблуждение. Разговор в книге ведется о редакторе как деятеле литературы. Лидия Корнеевна подводит итог собственной редакторской работе и работе своих коллег-друзей в легендарной ленинградской редакции детской литературы, руководителем которой до 1937 года был С.Я. Маршак.
Немудрено, что большинство моих замечаний и предложений (а я исписал несколько страниц) Лидия Корнеевна отвергла, приняв лишь некоторые, те, что касались явных промахов, случающихся в работе любого автора.
Все же пришлось встречаться с Лидией Корнеевной по поводу разных частностей. Каждая из встреч, которые происходили большей частью у нее дома, в квартире Корнея Ивановича на улице Горького, была для меня событием и в то же время литературной школой. Все, что говорила Лидия Корнеевна, а она, как правило, затрагивала темы, которые ее в тот момент волновали, и литературные, и общественные, не могло не оказывать на меня самого сильного воздействия, настолько страстно и убедительно обличала она малейшую фальшь и несправедливость. Особенную ненависть испытывала она к любым проявлениям сталинизма, к формализму, равнодушию. Запомнилось мне, с каким презрением говорила она о произведениях писателя Медынского, возмущаясь его глухотой к художественному слову, казенщиной, пронизывающей язык и стиль этого писателя.
Очень характерна для Лидии Корнеевны посланная мне как-то с рукописью записка:
К‹орней› И‹ванович› получил на днях письмо от одного автора, кот‹оро›му он не ответил.
«Я написал заявление в ЦК (копия в Правду), и там Вас научат отвечать автору вовремя».
Как говорится, без комментариев.
Л.К. любила, когда приходилось к слову, читать по памяти стихи. Знала она их великое множество. Чаще всего читала Ахматову. Охотно рассказывала о редакции Детиздата (Детгиза) в Ленинграде, которой руководил С.Я. Маршак и в которой она была редактором, о судьбе своих подруг и коллег по редакции Т.Г. Габбе и А.И. Любарской, о своем муже, талантливом ученом-физике М. Бронштейне, погибшем в сталинских застенках. Преодолевая колоссальное сопротивление, Лидия Корнеевна добилась переиздания его превосходной научно-художественной книги «Солнечное вещество», до войны выпущенной ленинградской редакцией Детиздата. Новое издание вышло в Детгизе в 1959 году. Лидия Корнеевна подарила мне эту книгу с надписью: Редактору от редактора. Аркадию Эммануиловичу от Л. Чуковской. 2.VI.59 Москва. Пишу об этом только для того, чтобы показать, что между Лидией Корнеевной и мною сложились доверительные отношения, очень важные для совместной работы над книгой при подготовке ее к изданию.
Позже, уже при подготовке 2-го издания книги, Лидия Корнеевна давала мне читать гранки своей повести «Софья Петровна», присланные ей из редакции журнала «Сибирские огни». Повесть была принята, набрана, но затем от Лидии Корнеевне потребовали такой переработки, на которую она никак не могла согласиться, и публикация не состоялась. Параллельно повесть побывала в издательстве «Советский писатель», с Л.К. заключили договор, одобрили, выплатили 60 процентов, но затем от издания отказались. Главной причиной была выдвинутая партийными функционерами лживая формула: «Культ личности партией разоблачен, преодолен, и нечего заострять на нем внимание».
Что касается рукописи «В лаборатории редактора», Лидия Корнеевна явно переоценивала мои заслуги в работе над ней. В августе 1960 года, когда книга печаталась (она была подписана к печати 14 июля этого года), я был в отпуске на Украине, и Лидия Корнеевна, получив от редакции чистые листы, написала мне:
7. VIII.60Дорогой Аркадий Эммануилович.
В самом деле, сигнал, по всей вероятности, не заставит себя долго ждать: передо мною 8 листов моей книги, а остальные обещаны завтра. Эти 8 не подряд, но все равно, я прочитала их с большим любопытством. Очень рада, что перед отъездом Вы успели просмотреть все тревожные куски. На тех 8 листах, которые сейчас прочитала, в общем все благополучно, никаких страшных опечаток я не обнаружила – так, кое-какие неприятные мелочи: в одном листе 7 вместо! в другом абзац явно не там, где следует. Я попробую сказать о них Вашей заместительнице, но, насколько я понимаю, сделать уже нельзя ничего… Я не огорчаюсь: это вздор. Исправлю во втором издании, если оно будет.
Да будет ли первое? Я как-то и до сих пор не верю…
Но будет или не будет – я хочу воспользоваться случаем, чтобы от души поблагодарить Вас и сказать, что хорошо мне работалось с Вами. Многим книга и автор обязаны Вам. Вы заставили меня (не заставляя!) многое проверить, додумать, яснее и полнее выразить. Вы избавили книгу от многих ошибок, а меня – от многих излишних тревог. Вы все время берегли мои силы и нервы, не жалея своих. Спасибо Вам – отдыхайте хорошенько! – крепко жму Вашу руку и надеюсь, что мы работали вместе не в последний раз.
Мне, конечно, было очень приятно читать строки, в которых моя редакторская работа оценивалась так высоко, но я не мог не делать скидку на чувства автора, видевшего свое создание напечатанным.
В дарственной надписи на титульном листе первого издания книги «В лаборатории редактора» мне особенно дороги строки, в которых Лидия Корнеевна выражала «твердую уверенность», что книга без меня «не только была бы много хуже – нет, ее вообще не было бы». Это как раз то, что доставляло мне в моей редакторской работе наибольшее удовлетворение, – задумать книгу и реализовать замысел. Конечно, «В лаборатории редактора», строго говоря, создавалась не столько по моему замыслу, сколько по моему почину, но главное, что в литературе для редакторов она стала событием.
Что же касается многих ошибок, от которых я якобы избавил книгу, то это сильное преувеличение. Хотя от одной неприятной оплошности я автора действительно предостерег.
Пятую главу книги Лидия Корнеевна назвала «Дудылья татарника». В одной из подглавок Чуковская защищала живую народную речь от редакторов-пуристов, изгонявших ее из текстов художественных произведений. Доказывая неправомерность, порочность таких действий, она приводила примеры из классиков:
Лев Толстой в авторской речи употребляет слова «леха», «прополонная рожь»56, неизвестные редактору и потому для него неприемлемые, а Шолохов пишет «дудылья татарника»57, «журчилась вода»58… Что такое «дудылья» и почему «журчилась», а не «журчала»? Ах, с каким удовольствием выкорчевал бы редактор эти «дудылья» из текста любого другого автора! (С. 123).
Вот это сочетание «дудылья татарника» Чуковская и выбрала как очень характерное для названия главы о работе редактора над языком художественной прозы.
Цитаты, которых в книге множество, причем самых разных авторов, я в рукописи проверял только выборочно, так как по просьбе Лидии Корнеевны сверял цитаты с источниками и оформлял библиографические ссылки Владимир Иосифович Глоцер, тогда начинающий литератор, в дотошности и сверхдобросовестности которого я уже успел убедиться.
В рукописи я не стал проверять цитаты из Шолохова, целиком положившись на Владимира Иосифовича, но, читая верстку, обратил внимание на ссылку: она была сделана не на первоисточник, а на литературоведческую книгу, автор которой приводил эти цитаты из Шолохова для иллюстрации какой-то своей мысли. Все было сделано корректно: ссылка начиналась словами Цит. по. Но как раз это меня и насторожило, тем более что слово «дудылья» мне было незнакомо. Вот я и решил проверить цитату из Шолохова по первоисточнику, хотя сделать это было очень непросто. В литературоведческой книге, на которую ссылалась Чуковская, было напечатано точно так, как у нее: «дудылья татарника», но без указания, из какого произведения и с какой его страницы словосочетание взято.
Что было делать? Оставить все как есть? Но я помнил, как мои наставники в институте предупреждали об опасности этих Цит. по. И занялся поиском. Вечером вынул из шкафа «Поднятую целину» и стал читать все описания природы подряд. Ими Шолохов чаще всего начинал главы своего романа. Увы, ничего подобного там не нашел. Настала очередь «Тихого Дона». В первом томе моего двухтомного издания тоже не нашлось «дудыльи татарника». Я был в отчаянии, но упорно продолжал поиск. И мое упорство было вознаграждено: на с. 795 второго тома в описании – о счастье! – я увидел то словосочетание, которое так долго искал. Только вместо «дудылья татарника» там стояло «будылья татарника». Литературовед то ли описался, то ли не заметил опечатки. А Лидия Корнеевна положилась на него, как и Глоцер.
Как неприятно было бы автору, защищающему живое народное слово от посягательств редакторов-пуристов, ошибиться как раз в знании живого народного языка! Тем более что слова «дудылья» нет в словаре Даля, а вот слова «будылья», «будыльник» в значении «ствол крупного травянистого растения» Даль приводит. Правда, одно из значений злополучного слова, а именно «дудка» (применительно к растению Anthriscus sylvestris), Даль, справедливости ради надо сказать, в этой статье тоже приводит. Именно эта схожесть будыльи с дудкой, возможно, подвела литературоведа, а за ним и Лидию Корнеевну. Но это я понял уже потом, заглянув в словарь Даля из любопытства. А тогда я действовал по наитию. Но это спасло книгу.
Ошибка была исправлена, хотя заголовки глав были клишированными и художнику пришлось делать новый оригинал заголовка главы, а производственному отделу – заказывать в типографии новое клише. Это немного задержало отправку верстки на сверку. В тексте же и в ссылке исправить ошибку было несложно.
Во время подготовки рукописи к изданию, видимо по просьбе Лидии Корнеевны, я текст из главы «Маршак-редактор» о работе Маршака над «Дядей Степой» С.В. Михалкова послал автору, попросив сообщить, всё ли в приведенном отрывке верно, нет ли неточностей. Михалков вернул мне мое письмо с выдержкой из рукописи, исправив в нем только первые две фразы этого текста.
Было в рукописи:
Несколько месяцев работал он над «Дядей Степой», первой поэмой С. Михалкова, нарочно приехавшего из Москвы в Ленинград. Знаменитый рефрен «Дядя Степа, будь здоров!» был найден автором и редактором вместе.
Первую фразу С. Михалков исправил так:
Работал он и с С. Михалковым над «Дядей Степой», первой поэмой молодого автора, специально приехавшего на это время из Москвы в Ленинград.
Вторую фразу он старательно зачеркнул и на полях написал: Вот так! С. Михалков. 14.II.60.
В книге текст был изменен с учетом исправлений не только Михалкова, но и, вероятно, Маршака, сообщившего Чуковской дополнительные подробности, и приобрел следующий вид:
Много поработал он над «Дядей Степой», первой поэмой С. Михалкова, – в Москве, куда он приезжал по редакционным делам, и в Ленинграде, куда специально приехал молодой поэт. «Поэме не хватало лирического дыхания, – рассказывал впоследствии Маршак, – не хватало “тяги”, которую через много лет помянул в своих стихах Твардовский.
(Как говорит старик Маршак:
– Голубчик, мало тяги!)»
(Чуковская Л. В лаборатории редактора. М., 1960. С. 253).С текстом, идущим дальше, С.В. Михалков был согласен.
В общем, если рукопись поступила в издательство в середине ноября, как явствует из письма Лидии Корнеевны к Пантелееву, то вся подготовка ее к производству (включая мою работу с автором, перепечатку, считку, сдачу на вычитку и потом в производственный отдел, а после разметки технического редактора в типографию) заняла всего три с половиной месяца.
«В лаборатории редактора» была первой в моей практике книгой, вышедшей за пределы того читательского круга, которому адресовались книги о редактировании. Она стала предметом повышенного интереса писателей и вызвала общественный резонанс. Кроме того, читали ее и просто любители литературы, желавшие проникнуть в «лабораторию редактора». И если другие книги находили отклик только в профессиональной отраслевой прессе, то об этой отозвались журналы «Вопросы литературы» и «Новый мир». Писали о ней и некоторые газеты.
Но первым, получив книгу в дар, еще до обсуждения в ЦДЛ, 16 октября 1960 года, послал свой отзыв о ней друг, чья беспристрастная и точная оценка была для Лидии Корнеевны всего дороже, – Пантелеев. Его вкусу и критическому таланту она доверяла полностью, а главное, знала по опыту, что он никогда не будет из дружеских отношений хвалить, скрывая свои замечания. Оценил он книгу очень высоко:
Те из редакторов, кто не лишен проблесков ума и таланта, прочтут ее с пользой для себя и для литературы; те же, кто этих проблесков лишен, по-видимому, и не читают ничего, но таких, с помощью Вашей книги, обуздает теперь молодой автор, личность, которую Ваша книга тоже воспитывает и подковывает. Да, Ваша книга повышает требования не только к редактору, но и к литературе в целом.
Спасибо Вам!
Сказать по правде, я боялся немножко перечитывать – то, что я так недавно читал в рукописи. Думал, что будет неинтересно. Но начал читать и зачитался, увлекся (С. 166).
Лидии Корнеевне оценка Пантелеева была очень нужна и важна, о чем она ему и написала 21 октября 1960 года:
Спасибо за отклик на книгу. Мне необходимо было убедиться, что Вы не разочаровались в ней (С. 167).
Обсуждение книги в Центральном доме литераторов состоялось 19 октября 1960 года, причем Большой зал был полон. Я кратко записал главное в выступлениях писателей и критиков, а выступило почти двадцать человек.
Лев Кассиль очень хвалил книгу, во-первых, за то, что читается легко, с большим интересом (трудно оторваться, как от романа), во-вторых, за то, что она полезна для любого литератора и будет настольной книгой. Недостаток – специально не рассматриваются вопросы идеологии.
Лев Копелев сказал, что, когда пишешь теперь, чувствуешь за спиной Чуковскую, пишешь с оглядкой на нее. По публицистической страстности книг, подобной этой, после Горького мы не знаем.
Елену Ильину книга убедила в том, что любой ценный редакторский опыт нуждается в обобщении и публикации (мысль, очень созвучная моим мыслям того времени).
Юлиан Григорьевич Оксман похвалил книгу за то, что у автора свой голос, и даже сравнил Чуковскую с Горьким и Герценом, не в том смысле, что Чуковская стоит в одном ряду с ними, а по страстности, публицистичности разговора. К недостаткам он отнес то, что глава «Маршак-редактор» больше интригует, чем удовлетворяет. Вывод: она должна быть развита.
Виктор Шкловский выступил с критикой книги. Мы не на юбилее, сказал он. Нужно по-деловому разобраться в книге. Он высказался против нивелирования писательских манер, неизбежного, с его точки зрения, когда редактор со своими мерками подходит к писателю. Главу «Маршак-редактор» он расценил как неудачную: не показана борьба, острота ее. Шкловский высказался об институте издательских редакторов как о ненужном и вредном. В качестве доказательства он привел случай с рукописью своей книги, сданной в «Советский писатель». На нее было написано 22 рецензии, причем одни рецензенты требовали от него то, против чего выступали другие. В качестве положительного примера он привел практику Издательства писателей в Ленинграде, которое выпускало книги фактически без издательских редакторов быстро и хорошо.
Вл. Россельс оценил книгу как факт литературы. Противоречие, с его точки зрения, – в том, что мало существует произведений, не нуждающихся в редакторе, но неверно давать редактору-нелитератору право делать с автором то, что делали писатели-классики. Аналогия редактора с режиссером, по его мнению, неудачна. В книге не хватает фигуры автора.
А. Турков посчитал, что цитат все же излишне много, но в то же время сказал, что автор смело борется и точно попадает в цель.
А. Акимова сравнила издание книги без редактора с магазинами без продавца или троллейбусами без кондуктора. Покритиковала книгу за то, что не показана работа над крупным произведением и не указаны фамилии редакторов.
Ю.П. Тимофеев говорил о беде редакторов, оставшихся наедине с рукописью и не знающих, что с ней делать, и оттого заменяющих художественные критерии всякими другими. Этому он посвятил и свою статью, напечатанную позднее в сборнике «Редактор и книга» (М., 1963. Вып. 4).
Н. Роскина высказалась о необходимости семинара редакторов.
Л. Пеньковский оценил книгу как хорошую. Он привел пример плохой переводческой и редакторской работы, когда выражение в оригинале со значением «разбил сад» было переведено: «уничтожил сад».
Р. Орлова посчитала нужным переиздать книгу, которая, по ее мнению, поднимает уровень нашей литературы; подчеркнула важность мысли о редакционном оркестре, но говорила о порочности такой ситуации, когда рукопись правят в издательстве сразу несколько человек. Нужен трамвай не без кондуктора, а с кондуктором, но с одним, а не с двадцатью.
Б. Сарнов оценил книгу как в какой-то степени культуртрегерскую. Он процитировал М. Бременера: с чем в первую очередь бороться – с агностицизмом или с бандитизмом? Сказал, что плохо, когда нет изумления редактора перед автором. А оно должно быть. Писатель обогащает редактора, их совместная работа – процесс взаимного обогащения. Книга хороша потому, что учит редактора быть художником.
Сергей Львов говорил о важности соблюдения редакционной этики.
В. Черненко (Детгиз) критиковал главу «Маршак-редактор» за то, что Маршак показан как единственный зачинатель советской детской литературы, и за слишком, на его взгляд, восторженный тон.
Т. Трифонова отметила как положительное качество книги то, что она доступна и для широкого читателя, но покритиковала за то, что в книге не хватает фигуры активного писателя, умеющего переубедить редактора.
В заключительном слове Лидия Корнеевна, во-первых, возразила В. Шкловскому, считавшему, что об издательских редакторах не нужно писать, а нужно уничтожать их как класс. Она сказала, что нужны или не нужны редакторы, но они существуют и вряд ли в ближайшем обозримом будущем их устранят, а раз так, то надо говорить и писать об их работе. Одно из самых ярких мест ее выступления – пример редактирования: Маршак, прочитав рукопись Житкова, поцеловал его; поцелуй – это тоже форма редактирования.
Конечно, мои резюме выступлений слишком кратки, чтобы дать полное представление об их содержании, но все же основное, что в них звучало, мне, надеюсь, передать удалось.
Думаю, что одно важное обстоятельство объясняло повышенный интерес к книге «В лаборатории редактора» и ее одобрение большинством выступавших. Книга вышла в самом начале 60-х годов. И живое, страстное слово в защиту писателей от всяких пут и ремесленного диктата не могло не найти отклика в душах деятелей литературы, жаждавших духовного раскрепощения и поверивших в его быструю осуществимость. Не случайно именно Лев Копелев так высоко оценил работу Чуковской. Более того, он стал пропагандистом этой книги – поместил в газете «Московский литератор» заметку, посвященную ее обсуждению в ЦДЛ.
Не могу не сказать о невольно подслушанном мною разговоре. Когда обсуждение закончилось и все стали расходиться, две женщины оказались рядом со мною и одна из них сказала другой:
– Странно, что Чуковская не сказала ни слова о редакторе своей книги. Ведь она обязана ему тем, что ее написала.
За точность реплики не поручусь, но смысл был именно таким.
Не скрою, мне было приятно слышать это, но я видел, как волновалась Лидия Корнеевна, и понимал, что ей было просто не до благодарностей редактору.
Впоследствии Лидия Корнеевна сказала мне об угрызениях совести, которые испытала, вспомнив, что забыла сказать о моей роли в выпуске книги. Ее вывело из равновесия выступление Шкловского, критичность которого была вызвана предысторией их личных взаимоотношений. Я уже знал от нее, что однажды, будучи в гостях у Шкловских, она в порыве гнева от чего-то им сказанного запустила в него чашку. Жертв не было, но и дружеские отношения прервались. Так что ожидать беспристрастной, объективной оценки книги от Шкловского было трудно. Но объяснять его точку зрения на редакторов только этим обстоятельством было бы тоже неверно. Она, эта точка зрения, как всегда у Шкловского, парадоксально доведенная почти до абсурда, явно опиралась на его жизненный и писательский опыт. Другое дело, что ничто в книге Чуковской не давало повода для столь страстного неприятия. Ведь во взгляде на то, каким не должен и каким должен быть редактор, Шкловский и Чуковская были очень близки.
Первые печатные отзывы о книге появились в журналах «Новый мир» (в статье А. Туркова «Заметки о критике» 1961. № 4) и «Вопросы литературы» (рецензия Ф. Левина «Полпред читателя» в № 3 за 1961 год). Откликнулись на книгу и газеты – «Литература и жизнь» (1961. 13 января; о напечатанной в ней заметке «Книга, которую будут читать» сообщил Лидии Корнеевне Л. Пантелеев в приводимом ниже письме), киевская «Друг читача» (1960. 24 сентября. № 47); кроме того, какой-то книготорговый орган поместил толково составленную аннотацию на нее (у меня сохранился текст этой аннотации, но, к сожалению, не помечено, где она была напечатана).
Рецензия критика и редактора с многолетним опытом Федора Левина, незадолго до этого заклейменного в качестве одного из главных «космополитов» и, вероятно, потому крайне осторожного в своих оценках, вызвала полемику, главным образом потому, что он считал опыт редакции Маршака неприменимым в современных условиях.
Лидия Корнеевна, познакомившись с этой рецензией, написала мне 10 апреля 1961 года:
Дорогой Аркадий Эммануилович, я только теперь прочитала рецензию Левина и только теперь отвечаю на Ваше письмо. Да, Вы правы, рецензия вредная. Не для книги, для дела… Где же и когда я утверждала, что опыт ленинградской редакции надо переносить в современные редакции без изменений? И почему ему не приходит на ум, что в 30-е годы, когда было двое-трое профессиональных писателей, а остальных приходилось вербовать и обучать с азов – мы тратили по полтора года на книгу, теперь же такие сроки исключение, ибо профессионалов – сотни. Да и редакторов – десятки, а не четверо, как было нас тогда… Да и пусть ленинградский опыт не годится, но ведь и то, что сейчас, тоже не годится; надо искать новые формы работы, которые дали бы возможность поднять качество литературы. И прежде всего для этого надо иначе готовить редакторов и иначе организовать редакции. Надо, чтобы они стали художественными учреждениями, сознающими, что они работают в искусстве. О направлениях он тоже вопрос ставит не так. (Кстати, какая ерунда, будто Детгиз работает на основе принципов Горького и пр.) Ну, это большой разговор.
Как вы думаете, стоит ли отвечать ему для выяснения вопроса? И где – в журнале или во втором издании книги?
А прочитали ли вы, что пишет о Лаборатории «Новый мир» (статья Туркова «Заметки о критике»)?
За письмо Клавдии Васильевны – спасибо. Случай с директором очень интересен и характерен. Огорчило меня, что литераторам книга показалась сложной. Надеюсь, что это «не типично».
Я возвращаюсь 13-го. Буду, конечно, Вам звонить.
Клавдия Васильевна – это К.В. Рождественская, редактор и писательница, работавшая некоторое время в редакции, руководимой С.Я.Маршаком, а затем уехавшая из Ленинграда в Пермь. Там, в Пермском книжном издательстве, в 1960 году вышли ее записки редактора «За круглым столом». Рецензию на нее Владимира Глоцера мы опубликовали во втором выпуске сборника «Редакторы книги о своем опыте» (М., 1960), а саму книгу выпустили вторым изданием в 1962 году. Между прочим, Виктор Астафьев, которого я хотел привлечь в авторы нашего издательства, в ответном письме ко мне рекомендовал ее к изданию, не зная, что она уже издана. Приведу письмо К.В. Рождественской к Л.К. Чуковской от 8 октября 1960 года целиком:
Большое спасибо, Лидия Корнеевна, за книгу. Я получила ее только вчера (была в отъезде). Схватилась за нее и к утру успела прочесть. Утолила первый голод. Общее впечатление – грандиозно и очень весомо. Удивилась смелости отдельных кусков. Значение книги в практической работе редактора и писателя огромно. Она убьет (к сожалению, не сразу) редакторов-упростителей и поможет прозреть многим. Очень хорошо, что Вы в полный голос заговорили о главной боли. Надо бы добиться того, чтобы Главиздат рекомендовал Вашу книгу всем издательствам. Книга наносит крепкий удар по многому, что мешает творческому расцвету нашей литературы. Глава об «Оркестре» должна бы вызвать глубочайшие изменения в подборе людей, двигающих книгу. Но будет ли это и когда? Я знаю практику двух издательств – Перми и Свердловска, – там нет и намека на единство взглядов и устремлений. И так, кажется, везде. Нужны коренные перемены в этом деле.
Кое с чем я спорила, кое-что хотелось дополнить в главу о 30-х годах. Но это потом, когда прочту второй раз и когда свалю неотложные дела. Язык книги великолепен.
Спасибо, что А. Мильчина познакомили с «Круглым столом». Посылаю еще книжку. Буду чрезвычайно благодарна за критические замечания. Можете писать ядовито. Люблю злые слова, если они идут от доброго желания помочь.
Будьте здоровы!
Пермское издательство по своему почину заказало 10 экз. «Лаборатории». Здесь ее уже нет и едва ли будет.
К. Рождественская.В тот же день 10 апреля 1961 года, которым было помечено письмо о рецензии Ф. Левина, Лидия Корнеевна написала о ней Л. Пантелееву:
Просьба к Вам: возьмите в библиотеке № 3 «Вопросов литературы» и прочитайте там рецензию Ф. Левина на мою книгу. Рецензия «очень положительная» – и при этом отрицающая возможность применения ленинградского опыта. Не ответить ли – в том же журнале? Подумайте и напишите (С. 180).
Пантелеев отвечать отсоветовал; он считал, что те, кому книга нужна, будут ею пользоваться независимо от положительных или отрицательных рецензий.
Но Лидия Корнеевна с мнением Пантелеева не согласилась:
Насчет рецензии Левина – я тут с Вами не согласна. В моей книге – и в Маршаковской главе и в предыдущих, особенно в «Редакционном оркестре», содержится призыв работать иначе, перестроить редакционную работу. Дело не в том, чтобы работать «как Маршак»; дело в том, чтобы работать в искусстве, а не в казенном заведении. Прогрессивный критик должен был бы этот призыв подхватить… А Левин поступил иначе: он похвалил книгу и автора, но перемены, видите ли, неосуществимы! Мне же перемены дороже, чем книга и автор. Затем: я не считаю красивым поступком объяснять мне в рецензии, что у нас нет и не может быть направлений. У меня в книге мысль о различных направлениях проскочила чудом – и этому бы следовало радоваться молча.
Я буду ему отвечать, но, пожалуй, не в журнале, а в следующем издании книги – и, быть может, в скрытой форме, не называя его (С. 181; письмо от 4 мая 1961 года).
Что касается рецензии Федора Левина, то некоторые ее положения очень точно и толково оспорил молодой тогда литературовед и переводчик Владимир Муравьев. Его рецензия на книгу «В лаборатории редактора» была напечатана в третьем выпуске сборника «Редактор и книга» (М., 1960) под выразительным заглавием «Именем литературы».
Статью Ф. Левина о редакторах и рецензентах и о том, как, по его мнению, лучше всего наладить подготовку редакторов произведений художественной литературы, мы напечатали в четвертом выпуске сборника «Редактор и книга» (М., 1963). В этой статье (она называлась «О “лестнице шлюзов”, рецензентах и мастерах») он полемизировал с В. Муравьевым и отстаивал свое мнение о неприменимости опыта редакции, которой руководил Маршак, в современных условиях. Познакомиться с этой полемикой можно на сайте .
И книга Лидии Чуковской, и полемика по ее поводу были, на мой взгляд, очень полезны для совершенствования редакторского дела, для того, чтобы привлечь общественное внимание к редакторским проблемам, существенным не только для издательского дела, но и для литературы в целом. Другое дело, что в советских условиях реализовать то, за что ратовали Чуковская и Муравьев, не было никакой возможности из-за охранительной идеологии, насильственно насаждаемой компартией.
Видимо, именно это имел в виду Л. Пантелеев, когда 30 апреля 1963 года, познакомившись со статьей Чуковской «Процесс прохождения» в четвертом выпуске сборника «Редактор и книга» и назвав ее «великолепной», благодарил «вообще за то большое дело, которое Вами поднято, за то движение, которое Вы начали и возглавили», но все же делал оговорку:
Можно ли рассчитывать, что в результате Вашей деятельности коренным образом изменится обстановка в издательствах? Нет, это было бы, конечно, наивно – ждать таких сказочных перемен! Но – если почешутся, задумаются, постыдятся делать самое наигнуснейшее из того, что делали, – и то хорошо, и за это Вам низко поклонятся все пишущие (С. 208).
Лидия Корнеевна эту похвалу Пантелеева так оценила в письме к нему от 6 мая 1963 года:
Я буду носить его [Ваше письмо] как орден – не на груди, так в сумке! – всем буду показывать и хвастаться взахлеб! (С. 208).
Откликов на книгу «В лаборатории редактора», устных и в виде писем автору, было немало.
Пантелеев старался знакомить Лидию Корнеевну с любым устным откликом о книге, например 15 января 1961 года пересказывал хвалебный отзыв главного редактора ленинградского Детгиза Агапова, и выражал уверенность, что книгу скоро переиздадут. Это его предсказание сбылось незамедлительно.
Тираж первого издания был быстро распродан, и возникла необходимость во втором, что было на руку Лидии Корнеевне, которую обсуждение книги и отклики на нее побудили расширить и дополнить разговор о редактировании вообще и особенно о работе редакции, которой руководил Маршак. По просьбе нашей редакции издательство «Искусство» приняло решение выпустить второе, дополненное и исправленное издание книги.
Не могу сейчас точно вспомнить, когда договор на второе издание был подписан, но уже 22 августа 1961 года Лидия Корнеевна пишет Пантелееву:
Работаю над «Лабораторией» (2[-е] изд). Между прочим, у меня вопрос к Вам: редактору не «нра», что я называю Вас «выпускником петроградского детского дома» ([с.]222 [1-го изд.]). Пожалуйста, посоветуйте, как мне обозвать Вас иначе? (Это не «мой» редактор, из издательства «Искусство», милый и умный, а редактор из Дома детской книги, где глава о Маршаке идет отдельно в каком-то сборнике.) (С. 181–182).
Напрасно Лидия Корнеевна противопоставила меня редактору Дома детской книги: его замечание было справедливым, что подтвердил и Алексей Иванович, предложивший в письме от 31 августа того же года вообще никак его не «аттестовать», а в крайнем случае поставить «тогда начинающий писатель».
В этом же письме Пантелеев снова вернулся к главе «Маршак-редактор» и снова высказал некоторые претензии к фактической стороне описанного. Лидия Корнеевна согласилась не со всеми; ее письмо от 5 сентября 1961 года показывает, что они с Пантелеевым хотя и были свидетелями одних и тех же событий, но запомнили их по-разному: Пантелеев, например, утверждает, что в маршаковской редакции авторы могли прочесть стихотворный экспромт, а прозу не читали никогда, а Чуковская – что прозу вслух, главу за главой, читали очень часто. Чуковская и в следующем письме, от 15 сентября того же года, настаивает на своем, а вдобавок подчеркивает, что ей важно было создать «образ» редакции, а потому мелкие фактические или хронологические погрешности (например, у нее изображена встреча в редакции двух литераторов, которые на самом деле одновременно там находиться не могли) считает возможным не исправлять.
Рукопись второго издания Лидия Корнеевна представила в срок.
За время подготовки продолжилась наша переписка, значение которой, как представляется мне, шире, чем просто документальные свидетельства творческой и издательской истории книги, что побуждает меня привести письма Лидии Корнеевны почти целиком. Переписка приходилась на то время, когда Л.К. жила не в Москве.
По письму от 6 апреля 1961 года можно судить, как трудно приходилось Л.К. из-за проблем со зрением:
Глазам немного лучше. Над Герценом работать начала, то есть даже начала писать. От издательства пока вестей нет, и я стараюсь о нем не помнить и не думать. Ибо думать о нем – значит вспоминать о сроке.
По каким-то местам в страницах дополнений у меня были вопросы. На них Лидия Корнеевна ответила запиской:
Ну вот, дорогой Аркадий Эммануилович, кажется, я справилась с этими страницами.
Тот вопрос, ответ на который внушал сомнение вам и Самуилу Яковлевичу, я убрала. Ибо отвечать на него в этом месте мне не с руки.
Мелочи сделала.
Получили ли Вы мое письмо со ссылками? <…>
Л. Ч. Переделкино 27/XII 62.Вообще о том, что мое редакторское чтение все же принесло некоторую пользу и помогло Лидии Корнеевне уточнить и улучшить текст книги в частностях, можно судить и по другим ее ответам на мои вопросы и замечания. Записки эти, к сожалению, не датированы, но безусловно относятся к работе над текстом второго издания:
Посылаю Вам рукопись. Я поработала над ней сильно – и, кажется, к лучшему. <…>
Многие Ваши замечания, как Вы увидите, я приняла. Но не все. Главу 8 никуда нельзя сдвинуть. Она – естественное преддверие к разговору о повести. Но я совершенно изменила ее начало. Изменила и начало девятой – которое есть, в сущности, замаскированное продолжение восьмой.
Из последней главы убрала несколько абзацев и кое-что в ней тронула.
Иногда то, что Вы считаете повторением, я повторением не считаю.
Все Ваши пометки на полях я сохранила, чтобы Вам удобнее было проследить Вашу и мою работу. С той же целью посылаю Вам вынутые (и замененные) страницы: на них Ваш карандаш.
Пожалуйста, когда прочтете – позвоните мне.
Посылаю дополнения к примечаниям. Вероятно, и это не все – но тут уж Вы мне должны будете подсказать, чего не хватает или что наврано. А у меня ведь нет перед глазами текста.
Страницы о разгроме редакции пришлю на днях. Меня, как всегда, режет машинистка.
Слушала Владимира Иосифовича [Глоцера]. Очень жалела, что слушаю, а не смотрю (нет 1-го экз.!) и что не сделала этого раньше. Фактически все это, как всегда у Владимира Иосифовича, – правильно; ошибок я не приметила, но неуклюжести есть – словесные и тактические. Очень прошу снять об Александре Иосифовне Любарской – раз Будогоская не пишет о ней – сноска звучит нелепо. Да и сформулирована она неладно, что значит «вела»? и почему «интересно»?
Надо либо сказать точно, либо уж промолчать. А объяснять устройство редакции комментируемый материал не дает, пожалуй, повода.
Надо было (мне) просить Будогоскую написать об А<лександре> И<осифовне>. Тогда можно было бы и комментировать. А я вовремя не схватилась. Теперь выходит, что редактировали С<амуил> Я<ковлевич> и Т<амара> Г<ригорьевна>, а «вела» А<лександра> И<осифовна>. Неладно.
Речь идет о воспоминаниях Будогоской в подборке «О редакторском искусстве Маршака» (Редактор и книга. М., 1963. Вып. 4), которые перед публикацией читал Лидии Корнеевне Глоцер, как и другие воспоминания из подборки. Сноски, о которой пишет Лидия Корнеевна, в публикации нет.
В феврале 1963 года оригинал был сдан в производство, в конце мая сверка была подписана в печать, хотя была небольшая задержка из-за страниц с рассказом о разгроме в 1937 году редакции, которой руководил Маршак, и об аресте авторов и редакторов – коллег Чуковской. Пришлось мне ездить в Главлит и камуфлирующими поправками спасать эти страницы. Они, конечно, пострадали, но все же суть их мне удалось сохранить. Впоследствии Лидия Корнеевна писала:
В 1962 году в двери еще светилась щель и едва не проскочила в печать моя повесть [ «Софья Петровна»]; в 1963-м – почти точно такая же – почти та же самая – страница о разгроме редакции Маршака проскочила во втором издании моей книги «В лаборатории редактора» (М.: Искусство, 1963. С. 323), а вот в 1970-м в сборнике памяти С. Маршака она уже напечатана быть не могла.
Время крепло, определялось (Чуковская Л.К. Процесс исключения // Соч.: В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 28–29).
Конечно, моя удача объяснялась благоприятным стечением обстоятельств: и тем, что цензор оказался не бурбоном, и тем, что директором издательства «Искусство» был Александр Васильевич Караганов, а не какой-нибудь партийный функционер. Вдобавок я оставался верен решениям ХХ съезда партии, и новые идеологические установки, предписывавшие отход от них, не стали для меня руководящими; наконец, в отличие от заместителя главного редактора издательства «Советский писатель» Б. Соловьева, я был на стороне автора, а не против него.
Этим я заслужил большую благодарность Лидии Корнеевны.
Когда книга вышла, я горевал из-за того, что не нашлось для книги коленкора иного цвета, чем черный. Лидию Корнеевну это тоже огорчило. Она писала Пантелееву:
Гробовый переплет, не правда ли? Подходил бы для Истории собачьего налога (С. 215).
Мне же она подарила экземпляр с утешающей надписью:
Дорогому другу, Аркадию Эммануиловичу Мильчину, чтобы не был мрачным, – даже глядя на черный переплет этой книги и на многое другое – от автора признательного и не забывающего.
Л. Ч. 9.VIII.63
Такая надпись дорогого стоит: удостоиться звания друга от такого человека, как Лидия Корнеевна, – это дар, которого я, по совести, все же не заслуживал. Да, в работе над этой книгой я изо всех сил старался соответствовать автору и быть ему помощником, но и только.
Тем не менее Лидия Корнеевна оценила мою работу необыкновенно высоко и в письме к Л. Пантелееву от 31 августа 1963 года:
На днях Вы получите мою книгу – 2[-е] изд. «Лаборатории». Я напишу на титуле, какие там новые страницы. Прочтите их и напишите суждение… Хотя главная вставка (о разгроме редакции) сильно сокращена и искалечена – я все же рада, что удалось назвать имена погибших… Рада также, что удалось вставить страничку о Васильевой… А все золотой человек – Мильчин. Без него ни 2-го издания не было бы, ни вставок (С. 213).
Получив второе издание «Лаборатории», Пантелеев так отозвался о нем в письме к Лидии Корнеевне от 9 сентября 1963 года:
Хотел последовать Вашему совету и посмотреть только новые куски, вставки, но – вчитался, и получилось так, что прочел все снова от первой до последней страницы.
Да, обидно, что резали и кромсали, но и за то, что Вам удалось сделать, – большое спасибо. И Вам спасибо, и тем, кто облегчил Ваш путь. <…>
Золотому человеку – Мильчину – передайте, пожалуйста, мой привет и читательскую благодарность.
Книга Ваша и была отличной, а стала еще лучше. Но ведь она опять не дойдет до читателя (до так называемого широкого читателя). Готовьте еще издание!.. (С. 214–215).
В ответном письме от 16 сентября Лидия Корнеевна писала Алексею Ивановичу:
Ваш привет Мильчину я передала, он смущен и обрадован. Я тоже – Вашим, таким для меня дорогим, одобрением. Но, конечно, милый друг, о 3-м издании я не мечтаю. Потому что ведь и 2-е пробил Мильчин с трудом, и Главиздат [правильно: Союзкнига] набрал всего 8000 заявок, так как газеты промолчали, нигде (кроме «Вопросов литературы» и, совершенно мельком, «Нового мира») не было отзыва. А ведь для переизданий нужны рецензии, рецензии и еще раз рецензии…
Ну, бог с ними. Книга хоть и медленно, а все же до читателей доходит и свое дело делает – это я вижу по письмам из разных мест от разных начинающих (С. 216).
Пантелеев еще в одном письме (от 21 апреля 1964 года) сообщал об откликах на «Лабораторию»:
Между прочим, книга Ваша стала такая знаменитая, что ее цитируют – и не только по существу, а в качестве стилистических и грамматических примеров. На днях я просматривал какой-то сборник, изданный Академией наук, и там в статье с сугубо ученым названием («Теоретические основы действующих правил о слитном и раздельном написании НЕ и возможные пути совершенствования и облегчения этих правил» – цитата из Л. Чуковской («…сюжетную линию подсказал НЕ-романист Боткин») (Там же. С. 221).
Еще один весьма своеобразный отклик на книгу сообщил Лидии Корнеевне Алексей Иванович в письме от 29 января 1967 года:
Вот что мне рассказал на днях Д.Я. Дар. Его молодой приятель и соавтор, очень талантливый Леша Ельянов, устроился на работу в ленинградский Детгиз. В первый же день его приглашает к себе главред, подонок Агапов и спрашивает:
– Ты знаешь, какова главная задача нашей редакции?
– Нет, я еще не обдумал этот вопрос.
– Главная задача – это вытравливание остатков Маршаковского духа.
Откуда эта ненависть у этих молодых, которые в глаза не видели Маршака?! Кто передал им эстафету? Или тут действует Ваша книга, моя статья и прочая апологетическая литература, при чтении которой у этих пигмеев начинается тошнота и головокружение?
А ведь беспокоиться им, в сущности, нечего. Пока не придет новый Маршак, могут спокойно жить, есть и вычеркивать «повторы». Ведь эта эстафета, увы, не передана. Книги (даже такая талантливая книга, как Ваша) заменить Маршака и школу не могут (Там же. С. 257).
В ответном письме от 9 февраля 1967 года Лидия Корнеевна так оценила рассказ Дара:
Страница из Вашего письма – та, где рассказано о беседе Леши с Агаповым – преинтересная… Но, если вдуматься, ведь все это естественно. Вы спрашиваете, кто передал молодым эстафету ненависти? Тут – инстинкт, это раз; а затем – есть кому распространять ненависть; ведь такие убийцы, как Г.О. М[ишкевич], напр[имер], – живы и процветают… А вообще-то, ситуация смешная: с чего они взяли, что дух С[амуила] Я[ковлевича] может снизойти на них? снизойти до них?
Но почему их прорвало именно теперь, сегодня – догадаться не могу. Моя книга [ «В лаборатории редактора»] вышла уже давно. Воспоминания Шварца – кусками – уже давно тоже. Ваши воспоминания? Может быть, как «последняя капля». Но это тоже странно, так как Вы написали об С[амуиле] Я[ковлевиче] «вообще», а не впритык – о его редакторской деятельности (С. 258).
Из читательских писем, присланных после выхода 2-го издания в издательство «Искусство» на имя Лидии Корнеевны, выделялось письмо читательницы из Ленинграда М.Е. Адриановой от апреля 1965 года. Поскольку я уже работал в издательстве «Книга», из «Искусства» послали его мне, а я – Лидии Корнеевне.
М.Е. Адрианова хвалила книгу («нужная, умная, хорошая»), сожалела, «что название книги сужает круг читателей», и выражала мнение, что ее «должны прочитать и знать учителя русского языка и литературы». Пересылая письмо Адриановой Лидии Корнеевне, я в сопроводительной записке высоко оценил его:
Меня оно очень порадовало и подтвердило то, в чем я был убежден: «В лаборатории редактора» учит искусству художественного слова, его восприятию, пониманию его тонкостей, восполняя пробелы в литературно-художественном образовании обыкновенных читателей.
Эта черта, особенность Вашей книги все время оставалась незамеченной, и вот читательница первой сказала о ней.
Лидия Корнеевна так откликнулась на это письмо и мою записку:
Дорогой Аркадий Эммануилович.
Когда я вижу на конверте Ваш почерк, я всегда знаю, что получу подарок.
В самом деле, и Ваше письмецо, и Адриановой – это подарки. Когда-то Герцен писал о «религии понимания». В сущности, каждый литератор берется за перо со скрытой жаждой обрести братьев. Все наши книги – письма к неизвестному другу. И когда друг откликается – тогда значит, я жива, мы живы.
Как Вам работается? Рада была бы увидеть Вас. Я сейчас много в городе, на дачу не езжу. Приходите! <…>
25/IV 65.В 1966 году я общался с Лидией Кореевной главным образом по телефону. Она в то время постоянно болела. Плохо было с сердцем, с глазами. Говорила, что работать почти не может и что от заветной мечты – книги о Герцене в «ЖЗЛ» – вынуждена отказаться. Пусть читатель сам оценит, чего стоило Лидии Корнеевне на этом фоне выступить с открытыми письмами в защиту Синявского и Даниэля, Сахарова, Солженицына.
Последнее письмо Лидия Корнеевна написала мне уже в 1969 году, когда у нее возникло желание и необходимость подготовить 3-е издание книги «В лаборатории редактора».
Госкомиздат установил порядок, при котором, прежде чем принять решение о переиздании какой-либо книги, издательство было обязано послать в Союзкнигу запрос о том, распродано ли предыдущее издание. При утверждении тематических планов центральных издательств в Госкомиздате (в нашем случае в его Главной редакции общественно-политической литературы) это проверялось в присутствии представителей Союзкниги. К сожалению, ответ Союзкниги был неутешительным: в книготорговой сети книга еще была в наличии, хотя, думаю, в небольшом количестве экземпляров. Да и говорило это не столько об отсутствии спроса на книгу, сколько о неверном распределении книги по книготоргам и магазинам: туда, где мало потенциальных читателей, было послано избыточное число экземпляров, а туда, где таких покупателей много, – считаные экземпляры.
Вот что, например, ответил на мой вопрос один из харьковских авторов нашей редакции Я. Донской в письме от 24 декабря 1960 года (речь в его письме идет еще о первом издании книги «В лаборатории редактора»):
Мне точно не удалось выяснить, сколько Харьков получил книги Лидии Чуковской, но факт остается фактом: все то, что получено, – распродано, многие хотели бы ее приобрести, но ее уже не найти, она стала библиографической редкостью. В книжном универмаге на пл. Тевелева было экземпляров 25, я сразу взял 6, остальные молниеносно разошлись. Вчера один мой близкий товарищ просил достать один экземпляр. Я связался почти со всеми крупными магазинами и по «большому блату» достал в магазине № 12 (поселок Харьковского тракторного завода).
Я интересовался – кто покупает эту книгу? Не только редакторы. Она заинтересовала писателей, журналистов, преподавателей, литературоведов и многих других людей, любящих нашу советскую литературу.
Вы имеете все основания ставить вопрос о втором издании или о новом заводе. Поверьте мне – Вы не ошибетесь.
Вообще, должен Вам сказать, что ни одна книга по вопросам книгоиздательской работы не залеживается.
Вы это, конечно, хорошо знаете. Это знаем и мы. Но этого никак не хотят, видимо, понять книготоргующие организации, где косности не так уж мало.
Была еще одна причина – расстановка наших книг в магазинах согласно книготорговой классификации, по которой литературу о полиграфии, а вместе с ней и книгоиздательскую литературу относили к литературе о легкой промышленности. Вот как это проявлялось в ленинградском Доме книги, по свидетельству О.В. Рисса в письме ко мне:
В первом этаже нашего Дома книги раздел издательско-полиграфической литературы загнали буквально в угол – в угловую витрину, до которой и не дотянуться, если хочешь посмотреть, что вышло нового. Вообще, этой литературой нигде не торгуют так безобразно, как в нашем Доме книги! А все потому, что больше идут лежащие рядом «Справочники по уходу за автомобилем» и книги о кройке и шитье! Часть изданий «Книги» попадает в отдел педагогики, где они заметнее покупателю.
Но даже и в том случае, если бы книга была распродана, вряд ли она прошла бы через издательское (директора М.Я. Телепина) и комитетское сито при обсуждении и утверждении планов. Лидия Корнеевна уже стала тогда для властей предержащих нежелательным автором. По ее собственному выражению, «время крепло, определялось».
Было очень горько отвечать отказом, но ничего другого сделать было нельзя.
На мое письмо Лидия Корнеевна ответила так:
8. XI 69.Дорогой Аркадий Эммануилович.
Спасибо Вам за слова сочувствия и соболезнования. Знаю, что они искренни.
О книге моей – пусть так, ничего сейчас не поделаешь. Разумеется, то, что она не разошлась (хотя у меня кипа читательских писем с просьбой прислать ее) – подстроено, или, как сейчас любят говорить, «не случайно».
Пусть так. Это последнее из моих огорчений. Не огорчайтесь и Вы.
Крепко жму Вашу руку. Будьте здоровы.
Преданная Вам Лидия Чуковская.
И тут я не могу не покаяться, так как после этого я перестал посещать Лидию Корнеевну: сначала потому, что не желал ее беспокоить и совестился своего отказа, а затем из страха нажить неприятности и лишиться работы. Конечно, у нас уже не было деловых причин для общения, но ведь и раньше наши встречи и беседы были вызваны не только деловыми причинами. Так в угоду собственному благополучию я, в сущности, пренебрег не скажу – дружбой, но добрыми отношениями с замечательным человеком, настоящей совестью нации. Потерял только я.
До сих пор с горечью и болью вспоминаю об этом. И когда в 1990 году вышел составленный мною сборник «Писатели советуются, негодуют, благодарят», который Лидию Корнеевну не мог не заинтересовать, я так и не решился послать ей этот сборник, как мне этого ни хотелось, как ни важно было услышать ее мнение об этой работе, итоге многолетнего труда, замысел которого был навеян также и книгой «В лаборатории редактора». Мне стыдно было напрашиваться на какое бы то ни было внимание к себе после более чем двух десятилетий молчания. Так и не послал. Посчитал, что не имею морального права.
В новое время книгу «В лаборатории редактора» заслонили публицистические и художественные произведения Чуковской, сделавшие ее всемирно известной. Книга была насильно изъята из активной жизни, и новые поколения издателей и редакторов советского времени, а равно и так называемый массовый читатель – учителя и любители литературы – не могли ее прочитать и извлечь из нее пользу. Конечно, некоторые следы времени Лидия Корнеевна, будь она жива, постаралась бы убрать, но и в нынешнем виде эта страстная книга в защиту искусства слова, отстаивающая интересы писателя и читателя одновременно, ратующая за редактора-творца, редактора-художника и настоящего друга автора, остается современной и нужной.
История третьего издания книги «В лаборатории редактора» архангельским издательством «Правда Севера»
Это издание обязано своим появлением молодому сельскому священнику из-под Архангельска отцу Иоанну (Привалову). Историю этого издания лучше всего восстанавливает переписка с ним и с Еленой Цезаревной Чуковской. Эта переписка и публикуется ниже. Конечно, может быть, кому-то такое решение покажется избыточным, но, с другой стороны, это событие в издательской жизни страны настолько необычное, что хочется восстановить его во всех деталях. Правда, первое письмо отца Иоанна ко мне не сохранилось. Он написал его, познакомившись с моими воспоминаниями об издании книги «В лаборатории редактора», опубликованными в «Октябре» (2001. № 8). Как поклонник творчества и личности Л.К. Чуковской, он захотел возродить эту книгу к жизни и решил убедить в этом руководителей архангельского издательства «Правда Севера», о чем сразу меня известил. Я ответил ему:
Глубокоуважаемый отец Иоанн!
Конечно, если Ваши переговоры о новом издании книги «В лаборатории редактора» Лидии Чуковской будут успешными и Вы найдете для него издателя, я буду рад написать вступительную статью к этой книге. Прошло почти полвека со времени выпуска ее 1-го и 2-го изданий. Вскоре после их выхода они были насильственно отрезаны от читателей, и несколько поколений ничего о них не знали. Между тем эта книга не только для специалистов-редакторов, хотя в первую очередь для них. Не случайно ею так восхищались школьные учителя литературы. Книга помогала понять, что такое искусство художественного слова, учила, как его воспринимать во всех тонкостях, т. е. восполняла пробелы в литературно-художественном образовании читателей. С другой стороны, книга исторически ценна как памятник борьбы против советской бюрократической системы в издательском деле. Именно на защите писателей от этой системы оттачивала свой публицистический талант, свой общественный темперамент Лидия Корнеевна Чуковская.
В связи с этим я даже подумал, что, может быть, стоит подключить к новому изданию «В лаборатории редактора» статьи Лидии Корнеевны на редакционно-издательские темы: «Рабочий разговор» из альманаха «Литературная Москва» (вып. 2) и «Процесс прохождения» из сборника «Редактор и книга» (М., 1963. Вып. 4. С. 55–98). Это превратило бы новое издание книги «В лаборатории редактора» как бы в третий том двухтомника ее «Избранного». Понятно, что во вступительной статье надо будет использовать те фрагменты текстов из двухтомника избранного Л.К., которые относятся к теме редакционно-издательской и редакторской работы. А если в архиве Елены Цезаревны есть письма Л.К., также затрагивающие эту тему, то и они пришлись бы ко двору в таком издании. Пишу об этом как об одной из возможностей, полезной при переговорах.
Всего наилучшего! А. Мильчин.
После первых попыток преуспеть в своем начинании отец Иоанн написал мне:
Середина июня 2005 г.Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
За сегодняшний день моя вера в возможность издания книги Лидии Корнеевны успела пошатнуться и восстановиться снова. Без вхождения в подробности могу сказать: решающее слово принадлежит генеральному директору издательства Екатерине Николаевне. Она сказала: «Книга очень нужная, но не для массового читателя. Давайте издадим тиражом в 500 экз., а дальше посмотрим». Мнение было сформировано и личным впечатлением (книга находилась у нее около недели) и Вашей статьей, которую она тоже успела прочитать.
К сожалению, мы не сможем пойти по предложенному Вами пути – собрать целый том разных статей Л.К., посвященных редакторской деятельности (ведь я – всего лишь сельский священник, не имеющий почти никакого отношения к издательской деятельности. Интерес к этой книге – чистый энтузиазм, зажженный Вашей статьей).
Поэтому будем готовить лишь третье издание с предваряющим словом от Вас.
Мне кажется, что в предисловии нужно ответить на несколько вопросов: 1. история этой книги; 2. ее непреходящая ценность, актуальность; 3. нужно правильно сориентировать современного читателя, чтобы он не отпугнулся множеством примеров из советской классики (ныне неизвестной) и некоторыми настроениями тех лет; 4. еще нужно сказать о других работах Лидии Корнеевны из этой же области.
Вот такие у нас новости и пожелания. А что думаете Вы?
Книга уже отсканирована. Если Бог даст, то на следующей неделе попробую продолжить переговоры.
Всего Вам самого доброго!С уважением свящ. Иоанн ПриваловМежду написанием письма и его отправкой позвонил Елене Цезаревне. Елена Цезаревна предлагает что-то купировать и в раздел «Приложение» все-таки поставить несколько статей на те же темы. Ну что ж, попробуем.
Это письмо свидетельствовало, что архангельское издательство все же решилось на издание, и дальше пошли письма с размышлениями, каким ему быть и как увеличить тираж.
Вскоре я получил письмо от отца Иоанна с вложенным в него письмом Е.Ц. Чуковской:
До 22.06.05Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Сегодня пришло письмо от Елены Цезаревны, которое я и переправляю Вам. Елена Цезаревна отказывается от мысли сделать какие-нибудь купюры в книге и предлагает включить в Приложение две статьи. Разумеется, я голосую «за».
Всего Вам самого доброго!
Как Вы думаете, сколько Вам потребуется времени для написания вступительной статьи?
С уважением свящ. Иоанн ПриваловК письму было приложено письмо Елены Цезаревны:
Дорогой отец Иоанн!
Ваше письмо пришло в ту минуту, когда я закрыла последнюю страницу «Лаборатории», кот[орую] не перечитывала уже несколько десятилетий.
Да, мое намерение сокращать примеры было нелепым (кстати, примеры даны мелким шрифтом и их при желании можно пропустить). В книге есть длинноты, на ней ощутима печать времени – опора на Горького, ссылки на Рассказы о Ленине. Но она писалась в определенные годы и это была та «марка», кот[орую] надо было наклеить, чтобы дошло письмо о достижениях разгромленной редакции (о разгроме скороговоркой сказано в конце), но этот разгром окрасил всю последующую жизнь Л.К. в литературе, да и в самой жизни.
А опора на классиков, выбор цитат из их произведений, сам строй мысли – все очень характерно для автора и не менялось с годами. И много мыслей очень существенных и сегодня не устаревших. (Например, страницы о корректоре я перечитывала, готовясь к понедельничному разговору с корректором, как сегодняшнее руководство к действию.)
Да, книжка совсем не массовая, со сложными профессиональными поворотами мысли. Но и тираж ей предстоит не массовый. Так что ничего менять не будем. Пересмотрела статьи о редакторском труде на предмет возможных приложений к книге. И таковых статей я нахожу только две. Остальные – вариации на темы, которые в книге освещены.
Эти две статьи для приложения «Классики и их комментаторы» (совместно с А.И. Любарской). Нужность этой статьи для меня бесспорна, в книге тема совсем не затрагивается. Я выудила эту статью с нашего сайта и прикалываю к этому письму.
Вторая статья, которую хорошо бы тоже поместить в приложение – это «Процесс прохождения». Статья печаталась в 1963 году в сб. «Редактор и книга», вып. 4.
Вскоре после извещения отца Иоанна о согласии «Правды Севера» издать книгу тиражом 500 экз. я написал Е.Ц. Чуковской:
21.06.05.Дорогая Елена Цезаревна!
Отчаявшись до Вас дозвониться (почему-то нет соединения с Вашим номером, а в воскресенье никто не отвечал), решил написать электронное письмо. После нашей встречи в метро я получил уже три письма от отца Иоанна. Последнее включало и Ваше письмо к нему. В связи с перепиской и сообщением, что гендиректор Архангельского издательства согласен на издание тиражом 500 экз., у меня возникла идея, которая, возможно, покажется Вам дикой или безумной, – организовать издание книги «В лаборатории редактора» как совместное Архангельского и какого-нибудь московского издательства. Это позволило бы увеличить тираж и не комкать идею приложений. Я готов переговорить об этом с заведующей редакцией издательства «ОЛМА-пресс», которая готовила к выпуску мои справочники. Думаю, что имеет смысл поговорить об этом и с издателем двухтомника сочинений Лидии Корнеевны, если он еще существует как издатель и у Вас с ним не утрачена связь. Для него это было бы третьим томом сочинений Л.К. Чуковской. Как Вы на это смотрите?
По поводу выбора Вами статей для приложения у меня возникли сомнения о верности предпочтения статьи о комментариях к «Рабочему разговору», если издание останется только изданием Архангельского издательства. Статья о комментариях полезна для издания, адресованного редакционно-издательским работникам, а при тираже 500 экз. Архангельского издательства оно не будет таковым. Я, правда, плохо помню детали «Рабочего разговора», попытаюсь получить его в «Ленинке», чтобы возобновить в памяти, что нужно и для написания вступительной статьи.
Велся ли с Вами разговор о договоре на издание? Или Вы заранее дали согласие на издание? Задаю этот вопрос потому, что договор, даже безгонорарный, свидетельствовал бы о серьезности намерений издательства и обязывал его как-то, а так есть только устное согласие, от которого в любую минуту можно отказаться.
Вот по поводу этих проблем и хотелось бы обменяться с Вами мнениями.
А отцу Иоанну его сообщение о согласии генерального директора «Правды Севера» издать книгу тиражом 500 экземпляров я прокомментировал так:
22.05.05. Москва.Глубокоуважаемый отец Иоанн!
Я предполагал нечто такое, о чем Вы написали относительно нового издания «В лаборатории редактора». Мне кажется, что и такое решение Екатерины Николаевны – благо. Она, по-видимому, генеральный директор Архангельского издательства? Так? Поэтому незамедлительно возьмусь за вступительную статью, хотя хотелось бы знать, какой объем ее устроит издательство и в какой срок ее нужно представить. Что касается содержания статьи, то полагаю, что указанные Вами темы согласованы с издательством, т. е. являются и его точкой зрения на содержание вступительной статьи.
Относительно сокращения текста книги «В лаборатории редактора» ради включения в приложение нескольких статей Лидии Корнеевны на редакционно-издательские темы, я не исключаю такой возможности, но постараюсь выяснить у Елены Цезаревны, какой материал книги она считает лишним в новом издании и почему публикация без него не нанесет ущерба существу книги, так как это необходимо оговорить во вступительной статье. Прочитав ее письмо к Вам, пересланное мне, я понял, что она от этого предложения отказывается, и правильно делает. А вот выбрасывать примеры ради сокращения объема я бы не стал, так как без конкретики разговор о редактировании теряет ценность. Впрочем, постараюсь узнать у нее, какого рода примеры она имела в виду.
Если рассматривать новое издание «В лаборатории редактора» как дань памяти такому замечательному человеку, как Лидия Корнеевна, ее роли в истории России, то статьи в приложении очень важны, потому что именно в них она наиболее ярко выступает как борец с несправедливыми советскими порядками. Учитывая малый тираж книги, может быть, Екатерина Николаевна согласится на включение этих статей в издание без сокращения основного текста, что нежелательно из-за исторического характера нового издания, а не ради снабжения редакционных работников ценной книгой. Думая о том, как сделать издание более тиражным, я пришел к неожиданному предложению – сделать его для Архангельского издательства совместным с каким-нибудь московским издательством. Однако, обсудив с Еленой Цезаревной это предложение, отказался от него.
Вступительную статью я уже написал и высылаю Вам вместе с этим письмом. Просьба к издательству проставить в статье точное официальное его название и фамилию генерального директора, так как Вы упомянули в своем письме только ее имя и отчество.
Всего Вам доброго и хорошего. А. Мильчин.
И вслед за этим письмом пришлось посылать другое, с поправками в тексте вступительной статьи после замечаний Елены Цезаревны Чуковской:
22.06.05.Глубокоуважаемый отец Иоанн!
Не успел отправить Вам «Вступительное слово», как вынужден слать вдогонку поправки. Елена Цезаревна, прочитав «Вступительное слово» и одобрив его содержание, указала мне на ошибки в датах. Меня подвела память. Поэтому обращаюсь к Вам с просьбой внести несколько поправок в текст «Вступительного слова».
В 4-й строке от начала вместо 1958 должно стоять 1960, а вместо 1960–1963.
Кроме того, я не проставил дату выпуска сборника «Процесс исключения», оставив для нее место. Не мог найти сборник. Елена Цезаревна мне подсказала эту дату – 1990. Пожалуйста, вставьте ее там, где упоминается сборник «Процесс исключения» (это ближе к концу «Вступительного слова»).
Извините, что затрудняю Вас этими поправками.
Всего Вам доброго и хорошего! Ваш А. Мильчин.
И вот отец Иоанн радует меня сообщением, что отнес оригиналы книги в издательство:
02.07.05Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Сегодня отнесли «Лабораторию редактора» (со всеми приложениями и предисловиями) в издательство. Обещали работать над будущей книгой аккуратно. Правда, договор еще не подписан, но не по принципиальным соображениям, а просто потому, что бумаги ходят почтой из Архангельска в Москву и обратно. Очевидно, что заниматься книгой начнут лишь в августе, сейчас же будут просто знакомиться.
У меня появился Ваш «Справочник издателя и автора».
На этой неделе несколько раз перечитал Ваши воспоминания «“В лаборатории редактора” Лидии Чуковской», все-таки очень вдохновляющий рассказ у Вас получился. А «Лабораторию редактора» не выпускаю из рук.
Кланяюсь Вашим родным! Всего самого доброго!
С уважением свящ. Иоанн ПриваловОтец Иоанн не оставляет работу над книгой в издательстве без своего контроля, о чем свидетельствует следующее его письмо:
05.08.05Дорогой, глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Сегодня был в издательстве. «Лабораторией редактора» начали заниматься, договор в порядке, подписан, подбирают шрифты, художник появится на следующей неделе и т. д. Директор уделяет книге дополнительное внимание, держит на своем контроле. Все – слава Богу!
В конце прошлой недели прочитал очерк Лидии Корнеевны «Процесс исключения», в частности она рассказывает, как отклонили ее воспоминания о Маршаке, написанные в 1966 году, лишь за то, что там есть фраза «после смерти Сталина начались воскрешения». Это меня обожгло, я кинулся смотреть – опубликованы ли эти воспоминания на сегодняшний день? – оказалось, что нет. 40 лет прошло, а правда до сих пор не восстановлена!
Написал Елене Цезаревне, сказал, что готов издать эти воспоминания не из любви к литературоведению, а из необходимости восстановить справедливость. Елена Цезаревна пожаловалась на плохое здоровье и на следующий день попала в больницу, но через свою помощницу Ж.О. Хавкину успела передать, что можно попробовать приложить воспоминания к «Лаборатории редактора». А Жозефина Оскаровна, в свою очередь, предложила небольшие воспоминания Л.К. о Н.А.Заболоцком, тоже никогда не издававшиеся (мне они нравятся меньше, чем воспоминания о Маршаке). Таким образом, получилось еще два приложения, всего четыре.
Пишу обо всем Вам, так как Вы написали текст «От издательства», но, наверно, нужно упомянуть и эти два материала, которые публикуются впервые? Заодно интересно и Ваше мнение о новых текстах. Высылаю Ваш текст, фрагмент из очерка Л.К., где она говорит о своих воспоминаниях (его высылаю для понимания), сами воспоминания. Пожалуйста, не обращайте внимание на опечатки (их пока много из-за того, что текст сканировался спешно, оригиналы еще не доехали до Архангельска).
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович, я уезжаю на три недели из Архангельска в понедельник, если Вы сможете сделать эту работу до понедельника, то было бы здорово!
Всего самого доброго!
С любовью и глубоким уважением свящ. Иоанн ПриваловЯ ответил следующим письмом:
05.08.05.Дорогой и глубокоуважаемый отец Иоанн!
Сразу же прочитал Ваше письмо и приложения к нему, чтобы Вы успели получить мой ответ на Ваши вопросы до Вашего отпуска. Воспоминания о Заболоцком, интересные сами по себе, в книгу «В лаборатории редактора», на мой взгляд, включать не нужно (и я их не упомянул в предисловии издательства, хотя дополнил его строками о «Пяти письмах Маршака»). Воспоминания о Заболоцком к теме книги отношение имеют очень косвенное. Их хорошо бы опубликовать в каком-нибудь литературном издании, но отдельно. Тут уже все зависит от Елены Цезаревны, но почему она не пыталась этого делать, знает только она и, может быть, Ж. Хавкина, а это существенно, если Вы захотите это сделать.
Воспоминания о Маршаке я не только прочитал, но и вычитал, т. е. исправил орфографические и пунктуационные ошибки. Правда, два места, вызвавшие у меня вопрос, остались неизмененными. На с. 8 всего Вашего послания во 2-й строке сверху упомянуто слово «регошка». Мне оно неизвестно и непонятно. Не нашел я его и в словаре Даля. На с. 14 перед текстом письма Маршака из Италии расположены какие-то почтовые тексты, также малопонятные, и я бы их (все или хотя бы самые непонятные первые две строки) с разрешения Елены Цезаревны снял (дай Бог, ее подлечат, и она вернется из больницы, хотя Ваше сообщение не могло не встревожить меня).
Примечание 10 к письму оказалось без пояснения, кто же это лицо, которому Маршак передает привет. Пришлось в квадратных скобках сообщить, что примечание не было дописано.
Вот, пожалуй, и все. Посылаю Вам Ваше письмо и сопроводительные тексты обратно. Мои дополнения выделены желтым.
Ваш А. Мильчин.
P.S. Забыл у Вас спросить: Осталось ли издательство удовлетворено «своим» предисловием? Если есть какие-то замечания, надо бы знать.
Тут нужно пояснить, почему я назвал издательским предисловием написанный мною текст. Первоначально была задумка начать книгу предисловием издательства (его-то я и написал), а сокращенный вариант моей статьи в «Октябре» уже за моей собственной подписью поместить в виде сопроводительной статьи в конце книги. Но от такого решения потом отказались, и книга открывается сокращенным вариантом моей статьи в «Октябре», соединившим в себе вступительную статью к книге и предисловие к данному ее изданию.
А работа над книгой в издательстве продолжалась, и вскоре отец Иоанн прислал мне эскиз переплета. Я ответил ему:
04.09.05.Дорогой отец Иоанн!
Своим посланием с эскизами обложки (видимо, для переплета) Вы меня очень порадовали. Значит, издательство всерьез решилось на издание, раз заказало художнику оформление. Спасибо!
Что же касается моего мнения о том, какой эскизный вариант лучше, то я не художник и ценить художественные качества эскизов не берусь, поэтому выскажусь о смысловой их стороне. Если бы мне было предоставлено право выбора и за мной было решающее слово, я бы непременно отклонил вариант эскиза с вертикально поставленным заглавием книги. Причина: 1) чтобы прочитать заглавие, надо напрягать шейные позвонки; 2) такое расположение подходит для книг с произведением сложным, не без фокусов, но не соответствует книге с произведением, написанным просто, без всяких выкрутасов. Что же касается варианта с горизонтальным расположением заглавия, то оно, с моей, чисто смысловой точки зрения, никаких возражений не вызывает. А цветовое и шрифтовое решение смотрится приятно. По-моему, решающее слово за Еленой Цезаревной как наследницей автора, но не знаю, вышла ли она из больницы. Наверно, Вы ей тоже послали.
Относительно текста на задней сторонке обложки (переплета), то он у меня вызвал недоумение не качеством корректуры, а содержанием. Это реклама другой книги Чуковской. Что, издательство выпускает одновременно и «Памяти детства», раз озабочено ее рекламой? Мне кажется, что было бы правильнее разместить на задней сторонке рекламный текст, который бы завлекал читателя купить книгу «В лаборатории редактора», а не какую-то другую, пусть и того же автора. Рекламу же «Памяти детства», если она необходима, можно разместить на пустой странице внутри книги.
Всего Вам хорошего! Ваш А. Мильчин.
Поскольку в приложениях было решено поместить «Суждения Тамары Габбе о редакторском труде», в переписке с Еленой Цезаревной Чуковской мы обсуждали состав текстов этого приложения:
13.10.05.Дорогая Елена Цезаревна! Тексты о Т.Г. Габбе именно те, что я имел в виду, если считать, что текст о том, как бы она писала книгу о редактировании, уже включен раньше[14]. Единственный замечательный фрагмент, который я для себя пометил, это такой:
«Туся рассказала мне подробно и изобразила в лицах безобразную сцену в Гослите между Мясниковым [в 1941–1947 гг. редактор и главный редактор Гослитиздата], редакторшей и Самуилом Яковлевичем [Маршаком]. Редакторша сделала С.Я. замечания. Такие, например:
– Сапоги с подборами? Что за подборы? Такого слова нет.
С.Я. потребовал Даля. Подборы нашлись.
– Все равно, мне как-то не нравится, – сказала редакторша.
С.Я. сначала что-то уступал, потом взорвался:
– Это неуважение к труду! Я лучше возьму у вас совсем свою книгу!
– И возьмите! – крикнул Мясников.
Тут вмешалась Туся и стала успокаивать и улаживать. Жаль, в данном случае скандал мог бы быть победоносен» [я цитировал запись из дневника Чуковской от 14 марта 1946 года по изд.: Чуковская Л. [Соч. в 2 т.] М., 2001. Т. 2. С. 289].
Это, конечно, не суждения Габбе о редактировании, но это практика редактирования, причем очень поучительная, хотя и противостоящая подходу к конфликтам Лидии Корнеевны. А главное, пусть все на свете редакторы покраснеют за свою коллегу «с подборами», ибо это не случайный, а очень типичный случай разрушительного самомнения. Если Вы с предложением вставить эту запись согласитесь, то во вступительную фразу можно добавить после «некоторые суждения о редакторском труде»: «и любопытные случаи из ее редакторской практики». Тем более, что случай с Сергеевым из «Молодой гвардии» тоже не содержит каких-либо суждений о редакторском труде. Кстати, я бы посоветовал в запись о Сергееве вставить два пояснения:
1) после первого упоминания фамилии «Сергеев» поместить в квадратных скобках: [редактор издательства «Молодая гвардия», Иван Владимирович];
2) после фамилии Миклухи: [Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Статьи / ред. текста и примеч. Л. Чуковская. М., 1947]
Эти вставки взяты мною из Ваших же примечаний во 2-м томе двухтомника, но здесь их явно не хватает для лучшего понимания текста читателем.
Вот и все. Простите, что не ответил в день получения текстов.
Что-то помешало.
Всего наилучшего! Ваш А. Мильчин.
Эти мои предложения были приняты.
Затем отец Иоанн прислал мне «Краткие биографические справки» Лидии Корнеевны Чуковской, Тамары Григорьевны Габбе (ей была посвящена книга «В лаборатории редактора»), Александры Иосифовны Любарской (соавтора статьи «О классиках и их комментаторах», помещенной в приложениях к книге) и А.Э. Мильчина как инициатора и издательского редактора первого издания книги «В лаборатории редактора». Прочитав и предложив в них некоторые изменения, я эти тексты отправил для контроля Елене Цезаревне Чуковской:
02.11.05Дорогая Елена Цезаревна!
Отец Иоанн прислал мне тексты справок-примечаний для контроля. Мне показалось необходимым ознакомить Вас с моими поправками и вставками, а также с письмом к отцу Иоанну. Если у Вас будут замечания, сообщите их, пожалуйста.
Всего Вам наилучшего. Ваш А. Мильчин.
Посылая отцу Иоанну тексты справок с редакционной правкой, я написал:
02.11.05.Дорогой отец Иоанн!
Большое спасибо за то, что присылаете мне тексты. У меня в связи с присланными Вами примечаниями возник вопрос о том, как они будут подключены к тексту книги. Нужен, по-моему, какой-то вводный текст либо какая-нибудь связь с основным текстом. А то лишь справка о Лидии Корнеевны введена заголовком «Краткая биографическая справка», а другие никак не введены. Можно, например, перед каждым примечанием поставить заголовок-ссылку.
Так, перед примечанием о Т.Г. Габбе поставить:
К с. (и далее номер страницы с посвящением книги Тамаре Григорьевне).
Перед первым упоминанием Любарской то же самое. А если в тексте книги такого упоминания нет, то указать номер страницы в приложениях, где начинается статья Чуковской и Любарской о комментариях.
Перед примечанием обо мне указать номер страницы, где помещена моя фамилия под вступительной статьей.
Если что-то Вас и редакцию не устроит в моих поправках, вставках и предложениях, готов обсудить Ваши соображения.
Елене Цезаревне отправлю это письмо, чтобы она была в курсе дела и могла, если возникнет необходимость, уточнить что-либо.
Всего Вам хорошего! Ваш А. Мильчин.
Тогда же я попросил отца Иоанна сделать две вставки, показавшиеся мне существенными. Одна касалась такого момента в биографии Л.К. Чуковской, как ее арест в 1926 году и ссылка в Саратов, о чем она сама пишет в автобиографии, а вторая – тех двух фрагментов о Габбе, которые приведены выше в моем письме к Елене Цезаревне от 13 октября 2005 года.
В результате издательство поместило справки под общим заглавием «Краткие биографические справки», а все тексты о Т.Г. Габбе вошли в книгу.
Затем пришлось обсуждать тексты на переплете:
11.11.05.Дорогой отец Иоанн!
Я прочитал текст на задней сторонке переплета. Текст вполне приемлемый, но он не настолько оригинален, чтобы под ним ставить подпись автора. Впрочем, как-то мы обсуждали с Еленой Цезаревной, какой текст лучше всего поставить на переплете, и она предложила афористичную фразу из письма Лидии Корнеевны ко мне:
Когда-то Герцен писал о «религии понимания». В сущности, каждый литератор берется за перо со скрытой жаждой обрести братьев. Все наши книги – письма к неизвестному другу. И когда друг откликается – тогда, значит, я жива, мы живы.
Лидия ЧуковскаяМне эта цитата кажется более удачной, чем присланная Вами: эти слова как бы обращены к сегодняшнему читателю, а для меня содержат скрытый намек на то, что само новое издание книги – свидетельство того, что автор и его книга обрели еще одного брата, т. е. Вас, отец Иоанн. Чуковская написала эти слова под впечатлением одобрительного отзыва о книге «В лаборатории редактора» ленинградской читательницы Адриановой, которая считала, что книгу «В лаборатории редактора» должен прочитать каждый преподаватель литературы средней школы. Но главное, слова эти говорят, что с новым изданием Чуковская снова жива, живо ее слово о литературе.
Видимо, дело с изданием движется к завершению? Выйдет ли книга в этом году?
Было бы хорошо представить ее хоть в каком-то виде (пусть даже в виде макета) на ярмарке Non-fiction, которая пройдет на первой неделе декабря в Москве в Доме художника. Это в интересах издательства: теоретически можно получить заказ от московских книготорговых организаций и книжных магазинов. Поговорите на этот счет с издательством.
Спасибо за постоянную заботу об издании книги в наилучшем виде.
Всего наилучшего! Ваш А. Мильчин.
Предложенная мною цитата Л.К. Чуковской была помещена в книге в качестве эпиграфа. А на задней сторонке переплета поместили цитату из моей вступительной статьи о судьбе и значении книги «В лаборатории редактора».
И вот почти финал истории:
01.12.05.Дорогой отец Иоанн!
Поздравляя Вас и себя с выходом книги, не могу не высказать Вам большой благодарности за возрождение этой работы Лидии Корнеевны.
Что касается числа бесплатных экземпляров книги, которыми я хотел бы располагать, то, если это не будет большим нахальством с моей стороны, назову число 10 (десять). Заранее благодарю за такой дар. Ваш А. Мильчин.
В ответ отец Иоанн написал мне о некоторых своих огорчениях из-за упущений в издании:
06.12.05К сожалению, в этом издании Вы не найдете краткого предисловия «От издателей». Оно выпало на последних этапах работы, когда появился комментарий Елены Цезаревны (с. 394) к Приложению. Часть краткого предисловия ушла в аннотацию, а другую часть вместил в себя комментарий Е.Ц.
Необъясненным осталось лишь то, почему Архангельск вдруг взялся за третье издание.
Но, я надеюсь, это можно будет поправить презентациями и т. д.
Буду очень благодарен, если Вы дадите ход книге в СМИ.
Простите за все!
Все замечания буду ждать по электронной почте.
С глубоким уважением и братской любовью.
И после того, как книга в декабре 2005 года вышла в свет, наша переписка с отцом Иоанном не прекратилась. В ответ на мое письмо с благодарностью за выпуск книги и новогоднее поздравление он прислал ответное новогоднее поздравление с сообщением о предстоящем в феврале 2006 года вечере памяти Лидии Корнеевны Чуковской в Архангельской областной библиотеке. Писал он и о том, как расходится книга.
Дорогой, глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Большое спасибо за добрые слова и поздравления. Я тоже поздравляю Вас, Веру Аркадьевну и всех Ваших родных с Новым годом. Желаю вдохновения, радости, бодрости, крепости и здоровья! Очень радуюсь тому, что в 2005 году наши пути пересеклись.
В начале февраля [2006 г.] наше Свято-Архангельское братство в союзе с Областной библиотекой и «Правдой севера» будет устраивать вечер памяти Лидии Корнеевны. Вечер будет проходить в Областной библиотеке. Одна из задач вечера – привлечь внимание к творчеству Л.К., к ее книгам, в том числе и к «Лаборатории редактора».
После этого вечера, я думаю, мы еще проведем не одну презентацию книжки.
В нашем приходе разошлось около 70 книг. Благодаря тому, что сайт Чуковских рассказал о выходе книжки, а также сделал целый ряд точных шагов, сегодня в издательство пришло более 40 заказов (по электронной почте) из Москвы и других городов. Думаю, что вашим знакомым тоже стоит делать заказы через этот интернетовский сайт. Я вчера звонил в издательство, там сказали, что на все заявки будут высылать книги «наложенным платежом».
Вот пока и все наши новости.
Да, передача по радио сыграла свою положительную роль. Например, передача облегчила мои переговоры с Областной библиотекой по поводу предстоящего вечера (там услышали передачу «случайно»), это был дополнительный аргумент – «аргумент престижа».
После того как вечер памяти Л.К. Чуковской прошел, отец Иоанн прислал мне диск с записью всего, что говорилось на этом вечере, и, прослушав их, я написал ему:
03.04.06.Дорогой отец Иоанн!
Только вчера вечером я посмотрел и послушал вечер памяти Лидии Корнеевны Чуковской. Дело в том, что мой компьютер не раскрывал запись. Пришлось ждать, пока принесут ноутбук, который способен это сделать.
Вчера наконец это произошло.
Смотрел и слушал я запись с чувством удовлетворения. Потому что вижу в вечере памяти большой гражданский смысл: одним тем, что, привлекая внимание людей к жизни, деятельности, книгам и статьям Лидии Корнеевны, такой вечер не может не содействовать становлению гражданского самосознания, т. е. того, о чем пекутся сегодня наиболее сознательные люди нашей страны. С другой стороны, я радовался за жителей Архангельска: такой культурный акт сделал бы честь любому городу. Но ведь предпринял его только Архангельск. Спасибо всем организаторам. Думал я и о том, что близок 2007 год – год столетия Лидии Корнеевны.
По роду своей работы в издательстве «Книга» мне приходилось бывать в таком же очаге культуры, как Ваш, – Кировской областной библиотеке – на заседаниях клуба «Вятский библиофил», где стараниями замечательного энтузиаста Евгения Дмитриевича Петряева, а затем его дочери Натальи Евгеньевны в мир литературы и книги вовлекались жители Кирова (Вятки). И это было радостно видеть и слышать.
Должен сознаться, что из-за ослабевшего слуха я теперь не всегда разбираю слова, что помешало мне услышать выступления во всех деталях. Не расслышал я и фамилии выступавших. Не была представлена и ведущая вечер. Так что был бы Вам признателен за сведения о выступавших и о женщине, которая вела вечер. Небезынтересно мне знать также, где проводился вечер. В областной библиотеке?
Что же касается содержания вечера, то я не мог не сожалеть о том, что рассказ о жизни и творчестве Лидии Корнеевны был слишком академичным. А ведь Лидия Чуковская была человеком необыкновенно страстным, непримиримым к несправедливости и недостаткам. И это как-то затушевалось в спокойном, размеренном рассказе. Возможно, это было компенсировано в выступлениях, и я просто из-за глухоты не все разобрал.
Проиллюстрировано все было замечательно.
Не могло не радовать меня и то, что не забыли книгу «В лаборатории редактора». Признаюсь Вам, что мне несколько неловко было слушать все, что говорилось о моем покаянии, но со стороны, как говорится, виднее.
В общем спасибо Вам большое за все – вечер, книгу, запись. Хочется закончить это письмо пожеланием Вам успехов и удач во всех Ваших начинаниях. Будьте здоровы!
Всего самого хорошего! Благодарный Вам А. Мильчин.
На этом наша переписка с отцом Иоанном, увы, завершилась, но не изгладилось чувство восхищения от общения с этим прекрасным человеком, можно смело сказать общественным деятелем, не жалеющим сил для восстановления попранной справедливости.
Но история книги «В лаборатории редактора» Л.К. Чуковской на этом не закончилась. Усилиями Елены Цезаревны Чуковской, поддержанной издательством «Время», она была издана еще раз в 2011 году с моим послесловием «Возрожденная книга» и со статьей «О классиках и их комментаторах» А. Любарской и Л. Чуковской в приложении.
«Книжное искусство» В.В. Пахомова (1961. Кн. 1. Замысел оформления; 1962. Кн. 2. Иллюстрации)
Эта редакторская работа много значила для меня по разным причинам. И тот факт, что за нее меня удостоили вместе с другими создателями книги (техническим редактором И.Г. Румянцевой и художественным редактором В.П. Богдановым) малой серебряной медали ВДНХ, было наименее важной, хотя и приятной деталью.
Прежде всего, автор, Виктор Васильевич Пахомов, был для меня образцом для подражания, потому что все написанное им было основано на его опыте работы в Детгизе сначала в качестве художественного редактора, а затем художественного консультанта. До этой книги мне пришлось редактировать коллективный труд «Основы оформления советской книги», в котором лучшие главы принадлежали Виктору Васильевичу. И там, и здесь я видел обобщение высокого класса, с проникновением в самую суть каждого элемента оформления. Невольно зарождалась мысль о том, что хорошо бы написать подобную работу о методике редактирования текста. И тем, что через 20 лет, в 1972 году, вышла моя книга «Методика и техника редактирования текста», я обязан среди прочего и Виктору Васильевичу Пахомову.
Над его книгой я готов был работать не жалея ни сил, ни времени. Книга печаталась в Финляндии. Производство затянулось. У Виктора Васильевича было больное сердце, и он скончался еще до получения издательством гранок первой книги. А ведь для него, мастера макетирования, автора образцовой главы «Макет книги», который включили впоследствии в учебное пособие коллектива авторов «Художественное конструирование и оформление книги» (М., 1972), макет собственной книги был важен если не больше содержания, то почти так же. Макету следовало быть образцовым, по крайней мере отвечающим тем требованиям, которые были сформулированы Пахомовым в части, посвященной макету.
Пришлось макетировать книгу нам с Инной Румянцевой под наблюдением Владимира Богданова. Выклеивали мы макет у Инны дома, где, в отличие от издательства, нам никто не мог помешать.
Это была очень тяжелая, трудоемкая работа. Иллюстрации – без подписей, лишь с маленьким номером рядом и ссылкой на эти номера в тексте. Нужно было постараться разместить их так, чтобы они были рядом с текстом, в котором шла о них речь. Без изменения текста сделать это было порой невозможно. И я по мере надобности то сокращал, то разгонял текст, но так, чтобы это никак не сказывалось на его смысле и стиле. Порой приходилось при этом проявлять немалую изобретательность и находчивость. Оценивать это вмешательство в авторский текст приходилось самому. Мне кажется, что я с такой задачей справился.
Приезжал посмотреть нашу работу Андрей Дмитриевич Гончаров. Ведь Виктор Васильевич работал в институте на кафедре, которую он возглавлял. Он шутя покритиковал форму некоторых буквиц Пожарского, но не стал требовать каких-либо изменений.
Книга в оформлении известного художника С. Пожарского, приглашенного еще Виктором Васильевичем, вышла красивой и нарядной. Как жалко и горько, что она стала посмертным изданием и автор не мог увидеть ее.
Еще труднее было делать вторую книгу. Она существовала только в черновиках. Тем не менее мне удалось превратить их в более или менее цельную книгу. А затем надо было выклеить макет, преодолевая такие же трудности, как и при работе над макетом первой книги. Результатом мы могли гордиться.
Это была особая редакторская работа, не похожая ни на какую другую.
«Дозорные печатного слова» О.В. Рисса (1963), или Как мои неверные редакторские действия едва не погубили хорошую книгу
Когда Олег Вадимович Рисс прислал рукопись своей книги «Дозорные печатного слова», я, будучи уже заведующим редакцией, оставил ее за собой и стал ее ведущим редактором. Читал рукопись в основном по вечерам и в выходные. Поэтому оценка ее затянулась, что вызвало у Рисса вопрос. Он написал мне 24 января 1962 года:
Простите, что отвлекаю Вас от дел, которых, как я слышал, у Вас прибавилось, но пошел четвертый месяц с тех пор, как я отправил Вам рукопись «Дозорных» и не имею известий о ее судьбе. Должен ли я ждать дольше или возникли какие-либо затруднения, мешающие Вам дать ответ? Что Вы можете мне посоветовать? Может быть, сейчас вопрос о рукописи вообще неразрешим. Тогда не лучше ли просто ее вернуть «домой» и дело с концом?
Зная всегдашнюю Вашу аккуратность, я потому и встревожен Вашим молчанием. К тому же, натерпевшись в жизни достаточно обид, не хотелось бы присоединять к ним новые.
Олег Вадимович был прав, а я виноват перед ним. Сейчас я испытываю чувство острого стыда за тогдашнее свое поведение: ведь я уподобился тем редакторам и издателям, которые считают для себя необязательным отвечать на письма авторов. Поэтому, получив его полное тревоги письмо, я срочно закончил чтение и написал Риссу:
3 февраля 1962 г.Дорогой Олег Вадимович!
Закончил чтение «Дозорных…» Хочу поделиться первыми своими впечатлениями. Они очень противоречивы. Не для того, чтобы подсластить критику, а ради истины должен сказать: большую часть рукописи читать интересно, интересно потому, что в ней собраны и хорошо изложены выразительные факты. И все же в целом остаешься неудовлетворенным. Конечно, сказать так – значит ничего не сказать. Поэтому я старался и стараюсь понять причины этого ощущения.
Не знаю, насколько точен мой диагноз по первым впечатлениям, но мне представляется основной причиной того, что книга не получилась цельной (а это ее главный недостаток), попытка автора соединить в одно целое исторические материалы и некоторые утилитарно-практические сведения.
Вторая причина – отсутствие точного читательского адреса; то и дело ставишь перед собой вопрос: а это для кого написано? – и видишь, что одна часть текста больше заинтересует корректоров, другая – авторов в широком смысле слова, третья – только текстологов-литературоведов.
Третья причина – устремленность в прошлое. Не стану спорить, в большинстве случаев в этом прошлом много познавательно ценного, и обращаться к нему нужно. Но вся беда в том, что если адресовать книгу не для корректоров, то есть для редакторов и авторов, то опираться главным образом на исторические материалы, преследуя в то же время утилитарно-практическую цель, вряд ди оправданно: слишком изменились взаимоотношения и условия работы, многие факты потеряли свое значение и ценны сейчас лишь для текстологов. А Вы все-таки оперируете главным образом материалом уже довольно далекого прошлого. Поймите меня правильно: я не против того, чтобы читатель познакомился с этим материалом, но я за то, чтобы он был органичен в книге. Сейчас же, читая рукопись, не понимаешь, то ли это очерки о корректорах вообще для всех непосвященных или посвященных в эту область деятельности лишь поверхностно, то ли это очерки о части тех превращений, которые претерпевает рукопись на своем пути к книге. В то же время любая попытка оценить рукопись как имеющую ту или иную направленность сразу обнаруживает и пробелы, и отсутствие цельности.
Таковы общие несколько сумбурные, но, буду надеяться, понятные Вам соображения.
Должен сделать еще одно частное замечание, очень связанное со всеми общими. Мне представляется серьезным недостатком, снижающим ценность рукописи, то, что у Вас в большинстве случаев все построено на прямом взаимоотношении автор – типографский корректор. А ведь в действительности уже длительное время между двумя этими участниками создания из рукописи книги стоят многие другие работники, и потому картина в рукописи получается односторонняя, не вполне верная, для практических выводов во всяком случае.
Что же делать? Пока не знаю. Мне ясно, что хорошо было бы найти путь для придания рукописи цельности. Вся загвоздка в том – каков этот путь? С ходу не ответишь. Нужно еще и еще раз вернуться к рукописи, проанализировать ее во всех деталях и тонкостях, а я, к сожалению, могу это делать только поздними вечерами. Да к тому же нужно послушать сначала Вас. Вы ведь можете не согласиться с моими замечаниями. С другой стороны, замечания эти могут натолкнуть Вас на какое-то решение, созревающее уже давно. У меня одно желание – сделать изложенный Вами материал достоянием читателя, но сделать это так, чтобы каждый факт ложился в ум читателя как звено одной общей цепи.
Может быть, в связи с этим стоит посоветоваться с умным и знающим человеком? Если бы такой человек был к тому же еще ленинградцем, это было бы лучше всего. Мы бы отправили ему рукопись на рецензию, а Вы бы могли с ним повидаться и многое обговорить. Кого бы Вы считали в этом смысле удачной кандидатурой? Не подошел ли бы Б.Я. Бухштаб? Понимаю, что, читая последние строки, Вы непременно подумаете: «Нужно ли было ждать для этого три месяца!» Согласен, не следовало. Вина тут моя. Почему-то я был уверен, что для Вашей рукописи понадобятся лишь незначительные поправки. Еще раз хочу подчеркнуть – рукопись хорошая, интересная, но ей не хватает цельности, и, пока есть возможность, лучше сделать ее более весомой и значительной.
Понимаю, что такое письмо читать нелегко, но лучше выслушивать такие замечания на этом этапе, чем позже. Да и ориентироваться полезнее на самые высокие образцы литературы, а Ваша работа значительно выше по своим качествам других работ в издательской литературе. Это последнее бесспорно.
Итак, жду Вашего ответа. Всего доброго!
Таким был мой первый отзыв на рукопись книги, которую я очень ждал. Ведь это была первая, в сущности, популярная книга об одной из издательских профессий.
Отзыв же, как я теперь понимаю, несмотря на искренний доброжелательный тон, был неосмотрительно жестковатый для такой нервной натуры, как Олег Вадимович. Да и путаный какой-то.
Жизнь и работа многому учат, особенно после того, как больно натыкаешься на острые углы.
Один урок я извлек из неосторожного письма-рецензии на рукопись «Дозорные печатного слова». Неосторожность была в том, что оценки формулировались очень резко, и автор не мог не почувствовать общего моего отрицательного настроя.
А урок заключался не в том, чтобы отказываться от своих оценок из стремления не обидеть автора. Просто та же оценка, смягченная по форме, была бы полезнее и эффективнее.
Вдобавок нельзя было посылать отзыв автору с пылу с жару. Нужно было дать ему немного отлежаться и непременно прочитать его глазами автора. Тогда много в нем было бы исправлено и написано иначе. Нельзя было не учитывать психологические особенности адресата.
Размышляя сейчас об этом своем отзыве, я прихожу к выводу, что многие замечания были, увы, продиктованы общей атмосферой советской жизни того времени, которая заставляла вглядываться в текст редактируемой книги, предвидя возможные нападки на нее, а это не могло не вредить анализу и оценке.
Мне нужно было заботиться не о том, чтобы уберечь себя и книгу от придирок критиков-рецензентов в печати, а о том, чтобы помочь автору наилучшим образом воплотить свой замысел.
Отзыв на рукопись «Дозорных» был моей первой серьезной редакторской ошибкой. И вызвал соответствующую реакцию автора:
Ленинград, 8 февраля 1962 г.Дорогой Аркадий Эммануилович!
Не возражаю против отсылки рукописи на рецензию Б.Я. Бухштабу.
Угадываю за этим желание оттянуть развязку.
Ваше письмо, не скрою, меня убило. Главное, что Вы (а может быть, не Вы?) не оставили мне никакого выхода.
Не надо было мне браться за перо.
Примерно через две недели Рисс еще раз откликнулся на мой бестолковый и, в сущности, беспомощный отзыв:
Ленинград, 25 февраля 1962 г.Дорогой Аркадий Эммануилович!
Я думаю, Вы сейчас настолько заняты, а я настолько выбит из колеи, что мы не достигнем полной ясности, необходимой для продолжения дела. К тому же Вы даете мне практически неограниченное время, чтобы подумать над Вашими письмами.
Если Вы приедете в Ленинград и нам удастся увидеться, то я, конечно, поясню, почему все это меня как обухом по голове ударило. Как-то неудобно и бестактно сталкивать Ваше мнение с мнением других лиц, компетентность которых могла бы быть приемлемой и для издательства.
Разумеется, я был готов ко всяким переделкам, во-первых, потому что сам чувствовал необходимость усилить некоторые места, а во-вторых, – нашел дополнительные материалы. Я согласился бы даже, если бы Вы предложили сократить рукопись в два-три раза, но сейчас я просто не знаю, что делать и кого слушать. Вы же сами пишете, что не можете быть моим советчиком. Поэтому я не знаю, что Вам ответить, и предоставляю все дело течению времени.
Извините, что отвечаю с опозданием, но чувствую себя настолько подавленным, что не сразу даже решился распечатать последнее письмо.
Это мое февральское письмо не сохранилось, как и следующее мое письмо к Риссу от 5 марта 1962 года, где я, видимо, пытался сгладить резкость своего отзыва и настроить автора на такую доработку рукописи, которую он сам сочтет необходимой. Но Олег Вадимович еще не был готов к этому. Вот что он написал 10 марта в ответ:
Мне всегда было приятно делиться с Вами своими мыслями, планами, соображениями, но сейчас я, право, не знаю, что ответить на Ваше письмо от 5 марта. После того как Вы известили меня, что книжка «не получилась», я стараюсь вытолкнуть из головы всякую мысль о ней и заняться чем-либо другим.
Да если бы я решился вернуться к ней, мне бы потребовались более определенные «ориентиры», чем отрывочные замечания в Ваших письмах. Если нужно выбросить «Рассказы из типографии», давайте выбросим – я сам хотел дополнить их и выделить в особый цикл, то есть попытаться показать «рождение книги» не вообще, как Немировский и Горбачевский, а через знакомых мне людей. Если нужно что-нибудь добавить, скажите – что?
Я понимаю, что Вы задавлены неожиданно свалившимися на Вас большими обязанностями, поэтому и не жду, что Вы будете моим наставником. Но в Ваших руках – рукопись и решение вопроса о ней. Думаю, что Вы найдете способ, как говорят работники райкомов, «закрыть дело». А именно такое впечатление у меня и сложилось в результате нашей переписки, поэтому я и не надеюсь на какие-нибудь обнадеживающие перспективы.
Мои последующие письма к Риссу о «Дозорных…» не сохранились, но, видимо, мне удалось его убедить продолжить работу над рукописью. Во всяком случае, 6 мая 1962 года он уже пишет мне о внесенных в книгу изменениях и по моей просьбе перебирает разные варианты подзаголовка для титульного листа, но ни один его не удовлетворяет, и уже в следующем письме, от 11 мая, он предлагает такой вариант:
ДОЗОРНЫЕ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
О точности и борьбе с ошибками в изданиях
С небольшим изменением («О точности издания и борьбе с ошибками») этот вариант и был напечатан в книге.
А уже 30 июня 1962 года Рисс сообщает:
Заканчиваю перепечатку рукописи и в ближайшие дни вышлю ее Вам. Может быть, она Вам сейчас и не нужна, но пусть лучше лежит в Вашем столе, чем в моем.
Но я не положил ее в стол, а быстро прочитал и уже 8 июля 1962 года написал Олегу Вадимовичу:
Вам, наверно, покажется странным, что после моей суровой первой оценки «Дозорных» я выскажу сейчас свое полное одобрение переработанному варианту. Тем не менее это так. Немного как будто изменилось, а книга стала другой и, самое главное, целенаправленной, современной и ощутимо нужной. Есть у меня, конечно, отдельные частные замечания, но в целом все в порядке. Так что от души поздравляю Вас с успехом.
Дальше я стал готовить рукопись к сдаче в производство. Мне хотелось, чтобы оформление соответствовало популярному характеру книги. Поскольку мне очень нравились работы одного из художественных редакторов «Искусства» Евгения Смирнова, нравилось, как он оформлял книги для художественной самодеятельности, я уговорил нашего художественного редактора (тогда им был Володя Богданов) заказать оформление именно Жене Смирнову. И угадал. Яркая обложка не могла не приковывать к себе внимание. Внизу ее был изображен наборными средствами силуэт человека с развевающимся плащом за спиной. Человек держал обычную ученическую пишущую ручку, завершающуюся пером. Она пересекала по вертикали всю высоту обложки и была подобна древку флага, который вверху реял вправо от ручки. Флаг был черным, и вывороткой на нем значилось: Олег Рисс. Дозорные печатного слова. Рисунок обложки был выдержан в двух основных типографских цветах – черном и красном. Он резко выделялся на бледно-сероватом фоне с напечатанными на нем по всей поверхности светло-коричневой краской наборными строками, повторяющими заглавие «Дозорные печатного слова». Человек на обложке напоминал рыцаря – борца за точность. Внутренние остроумные рисунки, иронично комментирующие текст, были очень удачными. И все оформление в целом выделяло книгу из тогдашней внешне довольно серой массы популярных брошюр.
Добился я и того, чтобы художественно-техническим редактором назначили Инессу Георгиевну Румянцеву (тогда просто Инну). В «Искусство» Инна пришла из Детгиза, работу в котором прервало рождение дочери. Мы работали с ней над двумя томами «Книжного искусства» В.В. Пахомова, о чем я уже упоминал раньше, и очень сдружились. Она показала себя человеком с хорошим вкусом, умеющим влюбляться в каждую книгу, которая ей досталась, и работать над ней не только с большой отдачей, но и с энтузиазмом, не жалея сил и времени. В отличие от других технических редакторов, она воспринимала книгу не только с формальной, но и с содержательной стороны. И всегда читала книги, которые оформляла.
Короче говоря, я постарался сделать все, чтобы книга, которая учит всех причастных к выпуску изданий относиться к их точности со всей возможной тщательностью, вышла в наилучшем виде и чтобы своим внешним видом она привлекала любого читателя, небезразличного к тому, как делается книга.
Типографская судьба книги оказалась не простой. И это отразилось в моих письмах к Олегу Вадимовичу.
22 ноября 1962 года:
Должны были отправить в типографию № 8 Мосгорсовнархоза. Типография средняя, но мы сделали надпись – конкурсная (на лучшие по оформлению книги).
5 декабря 1962 года:
Как всегда, не обходится без недоразумений. Рукопись действительно побывала в 8-й типографии, но оттуда ее вернули: их не устраивает, что книга в обложке. Типография не может переварить такого количества брошюр, которыми ее загружают наше и другие издательства. Поэтому теперь рукопись должны сдать в «Красный пролетарий». Типография хорошая, что и говорить. И лимитом мы теперь в ней располагаем. Но меня все же волнует то, что это типография Госполитиздата, отчего не исключены некоторые задержки: свое издательство всегда в первую очередь. Будем все же надеяться на благоприятствование.
В конце концов оригинал попал на Ярославский полиграфический комбинат, который его неплохо напечатал, хотя и допустил опечатку («фальш» без мягкого знака на конце) по своей вине, что для книги на такую тему было недопустимо. И это несмотря на то, что по моей просьбе Рисс написал корректорам комбината прочувствованное письмо. Хотели мы напечатать список опечаток или сделать натычку[15]. Пришлось из-за этого вступить в «битву» с комбинатом. Но ничего добиться не удалось.
С этой книгой связан еще один конфликт с автором, в котором прямой вины моей не было, но который послужил мне вторым хорошим уроком. Причина была в задержке гонорара за «Дозорных…».
События развивались так.
30 сентября 1963 года я написал Риссу, отвечая, видимо на его вопрос о гонораре:
Деньги Вам давно выписали, и если еще не перевели, то, по-видимому, из-за отсутствия таковых в издательстве. Впрочем, может быть, и перевели: я не проверял.
17 ноября 1963 года Рисс пишет мне:
От бухгалтерии по-прежнему ни ответа, ни привета. Зря Вы меня обнадеживали. Самое неприятное в этой истории, что на меня начинают коситься в парткоме, как будто я получил деньги и не хочу платить с них взносов.
А 5 декабря 1963 года Рисс направляет мне открытку с официальным обращением, в которой сообщает о полном разрыве отношений:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Я полагаю, что с выходом «Дозорных» все дела у нас исчерпаны и ввиду явно издевательского отношения ко мне со стороны издательства я лишен возможности их возобновить.
Видимо, я в ответ на открытку послал Риссу не сохранившееся у меня письмо, в котором объяснил, что в бухгалтерии издательства действительно не было денег и ни одному автору их не высылали. Но ведь Рисс обращался в бухгалтерию с письмом, в котором просил объяснить, почему ему не выплачивают гонорар, а бухгалтерия не посчитала нужным на него ответить.
В результате моего объяснения причин задержки с гонораром от него прибыло письмо от 15 декабря 1963 года, несколько смягчающее резкость открытки:
Дорогой Аркадий Эммануилович!
(Я возвращаюсь к этой форме обращения, дабы подчеркнуть, что мое раздражение издательскими делами ни в коем случае к Вам не относится.)
Мне и больно, и досадно, что открытка, в которой вылилась накопившаяся обида (обостренная и местными событиями), так сильно повлияла на Вас. Поверьте, мне вовсе не хотелось порывать с Вами личные отношения, т. к. я понимаю, как много Вы сделали для выпуска книжки. Но мне трудно провести грань между добрым знакомым и официальным лицом, представляющим издательство. Если мое терпение иссякло, то лишь потому, что уж очень невероятна в глазах многих вся эта история, и я начал чувствовать себя каким-то рохлей, или, вернее, Акакием Акакиевичем в приемной значительного лица.
Думаю, что Вам не надо казниться, т. к., подставив на Ваше место любого из заведующих книжными редакциями Лениздата, могу представить, что он не смог бы ничего сделать, если бы Попов или наш главбух почему-либо заартачились… Одно упущение с Вашей стороны – то, что Вы сразу не предупредили меня о создавшемся положении и не призвали к терпению. Тогда я бы более спокойно отнесся к задержке и иначе построил бы свой бюджет.
Это смягчение отразилось на моем письме к Риссу от 17 декабря 1963 года:
Немного отлегло от сердца после Вашего письма. Откровенно говоря, я так и думал, что все происшедшее связано в какой-то степени и с тем недомоганием, о котором Вы писали, и с какими-нибудь другими неприятностями. Я совсем не считаю поведение издательства в целом правильным, но действительно не было денег, а обещали Вам, потому что надеялись, что вот-вот они появятся. С лета деньги не переводили, как мне клялись, ни одному автору, хотя это явное нарушение закона. Все же я виноват перед Вами в том, что невольно ввел Вас в заблуждение и не предупредил с достаточной ясностью о создавшемся положении (о котором, впрочем, сам узнал только после Вашего вопроса в одном из писем).
В письме от 22 декабря 1963 года О.В. сообщил мне, что «заходил в сберкассу и узнал, что перевод наконец пришел», и прокомментировал это сообщение так:
Не знаю, что подействовало – телефонный ли звонок в бухгалтерию, Ваше ли вмешательство или какие-либо другие причины, но, как видите, возможность нашлась, хотя когда в декабре я звонил, бухгалтерша ничего определенного сказать не могла. Очень жаль, что вся эта затяжка отозвалась на моих нервах, но, конечно, и Вам это неприятно, хотя я и уверен, что вопрос этот вне Вашей компетенции!
Хотя я получил индульгенцию, все же полагал и полагаю, что был небезупречен, оставив на волю волн выплату О.В. гонорара. Не хватило чуткости и внимания к столь ранимой натуре. И это тоже было уроком, напоминанием, что редактор должен быть другом автора, защитником его интересов в издательстве перед всеми службами, а не чиновником, функции которого ограничены должностными обязанностями. Тем более что я претендовал на дружбу с О.В. К тому же я был одновременно заведующим редакцией. Никакие привходящие обстоятельства не могут меня извинить, хотя объективности ради не могу не заметить, что свою отрицательную роль сыграло местоположение нашей редакции. Нужно было час ехать по Москве, чтобы попасть в издательство, где у меня, конечно, всегда была тысяча самых разных дел. И все же можно было позаботиться об О.В. и хотя бы объяснить ему, как обстоят финансовые дела издательства.
Вчитываясь в нашу переписку с О.В., связанную с изданием «Дозорных», пусть и неполную, я убедился и в том, что, в общем, знал по своему редакторскому опыту, а именно: издание каждой книги – это самостоятельная история, в которой встречаются эпизоды смешные, вплоть до анекдотических, и горестные, иногда даже трагические, столкновения характеров, конфликты явные и скрытые, разрешенные и оставшиеся неразрешенными, невезения и удачи, беды и радости. К тому же в этот процесс включены десятки людей разных профессий и разных характеров, обладающие разным запасом знаний и разным опытом.
«Издание классической литературы: Из опыта “Библиотеки поэта”» (1963)
Этот сборник – как бы отдельный тематический выпуск сборника «Редактор и книга». Серия «Библиотека поэта» – одно из самых впечатляющих достижений советского издательского дела. В нее вложено много сил редакторов, литературоведов-текстологов. Это был бесценный опыт. И я понимал, что моя обязанность – постараться сделать все, чтобы он был обобщен и донесен до всех издательских работников.
Поэтому, приехав в Ленинград в очередную командировку, я зашел в редакцию «Библиотеки поэта», чтобы договориться о подготовке сборника статей об опыте работы редакции. Довольно быстро нашел отклик у старшего редактора Ксении Константиновны Бухмейер. Она и стала основной движущей силой, составителем сборника. В 1963 году сборник вышел. Его высоко оценил в письме от 15 ноября 1963 года к П.Н. Беркову Ю.Г. Оксман:
Книжка об опыте «Библиотеки поэта» очень содержательна, но Вы показали высокий класс суждений о русской текстологии вообще и о проблемах текстологии применительно к литературным памятникам XVIII века в особенности. Я, признаться, и не подозревал, что Вы дали в этот сборник статью такого большого размаха и значения. Как бы мне хотелось поговорить об этом сборнике и в нашем научном совете, и в печати (Русская литература. 2005. № 4. С. 183–184).
К сожалению, свое желание Ю.Г. Оксман не сумел реализовать. Но прочитав строки его письма о сборнике уже в другом веке, я был очень рад, так как они могут не дать пропасть сделанному авторами сборника.
Прежде чем перейти к рассказу о продолжении моей редакторской карьеры уже в новосозданном издательстве «Книга», хочу поговорить об общей атмосфере, царившей в ту пору, когда я там работал, в издательстве «Искусство».
Издательство «Искусство», его очертания
Коллектив
Он был лишен того зловещего духа склочности, неприязненности, который в то время был характерен для многих коллективов. Объясняется это прежде всего составом и партийной организации, и издательства в целом.
В партийной организации тон задавали секретарь партбюро Мария Трофимовна Токарева, редактор в журнале «Театр», человек порядочный, честный, и ее подруга, редактор редакции драматургии Анна Абрамовна Амчиславская, обе каким-то чудом не давшие разгореться в издательстве борьбе с космополитизмом.
Костяк коллектива составляли высококультурные, образованные молодые люди, пришедшие в издательство из МГУ, ГИТИСа, ВГИКа. Они любили те отрасли искусства и культуры, которым служили, – театр, кино, изобразительное искусство, эстетику, были поглощены их проблемами. Конечно, они были очень разными, но так случилось, что не было среди них в те трудные годы мелких людишек, которые превыше всего ставят собственный успех, собственные амбиции и которым как воздух необходимо сталкивать коллег и обливать их грязью ради того, чтобы ловить рыбку в мутной воде. Редакторы книжных редакций «Искусства» того времени – это интеллектуалы, для которых важнее всего было содействовать новым тенденциям в искусствознании. Не случайно многие из них впоследствии стали авторами замечательных книг по искусству.
Такова общая картина, но встречались и исключения. Например, редакцией литературы для художественной самодеятельности заведовала Керженцева, вдова бывшего начальника Комитета по делам искусств, старого большевика. Это была старуха фарсового вида и поведения. Ее высказывания на собраниях эпатировали и существом, и формой. Тем не менее общую картину она не меняла.
Работа в комитете комсомола, возглавляемом редактором из редакции литературы по изобразительному искусству Ирой Никоновой, сплотила группу молодежи. Помимо меня в эту группу входила Зоря Пекарская, редактор редакции драматургии, и молодые редакторы Генрих Дубасов и Юра Нехорошев. Они стали зачинщиками замечательных капустников. Их режиссером и душой был Генрих Дубасов, актер по образованию, вынужденный уйти со сцены из-за севшего голоса.
Капустники собирали весь коллектив издательства и встречались восторженно. На них приходили даже родственники и знакомые самодеятельных артистов и сотрудников.
Некоторые сценки врезались в память.
Например, сценка «Эм и Жэ на первом этаже». Сценка была немой. Группа сотрудников изображала толпу художников и графиков перед дверью с буквами «М» и «Ж» в день выплаты гонорара. То одна, то другая сотрудница старалась как можно незаметнее проскользнуть через эту толпу в дверь с буквой «Ж». Это была картинка из жизни издательства. Живописно изображенная, она имела воздействие – художники с графиками перенесли свои коридорные посиделки несколько в сторону от дверей с буквами «М» и «Ж».
Другая сценка. Изображавший директора издательства Кузакова самодеятельный артист выходил слева на сцену и медленно шествовал налево, а навстречу ему справа один за другим проходили сотрудники издательства, и каждый произносил: «Здравствуйте, Константин Степанович» (имя и отчество Кузакова), на что тот никак не реагировал и с мрачным видом, как бы никого не замечая, двигался мимо них. И это был слепок с действительности. И что же? С той поры Кузаков стал здороваться в ответ.
Редактор журнала «Искусство» Елена Мурина вылепила для некоторых сценок бюсты удивительного сходства с оригиналом. Помню бюст главного бухгалтера Ефремова для сценки, высмеивавшей его мелочную экономию денег на бумагу и карандаши. К сожалению, из памяти выветрилось, кого еще представила Лена на суд общественности.
Художественную часть праздничных собраний украшали замечательные актеры: М. Козаков, З. Гердт и другие (приглашали их сотрудники журнала «Театр»).
На одном из таких концертов никто не хотел конферировать, и волей-неволей пришлось это делать мне как председателю профкома. И кончилось это конфузом. Объявляя музыкальный номер пианиста, я вызвал бурное веселье всех присутствовавших. Я так волновался с непривычки, что провозгласил: «Вальс из оперы Гуно “Штраус”» (вместо «Фауст»). Правда, тут же, то ли покраснев, то ли побелев, поправился. Но слово не воробей…
Конечно, я сейчас не в силах воспроизвести все, что характеризовало общественную атмосферу в издательстве, но надеюсь, что написанное выше дает некоторое представление о ней как о дружественной, благоприятной для сотрудников.
Директора издательства
За время моей работы в «Искусстве» (1949–1963) сменилось несколько директоров.
Первый директор, Николай Никанорович Кухарков, о роли которого в появлении в «Искусстве» редакции полиграфической литературы я выше уже писал, руководил издательством до февраля 1953 года, когда правительственным постановлением редакции, выпускавшие изобразительную продукцию (плакаты, репродукции, альбомы), были из него выделены в новое издательство – Изогиз, а Кухаркова назначили директором этого издательства.
Кухаркова на посту директора сменил Константин Степанович Кузаков. Ходили слухи, что он внебрачный сын Сталина. Впоследствии выяснилось, что это правда. На сайте я прочел, что Константин в 1927 году приехал в Ленинград и поступил в Институт философии, литературы и искусства (ЛИФЛИ), а в 1932 году его вызвали в НКВД и потребовали дать подписку о неразглашении «тайны происхождения». Эту подписку он нарушил только через 63 года.
Вехи его биографии до «Искусства» таковы. С 1932 года – доцент Ленинградского института точной механики и оптики, заведующий кафедрой диамата. С 1940 года в ЦК ВКП(б) – помощник завотделом Управления пропаганды и агитации, заместитель начальника Управления пропаганды и агитации Г.Ф. Александрова. Когда же другого бывшего заместителя Г.Ф. Александрова в ЦК ВКП(б), ставшего директором Издательства иностранной литературы, Б.Л. Сучкова арестовали «по подозрению в передаче американцам секретных сведения о разработке советской атомной бомбы и информации о голоде в Молдавии» и за то, что вступился за своего сокурсника Л.З. Копелева, то К.С. Кузаков 23–24 октября 1947 года предстал перед так называемым «судом чести» ЦК ВКП(б), ему был объявлен общественный выговор «за потерю политической бдительности и покровительство разоблаченному “врагу народа” Сучкову». С 1947 по 1954 год он – старший редактор, начальник сценарно-редакционного отдела киностудии «Мосфильм». В 1954–1955 годах начальник Главного управления кинематографии Министерства культуры СССР. С 1955 по 1959 год – директор издательства «Искусство».
Каким он был директором, мне сказать трудно, во всяком случае сейчас, когда прошло столько времени. Непосредственно общался я с ним очень мало. Был он смуглый, черноволосый и казался нелюдимым. Поражали его глаза, необыкновенной черноты и глубины. Завораживающие глаза. Нельзя сказать, что он смотрел на всех свысока, но при встрече в коридоре с рядовыми сотрудниками он не отвечал на их приветствие, а с ничего не выражавшим лицом проходил мимо. Это было настолько неестественно, что стало предметом описанной выше сценки в одном из наших капустников.
В 1959 году он ушел из «Искусства» на телевидение. О его работе там и его характере очень выразительно написала Т. Земскова в очерке «Человек тайны: В Останкине работал внебрачный сын Сталина» (Независимая газета. 2000. 21 июля).
К.С. Кузакова сменил Е. Северин, театровед, пришедший в издательство из Министерства культуры СССР. Он, естественно, больше всего внимания уделял редакциям литературы по театру и драматургии. Ничем особенным не запомнился. И вскоре ушел то ли обратно в Министерство культуры, то ли в Щепкинское театральное училище.
С 1960 года директором становится Александр Васильевич Караганов. Когда я расставался с «Искусством», переходя вместе с редакцией в «Книгу», директором был именно он.
Александр Васильевич окончил в 1939 году ИФЛИ и стал преподавать западную литературу сначала в Сталинграде, затем в Московском полиграфическом институте, вместе с которым в начале Великой Отечественной войны переехал в Шадринск. Выпускница МПИ, впоследствии известный переводчик Р. Облонская вспоминает: «…Александр Васильевич Караганов. Совсем еще молодой – мы называли его между собой Саша Васильевич – он увлеченно читал нам западную литературу. Мы слушали его лекции с жадным интересом» (Мы из МПИ: В 2 кн. М., 2005. Кн. 1. С. 69).
После возвращения в Москву Караганова в 1944 году назначают заместителем председателя ВОКСа. Через три года, в 1947 году, его снимают с этой должности и исключают из партии. В письме к товарищу он, на свою беду, осудил войну с Финляндией. То ли товарищ оказался предателем, то ли письмо перлюстрировали, но этого оказалось достаточно, чтобы прервать карьеру Караганова. Его, однако, не арестовали и даже трудоустроили – направили рядовым редактором в редакцию журнала «Театр». Когда я появился в «Искусстве», он там работал именно в этом качестве. Несмотря на беспартийность, ему поручили выпуск издательской стенгазеты. Объясняется это тем, что секретарем партийной организации издательства была в то время Мария Трофимовна Токарева, коллега Караганова по редакции журнала, ценившая его как талантливого литератора с большими возможностями и вполне обоснованно ему доверявшая. Так как мне тоже поручили работать в редколлегии стенгазеты, я благодаря этому познакомился с Александром Васильевичем и понял, что он человек очень толковый и четкий.
После смерти Сталина и ХХ съезда партии А.В. Караганов предпринял попытку восстановиться в партии. На партийном собрании рассматривалось его заявление об этом. Собрание было склонно удовлетворить его просьбу, но райком рекомендовал не восстанавливать его членство, а принимать его заново. Так и произошло. А в 1958 году он был назначен главным редактором издательства «Искусство». Затем, в 1960 году, стал директором издательства и был им до избрания в 1964 году секретарем Союза кинематографистов СССР. Но это произошло уже после того, как наша редакция ушла в «Книгу».
Я мало общался с ним как с директором, поскольку редакцией непосредственно руководил Главиздат через голову директора издательства. Тем не менее могу сказать, что и в этой роли он все схватывал с лету, был деловым и точным.
Моя общественная работа в «Искусстве»
Хотя я по своим личным качествам не слишком подходил на роль общественника, тем не менее мне пришлось ее выполнять. Тут, видимо, перевесила моя заинтересованность в делах коллектива и добросовестность, а также стремление большинства как-нибудь избавиться от такой роли.
Мой послужной список таков.
Сначала я был избран в комитет комсомола и одновременно работал в редколлегии стенгазеты.
Помню только одно, кажется, удачно выполненное мною поручение секретаря комитета комсомола. На одну девушку – технического редактора (имя и фамилию ее вспомнить сейчас не могу) жаловались сотрудники – очень груба. Вот мне и предложили повлиять на нее. А была она очень хороша собой. И вместо того, чтобы «воспитывать», т. е. говорить, как нехорошо грубить своим товарищам по работе и т. п., я просто сказал, что такой красивой девушке, как она, очень не идет грубость, не соответствует ее внешности. Что-то в этом роде, и слова мои на нее повлияли.
После вступления в партию меня избрали председателем профкома. Каким образом меня, в общем человека пассивного, во всяком случае не энергичного, без деловой хватки, выбрали председателем профкома всего издательства, понять толком не могу. Тут могли повлиять разные обстоятельства: с одной стороны, мне доверяли, полагая, что я, несомненно, человек честный, издательству преданный, с другой стороны, желающих занять это место не нашлось, а у меня не хватило сил сопротивляться. Так и получилось, что я стал председателем профкома и два срока тянул этот воз не скажу, что хорошо, но и не провально. Мне очень повезло на казначея. Им была Ирина Михайловна Мельникова, заведующая планово-экономическим отделом издательства, исключительно организованный и порядочный человек. Я мог целиком положиться на нее в денежных делах. Моя уверенность, что благодаря ей у нас не будет ни недостач, ни растрат, ни ошибок в оплате больничных листов, полностью подтвердилась.
В памяти от моих действий в этой роли почти ничего не сохранилось, если не считать комического конферанса, о котором я рассказывал выше. Но одно неудачное, я бы даже сказал, постыдное мое решение осталось неприятной зарубкой в памяти. Заведующий отделом кадров издательства, пожилой человек, подал в профком заявление с просьбой оказать ему материальную помощь как погорельцу. А поскольку он год как не платил членских взносов и практически поставил себя вне профсоюза, мы ему отказали. Он пожаловался секретарю партбюро Токаревой, и она пристыдила меня, выругав за бессердечность и бесчувственный формализм. В результате мы оказали ему материальную помощь, хотя возможности у профкома были небольшие.
После профкома меня избрали в партбюро и даже сделали заместителем секретаря по партпросвещению. Было это уже в последний или предпоследний год пребывания редакции в «Искусстве».
Мои общественные заслуги были высоко оценены один раз, во время одной из демонстраций. Наша колонна оказалась рядом с колонной издательства «Молодая гвардия», в которой находилась однокашница по институту Ира Вечная. Она услышала реплику когото из нашего начальства: «Поручите это Мильчину. Он человек надежный». С некоторой насмешкой она тут же поспешила передать это мне. Она и в институте несколько иронично меня воспринимала.
В университете марксизма-ленинизма при ЦДРИ
Об этом, может быть, и не стоило вспоминать, если бы не экзотичность для меня занятий в семинаре, поскольку меня и Жанну Чертову (она, также выпускница Московского полиграфического института, только оформительского отделения, в производственном отделе «Искусства» занималась цветными репродукциями) зачислили в группу Большого театра. Группа эта состояла из арфистки оркестра и концертмейстера Большого театра, трех молодых артисток МХАТа и режиссера московского ТЮЗа Цетнеровича (недавно я узнал, что он ученик Мейерхольда). Из знаменитостей Большого театра в группе числилась певица Леокадия Масленникова, которую на семинарских занятиях группы я видел только один раз. Она была замужем за секретарем обкома (кажется, Тульского) и жила на два города. Наш руководитель семинара поэтому относился к ней снисходительно. Наверно, по двум причинам: из уважения к секретарю обкома и из восхищения ее победительной красотой. Она была женщиной хотя и крупной, но настоящей русской красавицей, на мой вкус, слегка злоупотреблявшей яркой косметикой. Драматические артистки по ответам на семинаре превосходили оперных (и язык лучше подвешен, и культура ощущалась более высокая). Очень понравился Цетнерович своими слегка ироничными ответами и всем своим поведением.
Лекции читали в Большом зале ЦДРИ[16], и общефилософские, и по эстетике. Там пришлось видеть многих знаменитостей, в частности Валентину Серову, чаще всего в сопровождении композитора Фрадкина.
Завершились эти занятия к лету 1952 года.
Раз уж речь пошла о занятиях в системе партпросвещения, то не могу не упомянуть, что один год, не помню какой, я провел в семинаре редакционного коллектива журнала «Театр», которым руководил известный театровед и театральный критик Аркадий Николаевич Анастасьев. Из участников семинара запомнилась Марианна Строева. Благодаря обаянию и умелости руководителя, высокой культуре и обширным знаниям участников занятия проходили интересно, но какие-либо яркие эпизоды в память не запали. Помню только, что общение с участниками семинара доставляло удовольствие.
На американской выставке
Расскажу об одном эпизоде, который не связан с издательством «Искусство», но относится именно к тому периоду, когда я там работал. В 1959 году большим событием в Москве стала выставка в павильоне парка «Сокольники». Народ повалил туда валом. Не помню точно, но, кажется, билеты распределялись по учреждениям и предприятиям. Так или иначе, я на выставку попал. На ней было немало интересного. Каждый мог видеть себя на экране телевизора, подвешенного над проходом из одного сектора в другой. Каждый желающий мог угоститься стаканом кока-колы, которую большинство москвичей тогда еще не пробовало. Мне, кстати, тогда кока-кола «не показалась». Может быть, под влиянием цвета, но у меня осталось ощущение чего-то близкого к ваксе.
Главное же, почему я эту выставку вспоминаю, связано с тем специальным интересом, который гнал меня на нее в первую очередь. Я надеялся узнать, как устроены американские издательства, есть ли там редакторы, в чем состоят их обязанности и т. д. и т. п.
В зале, где выставлены книги, я обратился с этими вопросами к дежурившему там негру. Он внимательно меня выслушал, но вместо ответа принес мне изданный в Америке роман Пастернака «Доктор Живаго». Намек был понятен. Наши издательства, мол, свободны в выборе изданий. Я, не поблагодарив его, ретировался. Моей советской душе претил этот пропагандистский акт. Ведь я задал четкий профессиональный вопрос, а вместо ответа получил наглядный урок в стиле холодной войны.
Моя издательская карьера, или Моя издательская судьба
Эта судьба была и закономерной, и в значительной степени случайной. Но хотя ее трудно оторвать от истории редакции полиграфической литературы, с которой связана моя жизнь с 1951 по 1965 год, и от истории издательства «Книга», с которым судьба меня свела со дня его основания в 1963 году до августа 1985 года, когда меня вынудили уйти на пенсию, все же я посчитал не только оправданным, но и необходимым выделить рассказ об этой судьбе в самостоятельный раздел воспоминаний.
Прежде всего потому, что у этой темы собственное значение. Если говорить об этапах моего продвижения по служебной издательской лестнице в соответствующих разделах повествования о жизни и деятельности редакции полиграфической литературы, а также издательства «Книга», то они могут утонуть в рассказах о людях и книгах, а тема – потерять свое самостоятельное значение.
Не случайным в моей судьбе было то, что я попал в книжное издательство. Я хотел делать книги, мечтал о неведомой мне профессии редактора книги, для этого поступил на литературно-редакторское отделение редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института. И мысль искать работу не в книжном издательстве, а где-то в другом месте, раз уж места редактора я по распределению не получил, мне в голову прийти не могла. Я еще не лишен был многих иллюзий, верил партийным постулатам и потому сохранял надежду, что раньше или позже я все же в книжное издательство попаду.
Закономерным было и то, что я не был принят редактором ни в издательство «Молодая гвардия», ни в редакцию закрытого сборника материалов для высшего генералитета военно-воздушных сил. Иначе не могло быть в стране, где партия и правительство проводили, хотя и неофициально, политику государственного антисемитизма.
Случайным было то, что в день, когда я предложил свои услуги издательству «Искусство» в октябре 1949 года, актер Юлиан Козловский освободил место в корректорской, потому что нашел место по своей специальности, а инспектор по кадрам и заместитель директора этого издательства не были заражены националистическими предрассудками, да и вообще атмосфера в «Искусстве» в то время отличалась в лучшую сторону от общегосударственной.
Но закономерным было то, что в корректорской я довольно быстро завоевал авторитет своими знаниями и умением работать с большой самоотдачей и довольно быстро поднялся по служебной лестнице до временно исполняющего обязанности заведующего корректорской, а затем 1 апреля 1952 года стал редактором в редакции полиграфической литературы, заведующий которой, Василий Васильевич Попов, мой бывший преподаватель в Полиграфическом институте, вспомнил меня, а главное, принял во внимание оценку моих рабочих качеств в издательстве.
Через три с лишним года, в октябре 1955 года, я был повышен в должности – назначен старшим редактором, но уже не редакции полиграфической литературы, а преобразованной редакции с измененным названием – редакции литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле. И это фактически означало не только продвижение вверх по служебной лестнице, поскольку я стал не просто старшим редактором, а руководителем внутриредакционной группы, сосредоточенной на выпуске литературы по издательскому делу. И это не было случайностью: мои начальники, В.В. Попов и сменивший его на посту заведующего редакцией Г.А. Виноградов, оценили мой глубокий интерес к этой литературе.
Дальнейшая же моя «карьера», а точнее сказать судьба, была в большей степени случайной, чем закономерной.
Конечно, моя преданность делу, накопленные мною знания, высокая репутация редактора, завоеванная в авторской среде, – все это говорило в мою пользу. Но все это не имело бы никакого значения, если бы не стечение обстоятельств и не почти полное отсутствие людей, хотя бы минимально годных для содержательной руководящей работы.
Выразительный пример – трудности с подбором кандидатуры на место заведующего редакцией литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле.
Когда Главиздат уволил Виноградова (о чем чуть ниже), меня назначили исполняющим обязанности заведующего редакцией. Но мне не хотелось оставаться заведующим редакцией (впрочем, мне никто этого и не предлагал, а у меня и в мыслях не было, что меня могут утвердить в такой должности). Так что я стал подыскивать подходящих кандидатов. Сложность была в том, что кандидату надо было разбираться и в редакционно-издательских проблемах, и в полиграфической технике, и – хоть немного – в книжной торговле, а вдобавок хотелось, чтобы он был порядочным человеком, с которым можно сотрудничать. Когда перебирались возможные кандидаты, то один не подходил потому, что, зная хорошо полиграфию, не был способен решать литературно-редакторские вопросы, другой же отпадал потому, что, будучи литератором, ничего не смыслил в полиграфии и не обладал редакционно-издательским опытом.
Не помню, кто предложил в качестве кандидата Бориса Георгиевича Тяпкина. Кажется, это было предложение Московского полиграфического института. Тяпкин читал в этом вузе лекции по курсу «Теория и практика редактирования», он же был одним из авторов рукописи учебника корректуры для техникумов, так что в общих чертах в какой-то мере разбирался и в полиграфии. Член партии, участник Великой Отечественной войны, русский к тому же человек, которому обеспечена поддержка МПИ (ректор института спал и видел иметь в издательстве своего протеже). Меня, правда, смущала некоторая размашистость и безапелляционность в суждениях Бориса Георгиевича, что могло очень навредить в редакционном деле. Тем не менее я решил представить его как возможного кандидата тогдашнему директору «Искусства» А.В. Караганову, так как это сулило мне возвращение к обычной редакторской работе.
Александру Васильевичу Тяпкин не понравился. Мне он сказал: «Какой-то затейник из дома отдыха». Конечно, «затейник» – это художественный образ. Но действительно, для Тяпкина была характерна безапелляционность суждений на любую тему и явно завышенная оценка себя и своих возможностей. А без поддержки директора, который должен был представить кандидатуру Главиздату, рассчитывать было не на что.
Еще несколько кандидатур, которые обсуждались, я не запомнил, но эти кандидаты, кажется, сами не согласились.
Нужно еще принять во внимание, что оклад заведующего нашей редакцией был всего 160 р., всего на 20 рублей больше, чем у старшего редактора. В других центральных издательствах 160 р. получал рядовой редактор. Большой объем работы и немалая ответственность явно не гармонировали с таким окладом. И это служило дополнительным препятствием, так как у всех, кто хоть в какой-то степени подходил для этой должности, оклад на их работе был выше. Так что переманить их было затруднительно.
Мне же самому за то короткое время, что я исполнял обязанности заведующего редакцией, так издергал нервы Московский полиграфический институт, требовавший, чтобы мы выпускали больше учебников для вузов (а они были очень убыточны), что я не хотел оставаться даже исполняющим обязанности.
Поэтому мне не оставалось ничего другого, как написать на имя А.П. Рыбина, начальника Главиздата, большое письмо, в котором я обосновывал просьбу освободить меня от исполнения обязанностей заведующего редакцией. В ответ через несколько дней в издательство прибыл подписанный А.П. Рыбиным без согласования со мной приказ Главиздата об утверждении Мильчина А.Э. в должности заведующего редакцией. Рыбин знал меня более или менее хорошо по работе редакции, поскольку она, в сущности, была во многом ведомственной редакцией Главиздата, от которой во многом зависела подготовка и повышение квалификации всех работников отрасли.
А между тем Рыбин участвовал в совещании полиграфической элиты в секторе издательств и полиграфии Отдела пропаганды ЦК КПСС, которое было созвано по письму работников нашей редакции, членов партии М.Е. Зархиной, В.Ф. Лариной и меня на имя секретаря ЦК КПСС по пропаганде П.Н. Поспелова. В письме мы жаловались на скоропалительное освобождение от обязанностей заведующего редакцией Г.А. Виноградова. Глеб Александрович стал жертвой своего негативного отношения к рукописи учебника «Проектирование полиграфических машин», написанного проректором МПИ, доктором наук профессором Б.М. Мордовиным. Заказанная Виноградовым в НИИполиграфмаше рецензия требовала от автора большой доработки рукописи, но Глеб Александрович не соразмерил своих возможностей с авторитетом Мордовина в руководящих полиграфических кругах. Мордовин пожаловался в ЦК М.Н. Яблокову, заведующему сектором полиграфии в Отделе пропаганды. Последовал звонок Яблокова Рыбину, и тот, даром что когда-то учился с Виноградовым в МПИ и вообще по-дружески к нему относился, не мешкая, своим приказом освободил его от должности заведующего редакцией.
Мы писали, что не было необходимости, не подобрав на замену нового заведующего, снимать старого, пусть и провинившегося, что это не на пользу дела.
Вот в связи с этим письмом М.Н. Яблоков по поручению завсектором издательств К.Н. Боголюбова пригласил на совещание все полиграфическое начальство и меня.
Цель была – проучить меня как одного из авторов письма и исполняющего обязанности заведующего редакцией, а заодно обсудить положение с выпуском полиграфической литературы в целом, которым Яблоков был очень недоволен.
Если у Яблокова был замысел подготовить почву и для моего увольнения, то этот замысел провалился. Большинство участников совещания (ректор МПИ Синяков, директор издательства и типографии «Правда» Фельдман, директор НИИполиграфмаша Боглаев) хорошо знали меня как редактора их книг или книг, титульными редакторами которых они выступали, а директор НИИ полиграфии Лапатухин просил меня быть внештатным редактором технологических инструкций, которые готовил руководимый им институт. Конечно, никто из них не считал, что положение с выпуском полиграфической литературы благополучное, но обо мне они отозвались как о хорошем работнике. Лишь заместитель Рыбина по полиграфии Симонов, который до того не раз выказывал мне свое расположение и даже поддерживал при решении частных вопросов, неожиданно резко выступил против того, чтобы я оставался и.о. заведующего редакцией. Он заявил: Мильчин – последователь Виноградова, и если он останется в редакции, ничего в ней не изменится. Но он взял слово одним из первых, а следующие участники совещания своими выступлениями свели на нет его мнение, явно продиктованное желанием выслужиться перед Яблоковым. И все кончилось ничем, если не считать того, что мне внушили, каким неуместным и неумным было письмо «в защиту Виноградова». Естественно, что Рыбин не мог не прислушаться к мнению самых авторитетных людей в полиграфии, так что совещание лишь укрепило его положительное отношение ко мне. Думаю, что он перед тем, как послать в издательство приказ о моем назначении, согласовал это решение с Яблоковым. Почему Яблоков согласился – понять трудно, а гадать нет смысла.
Так я стал полноправным заведующим редакцией.
Между тем в 1963 году стало известно, что нашу редакцию передадут в новое издательство под названием «Книга». Я заколебался: переходить ли мне вместе с редакцией или попросить руководство позволить мне спуститься по служебной лестнице и остаться рядовым редактором в одной из подходящих для меня редакций «Искусства».
Во-первых, я сроднился, душевно сросся с этим издательством. Мне трудно с ним было расстаться.
Во-вторых, и работа заведующего редакцией меня угнетала. Причин было несколько. 11 ноября 1962 года я писал Олегу Вадимовичу Риссу:
Плохо у меня получается с руководством редакцией. Мягкость характера мешает, да и никак не могу пересилить страсть самому пустить в жизнь книгу, помочь ее рождению. Удивительно приятное дело.
Угнетало меня и то, что я не мог точно судить о качестве содержания полиграфических книг, а в редакции было немало рукописей, которые редакторы спасти не могли.
Я очень колебался. Решил переговорить с заведующей редакцией литературы по изобразительному искусству Ириной Ивановной Никоновой. В начале нашего издательского пути она была секретарем комитета комсомола издательства, я – его членом, и для меня она оставалась товарищем, Ирой. Я мог доверять ей, поскольку знал ее как человека умного, порядочного и чуткого. Я хотел узнать, возьмет ли она меня к себе в редакцию в качестве редактора, а кроме того, посоветоваться, как лучше, на ее взгляд, мне распорядиться собой – остаться в «Искусстве» или перейти в «Книгу».
Она не безапелляционно, но вполне однозначно высказалась в том смысле, что она не против меня принять, но считает, что мне лучше перейти. По той простой причине, что в «Искусстве» я при моем образовании и подготовке смогу быть лишь на роли второстепенного исполнителя, а в новом издательстве смогу работать творчески, поскольку содержание издательско-полиграфической литературы мне ближе и я им владею глубоко профессионально. Выслушав ее мнение, я решил переходить.
Уже после того, как я вместе с редакцией все же перешел в «Книгу», Рисс писал мне, подтверждая верность моего решения:
Будет жаль, если Вы измените «профилю» и расстанетесь с полиграфией, променяв ее на какую-нибудь киномеханику или самодеятельность (29.01.64).
В 1963 году, накануне перехода в «Книгу», произошла еще одна попытка без всякого моего участия и желания резко поднять меня по служебной лестнице – представить меня на должность главного редактора этого нового издательства «Книга».
Генерал-майор в отставке Петр Федорович Копылов, бывший начальник Воениздата, после выхода на пенсию ставший директором Издательства Всесоюзной книжной палаты, был назначен и.о. директора нового издательства «Книга». После знакомства со мной он сообщил мне, что внес в Комитет по печати (орган, созданный одновременно с «Книгой» для руководства новой системой издательств) предложение назначить меня на должность главного редактора. Из беседы с Копыловым я понял, что сделал он это по рекомендации Рыбина, с которым он, видимо, советовался на этот счет. Рыбин знал меня в деле. Кроме того, он был соседом по лестничной клетке моего друга Кима Львовича Шехтмейстера, который, вероятно, говорил ему обо мне немало лестного. Но главная причина, почему выбор пал на меня, а не, например, на Юрия Ивановича Масанова, главного редактора Издательства Всесоюзной книжной палаты, а по сути дела, заведующего единственной редакцией этого издательства, была иная, совсем простая. И Комитету по печати, и сектору издательств Отдела пропаганды ЦК КПСС нужен был во главе издательства человек из своей отрасли, а не отрасли библиотечно-библиографической. Юрий Иванович обиделся на то, что ему предложили должность не главного редактора, а всего лишь заведующего редакцией по библиотековедению и библиографии, и предпочел вернуться во Всесоюзную книжную палату на научную работу.
Так или иначе, но меня вызвали в Управление руководящих кадров Комитета по печати, которое тогда ютилось в помещении Главлита, поскольку его начальник П.К. Романов был назначен председателем Комитета, а сам Главлит стал лишь одним из его главных управлений.
Там я заполнил анкету, написал автобиографию. Принял меня Алексей Иванович Овсянников, бывший тогда заместителем начальника Управления руководящих кадров (впоследствии, в 1966 году, он стал первым главным редактором «Книжного обозрения»). Ознакомившись с моими документами, он, показав на мою автобиографию, с грустью сообщил мне: «Что-то стилистишка хромает». Какие именно стилистические погрешности он углядел, осталось мне неизвестным. Далее последовал не более обнадеживающий разговор с самим начальником управления по фамилии Ажгибков. Знакомство с моими документами он подытожил следующим открытием: «Так вы же не книжник». На что я в сердцах ответил ему, что не добиваюсь должности, на которую меня сватают, и пришел только потому, что меня об этом попросили. Разговор был окончен. Ни одного вопроса о том, что я думаю о задачах нового издательства, как собираюсь организовать редакционную работу, я не услышал. Было ясно, что они заранее все решили отрицательно и лишь формально не могли не отреагировать на представление Копылова. От этих бесед у меня, конечно, остался очень неприятный осадок. Но я действительно не рвался в главные редакторы издательства, поскольку административной работе предпочитал чисто творческую, редакторскую, так что огорчил и обидел меня не сам отказ, а та унизительная форма, в которую он был облечен.
Имел ли представление главный кадровик, что такое книжник и кто вправе им называться?
Ко времени разговора с кадровиками я был уже соавтором книги «Редактирование таблиц» (М., 1958), опубликовал в сборнике «Книга. Исследования и материалы» (1962. № 7) статью теоретического характера «О предмете редактирования», которую БСЭ в статье «Редактирование» привела в списке литературы, организовал выпуск продолжающегося сборника «Редактор и книга», в 3-м выпуске которого напечатал статью «Вредная традиция (О формах библиографических ссылок на цитируемую литературу)». Уже по этому небольшому перечню можно было назвать меня сложившимся специалистом в одной из областей книжного дела, т. е. бесспорным книжником. Можно было привести еще ряд доводов и, в частности, напомнить, что я более десяти лет успешно редактировал книги для подготовки и повышения качества работы книжников (редакторов, авторов книг, студентов вузов, учащихся техникумов), за что был удостоен медали ВДНХ. Но какое дело до них кадровику: ему надо было найти предлог для отказа, и он нашел самый неумный. Сейчас, печатая эти строки, я подумал: а не следовало ли мне показать Ажгибкову, насколько глуп выдвинутый им предлог для отказа? Пусть бы повертелся. Но не в моем это было характере.
Во всяком случае, в тот раз мое восхождение по служебной лестнице не состоялось.
Главным же редактором «Книги» был назначен Григорий Александрович Ершов, работавший до этого в Главиздате заведующим отделом республиканских и местных издательств. Рыбину, его заместителю Сомову и Ершову Главиздат был обязан прозвищем Аквариум, вызывавшим у всех веселую улыбку. Мне он показался человеком психически не вполне нормальным, что, впрочем, не помешало ему, после того как его «ушли» из «Книги», стать в Союзе писателей СССР ответственным за издательскую деятельность.
Никакого существенного влияния на деятельность нового издательства Ершов не оказал и не мог оказать, так как эта деятельность и задачи «Книги» были ему глубоко безразличны.
Между тем я стал добиваться того, что задумал давно и о чем писал А.П. Рыбину, когда стало известно, что создается новое издательство и что наша редакция перейдет туда, а именно – раздела редакции по крайней мере на две:
1) редакцию полиграфической литературы;
2) редакцию литературы по книгоиздательскому делу и книжной торговле.
Доводы были такими.
Во-первых, когда редакция называлась редакцией полиграфической литературы, она и выпускала в основном только полиграфическую литературу. Число книг по издательскому делу и книжной торговле было незначительным (одна-две книги в год). Когда же она в 1955 году была преобразована в редакцию литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле, число книг названной тематики стало довольно быстро расти.
Во-вторых, в одну редакцию были механически объединены три очень разных по содержанию раздела. Рядом с книгами искусствоведческого характера (сб. «Искусство книги») или по проблемам редактирования художественной литературы («В лаборатории редактора» Л. Чуковской) – книги о физико-химических процессах, связанных с подготовкой печатных форм, о конструкциях и эксплуатации сложнейших полиграфических машин, рядом с книгами об ассортименте той или иной литературы в книжном магазине – книги об организации производства на полиграфических предприятиях. Руководить изданием таких разных по содержанию книг один заведующий редакцией мог только дилетантски поверхностно.
Сразу, увы, это мое предложение осуществлено не было, да и не могло быть осуществлено. Ведь П.Ф. Копылов был директором временным. Но когда ближе к концу года в издательство пришел уже утвержденный Комитетом по печати директор – Михаил Яковлевич Телепин, я, переговорив с ним, написал на его имя докладную записку с доводами, приведенными выше. Предложение было принято, и я стал заведующим редакцией литературы по издательскому делу и книжной торговле.
Моя мечта исполнилась. Все хорошо, однако мое руководство редакцией продолжалось, увы, очень недолго.
Довольно быстро Телепин выяснил, что ему не найти общего языка с Ершовым. Он, видимо, понял, что Ершов как главный редактор не способен выполнить те задачи, которые стоят перед издательством, и решил от него избавиться. Он добился в Комитете по печати согласия на замену Ершова другим человеком, но Комитет при этом выставил условие, что издательство позаботится о трудоустройстве Ершова. И тогда вместе с Главной редакцией общественно-политической литературы Комитета по печати («Книга» входила в ее подчинение) был придуман хитроумный «ход конем»: в штат издательства вводится новая должность – заместителя главного редактора, на нее переводят меня, а Ершову предлагают мое место заведующего редакцией. Когда мы (коллектив редакции и я) узнали об этом плане, он поверг нас в ужас. Редакторы были напуганы тем, что им придется повседневно работать с человеком явно неуравновешенным, капризным и, в сущности, безразличным к делу, которым они заняты. Меня же, только-только успевшего вкусить радость работы с изданиями, которые были мне особенно близки и дороги, пугала необходимость снова променять непосредственную редакционную деятельность на административную суету. Телепину это в голову не пришло. Но когда меня пригласили в Управление руководящих кадров Комитета по печати все к тому же Овсянникову, я сказал ему, что хотел бы остаться на своем месте, что административная работа не в моем характере. Тогда он повел меня к первому заместителю председателя Комитета В.С. Фомичеву и доложил о моем отказе. Сам Овсянников истолковал мой отказ как следствие обиды на то, что я не был в 1964 году назначен главным редактором. А положение осложнялось тем, что все документы о моем назначении были готовы и пункт о назначении Ивана Петровича Немешаева главным редактором и меня – его заместителем был уже в плане работы коллегии Комитета. Поэтому Фомичев стал допытываться, в чем кроются причины моего отказа. Выслушав мой лепет о том, что я по своему характеру плохо подхожу для административной работы, он счел эти доводы надуманными, несостоятельными и сказал, что, видимо, истинной причины я не хочу открыть, а закончил разговор так: «Ну что ж, если вы настаиваете, завтра на коллегии встанете и возьмете отвод». И угрожающе добавил: «Но мы вам это припомним».
Что было делать?
Когда в большом зале, где проходило заседание коллегии и где присутствовало, наверно, до сотни человек, начальник Управления руководящих кадров доложил о предложении назначить меня заместителем главного редактора издательства «Книга» и председательствующий спросил, нет ли возражений, я не осмелился встать и возразить: подействовала и угроза Фомичева, и растерянность в непривычной для меня обстановке. Я сдался. Не хватило характера. Но, на счастье, Ершов отказался от предлагаемой ему должности заведующего редакцией: для номенклатурных работников, в круг которых он уже вошел, любое понижение в должности сопряжено с выходом из этого круга, с крахом карьеры. К тому же он, вероятно, уже знал, что ему приготовили место в Союзе писателей СССР. Так или иначе, но он ушел, а я стал заместителем главного редактора. На место же заведующего редакцией Телепин предложил взять сотрудника журнала «В мире книг», в редакции которого он работал до «Книги», Владимира Васильевича Сазонова.
Если Фомичеву разговор о несоответствии моего характера новым должностным обязанностям показался вздором, некоторым из тех, кто работал со мной, это несоответствие было понятно.
Хорошо помню встречу с Глебом Александровичем Виноградовым позже описываемых событий, когда меня уже назначили главным редактором «Книги». Он посчитал нужным сказать, что плохо представляет себе меня в этой должности. Внутренне я с ним был согласен. Такие мои качества, как робость, зажатость, неумение легко вступать в контакт с новыми людьми по собственному почину, уверенно представительствовать в различных организациях и добиваться для своего издательства новых возможностей, заключая для этого сделки, что тогда было очень распространено, твердо противостоять агрессии, – все это не могло не ограничивать мою деятельность в роли хоть заместителя главного редактора, хоть редактора главного. Я был и заместителем главного редактора, и главным редактором преимущественно внутреннего действия, т. е. организатором и руководителем редакционно-издательского процесса внутри издательства, и относительно успешно с этим справлялся, а вот администратором внешнего действия был действительно слабым, пассивным.
Конечно, я систематически выступал в печати, пропагандируя книги издательства, рассказывал о его планах, выступал на совещаниях, конференциях, организовывал обсуждения планов и книг, участвовал в редколлегиях ряда изданий. Но все это делалось не по моему почину – я лишь откликался на предложения и приглашения других.
Ограниченность моих действий, конечно, угнетала меня, но преодолеть собственную натуру сил не хватало.
Случайность моего назначения заместителем главного редактора была налицо. Если бы Комитет назначил на пост главного редактора издательства достойного человека, Телепину не пришлось бы от него избавляться и повышать меня в должности. С другой стороны, сектор издательств и полиграфии Отдела пропаганды ЦК КПСС, с которым такое назначение, скорее всего, согласовывалось, не возражал против него, вероятно потому, что был заинтересован, чтобы в руководстве издательства был человек, которому близок издательско-полиграфический пласт литературы. И это, возможно, перевесило мое слабое место – еврейское происхождение. Не могли не повлиять на Яблокова и хорошие отзывы обо мне авторитетных в отрасли людей на совещании в ЦК КПСС, которое я описывал выше. Не исключаю, что хорошо обо мне могла говорить Яблокову и его жена, работавшая в Союзкниге. С ней мне приходилось иметь дело в связи с ведомственными изданиями по книжной торговле. Хорошо зарекомендовал я себя и на первой своей работе в «Книге», когда руководил подготовкой к изданию так называемых «Списков изданий, подлежащих списанию в книготорговой сети». Списки составлялись по предложениям с мест; главная цель была в том, чтобы убрать из ассортимента книги Сталина и всю литературу, пронизанную идеями культа личности. Однако книготорги включали в списки на списание книги вполне добротные, но по какой-либо причине залежавшиеся (часто из-за ошибочного распределения книг по книготоргам), книги, пришедшие в негодность из-за ненадлежащих условий хранения или просто нераспроданные. Увидев в списках хорошие книги известных советских писателей, я постарался предупредить об этом руководство Союзкниги, и многие такие книги из списков были вычеркнуты. Но не все. И после выхода списков в свет разразился скандал, в результате которого К.Н. Боголюбов, первый заместитель председателя Комитета по печати, получил взыскание и его перевели на другую работу (кажется, он вернулся в ЦК КПСС и сделал там большую карьеру). Обо всем этом я пишу для того, чтобы показать, что повышение мое в должности было все-таки не совсем случайным.
А вот что Комитету нужно было как раз в это время трудоустроить Ивана Петровича Немешаева, который не ужился на посту главного редактора в издательстве «Знание», было чистой случайностью. Именно поэтому Комитету было очень на руку освобождение места главного редактора и он легко согласился на введение в штатное расписание «Книги» новой должности заместителя главного редактора, чего обычно добиться чрезвычайно трудно.
Наконец, случайным было назначение меня через некоторое время главным редактором.
Сменивший Г.А. Ершова на посту главного редактора «Книги» Иван Петрович Немешаев был в начале своей биографии рабочим, потом сделал партийную карьеру и в бытность Л.И. Брежнева первым секретарем ЦК КП Молдавии заведовал лекторской группой этого ЦК, т. е. входил в орбиту сотрудников Брежнева, что, конечно, открывало ему дорогу к высоким постам.
Человек он был толковый, схватывал все на лету и, если бы не любовь к выпивке, пошел бы, наверное, далеко, поскольку все силы прилагал к тому, чтобы средствами рекомендательной библиографии пропагандировать идеи последних партийных решений. Например, он задумал и организовал вместе с библиографами Государственной исторической библиотеки издание серии библиографических указателей «Решения ХХIII съезда КПСС – в жизнь». Конечно, указатели эти были такими же скучными и далекими от реальной жизни, как и книги, которые они рекомендовали, и не интересовали никого, кроме разве что руководителей кружков и семинаров партийного и политического просвещения. Но таковы были условия игры. Это делало тематический план выпуска издательства политически актуальным, что приветствовалось Главной редакцией общественно-политической литературы Комитета по печати, которая его рассматривала и утверждала. И уже не важно было, что точно такие же зубодробительно скучные библиографические пособия составлял отдел рекомендательной библиографии Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина.
И.П. Немешаев опекал две редакции: рекомендательной библиографии и литературы по библиотековедению и библиографии. На мою долю достались редакция литературы по издательскому делу и книжной торговле и редакция полиграфической литературы. Кроме того, я занимался оперативным планированием, составлял планы-графики сдачи рукописей, следил за состоянием портфелей, подготовлял проекты планов выпуска и редакционной подготовки и т. п. Работой издательства в целом Иван Петрович практически не занимался: она его, в сущности, мало интересовала.
Отношения у меня с Немешаевым были вполне нормальные, даже хорошие. И все было бы неплохо, если бы он время от времени не исчезал на несколько дней, ссылаясь потом на смерть то дяди, то бабушки, то племянницы. Он, видимо, страдал запоями. Перед очередным исчезновением он приходил на работу несколько возбужденным, суетливо деятельным, а вернувшись из такого отпуска за свой счет, обычно бывал зол, сосредоточен и необыкновенно требователен к подчиненным. Конечно, это не могло не вызвать серьезных нареканий Михаила Яковлевича Телепина и по сути, и потому, что он вообще терпеть не мог пьяниц. В конце концов Иван Петрович лег в неврологическое отделение клиники, где ему сделали операцию, делавшую выпивку смертельно опасной. Мы с Р.А. Кошелевой, заведующей редакцией литературы по библиотековедению и библиографии, один раз навестили Немешаева в клинике.
После больницы Немешаев держался довольно долго. Но примерно через полгода он исчез снова. Директор направил к нему домой Кошелеву. Она вернулась весьма встревоженной. Квартира, где жил Иван Петрович, была практически пустой. Там не было даже мебели. Немешаев не был пьян, от него не пахло спиртным, но все же ей показалось, что и трезвым он тоже не был. Она предположила, что он принимает какие-то таблетки, которые заменяют ему алкоголь.
Все это надоело Телепину, и он потребовал от Комитета по печати замены Немешаева, предварительно обсудив свое требование на партбюро издательства. Там же, видимо, зашла речь о возможном кандидате на замену. И Телепин вместе с партбюро решили не искать кандидата на стороне, а предложили Комитету в качестве кандидата меня. Так и было сделано. И 3 декабря 1967 года я был утвержден в этой должности.
Думаю, этому способствовало и то обстоятельство, что Телепин понимал: я ему не конкурент и никогда не стану его подсиживать и потому, что такие действия не в моем характере, и потому, что этому не может не препятствовать мое еврейское происхождение. Этим я отличался от Немешаева, который то ли в порядке самозащиты от нападок директора, то ли потому, что действительно был убежден в слабости директорского руководства издательством, выступил на партийном собрании с резкой критикой Телепина, критикой необоснованной и вносившей в издательскую атмосферу элемент склоки.
Не будь Немешаев запойным пьяницей, не возникла бы необходимость назначать меня главным редактором.
Не будь Телепин человеком, исповедующим провозглашенные партией лозунги, сторонником выдвижения собственных кадров, он бы стал искать подходящего человека на стороне, просил бы Комитет по печати подыскать такого человека, и обо мне речи точно бы не пошло. Впрочем, еще важнее, видимо, было нежелание Телепина рисковать: он боялся напороться на второго Немешаева, если не пьяницу, то склочника.
Конечно, издательский коллектив, партбюро и директор ценили мою преданность делу и мои знания, но все же и здесь моя «карьера» определялась в большой мере стечением обстоятельств, а не тем, что я лучший из возможных кандидатов на эту должность, тем более что я не обладал качествами, которыми отличались многие советские начальники: жесткостью, готовностью пожертвовать любым подчиненным, лишь бы спасти себя, настырностью, готовностью к показухе, полной покорностью высшему начальству.
Когда И. Рахманина беседовала со мной для того, чтобы поместить в журнале «Книжное дело» мой словесный портрет, она сказала мне, что я не из тех, из кого обычно формируются главные редакторы издательств, совсем не похож на них.
Я вообще человек покладистый, не боец, но когда на заседании коллегии Главной редакции общественно-политической литературы рассматривались наши планы и высказывались неверные замечания, мог, защищая книгу или тему, вступить в полемику даже с главным редактором этой самой Главной редакции. Это позднее вызывало недоумение сменившего Телепина на директорском посту В.Ф. Кравченко, который считал недопустимым возражать вышестоящему начальнику.
Но внутри издательства я был мягок, т. е. не старался наказать или выгнать редакторов за промахи, хотя и выговаривал им за недоработки, не был груб и заносчив, не был также идеологическим цербером, хотя и не пропускал то, что по условиям времени нельзя было обнародовать.
Кроме того, я никак не мог отрешиться от желания самому принимать участие в создании книг, быть редактором хотя бы некоторых изданий или помогать другим их редактировать, заботиться о качестве редактирования при контрольном чтении рукописей, хотя в прямые мои задачи это не входило. Тут главное было – воспрепятствовать выпуску в свет брака или произведения с серьезными изъянами. А нужно учесть, что в издательской жизни главного редактора или его заместителя огромная (думаю, бóльшая) часть времени тратилась на всякую административную суету (бесконечные совещания разных звеньев, прием авторов, подготовка справок для Комитета, планов, графиков и т. п.). Это помимо того, что нужно читать рукописи, подготовленные к набору подведомственными редакциями, визировать корректурные оттиски книг на разных стадиях производства, рассматривать проекты оформления и визировать оригиналы обложек, переплетов, иллюстраций – всего не перечислишь.
Не случайно я писал Олегу Вадимовичу Риссу 8 января 1967 года, когда я еще был заместителем главного редактора издательства, но часто выполнял многие функции главного редактора, если Немешаев уходил в очередной запой:
Работа идет как-то плохо, и к вечеру я возвращаюсь домой угнетенный тем, что очень мало успеваю сделать, а список того, что сделать требуется, растет куда быстрее, чем из него вычеркиваются пункты. Простите, что жалуюсь, просто я все время хожу под впечатлением внутренних противоречий, меня раздирающих, и не могу их скрыть. Либо я плох для той работы, которой занимаюсь, либо сама работа плоха. Скорее, вероятно, первое.
Как же при всем при этом я согласился быть главным редактором? Ведь и заместителем главного редактора я просил меня не назначать. А тут возражать не стал. Почему?
Насколько помню свои размышления на этот счет, они были такими:
– практически руководить редакционной частью издательства мне уже приходилось, и нельзя сказать, чтобы у меня это совсем не получалось;
– идеальных руководителей не бывает, одни обладают одними сильными сторонами, другие – иными; если я не силен как администратор, то я доказал прежде всего самому себе, что редакционно-книжную сторону знаю досконально и могу принести большую пользу издательству в этом отношении;
– наконец, лучше отвечать за дело самому, чем подчиняться человеку вроде Ершова или Немешаева, а вероятность того, что пришлют кого-либо из подобных номенклатурщиков, была очень велика.
Более точное представление о моих тогдашних размышлениях по поводу собственной «карьеры» дает письмо к О.В. Риссу от 9 января 1968 года, через месяц после того, как меня утвердили главным редактором. В письме воспроизведены многие детали моего назначения, которые выветрились из моей памяти:
Что касается изменений в моей жизни, вернее в моей рабочей биографии, то с обычной точки зрения они вроде бы совсем неплохие: я «делаю карьеру». Произошло вот что. Иван Петрович Немешаев, бывший у нас главным редактором, страдает алкоголизмом, выражаясь по-научному. Это, конечно, делу на пользу не шло. Мне доставалось больше других. А так как директор наш с Немешаевым не ладил, то он проявил принципиальность и поставил перед Комитетом вопрос об освобождении Немешаева. Поскольку Иван Петрович, в общем, человек был приличный (если откинуть загулы), то я старался его отстоять. Но когда случаи участились, и даже очередное лечение в больнице впрок не пошло, я предупредил И.П., что не смогу больше покрывать его, как было не раз. Он снова не сдержался, а лгать мне было противно. Директор поставил вопрос на партбюро. Его все поддержали. Я воздержался, поскольку голосовать против не имел доводов, да и спасти Немешаева практически не было возможности. Ему подыскали очередную работу, пока я находился в отпуске, а он снова в больнице. Я стал с трепетом ждать нового начальника, как вдруг меня вызвали в Управление руководящих кадров Комитета и предложили пост главного редактора. Не знаю, поверите Вы или нет, но, честное слово, мне казалось это невозможным по ряду причин. Тем не менее так случилось. Я, естественно, попросил время на размышление. Мотивов для отказа у меня было немало: и то, что я легко подчиняюсь заведенному порядку, не умею пробивать, как теперь любят говорить, дела; и то, что новая должность может повлиять отрицательно на мои личные творческие планы, от которых жаль отказываться потому, что они доставляют истинную радость в жизни; и то, что я в связи с причинами, с которых начал, вряд ли оправдаю те надежды, которые на меня возлагают руководители Комитета; и то, что в заместители главного редактора уже решили без моего спроса назначить человека, в издательстве до этого не работавшего, только потому, что на его место можно было перевести И.П. Немешаева (заместителя главного редактора журнала «Книжная торговля» Ф.Ф. Волошина); и то, что справедливее было бы во главе издательства «Книга», его редакционной части, поставить человека с библиотечно-библиографическим образованием, поскольку эта литература по объему в издательстве первая.
Все эти доводы мои были признаны несостоятельными. Мне было сказано, что я в течение уже длительного времени практически исполнял обязанности главного редактора, что партийная организация ходатайствует о моем назначении, что для издательского коллектива крайне нежелательно подыскивать нового человека, который еще неизвестно, как сойдется с новым коллективом, что в создавшемся положении наиболее целесообразно для дела, для издательства «Книга» выдвинуть на пост главного редактора работника, которого в коллективе хорошо знают и т. д., и т. п. Взвесив все, я подумал, что действительно для издательства это, пожалуй, и лучше. Если я не добьюсь для него каких-то преимуществ, то, во всяком случае, не принесу вреда и помогу в меру своих сил улучшить внутреннюю работу, хотя природная мягкость мне очень в этом мешает. Единственно, в чем я был твердым, так это в обличении работы небрежной, непродуманной, халтурной, хотя и здесь последовательности до конца недостает. В смысле оргвыводов, которые бывают подчас необходимы. Подумав так, я решил согласиться. Причем чашу весов склонило в пользу этого решения одно последнее соображение. Не получится, почувствую, что не справляюсь, – уйду. В конце концов, меня тяготила должность заместителя главного редактора не меньше.
И вот уже месяц как я главный редактор.
Все же я двигался по издательской иерархической лестнице скорее по инерции складывающихся обстоятельств, чем закономерно и по собственному выбору. И на высоких должностях постоянно ощущал, что на менее высоком посту мог бы принести гораздо больше пользы. Здесь же я если и полезен, то больше потому, что уровень других руководящих чрезмерно низок. Об этом я пишу подробнее в главе «Каким главным редактором я был: оценки и самооценка».
На посту главного редактора «Книги» я пробыл до 19 августа 1985 года, памятного для меня дня (именно 19 августа 1941 года я был ранен). Я был уволен в связи с уходом на пенсию, чего добивался Госкомиздат СССР и чему способствовал ради хороших отношений с начальством директор «Книги» В.Ф. Кравченко. Нужно было трудоустроить окончившего Академию общественных наук при ЦК КПСС бывшего заместителя начальника Управления международных связей Госкомиздата некоего Курилко. В прошлом комсомольский работник, пришедший в Комитет из ЦК ВЛКСМ, он ничего не смыслил в издательской работе, но был в номенклатуре, и это решало дело.
Так закончилась моя издательская карьера. В сущности, я и не возражал против своего ухода на пенсию. По двум причинам.
Во-первых, умница моя дочь Вера решительно советовала мне это сделать.
Во-вторых, я сознавал, что сила не на моей стороне и перспектив успешно бороться за свое место у меня слишком мало. Многие признаки показывали, что директор издательства Кравченко начал готовить почву для моего увольнения как не справляющегося с работой. Тогда я пошел к нему и прямо спросил, хочет ли он, чтобы я продолжал работать, несмотря на мой уже пенсионный возраст, или нет. На мой прямой вопрос он уклончиво ответил, что разговаривал о моей судьбе в Госкомиздате СССР и там считают полезным не удерживать меня от ухода на пенсию. Все было предельно ясно. Дилемма была простой: либо обречь себя на нервотрепку и неприятности, либо спокойно уйти. Я предпочел второе. Тем более что если бы я не возражал против ухода, то мог рассчитывать на персональную пенсию и какие-то поощрения, что будущее и подтвердило. Меня представили на персональную пенсию, ходатайствовали о присвоении мне звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», и ходатайство это было удовлетворено. Не слишком большую цену заплатили только для того, чтобы я ушел, но для меня это имело значение, да и заслужены эти награды не моей покорностью, а моим вкладом в отечественное издательское дело.
Все же Кравченко попросил меня пока продолжить работу. Я не возражал против этого, так как деятельность издательства была мне дорога. И он даже не отпустил меня в отпуск на август 1985 года, сославшись на подготовку к очередной Московской выставке-ярмарке. А уже в самом начале августа я написал О.В. Риссу:
А у меня принципиальная новость: в четверг, 1 августа, директор между прочим сообщил мне, что Госкомиздат нашел мне замену…
И далее я цитирую то, что сказал Кравченко о моем только что найденном преемнике:
По словам директора, характеризуют его комитетские деятели хорошо, как обладающего прекрасными организаторскими способностями. <…> Я, конечно, ждал этого момента, вроде был готов к нему, но, с другой стороны, несколько утратил чувство реальности: мне казалось, что директор никого не ищет на замену… <…> В общем, надо придерживаться оптимистического принципа: все к лучшему.
Но я рассказал о финале своей работы в «Книге», ничего толком не сказав о самом издательстве. Ему посвящен следующий раздел моих записок.
В издательстве «Книга»
Первый год в «Книге»
Итак, редакция литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле оказалась в новом издательстве, созданном по постановлению Совета министров СССР и ЦК КПСС о реорганизации системы издательств. Главиздат Министерства культуры замещался более значительным и, главное, самостоятельным государственным органом – Комитетом по печати при Совете министров СССР. Цель была двоякая: во-первых, упорядочить издательскую систему для того, чтобы сократить выпуск книг, не пользующихся спросом (этому должно было помочь объединение ряда однопрофильных издательств), и ликвидировать всякого рода издательские отделы предприятий и организаций (это било в ту же цель: ведомственные издания в структуре выпуска занимали немалое место, и надо было использовать их фонды более целесообразно, так как спрос на книги не удовлетворялся); во-вторых, усилить идеологический контроль над издательствами. Не случайно первым председателем Комитета по печати был назначен начальник Главлита П.К. Романов, а Главлит влился в состав нового Комитета.
Е.Г. Эткинд в своей книге воспоминаний (Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., 2001. С. 203) приводит неизвестное мне каламбурное название Комитета по делам печати: Комитет поделом печати, что в значительной степени отвечало его сущности.
Практически редакция поначалу сохранила за собой помещения, которые занимала, еще находясь в «Искусстве»: три комнаты в здании Главиздата Министерства культуры СССР на Ленинском проспекте, 15. Так что связь с «метрополией» была непростой: до станции метро «Октябрьская» можно было доехать на троллейбусе или дойти пешком (15–20 минут), а затем с пересадкой добираться до станции «Охотный Ряд». Оттуда до «метрополии», размещавшейся в нижнем, частично полуподвальном этаже кооперативного дома композиторов на улице Неждановой (теперь Брюсов переулок), д. 8/10, ходу было тоже минут 15. Поэтому сотрудники предпочитали ездить по делам или за зарплатой на такси. Тоже не слишком удобно, но другого выхода не было. Курьерская служба в издательстве была слабой.
Почти до конца 1964 года издательством командовал генерал в отставке Петр Федорович Копылов, назначенный исполняющим обязанности директора «Книги», поскольку был директором Издательства Всесоюзной книжной палаты, единственного издательства среди редакций и издательских отделов, влившихся в «Книгу». До выхода в отставку П.Ф. Копылов был директором Воениздата. Соломон Наумович Вуль, который заведовал производственным отделом этого издательства, рассказывал мне, что быстрая карьера Копылова, начавшего свою работу в Воениздате с должности младшего редактора, объяснялась арестами офицеров – руководителей издательства и редакций. Не могу назвать чего-либо полезного, сделанного им для нового издательства, хотя и вреда он тоже не приносил.
Несколько первых месяцев в новом издательстве мне пришлось провести не в редакции, а на базе Союзкниги в Карачарове.
Издательству было поручено возглавить там работу по выпуску так называемых «Списков изданий, подлежащих списанию в книготорговой сети» – списывались книги, пропагандировавшие культ личности Сталина.
Копылов назначил меня руководить этой работой и откомандировал в Карачарово на базу Союзкниги. Кроме меня, он послал туда заведующую технической редакцией Аллу Федоровну Козаченко и выпускающего производственного отдела Юрия Алексеевича Полякова. Оба из коллектива бывшего Издательства Всесоюзной книжной палаты. Кроме того, Комитет обязал центральные издательства командировать на базу в Карачарово своих корректоров. Всей этой бригадой я и должен был руководить. База Союзкниги располагалась в огромном здании недалеко от платформы Карачарово Горьковской железной дороги. Мы добирались туда электричкой с Курского вокзала.
Об этой работе я уже писал в предыдущей главе, так что не буду повторяться. Добавлю только одно: руководителям Союзкниги так понравилась моя работа над «Списками…», что они озадачили меня вопросом, не хотел ли бы я перейти работать в Союзкнигу. Но при моей приверженности к редакторской профессии это было исключено.
Когда «Списки…» (шесть большеформатных объемных томов в обложке без указания тиража) вышли в свет, я вернулся в издательство. П.Ф. Копылов сообщил мне, что представил меня на должность главного редактора издательства, и по его просьбе я вынужден был заняться не только делами редакции, но и формированием планов выпуска нового издательства на 1964 и 1965 годы. Поначалу они были механическим соединением планов тех издательств, редакций и отделов библиотек, которые по постановлению были объединены в издательство «Книга». В главке «Василий Михайлович Горелов» (см. ниже) цитируется рассказ заведующей планово-экономическим отделом Ф.М. Шкловер о том, как это пытался сделать Горелов, назначенный председателем комиссии по организации издательства «Книга», хотя такому малокультурному человеку подобная задача была не по зубам. С большим трудом удалось хоть как-то систематизировать книги в плане нового издательства.
О своей работе в это время я уже немного писал в главе о своей издательской карьере. Поэтому перейду к рассказу об издательстве «Книга» в то время, когда его возглавлял М.Я. Телепин.
Становление нового издательства
Первый полноправный директор «Книги» Михаил Яковлевич Телепин
С назначением полноправным директором издательства Михаила Яковлевича Телепина начался первый этап истории издательства (1965–1976 годы). Первый, 1964 год работы издательства можно считать этапом предварительным.
Нельзя сказать, что именно Михаил Яковлевич своими действиями определял этот этап. Издательские идеи его были довольно примитивными. Но все же многое из того, что было сделано и не сделано издательством при Телепине, зависело от него.
О деятельности Телепина до «Книги» мне известно немного. Во всех деталях его биографию я не знаю. Но кое-что проскальзывало в разговорах, и поэтому общее представление о ней я имею. Он сын тамбовского крестьянина-бедняка. Вступил в комсомол, начал писать в местную газету и стал ее сотрудником. Вступил в партию. Его послали на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), тогда только что созданную. Он окончил ее в 1940 году. Это был первый или второй выпуск. Вместе с ним учились и кончали ВПШ многие видные «идеологи» компартии. Назову некоторых.
Это К.С. Боголюбов, ставший впоследствии заведующим сектором издательств в Отделе пропаганды ЦК партии, а в 1964 году назначенный первым заместителем председателя Комитета по печати. После скандального освобождения от этой должности он вернулся в ЦК и сделал там большую карьеру – стал управляющим делами ЦК, но, по слухам, снова проштрафился и был даже исключен из партии.
Это П.К. Романов, тоже работавший в ЦК, а затем много лет возглавлявший Главлит. Он стал первым председателем Комитета по печати, а когда Главлит был выведен из системы Комитета по печати, вернулся командовать Главлитом.
Это В.С. Фомичев, сменивший К.С. Боголюбова на посту первого заместителя председателя Комитета по печати, а после того, как Главлит снова стал самостоятельным органом, тоже вернувшийся в Главлит в качестве заместителя П.К. Романова.
Все это мне стало известно потому, что однокашники первых выпусков ВПШ решили отметить какое-то «летие» со дня окончания альма-матер небольшой книжечкой и попросили ее издать Телепина. В ней были списки довоенных первых выпусков, которые я видел, так как Телепин просил меня то ли подготовить брошюру к изданию, то ли просто просмотреть с редакторской точки зрения.
По окончании ВПШ с начала Великой Отечественной войны Телепин – фронтовой корреспондент Совинформбюро. После войны через некоторое время он из Совинформбюро переходит на работу в ЦК партии инструктором сектора газет Отдела пропаганды. Оттуда его направляют на работу в журнал «Что читать» заместителем главного редактора. С одной стороны, это, видимо, отвечало его устремлениям, поскольку он был большим любителем книги, а с другой – говорило о том, что его личные качества не вполне отвечали требованиям к инструктору ЦК партии. Он был человек порядочный, но недостаточно агрессивный и не креативный, как теперь любят выражаться.
Главного редактора журнала «Что читать» Федотова Телепин почему-то не удовлетворял. Отношения у них не сложились. И назначение в 1965 году директором «Книги» было для М.Я. как нельзя кстати. Такой самостоятельной работы он, вероятно, и добивался. В «Книге» М.Я. и закончил свою служебную карьеру.
Почему такой человек, как Телепин, попал в номенклатуру? Ответить непросто. Он имел явно ограниченный, негибкий ум, не отличался ни наглостью, ни нахрапистостью. Но был предан идеям и делам партии. В то же время он был честен, не умел извлечь из своего положения выгод для себя и своей семьи. Во время работы в ЦК партии он получил однокомнатную квартиру в цековском доме, да так в ней и умер вскоре после ухода на пенсию. А ведь у него была жена и взрослый сын. Мучился, просил улучшить жилищные условия, но и только.
Когда Телепин появился в издательстве в конце 1964 года, он произвел благоприятное впечатление своей увлеченностью книгой и некоторыми неожиданными решениями.
Из разговоров с ним я понял, какой он видит главную задачу нового издательства. В результате Телепин попросил меня письменно изложить мои соображения о том, каким должно быть новое издательство. Я пообещал и вскоре представил ему такое сочинение:
Некоторые соображения о работе издательства «Книга»
Выполняю свое обещание изложить письменно соображения, о которых я говорил в беседе с Вами.
По-видимому, мы все, работники нового издательства, пришедшие в него со своими редакциями или отделами, плохо еще ощущаем, что издательство «Книга» должно быть новым качеством, а не механическим объединением тех редакционных частей, из которых оно сложилось по решению Совета Министров СССР. Если не преодолеть этой инерции мышления и привычек, издательство останется на том же уровне издательства только специальной литературы, какими были его отдельные редакции до 1964 г., какими они, по сути дела, остаются и по сей день.
В чем должно проявиться это новое качество?
На мой взгляд, прежде всего в создании завоевавших всенародную признательность книг о книгах и книжном деле. Конечно, издательство должно продолжать делать то, что делали его редакции до объединения, и делать это лучше. Но помимо этого оно должно позаботиться о создании новых форм, новых типов книг и по теме, и по изложению, книг, которые бы помогали народу лучше использовать книжные богатства, которыми он владеет, пропагандировать книгу в самом широком и глубоком смысле слова.
Такие формы и типы книг могут, конечно, родиться только в результате коллективных усилий. Поэтому следовало бы привлечь к поискам прежде всего работников издательства, поставив перед ними эту увлекательную задачу на специальном редакционном совещании при директоре или главном редакторе.
Затем хорошо было бы обратиться к нескольким десяткам крупных писателей, художников, режиссеров, ученых, видных книголюбов, библиотечных работников с просьбой высказать мысли и соображения о возможных направлениях издательской деятельности «Книги», о типах книг, посвященных книге и книжному делу. Чем шире будет такой опрос, тем лучше. Возможно, тут очень полезными окажутся и конференции библиотечных работников, книготорговцев, издателей – тех, кто работает с книгой и читателями.
В качестве первоначального материала для завязки обсуждения предлагаю несколько направлений, по которым, представляется, можно вести поиски новых типов и форм книг:
1. Группа книг об истории создания, издания и жизни в обществе отдельных наиболее выдающихся литературных произведений мировой художественной, научной и политической классики. Цель этих книг – не только сделать достоянием каждого человека историю создания величайших памятников человеческой мысли, художественного творчества, хотя одно это уже заслуживает одобрения: ведь подробности создания «Капитала» ничуть не менее интересны и важны для каждого культурного человека, чем подробности изобретения паровой машины или электрической лампочки, хотя последние популяризируются куда более широко и основательно. Их задача – показать также торжество человеческого разума, величайший труд, стоящий за каждым таким произведением, рассказать о влиянии этого произведения на судьбы людей, дать книгу в действии, в увлекательном изложении. Список таких книг (темы их) и надо составить в качестве основы для перспективного плана. Для примера назову несколько тем: «Капитал» Маркса, «Дон Кихот» Сервантеса, «Мертвые души» Гоголя, «Война и мир» Толстого, «Чапаев» Фурманова, «Гамлет» Шекспира или вообще пьесы Шекспира, «Евгений Онегин» Пушкина.
2. Группа книг-комментаторов (типа книги Бродского «Вслед за героями книг»). Это книги, которые помогают читателю лучше войти в воображаемый мир, созданный писателями, но канувший в Лету и потому во многом непонятный современному читателю. В качестве примера можно привести книгу об античном мире, воссозданном в произведениях античных авторов. Книга одновременно пропагандировала бы античную литературу, пробуждала читательский интерес к ней и тем помогала овладевать всеми богатствами культуры, накопленными человечеством.
3. Книги-воспоминания крупнейших наиболее авторитетных советских писателей, ученых, деятелей культуры, посвященные книге в их жизни. Это не лобовой рассказ о том, какую роль сыграли книги в судьбе автора, а живой разговор о жизни и наиболее важных для автора книгах, о том, чем эти книги были интересны именно для него. Это мемуары вокруг книг, или книжные мемуары, интересные читателю не только и не столько тем, что скажет о тех или иных произведениях автор мемуаров, сколько самой личностью мемуариста. В числе прочих могла бы тут найти место и книга какого-нибудь крупного иностранного писателя о советской художественной литературе в его жизни и судьбе, о книгах Ленина. Показателен пример Горького. Не было, пожалуй, лучшего пропагандиста книги, чем он. Уверен, что очень многие молодые люди принимались искать книгу только потому, что прочитали несколько добрых слов о ней М. Горького.
4. Книги о деятелях книги и книжного дела. Сюда может войти, например, книга, которую редакция литературы по книгоиздательскому делу давно предлагала написать И. Андроникову – рассказы об открытиях и находках советских текстологов-литературоведов, благодаря которым советский читатель получил подлинные, неискаженные тексты русской литературы. Сюда же войдет заново пересмотренная серия «Деятели книги». План-перечень тем этой серии необходимо обсудить на редсовете.
5. Группа книг, по характеру близких задачам изданий рекомендательной библиографии. Что бы советовал крупнейший физик читать по физике той или иной читательской аудитории: детям, любому человеку не технической профессии, интересующемуся проблемами физики, – тема одной из книг этой группы. То же по истории, географии и т. д. Темы будут определяться в значительной степени интересами самого ученого, писателя, художника. Необходимо составить общие наметки плана такой группы книг и искать исполнителей. Это будет та рекомендательная библиография, к которой охотнее всего обратится читатель, потому что живой разговор всегда привлекательнее.
6. Группа книг, объединяемых темой «Как работать над книгой». Может быть, и одна книга на такую тему. Но сюда могут войти книги типа «Как работал над книгой В.И. Ленин», «Как работал над книгой К. Маркс».
7. Сборник материалов и воспоминаний о том, как рождались лучшие книги советской литературы. Это интересно знать любому культурному человеку.
8. Письма читателей о книгах. Такие издания по тщательно отобранным письмам интересны и содержанием, и статистикой. Отбирать и лучшие по содержанию письма и о тех произведениях, к которым проявился наибольший читательский интерес. Издание может стать ежегодным.
Конечно, это далеко не все темы, которые можно предложить. Обсуждение это, безусловно, покажет.
А. Мильчин 7 декабря 1964 г.Перепечатывая сейчас это сочинение, я испытывал противоречивые чувства. Ведь я на него смотрел уже глазами человека ХХI века. А с этой точки зрения очевидно, что мои идеалистические старания мало что могли дать стране. Даже если бы все планы были реализованы, это помогло бы повысить культуру очень малому числу соотечественников. Кроме того, я мыслил поверхностно о советской литературе, выдвигал на первый план коммунистических деятелей – Ленина, Маркса, что было в известной степени показухой. Наконец, я, составляя грандиозные планы, не думал тогда, а кто же их реализует. Ведь я по своим личным качествам мало годился для этого, так как не обладал необходимой энергией, умением входить в контакт с разными, тем более знаменитыми людьми. Тем не менее не сразу, но в конце концов многое из задуманного было выполнено. Но более или менее широко это делалось уже при другом директоре, В.Ф. Кравченко, сменившем Телепина на посту директора в 1977 году.
Несомненно, я, уже зная вкусы директора, хотел ему угодить, но в то же время идеи приведенного выше сочинения были мне дороги и сами по себе. Таким, вполне социалистическим, было мое мировоззрение того времени. Я скользил по поверхности явлений. Неприятно сознаваться в этом, но и приукрашивать себя мне ни к чему.
Отмечая выше, что Телепин в самом начале своей деятельности на посту директора издательства принял несколько неожиданных решений, я имел в виду в первую очередь его согласие разделить редакцию литературы по книгоиздательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле на две: 1) редакцию литературы по книгоиздательскому делу и книжной торговле (подразумевалось, что редакция займется также выпуском популярной литературы о книге и книжном деле и книговедческой литературы); 2) редакцию полиграфической литературы.
Я давно и настойчиво это предлагал. Редакция, которая влилась в новое издательство, была слишком большой и слишком многообразной по содержанию выпускаемых книг, и это очень тяготило меня, поскольку мои знания не позволяли толком судить, например, о содержании многих полиграфических книг и обоснованно составлять планы их выпуска.
Поэтому 7 декабря 1964 года, в тот же день, которым помечено мое сочинение о том, каким должно быть издательство «Книга», я подал директору докладную записку, о которой уже упоминал в предыдущей части. В ней, ссылаясь и на увеличение объема редакции, и на разнородность выпускаемых ею книг, я просил разделить ее на две.
В конце своей докладной я писал, что все это было ясно и тогда, когда издательство «Книга» создавалось, а за время его существования полностью подтвердилось. Штатное расписание никак не препятствует такому разделению, поскольку в штате редакции две административно-управленческие единицы – заведующего редакцией и его заместителя. И указывал составы обеих редакций и объемы работы каждой в 1965 году.
М.Я. Телепин согласился с моим предложением, но не сумел реализовать его сразу, так как надо было представить в Главную редакцию общественно-политической литературы новое штатное расписание и утвердить его, а на это требовалось время. Именно поэтому 23 декабря 1964 года я подал Телепину еще одну докладную записку, в которой предлагал, не дожидаясь официального изменения структуры издательства, разделить руководство редакцией между мною, если меня намерены назначить заведующим редакцией книгоиздательской и книготорговой литературы, и моим заместителем, инженером-полиграфистом В.А. Карандеевой.
В конце концов штатное расписание издательства было изменено, и меня утвердили заведующим редакцией литературы по издательскому делу и книжной торговле. Это было поистине исполнение заветного желания.
Кроме решения о разделении редакции приятно удивила также поддержка М.Я. Телепиным ценнейшего издания, лежавшего мертвым грузом в редакционном портфеле редакции, – «Словаря-справочника иллюстратора научно-технической книги» Н.А. Атабекова. С чем была связана задержка? Когда с автором заключили договор, он собирался сам подготовить сложнейшие оригиналы иллюстраций, которые должны были служить образцом для графиков. Поэтому смета расходов на оформление была составлена в расчете на авторский гонорар за текст и иллюстрации, а договор предусматривал, что автор представляет в издательство иллюстрации в готовом для воспроизведения виде. Но вскоре после этого Атабеков перенес один за другим два инфаркта и по состоянию здоровья выполнить оригиналы иллюстраций уже не мог, а когда под его наблюдением этим стали заниматься лучшие графики Москвы, смета расходов быстро исчерпалась, и заместитель директора издательства «Искусство» Слоним остановил издание. Оплачивать работу графиков сверх сметы он посчитал недопустимым. Работа над словарем-справочником застопорилась. Редакция перешла в «Книгу» со словарем-справочником Атабекова в редакционном портфеле, но без всякой надежды на издание. А нужно сказать, что даже эскизы иллюстраций в исполнении Атабекова поражали мастерством и своеобразной красотой. Когда Телепин приехал в редакцию и его стали знакомить с издательским портфелем редакции, Валентина Федоровна Ларина, редактор словаря-справочника и большая его поклонница, постаралась представить словарь и работу над ним наилучшим образом, хотя и без нажима. Под впечатлением увиденного и услышанного Телепин сказал, что разрешит продолжить подготовку словаря-справочника к изданию, и предложил составить новую смету расходов. А ведь я уже готовился к самым строгим взысканиям за представление к списанию непроизводительных расходов на остановленное издание.
Между прочим, на этом история издания «Словаря» Атабекова не завершилась. В конце концов в сентябре 1971 года оригинал ушел в набор, причем Комитет разрешил отправить его на иностранную полиграфическую базу, в Финляндию. Для точного воспроизведения тончайших штрихов требовалось очень высокое качество материалов и полиграфического исполнения. В июне 1973 года, судя по моему письму к Риссу, гранки в издательство еще не поступили. И вдруг выясняется, что производственные расходы составят ни больше ни меньше как 100 тысяч рублей. А тут еще заместитель директора издательства, не желая подписывать авансовый счет за типографские работы, предъявленный нам Финляндией через Внешторгиздат, подсунул его мне, не предупредив, и я машинально подписал его среди сотен других типографских счетов… Я ожидал, что Комитет в связи с этим обрушит на издательство разные кары, но после большой нервотрепки нам все-таки разрешили установить на «Словарь» цену по себестоимости. Это снимало вопрос об убытке, и книга спокойно вышла в 1974 году. Номинал установили в 10 рублей. Для того времени это была очень высокая цена. Тем не менее книгу раскупили.
Между тем довольно скоро проявились и малосимпатичные черты Телепина.
Большой демократ, он относился с особым вниманием и заботой к курьерам и другим работникам низшего звена. Это было бы ничуть не плохо, если бы не сочеталось с недоверием и подозрительностью по отношению к редакторам.
Какие бы глупости ни совершали по неграмотности курьер, кладовщица или экспедитор, они могли быть спокойны: Михаил Яковлевич их простит и защитит. Он приравнивал их к рабочему классу, поэтому они были у него на хорошем счету, не то что редакторы – народ ненадежный, сомнительный, одним словом – интеллигенция.
Например, не помню, чтобы по поводу анекдотической ошибки в адресе, которой издательство прославилось настолько, что было осмеяно в «Крокодиле», виновного как-то наказали.
Вот что написал мне об этой ошибке мой ленинградский друг О.В. Рисс 7 ноября 1968 года:
«Крокодил» упомянул издательство «Книга» <…> в связи с тем, что экспедиция «Книги» (Г-69), направляя какую-то бандероль в Ленинград, адресовала ее: Фонтанка, 34. Акробатическому и артистическому институту вместо Арктическому и антарктическому. Слава богу, что Михаил Яковлевич не расшумелся по этому поводу, и Вы ничего не знаете. У нас бы по такому поводу собрали бы экстренное заседание парткома и заклеймили бы как «вылазку»!
Бывшая заведующая планово-экономическим отделом «Книги» Фаина Михайловна Шкловер, которой я задал важный для меня вопрос: почему, на ее взгляд, погибла «Книга», и попросил прояснить некоторые подробности жизни издательства, прислала мне в ответ большое письмо со своим объяснением и собственной характеристикой директоров и сотрудников издательства. Это письмо я буду не раз цитировать, поскольку Шкловер лучше всех знала подноготную издательской жизни.
Итак, вот ее описание чудес, которые творила наша курьер Наташа Пахомова, девушка без царя в голове, видимо страдавшая каким-то психическим заболеванием, которую Телепин очень жалел и опекал:
А наша курьер Наташа Пахомова! Она брала трубку у Телепина и говорила: «Директора сейчас нет. Что вы хотите? Говорите скорее, я вместо него». Или, относя письма в Комитет по печати, она умудрилась получить расписку от самого Михайлова [председателя Комитета]!
Влияние Телепина на репертуар «Книги» было не слишком большим, но вполне определенным.
Во-первых, предметом его главных забот была популярная литература о книге и книжном деле. Он считал, что важнейшая задача издательства – привлечь народ к чтению яркими завлекательными рассказами о книгах и писателях. Поэтому он очень поддерживал затеянную в издательстве серию, сначала носившую название «Книги имеют свою судьбу», а затем переименованную в «Судьбы книг».
Я тоже поддерживал издание этой серии, особенно после того, как прочитал в «Юности» вопрос В.Я. Лакшина, заданный Маршаку:
– Как вы думаете, что, если затеять в Детгизе серию «Биография книги»? Это будет литературоведение, но не вполне обычное. Можно взять «Дон Кихота» или «Героя нашего времени» и рассказать, как была задумана книга, как она писалась, какое впечатление произвела на современников, какова ее судьба в потомстве – словом, описать всю ее жизнь до наших дней. Только вот кто это сможет сделать? Андроников? Бонди? А еще кто?
Маршак, правда, прямо не ответил на вопрос Лакшина. Он сказал:
– У нас вообще мало научно-популярных книг для детей. Редко переиздают и то, что было сделано нашей редакцией в тридцатые годы, – Ильина, Бианки, Житкова, «Китайский секрет» Данько, «Солнечное вещество» Бронштейна… А какие могли бы быть книги о животных, растениях, подводном мире, новых открытиях физики… Когда-то я задумал что-то вроде библиотеки знаний для детей, даже составил проект и повез в Сорренто Горькому. В школах тогда были педология, «бригадный метод», и я думал: школы учат плохо, так пусть учат книги.
Но ясно, что идея Лакшина соответствовала издательским программам Маршака.
Телепин общался с библиофилами, в частности участвовал в заседаниях Никитинских субботников, куда однажды захватил с собой и меня.
Он неплохо знал отечественную просветительскую литературу о книге. Именно он предложил включить в план и выпустить действительно полезную книжечку С.И. Поварнина «Как читать книги» (М., 1971), пользовавшуюся успехом и переизданную «Книгой» в 1974 году.
Во-вторых, он старался свято следовать наставлениям тех, кто назначил его директором «Книги», а именно: всячески поддерживать литературу для работников книгоиздательской отрасли, а к литературе для библиотечных работников и библиографов относиться как к неизбежной повинности и сдерживать ее выпуск. Это совпадало и с личным отношением М.Я. к продукции наших коллективных авторов – библиотек, которую он считал слабой и по большей части ненужной. Между тем я, тоже всячески радея о литературе для родной книгоиздательской отрасли, относился к библиотечно-библиографической литературе прагматически. Например, рекомендательные библиографические указатели, которые готовила Библиотека имени Ленина (сокращенно ГБЛ), приносили издательству весомую прибыль, так как их заказывали массовые библиотеки и тираж их доходил до 100 тыс. экз., а выплаты авторского гонорара они не требовали. Конечно, государство от их издания ничего не получало, так как библиотеки тратили на них выделяемые им бюджетные средства и деньги перекладывались из одного государственного кармана (библиотечного) в другой (госкомиздатовский). Но издательству это позволяло хоть частично сводить концы с концами, поскольку учебники для полиграфистов, издания государственной библиографии («Ежегодник книги СССР», «Библиография советской библиографии», различные библиографические летописи) приносили большие убытки. Правда, основным источником финансового благополучия издательства были не книги, а подписные каталожные карточки Всесоюзной книжной палаты. О них, впрочем, разговор особый, отдельный.
В-третьих, при всей своей большой любви к книге М.Я. считал, что книг издается слишком много.
Мой ленинградский эпистолярный друг Олег Вадимович Рисс поинтересовался в одном из писем моим мнением о выступлении Телепина в газете «Неделя». Я тогда (5 марта 1967 года) так ответил Риссу:
Должен Вам признаться, что оно произвело на меня дурное впечатление. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что я имею удовольствие его [Телепина] почти ежедневно слушать. Эти стоны неумного человека: «Зачем так много книг издается?» – говорят лишь о непонимании многообразия интересов современного человека, о несхожести этих интересов у разных людей. Вам-то я могу сказать, что директор наш просто неумен. Он любит книгу, но ужасный дилетант во всем, в том числе и в книге.
Телепин послушно воспринял руководящие указания о том, что издается много ненужных книг, но истолковал их только в том смысле, что нужно ограничить число выпускаемых книг. Как будто, например, при выпуске 100 книг вместо 120 сами по себе исчезнут ненужные, необязательные книги. При этом руководители Комитета по печати не принимали в расчет, что исключение какой-то части книг из планов выпуска очень часто сопряжено с материальными потерями и нарушением прав авторов, поскольку в план входят работы чаще всего уже одобренные, с авторами которых издательство связано договорными отношениями. Это их мало трогало. Главный критерий – партийная установка, задачи, которые перед Комитетом поставил ЦК партии. Пусть директора и главные редакторы сами расхлебывают заваренную ими кашу. Издательскую воронку сужали, но издательства во избежание непроизводительных потерь всеми правдами и неправдами все равно выпускали исключенные Комитетом работы. Пусть позднее, растягивая сроки выпуска книг и замораживая оборотные средства, пусть с изменениями, в том числе и заглавий. Пользовались также некоторыми происходившими постоянно переменами в оценках (то, что вчера считалось неактуальным, сегодня становилось злободневным, нужным).
В-четвертых, М.Я., как истый партиец, чувствовал большую ответственность за идеологическую чистоту продукции издательства.
Будучи слабым администратором и никаким хозяйственником, Телепин не делал того, что издательству было жизненно необходимо (прежде всего, мирился с ненормальными условиями работы сотрудников издательства, с тем, что части издательства разбросаны по всей Москве), но зато, как верный ленинец, направлял свои усилия на идеологический и литературный контроль подготавливаемых издательством к выпуску книг. Как только по его ходатайству меня назначили главным редактором издательства, М.Я. постарался укрепить главную редакцию идеологически надежным партийцем, своим ставленником Ф.Ф. Волошиным, который должен был помогать директору предотвращать любую идеологическую крамолу.
Мне Телепин все же не доверял полностью, считая, видимо, что я, как представитель «гнилой интеллигенции», мыслю и чувствую недостаточно партийно, чересур самостоятельно. Поэтому он сам в порядке контроля читал некоторые рукописи или верстки, применяя для их оценки готовые партийные критерии. А на критериях этих сказывалась общая мрачная идеологическая атмосфера накануне и после ввода войск в Чехословакию. Главлит и Госкомиздат стремились подавить любые проблески свободной мысли. Боялись собственной тени. В тексте любой книги искали подвоха, отклонения от партийной линии. Из-за этого возникало много коллизий, которые могли бы показаться забавными, но мне было не до смеха. Как следствие мои отношения с М.Я. складывались не очень хорошо.
В письме к Риссу от 1–2 июня 1968 года я жаловался:
С Телепиным у меня перед его отъездом было несколько неприятных стычек. С ним каши не сваришь. Иногда он вроде ничего. А иногда ужасный дурак. К тому же из тех, кто продаст, не задумываясь. Начальство готов слушаться с полуслова. Дисциплинированный.
В следующем письме к Риссу, от 21 июня 1968 года, я пояснил, что было причиной стычек:
С Телепиным нормальное сотрудничество возможно лишь время от времени. Он не в состоянии стать на чью-либо точку зрения, кроме своей, довольно узкой, и потому иметь с ним дело крайне трудно и неприятно. А сейчас он просто землю роет, чтобы отличиться, кого-нибудь в чем-нибудь уличить. В частности, прочитал он корректуру одной нашей массовой книги – «Из равелина» Смолицкого (о том, как создавался роман «Что делать?» Чернышевского). Автор решил показать влияние «Что делать?» на современников весьма своеобразно: с помощью архивных документов – полицейских и шпионских донесений на тех, кто читал роман. Этим он и кончил книгу, посчитав, что приводить известные слова Плеханова, Ленина, Димитрова не стоит. Сейчас же редакция была обвинена в политической ошибке. Теперь будем заставлять автора в корректуре что-то дописывать по этому поводу. Мало того. Рассказ о том, как переводил Чернышевский «Историю» Шлёцера, – это, с точки зрения Телепина, отход в сторону от темы. Хотя это была проба пера в равелине, хотя книголюбски интересна сама история перевода, хотя через эту работу показана цельность и сила натуры Чернышеского. И, наконец, еще один штрих для того, чтобы Вам была ясна обстановка, в которой приходится работать. После того как мы обсудили все его замечания, Телепин тайком от меня (узнаю об этом потом случайно) посылает корректуру моему заместителю [Волошину], который второй месяц отдыхает по старому знакомству в кремлевской загородной больнице (у него было воспаление легких). Заместитель этот – догматик и лентяй, человек пренеприятный, скользкий, сподвижник Телепина по ЦК. Культуры у него мало, но это «не беда». Вот теперь Вы, наверно, представляете, как приятно мне работать в обстановке недоверия.
Не закончили дело с книгой «Из равелина», поднял бучу в связи со «Словом о книге», составленным Лихтенштейном. Много лишнего, с его точки зрения. Почему не обсудили среди книжников? И т. д., и т. п. Почему спешили одобрить? А книга уже набрана. У него свои представления о такой книге, у Лихтенштейна свои – вот и все. Но разве он может хоть на минуту попытаться понять, чего хочет автор. Вот и не знаешь, как расхлебать эту кашу. К тому же следуют выводы – в редакции неблагополучно, редакция не туда идет, и уже без моего ведома формируется комиссия по проверке ее работы. Обстановочка.
Например, стоило только автору написать «Я считаю» или «Я думаю», как такая вольность воспринималась Михаилом Яковлевичем как недопустимая дерзость: «Что за ячество?!» Он, видимо, прочно усвоил, что личность в социалистическом обществе ноль. Его передергивало от малейшей попытки автора высказаться от собственного имени. Невольно и я поддавался его нажиму, т. е. ощущал какую-то неловкость, когда кто-то употреблял это невинное местоимение.
Одним из авторов, пострадавших от телепинской бдительности, был Сергей Львович Львов, отличную книгу которого «Эхо в веках» мы выпустили в 1979 году. Книга эта завершалась «Исповедью книголюба, или Libri legendi», которая, естественно, не могла не быть личностной: автору в ней ведь надлежало поделиться с читателем своими чувствами и переживаниями любителя книги, своими, а не чьими-то общими. Но и в очерках, составивших книгу, он описывал свои, а не чьи-то книжные расследования. Так вот. Телепин пригласил автора к себе и несколько часов мытарил его, заставляя отказаться от ячества, портя книгу, лишая ее симпатичной интонации. Я не присутствовал при их беседе, но видел, что Львов ушел очень расстроенный.
А вскоре Рисс прислал мне такую весточку:
От С.Л. Львова получил два хороших письма из Крыма. Он рассказывает, как «пострадал» от Вашего директора, вымарывавшего всякое «ячество» (19.11.69).
Из-за М.Я. Телепина я был обвинен С.В. Житомирской, тогдашней заведующей Отделом рукописей ГБЛ, в подлости. Во всяком случае, так это описала М.О. Чудакова во вступительной статье к воспоминаниям Житомирской:
В том же 1974 году советские редакторы-цензоры вдруг кинулись изгонять из предположенных к печати текстов два имени – Мережковского и Ходасевича. Неизвестно, по какой именно причине была спущена такая директива; причины всегда были случайны и нередко фантастичны. И вот в начале января 1975 года издательский редактор «Записок» (издававшихся, как вся библиотечная продукция, издательством «Книга») сказала Сарре Владимировне (далее цитирую свою тогдашнюю запись ее рассказа) «между прочим (“это я просто вас информирую – изменить уже ничего нельзя”), что из отдела “Новых поступлений” они сняли описание рукописи романа Мережковского “14 декабря” (приобретенной нами за большие деньги)».
Сарра Владимировна сказала редактору:
– Вы – человек молодой, еще только начинающий профессиональную жизнь, – должны бы понимать, что носить показывать (а выяснилось, что М., главный редактор, понес показывать эти строки Телепину, директору «Книги»[17], а тот сразу позвонил в Комитет по печати – так называемый Главкомиздат – министерство, вместе с цензурой следившее за тем, что публикуют, а Прокопенко (высокий чин Главкомиздата) заорал: – Когда вы, наконец, прекратите эту политику Отдела рукописей? – ) такие строчки директору, не поговоривши с редактором «Записок», – нельзя.
Сарра Владимировна была ответственным, я – рабочим редактором. «На другой день после разговора с редактором Житомирская позвонила М.: – Вы сделали донос на меня, иными словами это назвать нельзя. Как вы можете смотреть после этого в глаза своей молодой дочери? Теперь мне ясно, что для вас важны только две вещи – зарплата и положение. Я понимаю, что вам трудно будет найти другое такое место, но не понимаю, как можно работать лишь ради этого… Ваше издательство – самое трусливое и неквалифицированное в Союзе. Интеллигенция обходит его как зачумленное. Только мы, несчастные, прикованы к вам, как рабы к галере…
Он на все говорил:
– У меня не было другого выхода. Вот таких объяснений Сарра Владимировна не понимала. Таких выходов она не признавала, сама не действовала так никогда – и потому позволила себе такую резкую реакцию. «Но главное: Телепин тут же после того, как М. принес ему Мережковского…» (напоминаю – речь идет о нескольких строках в разделе «Новые поступления» – описание приобретенной отделом рукописи, упоминание о публикации романа в 1918 г. – и все! Даже без аннотации произведения, написанного до Октября и повествующего о декабристах) «…позвонил в Агитпроп ЦК. Там наорали. Позвонил в Комитет по печати – см. выше. Затем Прокопенко звонил Н.М. Сикорскому (тогдашнему директору Библиотеки им. Ленина), и тот сказал Н.Н. Соловьевой (своему первому заму): «Он кричал на меня как на мальчишку…» И тот слушал этот крик и не сказал: «С кем Вы разговариваете? Я директор национальной библиотеки страны».
И самое главное. Прокопенко, конечно, никогда не читал ни строки Мережковского. Вряд ли и остальные абоненты – кроме Сикорского. Никто не знает, о чем идет речь. Все кричат – «снять!» Что снять? Когда кругом в этот же день идет поток упоминаний Мережковского (в том и дело, что в это же самое время продолжался сильный напор изучения «cеребряного века» – вопреки немалому сопротивлению), когда даже парижское, 1921 года, издание романа стоит в каталоге общего зала ГБЛ! (Житомирская С.В. Просто жизнь. М., 2008. С. 31–32).
Прочитав все это, я, естественно, воспринял сказанное как поклеп на себя, тем более что Мариэтта Омаровна не могла слышать, что я отвечал Житомирской, да и какие основания у последней были верить редактору, которая, кстати, не сказала, что это я понес показывать Телепину злополучную строчку, а сообщила только о том, что «они ее сняли». Показывать Телепину «Записки отдела рукописей», скорее всего, могла заведующая редакцией литературы по библиотековедению «Книги» Кошелева, бдительно стоявшая на страже идеологической чистоты редакционной продукции. Ведущий редактор «Записок…», а ею была, кажется, Елена Борисовна Покровская (впрочем, может быть и кто-то другой), об этом наверняка бы не заикнулась, дабы не осложнять себе жизнь. Поэтому я немедленно написал М.О. Чудаковой:
Многоуважаемая Мариэтта Омаровна!
С сожалением и горечью пишу Вам это письмо. Оно вызвано Вашей вступительной статьей к воспоминаниям С.В. Житомирской «Просто жизнь». Хотя Вы и закамуфлировали мое имя инициалом М., но без всяких на то оснований оболгали меня, выставили человеком подлым, совершившим недостойный поступок. Уверяю Вас, что Вас подвела память. Не ходил я к Телепину, чтобы посоветоваться, как быть с упоминанием Д. Мережковского в перечне поступлений. Не было этого. Это вполне могла сделать, минуя меня, Радиана Александровна Кошелева, зная, что я в аналогичных случаях не соглашался с нею. И хотя Главлит строго стоял на страже и всегда настаивал на вычеркивании любых упоминаний Мережковского и Гиппиус, все же иногда удавалось уговорить Солодина [18] или его заместительницу, если речь шла о дореволюционном времени, оставлять в тексте такие упоминания или библиографические описания. Не понимаю, откуда Сарра Владимировна могла взять, что именно я поступил так подло, чтобы отчитывать меня при Вас по телефону. Тут Вы, мне кажется, просто нафантазировали. Да, я не был бойцом и героем, но и подлецом тоже никогда не был. И всегда старался помогать редакции «Записок Отдела рукописей», если только это было возможно. Я, кстати, такого разговора Житомирской со мною по телефону не помню, хотя его содержание таково, что забыть его мудрено.
В издательстве была ненормальная обстановка. Телепин, не доверяя мне, подсаживал ко мне заместителей-комиссаров, бывших партийных функционеров, сначала Волошина, работавшего ранее в аппарате ЦК КПСС, затем Зубехина, бывшего секретаря обкома. Кошелева тоже всегда была «на идеологической страже». Но контроль за «Записками Отдела рукописей» я оставлял за собой, потому что иначе не обойтись было без скандалов и помех в выпуске этого издания, хотя Телепин и сам совал в него свой нос. Таковы факты. Вы скрыли мое имя за инициалом М., видимо, потому, что не хотели открыто выставлять меня на позорище, за что-то, вероятно, ценя меня. Но было бы правильнее переговорить со мной по поводу описанного инцидента. Вот ведь Сарра Владимировна, чтобы восстановить в памяти события, связанные с запретом Вашего обзора архива Булгакова, специально звонила мне и просила изложить, как я все это помню [19]. И в воспоминаниях все изложено фактически точно. То же самое могли сделать и Вы. Но, увы, не сделали. Я вовсе не хочу выставить себя перед Вами лучше, чем я есть на самом деле. Я пишу это просто ради восстановления истины и справедливости, чтобы Вы даже в мыслях не держали меня за подлеца. Всего Вам хорошего! А. Мильчин.
Я послал это письмо электронной почтой, но затем продублировал его обычной почтой, дополнив следующим текстом в постскриптуме:
P.S. Это письмо, первоначально отправленное Вам электронной почтой, дублирую обыкновенной почтой, так как не уверен, что электронное достигло Вас, судя по отсутствию всякой реакции.
Хотел бы также кое-что добавить к написанному прежде. Не кажется ли Вам странным, что ни Вы, ни Сарра Владимировна не указываете, каким образом «выяснилось, что М., главный редактор, понес показывать эти строки Телепину, директору “Книги”» (с. 31). Это очень существенно. Ведь эта информация могла быть ложной, но Вы не сделали даже попытки установить ее истинность.
Вы можете сказать мне: Ваша память субъективна. Но такой тяжелый разговор с Саррой Владимировной, которую я ценил и уважал, мне трудно было бы забыть. Я сейчас долго пытался вспомнить: что же все-таки могло на самом деле иметь место. Только одно: если бы Главлит стал настаивать на исключении имени Мережковского, тогда по заведенному порядку главлитовское начальство позвонило бы Телепину, и если бы с ним не договорились, то поручили бы разрешать конфликт отделу пропаганды ЦК КПСС или Госкомиздату СССР. И если бы Телепин узнал уже после контроля Главлита о наличии в списке поступлений в ГБЛ рукописи романа Мережковского, то он должен был потребовать корректуру «Записок», и я не мог бы ему ее не показать. Но по собственному почину нести корректуру пугливому и неумному Телепину, с которым у меня были отношения, мягко говоря, натянутые, мне не было никакого резону. Между тем по Вашей логике получается, что я сам побежал доносить на Житомирскую. Все это я неотступно пытался восстановить в памяти уже после того, как отправил Вам электронное письмо, травмированный «телефонным монологом» С.В. Житомирской в Вашем воспроизведении. Не ради оправдания, а ради истины. Конечно, я не могу сопоставлять себя с Саррой Владимировной. Конечно, я вел себя осторожней, но вовсе не заслужил такой оценки: «для вас важны только две вещи – зарплата и положение». Разве, например, в истории с публикацией Вашего обзора архива М.А. Булгакова я вел себя недостойно даже в описании С.В. Житомирской? Получилось, что Вы постарались возвеличить Сарру Владимировну за мой счет.
В заключение не могу оставить без внимания оскорбительные слова об издательстве «Книга» в том же «телефонном монологе» Сарры Владимировны. Никак не могу согласиться с тем, что «интеллигенция обходит его [издательство «Книга»] как зачумленное». Это грубая ложь, и я могу ее опровергнуть десятками фактов. Назову из тех, кто и не думал обходить «Книгу», а плодотворно сотрудничал с ней, хотя бы Петра Андреевича Зайончковского, Вадима Эразмовича Вацуро, Максима Исааковича Гиллельсона, Нору Яковлевну Галь. С Петром Андреевичем, более того, даже завязались отношения почти дружеские. В доказательство приведу по стенограмме цитату из его выступления на защите моей кандидатской: «В последней инструкции ВАК подчеркивается, что помимо научных данных диссертанту необходимы высокие моральные качества. Я думаю, что в этом отношении мой десятилетний опыт дает мне полное право характеризовать А.Э. Мильчина как человека кристальной честности, посвятившего себя своей специальности и работающего на пользу нашей Родины». Вы, конечно, другого мнения обо мне и об издательстве «Книга». Это, однако, не делает Ваши оценки справедливыми, о чем я и хотел Вам сказать. И как мне теперь смыть ту грязь, которой Вы меня запятнали?! (02.05.06).
В конце концов Мариэтта Омаровна прислала ответ:
Уважаемый Аркадий Эммануилович, я получила оба Ваши письма. Получив первое, я не была уверена, нужен ли Вам мой ответ. И во всяком случае – он не мог быть кратким.
После Вашего письма по почте (дошло позавчера) стало ясно, что ответ нужен. Среди прочего, Вы, видимо, все же не вполне поняли, что это – моя дневниковая запись только что рассказанного мне С.В. (поэтому ошибок памяти, как в мемуарах, тут не было) – и призвана была характеризовать ее неукротимый характер, а не ее абонента; тому, кого я обозначаю М., я вообще ни малейших характеристик не даю – я оцениваю Телепина и Сикорского.
На пространный ответ нужно несколько часов, у меня действительно не было их пока совсем (ложусь около 3-х, встаю рано, и все равно ничего не успеваю), но все же в ближайшие дни я их выберу и представлю Вам свое видение нашего общего прошлого.
Не очень верю, что из этого получится что-то путное. Но я вижу, что обязана это сделать.
Ни С.В., ни я никогда не держали Вас за подлеца, Аркадий Эммануилович. Вам это прекрасно известно. Не будем топить отвратительные обстоятельства, в которых пришлось нам волею судеб провести большую часть жизни, в громких словах. Пожалуйста, отнеситесь ко всему спокойней. Ведь список того, что Вам удалось, несмотря ни на что, есть у Вас в сознании – на него и опирайтесь.
С уважением Мариэтта ЧудаковаСвоего ви`дения общего прошлого Мариэтта Омаровна не представила, но скорректировала переданную ею со слов Житомирской характеристику меня как человека. Публикуя эту же статью в составе сборника своих произведений (Чудакова М.О. Новые работы, 2003–2006. М.: Время, 2007), она сняла весь текст об изъятии сведений о поступлении в Отдел рукописей ГБЛ рукописи романа Мережковского и сообщила об этом моей дочери. Она, видимо, осознала, что ведь того, что я отвечал по телефону Житомирской, она слышать не могла, а Сарра Владимировна, возмущенная чудовищной глупостью случившегося, могла передать мой ответ в собственной интерпретации. А слова о том, что у меня не было другого выхода, могли касаться только одного: что я не в силах перебороть Телепина и Комитет по печати и сохранить запись о поступлении в Отдел рукописей ГБЛ рукописи романа Мережковского.
Так или иначе, из переиздания вступительной статьи пассаж о телефонном разговоре Житомирской с неким М. Мариэтта Омаровна сняла. Так что в какой-то степени я был удовлетворен. Но не скрою: статья Чудаковой в первоначальном ее виде стоила мне немалых нервных переживаний. Ради того, чтобы показать неукротимый характер Сарры Владимировны, оболгать другого человека, пусть и скрыв его имя за инициалом, не задумываясь, какое воздействие это окажет на него, – вижу в этом какую-то нравственную глухоту и ослабленную человечность.
Но на этом разговор о Телепине закончить нельзя. Помимо заместителя директора по производству Горелова (о котором я подробнее расскажу ниже) разрушающее влияние имел на него некто Сергеев – помощник директора по кадрам, проходимец и забулдыга. Финал издательской карьеры этого кадровика был вот какой: его застали в собственном кабинете спящим на столе в довольно-таки пьяном состоянии. Но до этого он успел принести немало вреда и Телепину, и многим в издательстве, нашептывая мнительному директору всякие сплетни. О том, каким гнусным человеком был Сергеев, можно судить по эпизоду, о котором уже сейчас, через много лет, рассказал мне художественный редактор Николай Дмитриевич Карандашов, человек исключительно порядочный и правдивый: Сергеев в порыве пьяной откровенности хвастался, что каждый сотрудник издательства полностью в его руках, что он может что угодно вписать в трудовую книжку. Имей, мол, в виду.
Что же касается самого Телепина, он в конце концов не нашел ничего лучшего, как подать в суд на местком профсоюза издательства, который не давал согласия на безосновательное увольнение некоторых работников по представлению Сергеева. Как пишет Ф.М. Шкловер,
это дошло до горкома профсоюза. Те, в свою очередь, звонили в Комитет по печати и просили урезонить Телепина. Комитету это надоело, тем более что приближался критический возраст Телепина, и его надо было отправлять на пенсию.
Но Фаина Михайловна то ли забыла подробности, то ли не была участником разбирательства в Комитете обстановки в издательстве, сложившейся из-за Телепина. Все происходило у первого заместителя председателя Комитета по печати Юрия Серафимовича Мелентьева. К нему были вызваны (видимо, по просьбе Главной редакции общественно-политической литературы) Телепин, я, секретарь партбюро, председатель месткома профсоюза издательства. Присутствовали главный редактор главной редакции Комитета В.С. Молдаван, кураторы нашего издательства Федоров и Сергеева. Разговор был коротким. Мелентьев представил все как конфликт между директором и главным редактором, чего не было и в помине (я держал полный нейтралитет), и пригрозил, что, если обстановка в издательстве не улучшится, и директор, и главный редактор будут уволены. Вот такой суд.
Рисс, получив мой отчет о мелентьевском суде, прислал мне письмо с утешительными строками:
Видимо, через неделю-другую все вернется на свои места, а с Телепиным вопрос решится особо, когда он учинит какой-нибудь из ряда вон выходящий бетиз[20], после чего его снимут в 24 часа, как случилось с нашим секретарем горкома по пропаганде Жорой Кондрашевым, который в присутствии Фурцевой выступил с политически невежественной речью, после чего она сказала в ЦК: «Как такого дурака можно держать на месте секретаря по пропаганде» (сейчас он возглавляет ЛО «Советского писателя» и чуть не облобызался со мной у кассы Литиздата, хотя раньше подавал два пальца – мы ведь оба старые сменовцы с той разницей, что при сокращении штатов в 1940 году его уволили как малоспособного к журналистской работе) (23.01.72).
Тем не менее Телепин еще пять лет, до 1977 года, возглавлял издательство, и только по исполнении 60 лет его проводили на пенсию. А вскоре после этого диабет свел его в могилу.
Теперь нужно рассказать подробнее о тех людях в издательстве, кем окружил меня Телепин и кто, по его мнению, должен был уберечь издательство от идеологических ошибок. Это заместитель главного редактора Ф.Ф. Волошин, а затем сменивший его на этом посту П.Т. Зубехин. Это также В.М. Горелов, заместитель директора по производству, который, несмотря на малограмотность, охотно брался судить о содержании издаваемых нами книг, а Телепин прислушивался к его мнению, поскольку считал его верным, надежным партийцем. Отдавая должное мне как издательскому специалисту, он все же не доверял мне полностью.
Ф.Ф. Волошин
Первым Телепин приставил ко мне в качестве моего заместителя Ф.Ф. Волошина (имя и отчество точно не помню). Хотя он в прошлом, как и Телепин, был одно время инструктором ЦК КПСС, затем работал заместителем управляющего Центросоюза, но, как мне рассказывали, умудрился анонимно по телефону очернить своего начальника, был разоблачен и, естественно, освобожден от своей высокой должности. Его приютил Госкомиздат, назначив заместителем главного редактора журнала «Книжная торговля». Работа эта, конечно, не отвечала его амбициям, и должность заместителя главного редактора центрального издательства показалась ему все же более привлекательной. Так что он охотно согласился с предложением Телепина.
Однако он не оправдал надежд Михаила Яковлевича. Никаких серьезных мин под меня он не подводил. По крайней мере, на моей работе его деятельность никак не сказывалась. Он читал рукописи подведомственных ему редакций (редакции литературы по библиотечному делу и библиографии и редакции рекомендательной библиографии), делал замечания и вызывал редактора, чтобы сообщить о них, чаще всего грубо-начальственными тоном, не терпящим возражений.
Свою работу в «Книге» Ф.Ф. Волошин, видимо, считал ниже своих возможностей и достоинств. Да и оклад заместителя главного редактора «Книги» был для него смешным (кажется, 170 р.). Так что, думаю, он искал работы более подходящей и по статусу, и по оплате. А у нас старался делать как можно меньше усилий, работой издательства в целом интересовался мало. Не знаю, какая кошка пробежала между ним и директором, но они вдрызг разругались, и Волошин, который, видимо, к этому времени уже нашел себе более привлекательное место, не церемонился со своим начальником. В результате он был освобожден от своей должности то ли по собственному желанию, то ли в связи с переходом на другую работу. Ушел он в Институт марксизма-ленинизма. Много позднее я случайно столкнулся с ним в вагоне метро. Он неожиданно проявил живой интерес к делам издательства, задавал мне всякие вопросы.
Павел Тимофеевич Зубехин
Но свято место пусто не бывает. Комитет быстро помог Телепину найти подходящую замену Волошину. Новым моим заместителем был назначен некто Зубехин, бывший когда-то секретарем Липецкого обкома по пропаганде, но слетевший с высокого поста из-за какой-то провинности: то ли из-за пьяной драки, то ли по какой-то другой причине. Ему покровительствовал председатель Госкомиздата СССР Б.И. Стукалин, который знал его по совместной партийной работе в Воронежском обкоме партии.
Как ни странно, вести о нем доходили до меня задолго до его прихода в «Книгу». Когда я написал О.В. Риссу о том, что рукописью его книги заинтересовалась Главная редакция общественно-политической литературы Комитета по печати, которой подчинялось наше издательство, он ответил 23 мая 1967 года:
Главную редакцию Вы, очевидно, имеете в виду в Комитете по печати? Все зависит от того, кто там сидит. Ведь одного никчемного редактора (некоего Зубехина) наш Попов [директор Лениздата] сплавил-таки в Комитет по печати. На тебе, боже, что нам негоже.
Второй раз почти то же самое, но с некоторыми подробностями написал мне Рисс о Зубехине 11 сентября 1968 года:
У нас работал редактором некий Зубихин или Зубрихин, которого навязали «попу» [директору Лениздата Попову] после того, как оный гражданин провалился на посту секретаря Липецкого обкома по пропаганде (он нализался до того, что рабочие однажды нашли его в грязи в обнимку с поросенком и написали письмо в ЦК). Наш шеф его смертельно боялся, так как Зубихин, как бывший номенклатурный работник, метил на его пост. И что же? То ли «поп» шепнул кому надо, то ли судьба сыграла одну из своих милых шуток, но однажды этого конкурента вызвали в Москву и назначили на руководящий пост в Комитете по печати [РСФСР]. Так что и овцы остались целы, да и волк сыт.
Павел Тимофеевич Зубехин появился в издательстве в качестве заместителя главного редактора в 1971 году. Сужу по моему письму к Риссу от 24 июля 1971 года:
Вы, наверно, знали такого Зубехина [я совсем позабыл о том, что Рисс мне о нем писал раньше]? Он работал в Ленинграде, кажется в Лениздате, заведующим редакцией, а потом в Комитете по печати при Совете Министров РСФСР (до работы в Лениздате был секретарем Липецкого обкома партии, откуда вроде бы с треском был снят за какие-то неблаговидные поступки). Так вот этот самый Зубехин, от которого в Комитете по печати РСФСР избавились, ликвидировав отдел, которым он руководил, оказался в Комитете по печати СССР в Управлении руководящих кадров на должности инспектора (Стукалин с ним работал в Воронеже) и оттуда его принудительно направили к нам на место ушедшего Волошина заместителем главного редактора, хотя издательство требовало на эту должность специалиста по библиотечному делу и библиографии. Правда, я добился, конечно с некоторым ущербом для себя, что он будет заниматься только делами Всесоюзной книжной палаты [сокращенно ВКП], ее изданиями, т. е. подчиняться не мне, а непосредственно директору или заместителю директора. Во всяком случае, к делам книжных редакций издательства отношения иметь не будет, а это уже много. Некоторые люди, знавшие его по совместной работе, отзывались о нем как о большом лодыре. Напишите, что Вам известно о нем. Мне припоминается, что Вы когда-то вроде упоминали о ком-то взятом в Комитет по печати РСФСР очень неодобрительно. Не о нем ли? Рассказывают, что в Ленинграде вздохнули, когда этот товарищ выкатился в Москву.
Олег Вадимович Рисс откликнулся сразу письмом от 28 июля 1971 года:
Первым делом насчет П.Т. Зубехина… Лет семь-восемь назад я по поручению парткома вкупе с одной старой большевичкой расследовал дела нашей массово-политической редакции и в ходе расследования познакомился и лично с Зубехиным, и с отзывом о нем его товарищей по работе и самого директора издательства.
Скажу сразу, что Зубехина в Москву спихнул Попов, так как Зубехин «рвался к власти» и был единственным, кто мог «угрожать» Попову. Последнему его сосватал покойный секретарь обкома Покровский, заверивший, что через полгода Зубехину найдут более «достойное» применение. Секрет его появления в Ленинграде прост и банален. На посту секретаря Липецкого обкома по пропаганде он себя дискредитировал до того, что однажды, когда он валялся пьяным на улице в обнимку с поросенком, его сфотографировали какие-то рабочие и послали письмо в ЦК с приложением фотографии. Вот тогда ему и пришлось подаваться в Ленинград.
Даже до того как я познакомился с ним лично (кстати, носит ли он козлиную бородку или сбрил?), я заметил, что книги, на которых стоит его подпись, на редкость плохо, малограмотно отредактированы. Из политических занятий, которые он проводил с нашими корректорами, вывел заключение, что он просто политически малограмотен, о чем в свое время по должности «проверяющего» тоже докладывал. По-моему, он не столько лодырь, сколько невежда с неизвестно каким «дипломом».
Ввиду того что на Вашей должности ему явно не справиться, возможно, что он в первую очередь будет подсиживать Телепина. Думаю, что в Комитете от него тоже предпочли избавиться. Но вообще-то он склок в Лениздате не разводил, сидел тише воды – ниже травы, а все больше «шуровал» в обкоме, пока Попов не выдвинул его на «повышение».
Правда, у вас в издательстве может быть другая обстановка, да и вообще у нас считалось, что Зубехину какая-то «бабушка» ворожит. Слава богу, если не будет Вам лично мешать и подуськивать, но поскольку он пьяница с большим стажем, то такие люди обычно более добродушны и миролюбивы, чем трезвые сволочи.
Умозрительные предположения Олега Вадимовича относительно Зубехина не оправдались. С пьянством он, видимо, покончил. Во всяком случае, никакие проявления этой «слабости» заметны не были. Но человек он был подлый, из тех, кто набирает капитал на выпадах против других, а не на собственных достижениях. Внешне он никак не показывал, что я ему ненавистен, был вежлив, уважителен, бессловесно подчеркивал порой, что он подчиненный. Убаюкивал меня, наверно, дожидаясь своего часа.
Но что это только маска, а нутро подлое и зловредное, он показал очень скоро. Как это было, я описал в очерке, вошедшем в воспоминания «Из жизни одного издательства», напечатанные в журнале «Знамя» (2000. № 2). Приведу его здесь целиком:
Всесилие ленинской цитаты, или Что случилось с книгой Б.А. Фельдмана «Газетное производство» (М.: Книга, 1972)
В этой книге автор, директор издательства и типографии газеты «Правда», описывал на основе опыта своего предприятия технику и технологию набора и печати газет.
Когда издательство получило из типографии сигнальные экземпляры книги, редакция и я как главный редактор издательства подписали ее «на выпуск в свет». Параллельно заместитель главного редактора издательства Павел Тимофеевич Зубехин то ли из любопытства, то ли из желания найти что-либо, компрометирующее меня и Фельдмана, стал ее изучать. Вряд ли он пошел дальше предисловия, техника и технология полиграфического производства интересовали его мало. Но в небольшом авторском предисловии он быстро нашел поживу.
Автор писал там о тех целях, которые он ставил перед собой, создавая книгу, о большом значении типографии газеты «Правда», печатающей «Правду» и другие центральные газеты, об их значении в жизни страны и народа, о необходимости развивать и совершенствовать техническую базу типографии для повышения качества и ускорения сроков производства продукции.
Казалось бы, все сказано: книга не о содержании газет, а об их производстве. Для нормального человека – так. Но для бывшего секретаря Липецкого обкома КПСС, хотя и снятого с этой должности за безобразный бытовой проступок, совсем не так. Увидев, что в предисловии нет основополагающей ленинской фразы: «Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но… и коллективный организатор», он усмотрел в этом идеологическую ошибку и, ни слова не сказав мне, пошел к директору издательства Михаилу Яковлевичу Телепину и так напугал его вскрытым прегрешением, что тот побежал в Госкомиздат СССР советоваться, как поступить. Там его выслушали, но сами ничего не решили, а передали дело о пропущенной цитате в Отдел пропаганды ЦК КПСС. Во всяком случае, заведующий сектором полиграфии Михаил Николаевич Яблоков пригласил к себе автора и посоветовал ему вставить в предисловие помянутую ленинскую цитату – перепечатать страницу с оборотом предисловия и вклеить ее взамен выдранного листа. Можно с большой долей вероятности предположить, что Яблоков по-дружески попросил Фельдмана: «Вставь цитату, чтобы избежать разговоров». Слова, конечно, могли быть и другими, но смысл именно такой. Будь иначе, раздули бы дело, виновные – редактор, заведующий редакцией, главный редактор – понесли бы наказание. Не исключаю, что и Фельдман высказал просьбу не наказывать редакторов. Уверен: почти наверняка все, кому пришлось читать зубехинскую жалобу, понимали необязательность цитирования Ленина в предисловии к такой книге, но раз нашелся человек, который посчитал это грубой идейной ошибкой, не стали ему возражать, чтобы самим не сделаться мишенью. Так или иначе, но выдирка была сделана, и книга вышла в свет без всяких последствий для виновных в «идейном» просчете.
В этом эпизоде не может не обратить на себя внимание подлая манера Зубехина действовать за спиной (ведь он пошел пугать Телепина, не предупредив меня) и трусливость директора, который вполне мог все решить сам, но побежал доносить на самого себя (ведь по советской традиции ошибки подчиненных – это ошибки и руководителя). Обоим было важно продемонстрировать свою политическую бдительность, а быть может, заодно и подчеркнуть недостаточную идейную зрелость главного редактора.
Итак, хотя с Зубехиным и согласились, конечная цель его не была достигнута. Никто не был наказан. Все ограничилось выдиркой. Видимо, все понимали, что пропуск ленинской цитаты не идейный порок, а формальная придирка.
Случившееся лишь подтвердило мнение, которое у меня сложилось о партийных деятелях сталинской выучки. Для них было характерно подлое, предательское, агрессивное поведение, если оно сулило какие-то личные выгоды или было полезно для карьеры. И чем менее полезен был такой деятель для общества, для той отрасли, в которой он служил, тем более он был подл, нечестен, агрессивен. Хотя, конечно, все прикрывалось разговорами о защите высоких идейных принципов.
Больше, правда, Зубехин никаких идейных атак на меня не предпринимал. Мне кажется, что у него просто ослабла мотивация, он успокоился, близка была пенсия, никто его не задевал.
С ним связан еще один эпизод издательской жизни, в котором он сам оказался пострадавшей стороной. Ежегодно издательство выпускало статистический сборник «Печать СССР в… году». Готовил его отдел статистики Всесоюзной книжной палаты. Его сотрудники выступали и в качестве авторов, и в качестве редакторов. В издательстве верстку сборника после работников отдела статистики подписывал в печать Зубехин. Естественно, не глядя. И вот к чему это привело, хотя, по совести говоря, выявить ошибку, которая была допущена типографией и отделом статистики, ему было крайне сложно.
Типография № 15, набиравшая и печатавшая статистический ежегодник, состоявший сплошь из сложных таблиц, рационализировала свою работу: чтобы не набирать заново таблицы, она сохраняла набор прошлогоднего выпуска и заменяла в графах старые данные новыми. Непонятно как, но, видимо, в спешке (Книжная палата старалась выпустить сборник к 5 мая – Дню печати) в десятке таблиц замену данных не произвели, и сборник вышел с прошлогодними данными в ряде таблиц. Отдел статистики, к собственному ужасу, заметил это только в сигнальном экземпляре. Книжная палата поставила об этом в известность издательство. Что было делать? Выпускать в таком виде сборник было нельзя, но перепечатка исправленного сборника оборачивалась для издательства большими непроизводительными затратами, за которые виновные должны были нести материальную ответственность. В любом случае скрывать это от руководства Главной редакции общественно-политической литературы Госкомиздата было нельзя.
Телепин в это время был в отпуске. Я исполнял его обязанности. Доложил главному редактору Главной редакции В.С. Молдавану о случившемся. А тот решил выдать нашу промашку за выявленную им лично и сообщил об этом председателю Госкомиздата СССР Б.И. Стукалину. А поскольку тот был недоволен работой директора Книжной палаты П.А. Чувикова, на заседании коллегии комитета Чувикова подвергли «показательной порке». Итогом стал приказ Комитета, в котором Чувикову был объявлен выговор, а мне и Зубехину было то ли поставлено на вид, то ли указано и сделан начет в 25 % месячного оклада.
Через несколько месяцев после приказа Зубехин пошел к Стукалину с просьбой отменить начет, и тот это сделал. Прекратили вычеты не только с него, но и с меня.
Чтобы закончить рассказ о Зубехине, процитирую свое письмо к Риссу от 25 августа 1973 года:
Зубехин собрался на пенсию: ему 28 июля исполнилось 60 лет. Он обзавелся дачкой (садовым участком) и собирается быть поближе к земле. Возможно, конечно, что, получив персональную пенсию, он найдет себе работу более его устраивающую.
Мое предположение оказалось правильным. Получив высшую персональную пенсию благодаря своим партийным связям, он нашел себе пристанище в еженедельнике Союзкниги «Бланк для заказов», где занял место старшего редактора. В этом издании публиковались аннотации книг, которые не были включены в аннотированные планы выпуска, и информационные материалы Союзкниги. Работа для редактора не пыльная.
Василий Михайлович Горелов
Это заместитель директора по производству. До «Книги» он занимал такую же должность в Географгизе, но тот при реорганизации издательской системы 1963 года влился в новое издательство «Мысль» и для Горелова там места не нашлось. Так что его сразу наметили в заместители директора «Книги» и назначили председателем комиссии по организации нашего издательства. Не знаю, какое у него было образование и как он прослыл знатоком полиграфического производства. Смутно помню, что он, кажется, был одно время инспектором по кадрам в ОГИЗе.
Горелов был небольшого роста горбун из породы партийных разоблачителей. Любимой его поговоркой была: «Куда идем, куда заворачиваем?», намекающая на то, что идем не туда, куда велит партия.
Он много времени тратил не на устройство книг в типографии и налаживание отношений с ними, а на контроль редакционных дел. Это он стал героем еще одного моего очерка, опубликованного в «Знамени».
Динерштейн… Диманштейн – не все ли равно?
Судьба книги Е.А. Динерштейна «Положившие первый камень: Госиздат и его руководители»
Выпуск этой книги первоначально был запланирован на 1967 год к 50-летию Октябрьской революции.
Госиздат – одно из первых советских издательств и одновременно руководящий орган нового книгоиздания. Исторические очерки о том, как он создавался, кто им руководил, какие цели эти люди перед собою ставили и каких результатов добились, были, несомненно, страницами истории революции применительно к области книгоиздания. Автор, уже известный по статьям как дотошный исследователь-фактограф, писал книгу на основе архивных материалов, так что она обещала быть не компиляцией, не популярным пересказом других печатных работ, а в той или иной степени новым словом, существенным для разработки истории советского издательского дела. Так и случилось.
Казалось бы, для выпуска такой книги не должно было быть никаких препятствий. Издательство включило ее не только в план выпуска 1967 года, но и в план юбилейных изданий к 50-летию Октября, и это ни у кого не вызвало сомнений.
Оригинал книги был сдан в набор, поступили корректурные оттиски, но тут на ее пути возникло непреодолимое препятствие в лице Василия Михайловича Горелова, заместителя директора издательства по производству.
Он упорно, можно сказать, яростно добивался, чтобы книгу исключили из плана и прекратили ее издание. Именно по поводу нее он произнес в очередной раз на собрании свою любимую фразу: «Куда идем, куда заворачиваем?» Однако понять из его косноязычного выступления, почему именно эта книга сбивает нас с пути истинного, было невозможно.
Я не мог этого понять тогда. Тем более трудно мне было добраться до мотивов такого преследования сегодня, когда за тридцать с лишним лет подробности издания этой многострадальной книги стерлись из памяти.
Может быть, что-то помнит автор?
И хотя он тоже многие детали позабыл, все же кое-что любопытное вспомнил.
В Издательстве Всесоюзной книжной палаты работал помощником директора по кадрам отставной полковник Иван Васильевич Будилёв. На той же должности он остался и в «Книге». Иван Васильевич знал Ефима Абрамовича Динерштейна не только как сотрудника Всесоюзной книжной палаты – их связывало участие в боях на одном фронте. К тому же И.В. Будилёв хорошо знал командира части, в которой воевал Е.А. Динерштейн. Поэтому Иван Васильевич просветил боевого товарища о причинах неистовой активности В.М. Горелова. Из его слов стало ясно, что тот спутал Динерштейна с Диманштейном, ответственным работником ЦК ВКП(б), безвинно расстрелянным в 1938 году и ко времени истории с «Положившими первый камень» посмертно реабилитированным.
Но что для «истинных» партийцев реабилитация?!
Все бывшие «враги народа» оставались для таких, как Горелов, личностями более чем подозрительными. Даром, что ли, гореловы дружно клеймили их в свое время и истошно вопили: «Распни!»? Ни бывшим «врагам народа», ни их детям, считали гореловы, доверять нельзя, и их выступлениям в печати надо поставить прочный заслон. Они могут поколебать веру в партию, в правильность ее политики репрессий и произвола. Самим своим существованием они подрывают социалистический общественный строй. Конечно, таких слов гореловы не произносили, но они так ощущали, так думали: это вытекает из их действий. К тому же бывшие «враги народа» резали гореловым глаз еще и потому, что объективно делали последних соучастниками необоснованных убийств. Так что понять мотивы бурной активности В.М. Горелова, конечно, можно. Он, не сомневаюсь, был в числе самых жестоких преследователей невинных. Он был человек злобный и снедаемый подозрительностью.
А то, что Иван Васильевич Будилёв не выдумывал, а говорил чистую правду, подтверждается фактами, которые не сразу, но все же всплыли в моей памяти после того, как я услышал об этом от Е.А. Динерштейна. Именно тогда вызвал меня к себе в кабинет директор издательства Михаил Яковлевич Телепин и стал пытать, интересуюсь ли я данными о родителях наших авторов и, в частности, знаю ли я, чем занимался отец Е.А. Динерштейна. Конечно, я сказал, что не знаю и не понимаю, зачем мне это нужно знать. Присутствовал ли при разговоре Горелов, не помню, но если и не присутствовал физически, то дух его в директорском кабинете витал несомненно. В приказном тоне директор обязал меня делать это впредь, объяснив, что для советского издательского работника, бойца идеологического фронта, такая неосведомленность чревата недопустимыми политическими промахами. И я вынужден был отправиться наводить справки об отце Е.А. Динерштейна.
Оказалось, что сообщить нашим стражам авторской расово-идеологической чистоты мне было нечего. Ничем предосудительным отец Динерштейна себя не запятнал, был честным тружеником. Безумное, малограмотное подозрение Горелова в том, что Динерштейн – сын Диманштейна, отпало. Однако это ни Горелова, ни подпавшего под его влияние Телепина, также склонного к идейно-классовой подозрительности, не успокоило.
Во-первых, среди героев книги были А.К. Воронский, считавшийся, несмотря на реабилитацию, проповедником троцкистских взглядов, и Н.Л. Мещеряков, заканчивавший свой путь рядовым редактором Гослитиздата (не подозрительно ли?).
Во-вторых, что Диманштейн, что Динерштейн – все равно…штейн, нечто чуждое чистому русскому уху. Так что в совокупности с двумя сомнительными героями книги это создавало возможность критики издательства за попытку пропуска в печать если не совсем чуждых, то близких к ним взглядов.
Так или иначе, но привести каких-либо внятных аргументов, которые позволили бы обвинить редакцию и автора в идеологических ошибках и отказаться от выпуска книги, ни Телепин, ни тем более Горелов не могли. В то же время и признать безосновательной затеянную ими возню было выше их сил. Поэтому они для подстраховки отослали корректурные листы в Главную редакцию общественно-политической литературы.
Ефим Абрамович Динерштейн помнит, что в издательство была прислана из Комитета рецензия, подписанная Дмитрием Николаевичем Соловьевым, заместителем главного редактора Главной редакции общественно-политической литературы. Суть претензий, кроме одной, касающейся неправомерности включения в книгу очерка о Воронском, ни он, ни я не запомнили.
Одновременно редакция по просьбе автора заказала отзыв на работу о первых руководителях Госиздата доктору исторических наук Илье Сергеевичу Смирнову, авторитетному специалисту, в недавнем прошлом ответственному сотруднику Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, но его благоприятный отзыв ничего не мог изменить. Авторитет начальства выше научного авторитета. От автора потребовали доработать рукопись по замечаниям Д.Н. Соловьева.
Между тем типография, неоднократно предупреждавшая, что отправит набор в переплавку, известила издательство, что свою угрозу привела в исполнение, и выставила счет за понесенные расходы. О выпуске издания в 1967 году пришлось забыть. Как вспоминает автор, такой оборот событий огорчил его еще и потому, что задержка с изданием означала: с отличным юбилейным оформлением, которое ему очень нравилось, придется распрощаться.
Но самое неприятное было в том, что М.Я. Телепин продолжал сопротивляться изданию книги. Она повисла.
У автора появилась возможность выпустить книгу в другом издательстве. Профессор Высшей партийной школы при ЦК КПСС А.З. Окороков, знакомый с работой Динерштейна и ценивший ее за впервые вводимые в научный оборот материалы, предложил автору включить книгу в план издания учебных пособий для ВПШ, выпускавшихся тогда издательством «Мысль». Е.А. Динерштейн все же по совету своего начальства в Книжной палате предпочел не разрывать отношений с «Книгой», поскольку она выпускала все издания Палаты.
Но время шло, и никаких сдвигов не происходило. Юристы посоветовали Е.А. Динерштейну потребовать от издательства в связи с истечением срока издания выплаты 100 процентов гонорара и, если оно этого требования не выполнит, подать в суд иск к издательству об их выплате. Подобный шаг мог побудить издательство возобновить работу над книгой и выпустить ее. Дело для автора было беспроигрышным. Правда, победа в суде могла еще более ожесточить директора издательства и совсем закрыть дорогу к выпуску книги. Но ведь и без того она не двигалась.
М.Я. Телепин сам пошел на заседание суда вместе с юристом и заставил пойти на него и меня. Естественно, что никаких юридических оснований для отказа в выплате гонорара автору не было. Попытки сослаться на недостатки работы после того, как она была одобрена, набрана и автору выплачены 60 процентов гонорара, выглядели с правовой точки зрения жалкими. Отчетливо помню чувство неловкости от участия в этом нелепом процессе. Никакого отношения к сути иска разговор о недостатках работы не имел, да и сами недостатки не были такими, чтобы книгу нельзя было выпустить после авторской доработки. Судья, естественно, удовлетворил иск автора и обязал издательство выплатить все 100 процентов гонорара. Что и было сделано.
А книга все равно застряла в издательском портфеле: Телепин по-прежнему не соглашался на ее выпуск. Насколько помню, дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как на одной из ежегодных балансовых комиссий книга Динерштейна привлекла внимание главного редактора Главной редакции общественно-политической литературы Василия Савельевича Молдавана. Во-первых, Комитет контролировал сроки прохождения изданий, а книга «Положившие первый камень» находилась в издательском портфеле уже несколько лет без всякого движения. Во-вторых, Комитет тщательно следил за тем, чтобы не замораживались средства, а тут затраты на гонорар автору, художнику, на типографские расходы не только покоились мертвым грузом, но и грозили быть списанными в чистый убыток, что Комитет преследовал безжалостно. Не помню точно, но, возможно, Телепин даже предложил прекратить издание, списав расходы как убытки издательства.
Жесткая критика со стороны Молдавана вынудила М.Я. Телепина согласиться на выпуск книги, и в 1972 году она вышла в свет. Никаких нареканий она не вызвала, наоборот, стала одним из основных источников по истории книгоиздания первых лет советской власти.
Российскому издателю самого конца ХХ века история с книгой Е.А. Динерштейна может показаться сюжетом для театра абсурда. Но она не выдумана. Это быль, которая дает представление об атмосфере второй половины 60-х годов в советских организациях культуры, об умственном и нравственном уровне некоторых издательских руководителей.
Как говорится: не убавить, не прибавить. Отличался Горелов косноязычием и безумно смешно употреблял некоторые придуманные им поговорки, которые прочно запомнились сотрудникам «Книги». Так, Фаина Михайловна Шкловер вспоминала в письме ко мне:
Про Горелова еще очень запомнилось на партсобрании: «Вы свои хвосты на мои не вешайте».
Это же его изречение вспоминала в телефонном разговоре со мной и заведующая редакцией литературы по издательскому делу и книжной торговле Евгения Васильевна Иванова. Уж очень выразительное.
Еще выразительнее Фаина Михайловна описала Горелова как руководителя кружка партпросвещения:
А вот когда он вел политзанятия, это было настоящее шоу! «Сейчас я вам расскажу про план ГОЭРЛО» (именно так он произносил) и добавлял: «Это про электричество».
Фаина Михайловна помнит и деятельность Горелова на посту председателя комиссии по созданию издательства «Книга», в которой участвовала как представитель Издательства Всесоюзной книжной палаты:
Мы получили тематические планы от «Искусства», ВГБИЛ, Б-ки имени Ленина, и надо было создать общий тематический план изд-ва «Книга» [на 1964 год]. Я пыталась как-то сделать разделы, а он удивленно: «Где ножницы? Сейчас, Фаина, мы все разрежем, склеим, и будет новый темплан». Да, это было гениально!
О культурном уровне этого человека можно достаточно ясно судить по написанному выше. А чем такой человек менее образован и культурен, тем агрессивнее обычно он отстаивает интересы компартии, не забывая, впрочем, и себя.
После того как я по предложению одного из моих слушателей на курсах повышения квалификации, заведующего редакцией из издательства «Транспорт» О. Мешкова, составил «Памятную книжку редактора» (своего рода редакторскую записную книжку для памятных отметок) и она была издана в 1966 году (о ней подробнее рассказано в главе «Мое авторство»), Горелов посчитал, что ему тоже не мешает прославиться справочным изданием. Он составил брошюру «Печатная и обложечная бумага: Расчетные таблицы», которую издательство выпустило в 1973 году тиражом 5000 экз. Нельзя сказать, что эти таблицы были совсем бесполезными. В них разный объем книг в физических печатных листах был переведен с помощью существующих коэффициентов в объем их в условных печатных листах. Таким образом, технические редакторы могли не высчитывать каждый раз объем книги в условных печатных листах для выпускных данных, а сделать это, выписав данные из таблиц Горелова. Но подобного рода таблица уже была напечатана. Ее поместил в своем «Справочнике технического редактора» П.Г. Гиленсон. А эту книгу издательство выпустило годом раньше, в 1972 году, значительно большим тиражом (15 тыс. экз.).
Что же касается выполнения Гореловым обязанностей заместителя директора по производству, то не могу припомнить ни одного факта реальной помощи от него в отстаивании производственных интересов издательства в типографиях. В них он не выезжал. Он был начальником, а все заботы ложились на плечи заведующего производственным отделом и выпускающих.
Директор назначил Василия Михайловича председателем расценочной комиссии издательства. В этой роли у него возник конфликт с заведующим художественным отделом издательства Дмитрием Анатольевичем Аникеевым по поводу расценки иллюстраций к книге О.В. Рисса «От замысла к книге». Разрешать его Горелов повел Аникеева к Телепину, потому, видимо, что тем самым мог продемонстрировать, как он охраняет не только материальные, но и художественные интересы издательства. Мне довелось наблюдать сцену этого разбирательства, и я описал ее в письме к О.В. Риссу:
В первых строках должен Вас порадовать тем, что рукопись сдана в производство. Правда, в самый последний момент не обошлось без небольших осложнений. Наш главный художник, очень молодой и весьма решительный, тем не менее попросил меня принять участие в расценке иллюстраций к рукописи. Дело было, конечно, не в расценке, а в том, что он боялся двух вещей: нашего зам. директора Горелова, который считает себя знатоком художеств, и того, что Горелов заплатит художнику (фамилия его Лион) как за ремесленную перерисовку, что было бы крайне несправедливо. Я, конечно, пообещал, но как-то так получилось, что Горелов потащил Дмитрия Анатольевича Аникеева (наш главный художник) к Телепину, там все портреты разложили и затем позвали меня. И пошло-поехало. «А зачем это нужно?» Отвечаю, что, мол, у автора было такое пожелание, вполне оправданное; чтобы придать больший вес эпиграфам. «Тогда почему они такие большие?» Отвечает Аникеев: «Иначе они не были бы художественными работами, по крайней мере у этого художника» (тут он, конечно, немного погрешил против истины, потому что я-то передавал ему, что Ваше желание – дать портреты-марочки, но он просто хотел привлечь действительно талантливого и довольно непутевого художника из числа тех, которые нуждаются, но делают только то, что по душе). Я скромно говорю, что такое решение тоже возможно. Тогда начинает прорываться художественный вкус Горелова: «Плохо, что они квадратные. Лучше, если придать им не такую строгую форму». Вступаюсь за Дмитрия Анатольевича: «Василий Михайлович! Вам не нравится квадрат и строгая форма, а мне как раз наоборот. Как же нам быть в этом случае? Ведь это уже дело вкуса». Телепин и Горелов в один голос: «Тогда нужно их хоть немного уменьшить, они слишком велики». Снова сдерживаюсь и спокойно говорю: «Конечно, можно было бы и меньше, но штриховка такова, что в печати линии при большем уменьшении сольются, и рисунок пострадает. Да и так ли уж это обязательно?» Дмитрий Анатольевич не выдерживает, все в нем бурлит от негодования: «Хорошо, давайте будем Филимонова (посредственный художник-ремесленник, подвизавшийся в нашем издательстве) приглашать, а художник, за которым гоняется Тамара Георгиевна Вебер (главный художник изд-ва «Художественная литература»), который удостоен двух дипломов на Лейпцигской книжной выставке, пусть уходит!» – говорит он с надрывом. Тут, вижу, начинает надуваться Телепин. Думаю, дело начинает принимать нездоровый оборот. Вклиниваюсь: «Дмитрий Анатольевич! Не нужно так горячиться!» Обращаюсь к Телепину: «Михаил Яковлевич! Мы все-таки должны доверять художественному вкусу художника. Наше дело – высказать замечания по портретам, их сходству». А перед этим Телепин высказал мысль, что сам замысел неправилен, что только Пушкин рисовал у себя в рукописи портреты, а другие нет, как же можно, мол, все давать в одной манере. Дмитрий Анатольевич неосторожно объяснил ему, что поскольку здесь речь идет о рукописях, то художник выбрал такую форму рисунка. Это в ответ на вопрос: «Почему нельзя было использовать известные портреты?» Тут, правда, на выручку неожиданно пришел Горелов, который, демонстрируя свои познания в области искусства, сказал, что да, действительно тогда трудно было бы добиться единства и цельности в оформлении (все это, конечно, весьма косноязычно – я передаю только смысл). Телепин: «Тогда зачем же он [т. е. Аникеев] мне говорил о рукописях Пушкина, только запутал». В общем, после последнего моего призыва сказать, какие портреты не удовлетворяют, были забракованы: Рубинштейн и Чернышевский. Рубинштейна художник переделал, а Чернышевского [переделывать] отказался. Так все и пошло, потому что в тот же час счет художника был подписан, и рукопись двинулась в дальнейший многотрудный путь, хотя, быть может, большую часть и самую сложную она уже миновала. А после этого меня спрашивают: «Почему Аникеев такой подавленный ходит? Из-за того, что не клеится реформа?» Дело в том, что Дмитрий Анатольевич задумал грандиозное дело: типовое оформление книг издательства и типовое оформление серий и групп изданий наших. До сих пор это было осуществлено лишь частично в некоторых зарубежных издательствах. Он, правда, с заскоками модного сейчас дизайна, но, бесспорно, человек думающий и ищущий, с ним трудно работать, но интересно. К сожалению, ему, как всем художникам, не хватает организованности. А то бы он вообще был бы бесценным художником. Не знаю, как мне удалась картинка из жизни издательства «Книга», но все же известное представление Вам она даст (26.10.68).
Но пора заканчивать рассказ о Горелове. Заслуживают внимания и другие лица и события в издательстве, хотя, думаю, портрет Горелова достаточно выразительно характеризует атмосферу, в которой приходилось работать.
Фаина Михайловна Шкловер
Издательству «Книга» очень повезло, что во главе ее экономической службы оказалась Фаина Михайловна Шкловер, заведующая планово-экономическим отделом. Дипломированный экономист, быстро разобравшийся в издательской специфике, толковый и умный человек, Фаина Михайловна, безусловно, придала устойчивость издательству «Книга». Она сумела наладить добрые отношения с планово-экономическим отделом Главной редакции общественно-политической литературы Комитета по печати. В коллективе ее уважали и ценили, избирали (кажется, не один раз) председателем месткома профсоюза. Она была бы идеальным работником, если бы не острый язычок; она не сдерживаясь указывала товарищам по работе на их недостатки. Не было бы большой беды, если бы она говорила об этом только провинившемуся, но она порой высказывалась о них и на совещаниях у директора издательства.
Мне с ней работать над планами было очень хорошо. Ведь составление тематического плана выпуска превращалось обычно в головоломную задачу. Нужно было выдержать средние показатели – средний объем, средний листаж в учетно-издательских листах и печатных листах-оттисках и т. д. Приходилось манипулировать числом изданий, непременно включать издания небольшого объема, которые бы уравновесили такие толстенные фолианты, как обязательный «Ежегодник книги СССР» (объем 120–150 уч. – изд. листов). Фаина Михайловна помогала мне, я – ей. Она была мне благодарна за то, что я понимал все эти тонкости. Много лет спустя, после того как мы оба уже не работали в «Книге», а она к тому же эмигрировала в Израиль, куда раньше уехал ее сын-программист, в письме о жизни издательства она так написала обо мне:
Конечно же, издательство много приобрело с приходом Мильчина А.Э. (это не комплимент!) и особенно, когда Вы стали главным редактором. Пройдя все издательские этапы (от корректора до главного редактора), Вы отличались профессионализмом в работе.
Не скрою, такая характеристика многого стоит, если помнить характер Фаины Михайловны.
Редакторы и заведующие редакциями издательства
Было бы несправедливо не сказать о других сотрудниках издательства, которые составляли его ядро.
В редакции, из которой мне пришлось уйти, это в первую очередь Валентина Федоровна Ларина, редактор всех моих книг, выпущенных в издательстве «Книга», человек с повышенным чувством справедливости. Ее очень уважали все издательские сотрудники. Мне с ней работалось очень хорошо. Редактором она была мягким, но требовательным, настоящим помощником. У некоторых авторов сотрудничество с ней как редактором переходило в дружбу, продолжавшуюся и после выхода книги. В качестве примера назову Т.Б. Вьюкову, автора книги «85 радостей и огорчений: Размышления редактора» (М., 1980). И это тоже было следствием мягкости Валентины Федоровны, внимательности к автору, его работе. Я тоже не был исключением, и дружба с ней продолжалась до ее кончины, хотя и была главным образом телефонной. Валентина Федоровна охотно вникала в мои проблемы и замыслы. Скромная по натуре, она очень недооценивала себя и свои возможности.
В редакции литературы по библиотековедению и библиофильству выделялась Лейла Агаларовна Везирова, кандидат пед. наук, хороший специалист, автор книг и статей и ко всему этому горячий, страстный человек, общественница, одно время секретарь партбюро издательства, не мирившаяся с дилетантизмом Телепина. К сожалению, она скоро ушла из «Книги» (причину я не помню).
Конечно, можно было бы назвать здесь и многих других редакторов, у каждого из которых были свои положительные качества, но я не стану этого делать, так как подобного рода характеристики все равно не выйдут за рамки общих слов.
А вот сказать несколько слов о заведующих редакциями, наверно, есть смысл, поскольку от них во многом зависело качество работы и продукции издательства.
Заведующего редакцией литературы по издательскому делу и книжной торговле В.В. Сазонова я уже упоминал. Ничем заметным он себя на этом посту не проявил. Его сменила старший редактор редакции литературы по библиотековедению и библиографии Евгения Васильевна Иванова. Ей, выпускнице МГУ (куда в 1952 году перевели редакционно-издательский факультет МПИ), большой любительнице книг, литература по издательскому делу и книжной торговле была ближе, роднее. Привлекали в ней хорошие редакторские качества, непоказное остроумие, умение ладить с людьми. Она длительное время успешно руководила редакцией.
Юрия Ивановича Масанова, ушедшего, как я уже писал, во Всесоюзную книжную палату, сменила на посту заведующего редакцией литературы по библиотековедению и библиографии Радиана Александровна Кошелева. До этого она была в этой редакции старшим редактором. Специалист не без профессиональных знаний, она порой поддерживала авторов-новаторов, например О.П. Коршунова, А.И. Барсука, хотя знала, что издательство может натолкнуться на жесткую критику сторонников консервативных взглядов. Но ее слабым местом было стремление держать нос по идеологическому ветру. Она тщательно следила за тем, чтобы, например, ни одна фамилия из подписантов-диссидентов не проникла на страницы изданий редакции. Работник она была четкий, дисциплинированный. Редакция под ее руководством соблюдала графики подготовки и сдачи рукописей, но творческих прорывов не совершала.
Редакцией полиграфической литературы некоторое время заведовала Вера Карандеева, знающий полиграфист с большим опытом работы в типографиях и во Внешторгиздате. Ей очень мешала выполнять свои обязанности чрезмерная эмоциональность, если не сказать капризность. Посредственное качество многих рукописей полиграфических книг приводило ее в ужас. Это я испытал на себе еще в бытность заведующим редакцией, когда Карандеева была моим заместителем, отвечавшим за полиграфическую литературу. Изобретательно находить компромиссные решения, которые спасли бы рукопись, она не умела. Естественно, что в конечном счете она не выдержала и ушла из «Книги» (деталей этого ухода я не помню). На ее место пришел Георгий Алексеевич Таль. У него было высшее инженерное полиграфическое образование и опыт редакционной работы: он занимался изданием полиграфических проспектов к выставкам и т. п. Человек он был с сильной авантюрной жилкой. Не помню, чтобы он вмешивался в оценку рукописей. Его эта сторона дела мало беспокоила. Он сумел наладить отношения с Московским полиграфическим институтом, а это было очень важно для издательства.
Редакцию рекомендательной библиографии возглавлял Юрий Иванович Зубрицкий. Редакция вместе с ним в полном составе перешла в «Книгу» из Библиотеки имени Ленина. Юрий Иванович, отставной военный, был не более чем администратором. Конечно, он читал рекомендательные указатели литературы и мог судить о качестве их содержания, но его усилия были сосредоточены на организационном руководстве редакцией. Администратором он был исполнительным. Никаких проблем с ним не возникало. Редакция в основном была укомплектована опытными библиографами. Хорошо помню только Елену Ивановну Фадееву, библиографа детской литературы, способного литератора. Она сама была автором превосходных пособий для детей.
О некоторых изданиях «Книги»
Теперь я хочу рассказать о книгах, с изданием которых связаны какие-либо интересные истории, независимо от того, когда они были изданы – в то время, когда издательство возглавлял Телепин, или когда во главе его был В.Ф. Кравченко.
Книги, созданные по моему замыслу
Таких книг оказалось немало, и они не могут не быть предметом редакторской гордости, хотя некоторые из них я задумал, когда уже занимал должность заместителя главного редактора, а затем главного редактора и сам не занимался редактированием рукописей, но по сути не переставал быть редактором. По моей инициативе эти книги включались в пятилетние перспективные планы издательства, которые я составлял вместе с редакциями.
«Толстой-редактор: Публикация редакторских работ Л.Н. Толстого» (М., 1965). Мне хотелось, чтобы современные редакторы могли познакомиться с образцами редакторской правки выдающихся мастеров литературы и науки. Были задуманы сборники таких публикаций В.И. Ленина и Л.Н. Толстого. Первую не удалось подготовить: не получили согласия от Института марксизма-ленинизма, хотя составитель И. Смирнов начал эту работу. Вторая благодаря содействию Э.Е. Зайденшнур была издана.
«Что нужно знать о корректуре» О.В. Рисса. В декабре 1962 года я писал автору:
Вы, наверно, не забыли про наш разговор об издании в серии «Справочная библиотека редактора и автора» томика «Как держать корректуру». Популярное изложение в справочной форме техники корректурных исправлений. Так вот, в перспективном плане автором этого издания, по договоренности, значитесь Вы.
Так что, по-моему, настала пора приступить вплотную к созданию такого справочного томика, популярного, интересного по форме, краткого, дающего возможность быстро найти справку по тому или иному вопросу корректуры столкнувшемуся с ним автору или редактору. Как часто они исправляют не так, как нужно. Как часто мучаются, не зная, как внести исправление! Как нередко новый автор хочет за часок научиться делать то, чему его нигде не научили. Он берет пособие по корректуре и хватается за голову: как много написано – ему бы попроще. Вот из этого и нужно исходить.
Олег Вадимович Рисс не сразу согласился быть автором такого справочника: он опасался упреков в монополии на книги о корректуре. Пришлось несколько раз возвращаться к моей просьбе, но в конце концов я его уломал, книга была написана и издана (М., 1967), пользовалась большим успехом и два раза переиздавалась.
«Справочник нормативных материалов для издательских работников» (сост. В.А. Маркус). Такой сборник был очень нужен издательским работникам. Как я уже писал, мне не сразу удалось уговорить В.А. Маркуса взяться за его составление. Но в конце концов Маркус согласился, сборник вышел, за что, думаю, издательские работники мысленно не раз благодарили и издательство, и составителя. Справочник переиздавался два раза, в 1977 и 1988 годах.
«Психологические основы работы над книгой» Л.В. Доблаева. Эта книга – результат моего увлечения психологией и знакомства с работами саратовского психолога Л.В. Доблаева. Это и навело меня на мысль заказать ему популярно написанную книгу с целью помочь читателям повысить эффективность чтения. Она вышла в 1970 году.
«Краткий справочник книголюба». Создать эту книгу я предложил в качестве вклада коллектива редакторов в празднование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Ее и составили редакторы «Книги» (и я в том числе) на общественных началах. Впоследствии этот справочник переиздавался с изменениями и дополнениями два раза как заказное издание Всесоюзного общества книголюбов. Последний раз он вышел – тиражом 100 тыс. экз. – в 1984 году в настолько переработанном и дополненном виде, что слово «краткий» в заглавии несколько противоречило его объему. О связанной с этой книгой цензурной историей подробно рассказано ниже в отдельной главке.
«Что нужно знать каждому о домашней библиотеке»; «Что нужно знать каждому о книжной торговле»; «Что нужно знать каждому о библиотеке»; «О культуре чтения: Что нужно знать каждому». Эти книжечки входили в задуманную мною группу книг с начальными словами «Что нужно знать…» наряду с книгой О.В. Рисса «Что нужно знать о корректуре» (М., 1969). Первую написал коллектив авторов, возглавляемый В.О. Осиповым. Она вышла в 1976 году тиражом 100 тыс. экз. и 2-м изданием в 1978 году уже тиражом 150 тыс. экз.
В.Г. Утков написал по нашей просьбе «Что нужно знать каждому о книжной торговле» (М., 1976), Ю.А. Гриханов – «Что нужно знать каждому о библиотеке» (М., 1977), М.Д. Смородинская и Ю.П. Маркова – «О культуре чтения: Что нужно знать каждому» (М., 1984).
«Сто стихотворений ста поэтов» (составитель и переводчик В. Санович). История этой книги доказывает, что мне свойственно качество издателя-редактора, способного в разговоре, не имеющем никакого отношения к издательским делам, углядеть тему, росток будущей книги, нужной читателю.
Как-то в далекой от издательских дел беседе друг нашей семьи Виктор Санович, поэт-переводчик с японского, в прошлом один из редакторов восточных томов «Библиотеки всемирной литературы», которую издавала «Художественная литература», рассказал о литературной игре, очень популярной у японцев. Игра эта внешне напоминает игру в карты. На каждой карте с одной стороны напечатано четверостишие, но автор его не указан, а на другой помещен портрет автора. Сто карт, сто стихотворений ста авторов. Смысл игры – в том, чтобы угадать по стихотворению его автора. Игра замечательна тем, что японское поэтическое наследие благодаря ей становится достоянием очень многих людей. А поскольку издательство «Книга» начало в то время выпускать миниатюрные книги, в моей голове немедленно мелькнула мысль: размер обычной карты близок к размеру (формату) миниатюрной книги, и, значит, если перевести стихи на русский, а изображения скопировать с японской карты, карты этой игры могут составить двести страниц миниатюрной книги. Недолго думая, я предложил Виктору Сановичу подготовить такую книжечку. Был заключен договор, и хотя переводчик много раз нарушал договорные сроки, в конце концов рукопись была представлена в издательство и в 1990 году, когда я уже несколько лет как покинул «Книгу», вышла в свет.
Почти все наши миниатюрные книги становились раритетами. Так что могло бы показаться, что успех этой книжечки объясняется в первую очередь ее форматом. Но будущее показало, что это не так. Во всяком случае, четыре переиздания «Ста стихотворений ста поэтов» (в том числе и не миниатюрные), вышедшие в 1990-е годы, подтвердили читательский интерес к древней японской поэзии.
Сознание, что удачная книга родилась благодаря тебе, что, быть может, без тебя ее вообще бы не было, конечно, доставляло большую радость
Виктор Санович в дарственной надписи на первом издании назвал меня «основоположником книги». «И Вы, и эта книжечка сыграли огромную роль в моей жизни». А в дарственной надписи на втором издании посчитал нужным подчеркнуть: «И опять-таки все началось с Вас!» – и с восточной витиеватостью назвал меня «Рыцарем книги».
«Справочник по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя. Число изданий этого справочника и книг, созданных на его основе, трудно подсчитать. Только в «Книге» их вышло пять. Он стал одним из самых популярных справочников по русскому языку. Его признали своим не только работники печати, но и преподаватели русского языка общеобразовательных школ, ученики старших классов, поступающие в вузы. Предложил я Дитмару Эльяшевичу написать такой справочник в первой половине 1960-х годов.
В конце 1961 года, как я уже писал, меня назначили исполняющим обязанности заведующего редакцией литературы по издательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле издательства «Искусство». Я вообще большой сторонник планового начала в редакционной работе, поскольку считаю, что без этого нельзя подготовить особенно нужные и важные книги, тем более книги сложные. Поэтому я начал свое руководство редакцией с разработки перспективного плана на 1964–1967 годы. Одним из направлений этого плана была справочная литература для редакционно-издательских работников. Там в разделе «Литература по издательскому делу» (подраздел «Справочная литература») впервые появилась строка: Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературному редактированию.
Соображения, которые подтолкнули меня заказать Д.Э. Розенталю такой справочник, несложны.
Во-первых, в пользу этого говорил колоссальный успех «Справочника по правописанию и пунктуации» К.И. Былинского и Н.Н. Никольского, выпущенного огромным для нашей редакции тиражом (100 тыс. экз.), и устойчивый спрос на такие книги не только среди работников печати.
Во-вторых, подобный справочник – издание высокоприбыльное, что позволяло нам сократить большие убытки от издания малотиражных полиграфических учебников и практических пособий и свести концы с концами или по крайней мере минимизировать убытки.
И наконец, в-третьих, это была книга, насущно необходимая редакционно-издательским работникам и журналистам в повседневной работе.
Константин Иакинфович Былинский скончался в 1960 году. Перед этим (в 1957 году) редакция выпустила написанный им совместно с Д.Э. Розенталем учебник «Литературное редактирование», переизданный в 1961 году довольно большим для нашей редакции тиражом 25 тыс. экз., а в 1959 году – их же справочное пособие «Трудные случаи пунктуации» (основным автором его был Д.Э. Розенталь).
Я понимал, что для Дитмара Эльяшевича Розенталя предпочтительнее и в материальном, и моральном плане выпускать книги, написанные им единолично, а не в соавторстве. Учитывал и то, что справочники пользуются гораздо большим спросом, чем пособия, рассчитанные на более узкий круг читателей. А это значит, что именно выпуск справочников – наилучший способ повысить действенность наших книг.
Именно поэтому и родилась мысль о справочнике, который включал бы рассказ о трудных случаях в орфографии и пунктуации, а также грамматической стилистике. Все материалы для этого у Д.Э. Розенталя имелись. Оставалось придать им справочную форму, и дело было бы сделано.
Естественно, что Д.Э. принял мое предложение, и в 1967 году появилось первое издание справочника, ставшего затем очень популярным. Я уже был заведующим редакцией и сам редактировать книгу не мог, но мое участие в справочнике выразилось в том, что я анонимно и без авторского вознаграждения составил для него словарь-указатель, которым автор был очень доволен. Подобный указатель я ранее на тех же правах составил и для второго издания «Литературного редактирования» К.И. Былинского и Д.Э. Розенталя (1961).
Впоследствии Г.Г. Гецов в своем пособии «Работа с книгой» (М., 1984) одобрительно отозвался о словаре-указателе, не зная, кому он обязан своим рождением. Процитировав редакционное примечание-преамбулу к словарю: «Редакция надеется, что подобный указатель улучшит условия пользования книгой…», Г.Г. Гецов поддерживает: «Улучшит, да еще как! Такой указатель… как бы предугадывает возможные вопросы читателя и отсылает к той странице книги, где можно получить ответ…» – и далее приводит некоторые рубрики словаря-указателя.
В первом издании справочника Розенталя словарь-указатель был, к сожалению, неполон из-за ограниченности объема, а при переизданиях его только копировали, заменяя номера страниц в связи с иной версткой, а у меня до его пополнения руки не доходили.
Составил я словарь-указатель потому, что всегда стремился сделать книгу максимально удобной для читателя. Впоследствии именно это побудило меня написать ряд книг и статей, где я на примерах демонстрировал издателям, редакторам и авторам, как много может дать читателю аппарат книги, учитывающий его запросы, и какие большие потери несет читатель, когда ни автор, ни издатель-редактор об этом не заботятся. А своего авторства я не указал вот по какой причине: во время подготовки первого издания «Справочника…» Розенталя я был заместителем главного редактора издательства «Книга», и мне было неловко выставлять свое имя под работой, которая в глазах большинства выглядела более чем второстепенной.
Тираж первого издания был сравнительно небольшим – 50 тыс. экз. Благодаря небольшому, почти карманному формату 70 × 92 в 1/32 долю пользоваться им было особенно удобно. Переиздания понадобились очень быстро, но из-за ограниченности бумажных и полиграфических возможностей следующее издание удалось выпустить только через четыре года, в 1971 году. Затем последовали третье издание (1978), четвертое (1985) и пятое (1990). А уже после кончины Дитмара Эльяшевича справочник начали перепечатывать другие издательства, иногда с какими-то дополнениями или изменениями и с прилепившимися по собственному почину соавторами.
В дарственной надписи на первом издании этого справочника Дитмар Эльяшевич благодарил меня за помощь, а на третьем написал, что дарит его «в знак глубокого уважения и искренней признательности за неизменную поддержку в работе».
Д.Э. Розенталь. «Управление в русском языке. Словарь-справочник для работников печати». Этот словарь-справочник тоже был выпущен по моему предложению. Сначала Розенталь по моей просьбе составил «Словарь управления» в качестве одного из приложений к «Справочной книге корректора и редактора» (М.: Книга, 1974). Словарь занимал всего 9 страниц (правда, нонпарели), но, по отзывам читателей, оказался полезным и нужным. Это и навело меня на мысль предложить Дитмару Эльяшевичу превратить его в отдельное издание. Такой словарь-справочник укладывался в программу выпуска справочных изданий, очень необходимых в повседневной работе редакторам, корректорам, журналистам, литераторам. «Управление в русском языке» вышло в 1981 году тиражом 50 тыс. экз., а в 1986 году издательство выпустило второе, дополненное почти до 20 уч. – изд. л. издание (объем первого был около 14 уч. – изд. л.) тиражом уже 130 тыс. экз. На обеих этих книгах Дитмар Эльяшевич сделал дарственные надписи, которые я уже привел выше, в главке «Редактор и издатель книг своих преподавателей».
Сборники стандартов по издательскому делу. По моему предложению Всесоюзная книжная палата и отдел оформления ВНИИ полиграфии подготовили два таких сборника.
Первый – «Стандарты по издательскому делу / Справ. – докум. пособие» (М., 1982).
Второй – «Оформление изданий: Нормативный справочник» / составитель В.В. Иванова (М., 1984).
Особенной популярностью пользовался первый справочник. Новые его издания (они были вызваны тем, что стандарты устаревали и заменялись новыми) выходили один за другим. Последнее – «Основные стандарты для современного книгоиздательского дела» – вышло в Москве в 2008 году.
В перспективный план серии «От рукописи – к книге» я включил книгу «Редактирование композиции произведения» и предложил ее написать львовскому лингвисту и книговеду Мартену Давидовичу Феллеру. Он несколько изменил тему, и в серии в 1981 году вышла книга: М.Д. Феллер. «Структура произведения: Как она действует. Как ее строят. Как оценивают и помогают улучшить. Автору и редактору» (М., 1981). Ее рукопись я опекал не только как главный редактор издательства, но, в сущности, как неофициальный редактор и рецензент. Рецензировал книгу В.И. Свинцов, автор другой книги из той же серии – «Смысловой анализ и обработка текста» (М., 1979), представлявшей собой основательно переработанное второе издание его книги «Логические основы редактирования текста» (М., 1972). В дарственной надписи на «Структуре произведения» Феллер так отметил мое непосредственное участие в ее подготовке:
Дорогому Аркадию Эммануиловичу, немало и благотворно повлиявшему на структуру этой книги, с искренней благодарностью.
«Искусство акцидентного набора» С.Б. Телингатера и Л.Е. Каплана (1965)
Книга эта родилась в муках. Л.Е. Каплан, старый наборщик и педагог, большой знаток наборного дела, автор многих учебников и пособий по набору, написал ее как учебник для учащихся полиграфических профтехучилищ, готовивших наборщиков. Все это происходило, когда наша редакция еще находилась в составе «Искусства». С.Б. Телингатер был приглашен Г.А. Виноградовым в качестве рецензента. Соломон Бенедиктович совершенно справедливо оценил рукопись Каплана как неполную, поскольку акцидентный набор одновременно и техника, и искусство, а вторая сторона осталась вне рассмотрения, да Каплан и не мог ее осветить. Тем временем сроки одобрения рукописи Каплана давно прошли, и когда я принял редакцию, то выяснилось, что автор может потребовать выплаты по крайней мере 60 процентов гонорара, поскольку рукопись не была письменно отклонена в положенный срок. Так что редакции угрожали убытки. Нужно было придумать, как избежать такого развития событий.
Что было делать?
Я решил посоветоваться с С.Б. Телингатером и постараться уговорить его стать соавтором Каплана. Мы познакомились с ним, когда готовился к изданию альбом «Дзержинский» (см. выше в главе «В издательстве “Искусство”»). Но я тогда был начинающим корректором, а он – уже знаменитым художником и художественным редактором. В конце концов он согласился с моим предложением. Учебник по акцидентному набору превратился в книгу «Искусство акцидентного набора». Я уже тогда понимал, что Телингатер – выдающийся художник книги, хотя до персональных выставок, книг и статей, посвященных его творчеству, было еще далеко.
Как редактору мне пришлось нелегко: Соломон Бенедиктович приносил написанные от руки мелким, трудно читаемым почерком кусочки будущей книги. Я их разбирал, перепечатывал, исправлял стиль, делая это в основном вечерами дома. Так понемногу книга и создавалась. И в конце концов я передал рукопись ведущему редактору книги Е.Н. Незнамовой (в надвыпускных сведениях мы оба значимся редакторами книги).
Соломон Бенедиктович сам взялся оформить книгу. Главным техническим редактором ее стал Борис Зельманович, технический редактор журнала «Полиграфия», уже работавший под руководством Телингатера. Он взял на себя всю техническую часть работы над книгой: отвозил оригиналы иллюстраций в цинкографию, добиваясь их высокого качества, под руководством Телингатера превращал гранки в верстку, из уважения к С.Б. трудился самозабвенно.
В 1965 году книга Телингатера и Каплана «Искусство акцидентного набора» вышла в свет. Она делилась на две части: первая – «Акцидентная графика» и вторая – «Техника акцидентного набора». В первой Каплану принадлежит только один параграф («Малые акцидентные формы»), а все остальное написано Телингатером, а вторая (меньшего объема) принадлежит Каплану полностью.
Наградой мне были выход полезной книги и дарственная надпись Соломона Бенедиктовича:
А.Э. с самым искренним чувством благодарности за Ваше чуткое редакторское сердце и с самыми лучшими пожеланиями.
«Каталог ручных и машинных шрифтов» (1966)
Это издание заслуживает упоминания хотя бы потому, что для его выпуска понадобилось несколько приказов руководящих органов отрасли, начиная с ОГИЗа РСФСР и кончая Госкомиздатом СССР. И не исполнялись эти приказы не потому, что выпуском каталога занимались нерадивые и недисциплинированные работники, а потому, что выполнить их было чрезвычайно сложно. Если бы существовали хотя бы две типографии, которые вместе располагали бы всеми гарнитурами шрифтов, которые используются на предприятиях страны, все было бы вполне осуществимо. Но таких типографий не было. Поэтому, согласно первому приказу, каждая типография должна была отвезти гарнитуры своих шрифтов в Издательско-полиграфический техникум. Ему вменялось в обязанность подготовить их к изданию, а издательству «Искусство» (читай: редакции литературы по издательскому делу, полиграфической технике и книжной торговле) – выпустить издание. Но в техникуме заниматься этим было некому. И чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки, мы с его директором Н.А. Спировым приняли решение пригласить внештатного технического редактора, который разобрал бы завалы свезенных в техникум шрифтов и подготовил их к изданию. Сначала пригласили наборщика с большим опытом Г.Л. Усачева, а затем его сменил другой знаток наборного дела Л.Б. Эскин, который и завершил эту тяжелейшую работу. И через десять лет после того, как был оглашен первый приказ об издании, в 1966 году каталог наконец вышел тиражом 15 тыс. экз. И в «Искусстве», и в «Книге» им занимался только я.
Не знаю, насколько он помог художникам издательств в подборе шрифтов для книг, но, по крайней мере, позволил без труда определять, какая типография какими шрифтами располагает.
Впоследствии, когда многие типографии перешли на фотонабор, он дал толчок для выпуска «Книгой» каталога-справочника «Фотонаборные шрифты» (М., 1983).
Продолжу рассказ об изданиях «Книги», интересных своей историей; все они вышли в свет, преодолев сопротивление цензуры и издательского и партийного начальства. Эти случаи были первоначально описаны в уже упоминавшейся публикации в «Знамени» (2000. № 2); для записок я их слегка переработал.
Как публиковался обзор архива М.А. Булгакова, или Под огнем «Записки Отдела рукописей»
Как только я прочитал в «Литературной газете» за 24 января 1996 года заметку Мариэтты Чудаковой «“Деятель культуры” в условиях несвободы», так сразу понял, что обязан написать о том, как преследовались «Записки Отдела рукописей». Даже Сарра Владимировна Житомирская, которой больше всего досталось за ведомые ею «Записки…», звонила мне, чтобы уточнить детали тех событий, в результате которых ее уволили с поста заведующей Отделом рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина (см.: Житомирская С.В. Конец сюжета // Новое литературное обозрение. 1999. № 38).
Началось все в 1973 году, когда в издательство поступила рукопись 34-го выпуска «Записок…» с большим «Обзором архива М.А. Булгакова», написанным М.О. Чудаковой, в ту пору работавшей научным сотрудником в Отделе рукописей ГБЛ и выполнявшей роль ведущего редактора «Записок…» от библиотеки.
В юбилейной заметке – слове хвалы Сарре Владимировне Житомирской, хвалы справедливой, к которой хочется присоединиться (непонятно только, почему газета в заглавии заключила слова «деятель культуры» в кавычки) – Мариэтта Омаровна так описывает злоключения своего обзора: «Рукопись моей большой (одиннадцать с лишним печатных листов) обзорной статьи об архиве М. Булгакова была названа идейно-порочной в специальном постановлении так называемого Главкомиздата: этого было более чем достаточно для того, чтобы ответственному редактору «Записок Отдела рукописей» отречься от нее и забыть. В феврале 1974 года, уезжая в отпуск, С[арра] В[ладимировна] сказала мне: “У меня сейчас такое состояние, будто я вернулась с похорон близкого родственника, умершего от рака, – очень жалко, но и некоторое облегчение: слишком мучительно он умирал”. – “Давайте, С[арра] В[ладимировна], лучше считать, что мы его заморозили за большие деньги и ищем лекарство от рака”».
Далее М.О. Чудакова сообщает, что лишь благодаря стойкости С.В. Житомирской в 1976 году обзор был опубликован «в том самом виде, в котором был написан и осужден». Это правда. Но правда и то, что без настойчивости самой Мариэтты Омаровны и Константина Симонова, без поддержки некоторых сотрудников Отдела культуры ЦК КПСС, в частности Ю.Б. Кузьменко, сделать это было бы невозможно. Впрочем, история публикации обзора архива М. Булгакова и осуждения «Записок Отдела рукописей» представлена в заметке «Литературной газеты» в самом общем виде, что, конечно, понятно: и объем не позволял, и тема все же побочная. Да и некоторые детали могли быть Мариэтте Омаровне неизвестны.
А события, свидетелем и участником которых я был, развивались после поступления рукописи обзора архива следующим образом. В издательстве «Записки…» к производству готовила редакция литературы по библиотечному делу и библиографии. Заведующая этой редакцией Р.А. Кошелева, человек очень бдительный, более того, как я уже говорил, неуклонный проводник партийной линии, как только познакомилась с составом выпуска, сразу стала бить тревогу. Она знала о настороженном, мягко говоря, отношении ЦК КПСС и руководства Госкомиздата СССР к М.А. Булгакову и его творчеству. Хотя однотомник Булгакова и был издан в 1973 году «Художественной литературой», но почти весь тираж был отправлен за рубеж, и отечественному читателю он был практически недоступен. Так, во всяком случае, говорили в издательских кругах. Правда, тогда многие прекрасные произведения художественной литературы, не только романы М. Булгакова, были малодоступны и доставались лишь счастливцам. Я, например, не смог купить однотомник Булгакова даже по списку Специальной книжной экспедиции.
В то же время хорошо было известно, что в 1972 году председатель Госкомиздата СССР Б.И. Стукалин в отчетном докладе на партийно-хозяйственном активе отрасли по итогам 1971 года подверг «Книгу» жесткой идеологической критике за несколько, казалось бы, безобидных абзацев в книге В.Н. Ляхова «Очерки теории искусства книги» (М.: Книга, 1971). Об этом подробно рассказано в главке «Как Госкомиздат руководил издательским делом». Стукалин тогда обвинил работников «Книги» в «идейной неполноценности». Естественно, что Кошелева сразу же передала рукопись выпуска «Записок…» с обзором булгаковского архива директору издательства Телепину, а тот счел необходимым послать рукопись обзора в Госкомиздат СССР (в Главную редакцию общественно-политической литературы, в подчинении которой находилась «Книга») для того, чтобы комитет дал санкцию на публикацию такого взрывоопасного материала. При этом Телепину было известно от меня, что мне звонил инструктор Отдела культуры ЦК КПСС Юрий Борисович Кузьменко и просил не чинить препятствий публикации обзора, но Телепин хорошо усвоил принципы субординации, да и урок, преподнесенный Б.И. Стукалиным, был еще свеж в памяти. Отвечать-то будет не Кузьменко, а он, Телепин.
После того как мне позвонил Кузьменко, я прочитал обзор. Никаких существенных замечаний к его содержанию у меня не было. Единственное, о чем я говорил Житомирской и Чудаковой: почему бы прямо не написать об отношении Булгакова к советской власти (критически, конечно)? М.О. Чудакова старательно обходила это в обзоре. И С.В. Житомирская, и М.О. Чудакова в один голос старались убедить меня, что делать этого не следует, что это только усложнит публикацию обзора. Они меня не убедили, и я по наивности остался при своем мнении, которого, впрочем, им не навязывал. Мне казалось, что идейная, с советских позиций оценка мировоззрения М.А. Булгакова облегчит публикацию обзора и избавит издательство от придирок. Теперь я понимаю, что был не прав. Если бы это было сделано, у идеологических церберов непременно возникли бы вопросы: «А зачем, собственно, вообще публиковать обзор архива идейно чуждого нам писателя? Почему именно он заслужил такое внимание? Зачем вообще печатать что-то об антисоветских взглядах кого бы то ни было, да притом с явной симпатией к самому обладателю этих взглядов и к его творчеству?» В умении отыскать повод для идеологических нападок и госкомиздатовские, и цэковские начальники были большие мастера: в укор шло не то, так это.
Из Главной редакции общественно-политической литературы рукопись обзора перекочевала для оценки в Главную редакцию художественной литературы Госкомиздата, где ее прочитал заместитель главного редактора В. Туркин. С ним Кузьменко тоже побеседовал, и поэтому он не был настроен на разгром. Затем главный редактор Главной редакции общественно-политической литературы В.С. Молдаван созвал совещание, на котором Туркин изложил свои замечания, вполне частного характера. О невозможности публикации речи не было. Туркин поставил ряд условий, без выполнения которых обзор публиковать нельзя: издательство должно послать рукопись обзора В.Я. Виленкину, поскольку там речь идет о МХАТе, и в Министерство культуры СССР, чтобы выяснить, нет ли у них возражений против публикации обзора. Кроме того, исправить текст по тем мелким замечаниям, о которых он говорил. Все это на словах. Ни Туркин, ни Главная редакция предусмотрительно никаких письменных заключений издательству не дали. Во всяком случае, можно было понять так, что при выполнении определенных условий опубликовать обзор нам разрешают.
Но прошло не так много времени (мы еще не успели послать рукопись ни Виленкину, ни в Министерство культуры), как все вдруг резко переменилось. Каким-то образом о том, что готовится публикация обзора архива М. Булгакова, и о том, что ее поддерживает Кузьменко, узнал первый заместитель председателя Госкомиздата Ю.С. Мелентьев. Он и поставил заслон публикации. Прежде всего, он был возмущен вмешательством Кузьменко, тем, что тот действовал без согласования с руководителями комитета. Сказалось, возможно, и то, что Мелентьев до комитета был заместителем заведующего Отделом культуры ЦК КПСС, а Кузьменко – его подчиненным. Были произнесены гневные слова о том, что какой-то инструктор смеет командовать издательством через голову руководства комитета. Но главным все же было, вероятно, отношение Стукалина и Мелентьева к Булгакову как к идейно чуждому писателю. Так или иначе, на публикацию обзора было наложено вето, и мы вернули его в библиотеку.
А дальше произошло следующее. То ли потому, что Мелентьев привлек внимание комитетских деятелей к «Запискам Отдела рукописей», то ли просто в силу проводившегося Госкомиздатом систематического идеологического контроля за содержанием выпускавшихся книг, под пристальный критический взор попал выпущенный в 1973 году 34-й выпуск «Записок…». В нем были опубликованы дореволюционные письма О.Э. Мандельштама к В.И. Иванову. В письмах содержались неизвестные ранее стихи поэта. Казалось бы, такой находке можно только радоваться. Но иначе расценили ее в комитете.
Сегодня трудно представить себе, что хотя Мандельштам был тогда уже реабилитирован, упоминание его в печати все еще было если не под запретом, то, во всяком случае, вызывало подозрения. Да, уже вышел (с большими трудностями) однотомник Мандельштама в Большой серии «Библиотеки поэта», но редакторы Главлита по-прежнему следили, чтобы его имя звучало как можно реже, а в партийных органах к нему по-прежнему относились как к осужденному или, по крайней мере, как к писателю, чуждому советскому духу. Для сталинистов он все равно оставался врагом.
В один непрекрасный день созывается коллегия Главной редакции общественно-политической литературы. И коллегия рассматривает вопрос о грубых идейных ошибках издательства «Книга» и Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в сборниках «Записки Отдела рукописей».
Что за ошибки? Чем провинились издательство и Отдел рукописей?
А тем, что опубликовали не включенные в том «Библиотеки поэта» стихотворения Мандельштама.
То есть именно тем, чем гордилась Житомирская, гордился Отдел рукописей. Еще бы: напечатаны письма с неопубликованными, неизвестными до сего времени стихотворениями замечательного поэта. Такова логика здравого смысла.
Иной была извращенная партийная логика. На коллегии нам объяснили, что состав тома Мандельштама в «Библиотеке поэта» рассматривался директивными органами (т. е. ЦК КПСС) и был утвержден, а мы посмели напечатать стихотворения, которые в утвержденный (разрешенный) состав не вошли, которые никто не рассматривал и к публикации не разрешал. Мы, мол, не имели на это никакого права. Результат – приказ Главной редакции общественно-политической литературы поставить на вид главному редактору, т. е. мне, «за ослабление идеологического контроля над содержанием “Записок Отдела рукописей”». Припомнили на коллегии, конечно, и попытку публикации обзора архива М.А. Булгакова, хотя это трудно было вменить в вину издательству: ведь директор представил рукопись обзора на заключение Главной редакции. Создавалось впечатление, что публикацией писем Мандельштама со стихотворениями воспользовались как поводом для того, чтобы поставить на место работников Отдела рукописей и его заведующую и отбить у издательства охоту поддерживать редакцию «Записок…».
Нападки на «Записки…» в комитете стоили С.В. Житомирской сначала должности их ответственного редактора, а затем и поста заведующей Отделом рукописей. Тогдашний директор библиотеки Н.М. Сикорский предпочел избавиться от сотрудницы, которая, на взгляд надзирающих идеологических ревизоров, исповедовала идейно-порочные взгляды, а к тому же была очень неудобной подчиненной – не умела и не хотела действовать по принципу «чего изволите» и бескомпромиссно отстаивала свои взгляды на работу отдела и на публикации в «Записках…». После коллегии ответственным редактором «Записок…» вместо Житомирской назначили заместителя директора библиотеки, а затем Сарру Владимировну вынудили и вовсе уйти из отдела. Проявив свою партийную сознательность, Сикорский нанес непоправимый вред и отделу, и библиотеке в целом, потому что те, кто сменил Житомирскую, уступали ей в широте знаний, в понимании задач отдела, в умении организовать научно-исследовательскую работу и привлечь к ней выдающихся ученых.
Что же касается меня, то взыскание никак не сказалось ни на моей работе, ни на моем положении. Думаю, что Главная редакция общественно-политической литературы больше демонстрировала борьбу с «идейными» отступлениями, чем боролась с ними всерьез. Наверно, Молдаван, как умный человек, все же понимал всю нелепость и вздорность требования запрашивать у директивных органов разрешение на публикацию каждого произведения Мандельштама. Одно дело целый сборник, совсем другое – письма с отдельными стихотворениями, тем более дореволюционного периода. Даже Главлит не стал к этому придираться. Но под давлением начальства и внешних сил Молдаван вынужден был показывать свою активность, однако ограничился бумажкой с приказом по Главной редакции, объявлявшей мне взыскание и вменявшей издательству в вину идейную нетребовательность при работе с «Записками…». Тогда я, правда, так не думал и ожидал неприятных последствий вроде понижения в должности или увольнения. Тем не менее на заседании коллегии я не каялся, а изображал непонимание, да и действительно не понимал, в чем моя вина. Только в том, что уважительно отношусь к творчеству Мандельштама? Но порока в этом ведь нет. Правда, с моей точки зрения, а не с точки зрения тех, кто затеял всю эту возню.
Самое интересное, что через три года, в 1976 году, в 37-м выпуске «Записок…» тот самый написанный М.О. Чудаковой обзор архива М.А. Булгакова, который незадолго до этого предавался анафеме и из-за которого пострадали Отдел рукописей и С.В. Житомирская, был все-таки напечатан. Выпуск стал предметом ажиотажного спроса. В ВААП посыпались запросы из разных стран с просьбой заключить контракт на издание в переводе. Знаю это потому, что из агентства звонили несколько раз в издательство с просьбой дать на это согласие, но нам приходилось переправлять представителя ВААП к заместителю директора библиотеки, поскольку знак охраны авторского права на «Записках…» стоял не издательства, а библиотеки. Кажется, библиотека такого согласия не давала.
Как именно Симонов и Чудакова добились своего, не знаю, но обзор опубликовали тогда, когда Мелентьева в комитете уже не было: он был назначен министром культуры РСФСР.
М.О. Чудакова закончила свою заметку в «Литературной газете» словами: «Вспоминать иногда о прошлом полезно для нашего будущего». Из солидарности с нею я и написал об этих печальных событиях в жизни издательства.
Каталог выставки изданий и графики издательства «Academia», или О том, как осторожного коня и зверь не берет
В выходных данных этого каталога, выпущенного издательством «Книга», год выпуска – 1980. А если заглянуть в выпускные данные, то нельзя не удивиться датам прохождения издания в производстве: Сдано в набор 02.08.77. Подписано к печати 08.07.80. А в книге всего 149 страниц.
Почему же так много времени понадобилось на то, чтобы подписать каталог к печати? Ведь в то время на производство книг гораздо большего объема уходило в среднем не более полугода. А тут целых три года.
Всему виной климат, но не природный, а идеологический.
Идея провести выставку и выпустить ее каталог принадлежала группе энтузиастов из созданного Московским городским отделением Общества книголюбов РСФСР научно-методического совета по выставкам: прежде всего Марку Владимировичу Рацу, доктору геолого-минералогических наук и крупному библиофилу, сопредседателю Российской ассоциации библиофилов, и Юрию Александровичу Молоку, кандидату искусствоведения, профессиональному редактору и большому знатоку графики, книги и книжного искусства. Московские книголюбы располагали всем, что нужно для издания каталога, без которого они не мыслили выставки. Они подготовили оригинал, отделение запаслось бумагой, у него были средства на издание, договоренность с типографией. Не хватало только разрешения московского цензурного ведомства – Мособлгорлита – на печать и выпуск каталога в свет. Но в разрешении-то книголюбам и отказали. Отказали потому, что по установленному тогда порядку правом выпускать издания, минуя издательства (формула не моя, а принятая в нормативных документах), обладали считаные организации, в число которых организация московских книголюбов не входила.
Пришлось им идти на поклон в Центральное правление Всесоюзного общества книголюбов (ЦП ВОК), издания которого выпускала на заказных началах «Книга». Правда, сначала план выпуска изданий ЦП ВОК на ближайший год должна была утвердить коллегия Госкомиздата СССР. Не стоило бы посвящать читателя в эту механику (с ее помощью Комитет по делам издательств пытался поставить заслон выпуску необязательных ведомственных изданий), но именно из-за нее возникли препятствия, надолго задержавшие выпуск каталога, а значит, и выставку.
Издательская комиссия ЦП ВОК, возглавляемая заместителем председателя правления Е.С. Лихтенштейном, ученым секретарем Редакционно-издательского совета Президиума АН СССР, а до того главным редактором Издательства АН СССР (ставшего потом «Наукой»), не рекомендовала издательству и московской организации книголюбов выпускать каталог, не получив на это согласия директивных органов, т. е. Отдела пропаганды ЦК КПСС.
Почему?
Казалось бы, издательство «Academia» вписало в историю советского книжного дела и историю советской культуры замечательные страницы. Его издания стали эталоном тщательной редакционно-издательской подготовки. Оно привлекло к созданию книг лучшие культурные и научные силы страны. С ним сотрудничали Е.А. Гунст, В.М. Жирмунский, М.Л. Лозинский, Ю.Г. Оксман, Ф.А. Петровский, А.А. Смирнов, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум и многие-многие другие.
Это издательство прославилось такими шедеврами мирового книжного искусства, как «Vita nuova» Данте и «Рассказы о животных» Льва Толстого в оформлении и с гравюрами В.А. Фаворского, «Евгений Онегин» с иллюстрациями Н.В. Кузьмина. Книги этого издательства оформляли и иллюстрировали Н.П. Акимов, Н.И. Альтман, В.Г. Бехтеев, А.Д. Гончаров, Г.Д. Епифанов, Г.А. Ечеистов, В.И. Конашевич, Ф.Д. Константинов, А.И. Кравченко, Н.И. Пискарев, С.М. Пожарский, Г.Г. Филипповский, Л.С. Хижинский. Что ни имя, то классик книжной иллюстрации или книжного оформления либо и того, и другого.
Показать профессионалам и любителям издательские творения, которые могут во многих отношениях служить образцами, значило содействовать повышению современной книжной культуры. Опыт издательства «Academia» бесценен. Какие могли быть сомнения в пользе выставки изданий и графики такого замечательного издательства?
Но на беду московских библиофилов, издательство «Academia» последние несколько лет, до того как оно было ликвидировано (влито в Гослитиздат), возглавлял не кто иной, как «враг народа» Л.Б. Каменев.
Лихтенштейн, человек искушенный, знал отношение к Каменеву в партийных верхах. Хотя расстрел последнего был признан незаконным, его роль в истории компартии расценивалась негативно. Достаточно процитировать учебник «История Коммунистической партии Советского Союза» (3-е изд., доп. М., 1970), где в связи с постановлением ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» сказано: «Генеральная линия партии подвергалась яростным нападкам со стороны фракционеров, оппортунистов слева и справа. <…> В условиях ожесточенных атак империалистических государств советскому обществу приходилось идти на некоторые временные ограничения демократии» (с. 577). С одной стороны, в учебнике осуждался культ личности Сталина, с другой – все беззакония списывались на него и руководителей НКВД/КГБ и утверждалось, что «политика, проводимая партией, была правильной» (с. 578). Так что выставка изданий и графики руководимого Каменевым издательства и выпуск ее каталога при такой эквилибристике партийных историков вполне могли подвергнуться жесткой критике как идеологически ошибочные акты. Именно поэтому требовалось, по мнению Е.С. Лихтенштейна, заручиться согласием Отдела пропаганды ЦК КПСС.
На мой взгляд, это была излишняя перестраховка: имя Каменева не упоминалось ни в предисловиях, ни даже в библиографических описаниях книг, хотя ему принадлежали вступительные статьи к некоторым из них. К тому же устное согласие какого-либо ответственного сотрудника Отдела пропаганды ЦК КПСС ни от чего не защищало. Но Лихтенштейн твердо стоял на своем. И Центральное правление ВОК предпочло подстраховаться.
Тогда меня очень удивляла сверхосторожность Лихтенштейна, и я относил ее к желанию Ефима Семеновича продемонстрировать свою сверхосведомленность, знание того, что нам, простым смертным, неведомо, но на чем он, издательский зубр, давно зубы проел. Некоторый форс ему был свойствен. Хотя, конечно, и многие годы работы главным редактором такого издательства, как «Наука», не могли не сказаться. Сейчас я начинаю думать, что вдобавок, может быть, бывший главный редактор Издательства Академии наук ревновал к успеху и славе издательства с близким названием – «Academia». Главное, однако, было в громадном, несопоставимом с моим опыте Лихтенштейна, заставлявшем его действовать в согласии с пословицей «Осторожного коня и зверь не берет». Ефим Семенович лучше понимал, как рассуждают сталинисты, продолжающие находиться у власти. Логика идеологического начальства была незамысловатой и вполне применимой к изданию каталога. Раз издательством руководил Каменев, значит, на идейно-политическом содержании книг не могла не сказаться «предательская» сущность директора. А отсюда неизбежно следует, что действия тех, кто выставкой и каталогом прославляет это издательство, нельзя истолковать иначе, кроме как реабилитацию Каменева, как признание ошибочным его осуждение партией. Для меня эта логика тогда была недоступна, поскольку положительные качества выставки и каталога настолько перевешивали возможные надуманные обвинения, что последние казались пустяком. Лихтенштейну такая опрометчивость свойственна не была.
На встрече руководства издательства с председателем правления Московского городского отделения ВОК РСФСР Я.Н. Засурским, бессменным деканом факультета журналистики МГУ, договорились, что именно он проконсультируется с Отделом пропаганды ЦК КПСС. Однако он не спешил выполнять обещание. Время уходило, а без каталога научно-методический совет не считал возможным провести выставку.
Рац по четыре раза в неделю звонил Засурскому, чтобы побудить его действовать. Разговор начинал приобретать резкий характер, хотя чаще Рацу приходилось беседовать с секретарем декана, чем с ним самим. Все же его настойчивость в конце концов принесла плоды: Я.Н. Засурский выбрался в Отдел пропаганды. Никаких возражений выставка и ее каталог там не вызвали.
Каталог вышел, и выставка состоялась, хотя и с большим запозданием. И каталог, и выставка имели успех, стали событием в культурной жизни страны. И устои от этого не расшатались.
Книги об издательских историях, связанных с царской цензурой, или У страха глаза велики
Одной из задач издательства «Книга» был выпуск популярных книг о судьбах замечательных литературных произведений – их творческой, издательской, книготорговой, читательской истории. Это направление очень поддерживал директор издательства М.Я. Телепин, которому такого рода сюжеты были очень близки как любителю книги и как человеку, который постоянно посещал разные библиофильские кружки и искренне верил в высокую политически-просветительскую миссию издательства «Книга».
Именно поэтому он приветствовал выпуск серии «Судьбы книг» и книг, к ней примыкающих. На обложке и титульном листе первого выпуска («Книга, ходившая в народ» Ю. Пищулина, вышла в 1967 году) заглавия серии еще не было, стоял лишь девиз «Книги имеют свою судьбу» (Habent sua fata libelli). Вторым выпуском серии издательство считало книжечку Е.Н. Дунаевой «Декабристы и книга», хотя в ней это никак не обозначено. А третьим должна была стать книжечка, рассказывающая о нелегком пути к читателю комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Написали ее А.И. Гладыш и Т.Г. Динесман. Но на свою и нашу беду, они назвали ее «Вопреки цензуре», так как пьеса Грибоедова долгое время в обход цензуры распространялась в списках. На этом выпуске уже стояло заглавие серии – «Судьбы книг». Дальнейшие события показали, что его в полной мере можно отнести не только к пьесе А.С. Грибоедова, но и к очерку А.И. Гладыш и Т.Г. Динесман.
Как только подписанные издательством в печать корректурные листы этой книжечки попали в Главлит, она стала подниматься по ступенькам цензурной иерархии и достигла ее вершины – председателя Главлита Романова. Тот позвонил нашему директору Телепину, своему однокашнику по предвоенной Высшей партийной школе при ЦК КПСС, и стал выговаривать ему за политическую близорукость, объяснять, что отмена цензуры – один из лозунгов-требований контрреволюционных, антисоветских сил в Польше и Чехословакии, и выпуск такой книги будет воспринят как поддержка этих сил в нашей стране. Приближался 1968 год, и Главлит был начеку. Телепин пытался возражать: это же вопреки царской цензуре, это же о цензурном преследовании классической пьесы, одной из вершин русской драматургии. Какая, мол, здесь может быть политическая подоплека? Ничего не помогало. Конечно, заглавие книги привлекло к ней особое внимание. Однако нельзя быть вовсе уверенным, что эта книга могла выйти в 1968 году и с иным заглавием. Посоветовавшись в Комитете по печати, Телепин счел за благо отозвать корректурные листы из Главлита и приостановить издание. И в 1968 году вышла лишь одна книга серии – «Из равелина» В.Г. Смолицкого (о книге Н.Г.Чернышевского «Что делать?»).
Компанию книжечке «Вопреки цензуре» составили еще две книги: «Сквозь “умственные плотины”» В.Э. Вацуро и М.И. Гиллельсона (о книгах и прессе пушкинской поры) и «Не продается вдохновенье» А.И. Ваксберга (сборник очерков о судебных делах против книг, писателей, литературы).
В первой немалое число страниц было посвящено цензурным уставам и взаимоотношениям писателей и цензуры во времена Пушкина, во второй некоторые очерки живописали судебные процессы, связанные с цензурным запретом выпущенных книг.
Главлит передал корректурные оттиски всех трех книг в Отдел пропаганды ЦК КПСС, и там совместно с Комитетом по печати было решено, что выпускать их в 1968 году никак нельзя. Первые две были отложены до лучших времен, а относительно книги Ваксберга была достигнута договоренность с Главлитом и Комитетом по печати, что, если те очерки, которые связаны с цензурными преследованиями, будут исключены, ее можно издать. Автор предложил быстро заменить эти очерки другими, и предложение это ни в издательстве, ни в Комитете по печати каких-либо возражений не встретило. Издательство было заинтересовано сохранить первоначальный объем книги ради выполнения плановых показателей.
Когда через 22 года, в 1990 году, издательство «Книга» все же выпустило сборник очерков Ваксберга «Не продается вдохновенье», автор предпослал очеркам темпераментно написанный текст «Вместо предисловия», озаглавленный им «Извлекаем уроки, или Двадцать лет спустя». В этом тексте он по памяти попытался восстановить все, что сопутствовало остановке его книги в 1968 году. Видимо, память его несколько подвела. Он пишет:
Многие очерки… к тому времени уже были опубликованы и, значит, стали достоянием гласности. Поэтому вместе с издательством мы предложили оставить в книге хотя бы их. Увы, безрезультатно: по дошедшим до меня сведениям, было отвечено, что, дескать, порознь они не так уж опасны, но вот собранные вместе…
Тогда лишь для того, чтобы дать возможность издательству компенсировать понесенные затраты, предложили совсем уж невинное: издать брошюрку, включив в нее только те очерки (их оказалось четыре), которые не вызвали на полях вообще ни одной пометки. Не прошло даже это.
На самом деле, хотя варианты издания, описываемые Аркадием Иосифовичем, обсуждались, издательство всерьез настроилось выпустить сборник с заменой непроходных очерков другими. Автор представил аннотации новых очерков. Телепин, просмотрев их, согласился заключить с автором то ли дополнительное соглашение, то ли новый договор. Редакция подготовила соответствующий документ, по которому автор взамен одних очерков обязался представить за короткий срок другие, а издательство – выпустить сборник очерков «Не продается вдохновенье» в новом составе. Завизированный всеми службами издательства, в том числе и мною как главным редактором, договор был передан директору издательства. Тому оставалось только утвердить его, но он стал тянуть с подписью, никак этого не объясняя.
Истинных причин сейчас не установишь. Но можно догадаться, что удерживало руку Телепина.
Во-первых, он был напуган нажимом Романова, наслушался многого в Комитете по печати и в Отделе пропаганды ЦК КПСС по поводу нападок на цензуру, и его терзали сомнения относительно идейных пристрастий автора.
Во-вторых, ему, вероятно, еще раз намекнули, что у книг издательства многовато авторов нерусской национальности.
В-третьих, и внутри издательства находились доброхоты, мучительно страдавшие от того, что приходится выпускать книгу автора с такой неблагозвучной фамилией, которую многие из них и произнести толком не могли и по аналогии с известным им айсбергом переиначивали непременно в Вайсберга. Среди них большое влияние на директора имел его заместитель по производству Горелов, о котором я подробно рассказал выше.
Так или иначе, но Телепин держал договор у себя. Время шло. Ваксберг, не решаясь без договора начинать работу над новыми очерками, испытывал и нетерпение, и недоумение. Придя в издательство, чтобы выяснить, в чем причина затяжки, и переговорив со мной (а я ничего внятного сказать ему не мог), он решил выяснить непосредственно у Телепина, почему тот не подписывает новый договор: ведь автор, чтобы спасти книгу, пошел навстречу всем предложениям издательства. При разговоре этом я не присутствовал, но, видимо, шел он на высоких тонах: автор был возмущен, а издатель злился, сознавая, что неправ. Все кончилось полным разрывом.
Дальнейшие действия А.И. Ваксберга были предсказуемы. Получив от издательства только 60 % гонорара, он, как только истек срок издания книги по договору, подал в суд иск о взыскании с издательства оставшихся 40 % гонорара, и суд иск этот удовлетворил. М.Я. Телепин, будучи человеком злопамятным и чувствуя себя оскорбленным, уже ни в коем случае не мог пойти на выпуск книги, несмотря на то что все затраты по изданию превращались в неоправданные убытки, вина за которые падала главным образом на него самого. Тем не менее он добился прекращения издания и списания затрат в убыток.
Думаю, что если бы А.И. Ваксберг проявил некоторую сдержанность, а не стремился немедленно восстать против несправедливости и глупости, книга его наверняка вышла бы гораздо раньше. Об этом говорит дальнейшая история двух других книг, которые в 1968 году постигла та же участь, что и книгу А.И. Ваксберга.
Книжечка А.И. Гладыш и Т.Г. Динесман вышла в 1971 году под заглавием «“Горе от ума”: Страницы истории», а книга В.Э. Вацуро и М.И. Гиллельсона «Сквозь “умственные плотины”: Из истории книги и прессы пушкинской поры» – в 1972-м. Не знаю почему, но авторы терпеливо ждали, чем разрешится история с их книгами, не беспокоили издательство. Видимо, понимали бесполезность суеты. В тогдашних условиях это было самым разумным. Приводя эти факты, ни в коей мере не осуждаю А.И. Ваксберга. Наоборот, отдаю должное его гражданскому темпераменту. В конце концов, он пошел на разрыв с издательством, хотя понимал, что тем самым лишает свою книгу шансов быть напечатанной.
Правда, в 1977 году, когда Телепина на посту директора издательства сменил Кравченко, редакция, готовившая книгу Ваксберга к выпуску, и ее редактор Г.И. Куйбышева предприняли попытку возобновить ее издание, но попытку эту постигла неудача.
Новый директор был очень заинтересован в том, чтобы «Книга» выпускала больше книг, не носящих специального характера, книг, которые могла бы заметить общая пресса и тем привлечь внимание к издательству. Он мечтал о всесоюзной славе «Книги». Сборник очерков Ваксберга, широко известного по публикациям в «Литературной газете», очень подходил для этой цели. Кравченко передали верстку сборника. Он довольно долго держал ее у себя и в конце концов вернул, не дав добро на издание.
Почему? Думаю, его сдерживали две вещи. Первая – национальность автора и выдававшая ее фамилия. Он не скрывал от меня, когда только пришел в издательство, что от него ждут большей национальной чистоты авторского состава. Правда, он всячески старался смягчить это обстоятельство, уверял, что сам лишен всяких предрассудков на этот счет, но от него этого требуют и он не может не считаться с руководящими указаниями. Вторая – видимо, он увлекся очерками не так сильно, чтобы пренебречь первым обстоятельством.
Издательский эпизод с выпуском книг, включавших рассказ о произволе царской цензуры, – одно из многих свидетельств того, как сильно власти нашей страны были напуганы общественными настроениями и движениями в Польше и Чехословакии, как боялись, чтобы они не проникли в советское общество, не вызвали нечто подобное в кругах советской интеллигенции. Ведь ничего крамольного в этих книгах не было. Иначе они не смогли бы выйти через некоторое время с разрешения того же Главлита. Правда, из книги «Сквозь “умственные плотины”» очерк о цензурных уставах был все же изъят. Впоследствии от одного из работников Главлита я узнал, что начальник этой организации Романов оставил этот очерк у себя, видимо для справок или для того, чтобы воспользоваться историческим опытом предшественников. Этот очерк его автор, М.И. Гиллельсон, смог напечатать только через десять лет под заглавием «Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г.» (Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 195–218).
Книга И.Ф. Мартынова «Книгоиздатель Николай Новиков», или КГБ в поисках масонского заговора
Книга И.Ф. Мартынова «Книгоиздатель Николай Новиков» в серии «Деятели книги» (М., 1981) ничем особенным от книг этой серии не отличалась. Это добротная научная биография того, чье имя стоит в заглавии книги, написанная на основе тщательного изучения архивных и печатных источников. Автор – исследователь истории русской книги ХVIII века, сотрудник Библиотеки АН СССР (БАН) в Ленинграде.
И вот этой книгой неожиданно для нас заинтересовался Комитет госбезопасности. Во всяком случае, в один прекрасный день в моем «кабинете» – пенале на шестом этаже жилого дома в самом конце улицы Горького, где в нескольких комнатах двух квартир ютился тогда весь редакционный аппарат «Книги», появился неприметный человек в штатском, представившийся сотрудником КГБ, и сказал, что причина его прихода – выпущенная нами книга Мартынова о Новикове. Поскольку до меня тогда дошли слухи о том, что Мартынов уволился из библиотеки и собрался эмигрировать, то я подумал, что спрос будет с нас за печатание книг сомнительных авторов. Но нет. Сотрудник КГБ очень осторожно поинтересовался, почему Мартынов счел необходимым писать о масонах в книге о Новикове.
Стало ясно, что его тревожит. Не пропагандирует ли Мартынов, а вместе с ним издательство в книге о Новикове злокозненных масонов и масонство?
Я постарался внушить ему, что обойти принадлежность Новикова к масонству Мартынов никак не мог: без упоминания этого существенного факта из биографии героя невозможно осветить его издательскую деятельность. В масонских ложах состояли тогда многие родовитые дворяне. Без их финансовой поддержки Новикова-издателя ожидало банкротство, а с их помощью он развернул издание книг, далеко выходящих за рамки масонских идей.
Не исключено, что интерес КГБ к биографии Новикова возник не по инициативе самого комитета, а по доносу какого-нибудь доброхота, то ли борца с жидомасонами, то ли ненавистника издательства. В пользу такой догадки говорит то, что посетитель, судя по всему, удовлетворился моим объяснением и больше нас по поводу книги Мартынова не беспокоили.
Так или иначе, визит и беседа говорили о том, что органам безопасности идея «масонского заговора», направленного против советской власти, – идея очень популярная среди любителей искать новых «врагов народа», – не была чуждой.
«Последний летописец» Н.Я. Эйдельмана, или Идейно-порочная верстка иллюстраций
Большой шум вызвала выпущенная издательством «Книга» в конце 1983 года книга Н.Я. Эйдельмана «Последний летописец», рассказывающая о том, как создавалась «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Шум этот, впрочем, докатился главным образом до тех, кто был причастен к изданию этой книги, их друзей, знакомых, родственников. Широкому кругу лиц неприятности, которые претерпели работники издательства, вряд ли известны.
Поводом послужил принцип верстки иллюстраций, предложенный и реализованный художником Виктором Александровичем Корольковым, большим выдумщиком, изобретательно находившим для каждой книги, которую он оформлял, оригинальный ход. В книге Эйдельмана он решил поместить рядом на развороте друг против друга отрицательных и положительных персонажей, имеющих отношение к творческой истории карамзинского труда, и тем самым подчеркнуть их противостояние. Альбом иллюстраций – портретов тех, о ком писал Н.Я. Эйдельман, – открывал книгу. И волею художника Пушкин соседствовал на развороте с Аракчеевым, декабрист Никита Муравьев – с архимандритом Фотием, П.А. Вяземский – с Ф.В. Булгариным и т. д. Таким образом издательство «подставилось» ортодоксам. Этим сразу же не преминул воспользоваться Госкомиздат СССР, который создан был для идеологического контроля за работой издательств и должен был демонстрировать, как он блюдет идейную чистоту книг. А тут все на поверхности – идейно-политическое недомыслие редакторов из «Книги» очевидно. Как это можно ставить на одну доску Пушкина и Аракчеева и т. д.!
И началось. Вызвали в комитет директора, потребовали письменного объяснения от редактора книги Э.Б. Кузьминой и заведующей редакцией Т.В. Громовой. Книга стала предметом разбирательства на коллегии комитета. Еще бы. Такая крамола! Когда директор «Книги» Кравченко выступал на коллегии как представитель виновной стороны, он и не пытался защищать принцип верстки, уже заклейменный как идейно-порочный, но ничего не говорил о каких-либо слабостях содержания. Кому-то из членов коллегии этого показалось мало, и он спросил, считает ли Кравченко, что в содержании книги все благополучно. Тот ответил, что к содержанию самого произведения каких-либо серьезных претензий у издательства нет (до этого никто о недостатках содержания и не заикался). Задавший вопрос, выступая затем, сумел что-то крамольное обнаружить и в содержании, но это «что-то» было настолько маловразумительным, что не запомнилось.
Итогом шума был приказ Госкомиздата об идейных ошибках, допущенных издательством «Книга» в иллюстрировании «Последнего летописца» Н.Я. Эйдельмана. Вот текст этого приказа, который привел в своей книге В.Т. Кабанов, тогда заместитель главного редактора издательства «Книга»:
Об ошибках, допущенных в книге «Последний летописец», выпущенной издательством «Книга»
В ноябре 1983 г. издательство «Книга» выпустило в свет книгу «Последний летописец». Она посвящена русскому писателю и историку Н.М. Карамзину. При подготовке издательского оригинала издательство допустило серьезную ошибку в подборе иллюстративного материала. В книге помещены портреты представителей реакции конца XVIII – начала XIX вв. Аракчеева, Булгарина, Греча, архимандрита Фотия, русского царя Александра I. Публикация этих портретов размером на всю полосу книги является серьезным идеологическим просчетом издательства.
Допущены также недостатки в идейном содержании книги, которая содержит оценки и положения, не в полной мере соответствующие исторической истине.
Это стало возможным ввиду слабого контроля и формального отношения к делу со стороны главного редактора издательства т. Мильчина А.Э., подписавшего рукопись в набор и на сверку. Директор издательства т. Кравченко В.Ф. подписал проект макета художественного оформления без рассмотрения персоналий иллюстративного ряда. Рукопись и иллюстрации не обсуждались на редакционном и художественном советах издательства.
Ошибкой издательства явилось и то, что рукопись не была направлена на рецензирование квалифицированному специалисту по данному периоду истории России.
Выпуск книги «Последний летописец», содержащей отмеченные недостатки, свидетельствует об ослаблении контроля со стороны руководителей издательства «Книга» за идейно-теоретическим содержанием выпускаемой литературы, недостаточной работой коллектива по выполнению постановлений ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС.
Т.В. Громовой и Э.Б. Кузьминой был объявлен выговор, какие-то замечания были сделаны директору и главному редактору, т. е. мне.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в приказе не уточняется, какие именно оценки и положения книги «не в полной мере соответствовали исторической истине». Доказательно сделать это руководство Госкомиздата было просто не в силах.
Запись об ответственности А.Т. Троянкера гласила:
Поручить рассмотреть вопрос о вине в допущенной ошибке главного художника т. Троянкера А.Т.
Меня от более сурового наказания спасло то, что я подписывал в печать только текст, а макета оттисков иллюстраций не видел и не знал, как они будут расположены. Поэтому в приказе было написано:
В связи с болезнью главного редактора т. Мильчина А.Э. вопрос об его ответственности за допущенную ошибку рассмотреть после его выздоровления.
Изменил ли бы я принцип верстки, предложенный В.А. Корольковым, – не знаю. Скорее всего, не додумался бы. В самый разгар этой истории я лежал в больнице после тяжелейшей операции. Когда же через месяца два я вернулся в издательство, страсти улеглись и для меня все ограничилось тем, что Главная редакция общественно-политической литературы лишила меня премии за IV квартал 1983 года.
Самое же любопытное заключается в том, что в 1985 году журнал «Вопросы истории СССР» напечатал в № 6 обстоятельную рецензию Л.Г. Кислягиной на «Последнего летописца», где в самом начале можно было прочитать следующее: «Удачно подобраны и размещены иллюстрации: портреты самого Карамзина, его жены, современников, близких друзей и врагов; на развороте слева – друзья и положительные герои “истории” – А.С. Пушкин, Н.М. Муравьев, П.А. Вяземский и др., справа – ретрограды и враги Карамзина – Аракчеев, архимандрит Фотий, Булгарин».
То, что Госкомиздат заклеймил как грубый идейный просчет издательства, историк Кислягина уверенно назвала одним из достоинств книги. Госкомиздат еще существовал, но окрика от него не последовало. Дело было сделано, роль свою он выполнил, а времена уже начали меняться, и оказалось, что можно по-разному смотреть на одни и те же вещи и хвалить то, что большие начальники еще пару лет назад квалифицировали как идейное недомыслие.
В рецензии высоко оценивалось и содержание книги, а замечания касались нескольких фактических неточностей, которые рецензент объяснял тем, что «у ее автора, как и у героя, художник иногда берет верх над историком».
Третье издание «Краткого справочника книголюба», или Советский индекс запрещенных книг в действии
Это случилось в 1984 году. Издательство «Книга» выпустило третьим, переработанным и дополненным изданием «Краткий справочник книголюба» (я уже упоминал его выше среди изданий, выпущенных «Книгой» по моей инициативе).
Третье издание, о котором пойдет речь, Центральное правление Всесоюзного общества книголюбов (ВОК) решило выпустить к десятилетию общества – в 1984 году. В «Книжном обозрении» было напечатано обращение к любителям книги с просьбой присылать замечания, пожелания и предложения по составу и содержанию справочника. Издательство получило довольно много писем. В соответствии с пожеланиями книголюбов была значительно расширена библиографическая часть справочника и, в частности, включены списки книг массовых серий художественной, мемуарной и научно-популярной литературы центральных издательств. Это новшество и вышло издательству боком.
Неприятность ожидала там, где, казалось бы, ее меньше всего можно было ожидать. Подвел список книг «Библиотеки советской фантастики» издательства «Молодая гвардия». Он включал книгу повестей и романов Аркадия Львова «Бульвар Целакантус». Между тем Аркадий Львов был эмигрантом, т. е., по тогдашним представлениям властей, предателем, изменником Родины. Мало этого, он сотрудничал с «вражеской» радиостанцией «Свобода». И еще того хуже, Главлит разослал по библиотекам и издательствам секретный приказ об изъятии всех книг А. Львова и запрете их в нашей стране. Приказ этот я читал, но, когда просматривал список, совершенно о нем забыл. Библиографы же составляли списки книг серий по библиотечному каталогу, из которого карточку с описанием книги А. Львова почему-то не исключили, как и карточки книг некоторых других авторов-эмигрантов. Но в отношении этих других никаких секретных приказов об изъятии не было. Все же мы, зная имена наиболее известных из них, книги их из списков, как ни неприятно было это делать, выбросили. Оказалось, не всех: мы не могли знать всех авторов, покинувших страну и тем поставивших себя вне советской литературы, а библиотечные каталоги этого тоже не учитывали. Главлит же библиографические списки не проверял, так как они, по его правилам, входили в число текстов, не подлежащих контролю.
И вот через некоторое время после выхода 3-го издания «Краткого справочника книголюба» директору «Книги» Кравченко позвонил заведующий сектором издательств Отдела пропаганды ЦК КПСС И.Ф. Сенечкин и, выговорив за промах с А. Львовым, потребовал прислать справочник. А надо заметить, что книги сотрудникам ЦК КПСС посылать с курьером через экспедицию было нельзя: это, видимо, рассматривалось как что-то вроде подарка-взятки. Поэтому Кравченко вызвал меня как составителя и титульного редактора книги, да к тому же еще и главного редактора издательства и сказал:
– Вы наломали дров. Вы и поезжайте к Сенечкину, отвезите ему книгу и поговорите с ним.
В самом дурном расположении духа, предчувствуя крупную неприятность с оргвыводами, отправился я в Отдел пропаганды. Позвонил из вестибюля по внутреннему телефону Сенечкину. Тот спустился, чтобы взять книгу, и увидев, что на мне лица нет, неожиданно, вместо того чтобы отругать меня, сказал:
– Да вы не переживайте так. Может быть, все обойдется.
И действительно, никаких карательных акций не последовало. Все ограничилось моей объяснительной запиской, посланной в Госкомиздат СССР.
Думаю, сказалось то обстоятельство, что промах издательства заметили не в секторе издательств, а в секторе культуры того же Отдела пропаганды. Сотрудники этого сектора, видимо, не без удовольствия воспользовались возможностью насолить издательству, к которому имели немало претензий за ущемление, как им казалось, библиотечно-библиографических изданий, а также коллегам из сектора издательств, с которыми не ладили вследствие своего рода соперничества: один сектор защищал интересы издательств, другой – библиотек. Вероятно, именно поэтому сектору издательств не хотелось раздувать дело об ошибке издательства. К тому же смешно было придавать слишком большое значение описанию книги, вышедшей массовым тиражом (не менее 60 000 экз.) и наверняка имевшейся в домашних библиотеках десятков тысяч любителей фантастики.
Не прошло и десяти лет, как А. Львов перестал быть персоной нон грата. Его превосходный роман «Двор» был напечатан в российском журнале и вышел в России отдельным изданием. Автор приезжал в Россию, выступал по радио. На этом фоне сегодня, когда секретные приказы Главлита, заставляющие вспомнить об индексе книг, запрещенных католической церковью, давно перестали действовать, описанный эпизод выглядит уж совсем смешным недоразумением. Тогда мне, правда, он таким совсем не казался.
От цензурных историй, которые я впервые описал в «Знамени», перейду к рассказу о других изданиях «Книги».
«Словарь издательских терминов»
Эту книгу издательство выпустило в 1983 году. Составил ее коллектив научных сотрудников Всесоюзной книжной палаты (ВКП) во главе с Ф.С. Сонкиной (читавшим сборник писем Ю.М. Лотмана она должна быть известна как его сокурсница по ЛГУ и впоследствии адресат его дружественных писем). Я был титульным редактором словаря на общественных началах. ВКП обратилась ко мне с просьбой выступить в такой роли, зная мою увлеченность издательской терминологией и не без оснований полагая, что составителям словаря нужна квалифицированная помощь. Я согласился стать титульным редактором при условии, что против этого не будет возражать директор издательства Кравченко.
ВКП обратилась к нему с официальным письмом-просьбой. Он, покобенившись, разрешил сотрудничество, но предупредил меня о том, что это не должно делаться в ущерб моим служебным обязанностям.
И я редактировал рукопись дома по вечерам, неоднократно всячески ругая себя, что необдуманно связался с этим изданием. Почти каждое определение приходилось переписывать. Я долго сохранял испещренную правкой рукопись, но потом за недостатком места выбросил и сейчас не могу привести примеры низкого уровня первоначальных определений. Все четыре составителя не обладали опытом работы в издательстве, а у одного, сына знаменитого исследователя Арктики капитана Бадигина, не было и редакционно-издательского образования. Они составляли определения, выписывая из книг по издательскому делу. Но авторы книг далеко не всегда ставили перед собой задачу дать по ходу изложения полное определение, отвечающее задачам терминологического словаря. Отсюда пробелы: то суженная, то чрезмерно расширенная определяющая часть.
В конечном итоге я не жалею о вложенном в словарь труде, хотя титульным такое редактирование назвать можно с очень большой натяжкой. Впоследствии этот опыт очень пригодился мне, когда я составлял «Издательский словарь-справочник» (он вышел дважды: в московском издательстве «Юристъ» в 1998 году и в 2003 году в московском же издательстве «ОЛМА-пресс», а затем права на него были переданы компании «Яндекс» для использования в Интернете).
Рисс очень высоко оценил этот словарь в письме от 2 марта 1983 года: «Замечания, несомненно, будут, но при беглом просмотре я заметил, что многие понятия, бесспорно, изложены удачнее, чем в “Полиграфическом словаре” О.Я. Басина» (с его изданием, кстати, редакция тоже очень намучилась из-за того, что составитель пользовался той же методикой, что и составители «Словаря издательских терминов», выписывая определения из книг без всякой корректировки).
Но уже в ХХI веке история этого издания получила неожиданное продолжение. В отчете Российской книжной палаты о проделанной ее научным отделом работе я с большим удивлением прочитал:
В начале 1980-х гг. постановлением Госкомиздата в палате организован сектор отраслевой терминологии, куда вошли составители «Словаря издательских терминов» (ст. науч. сотрудник Н.И. Волкова, В.П. Смирнова под руководством Ф.С. Сонкиной).
Первый этап выполнения общей программы сбора и обработки отраслевой терминологии включал выявление, описание и систематизацию терминов, используемых в деловом языке издателей. Была создана картотека, включившая более 2,5 тыс. терминов, которая позволила подготовить вторую редакцию «Словаря издательских терминов», значительно расширенную и дополненную. Однако по ряду экономических причин палате не удалось выпустить его в свет. Вторая редакция «Словаря…» вышла в свет через несколько лет под фамилией А.Э. Мильчина, который являлся научным редактором первого его издания (1983). Он преобразовал словарь в словарь-справочник, добавив туда, помимо определений терминов, их разъяснения (Сухоруков К.М., Порядина М.Е. Российская книжная палата: ее прошлое, настоящее и будущее//Библиография. 2007. № 4).
Сформулировано так (вероятно, В.П. Смирновой), как будто я выпустил под своей фамилией работу, созданную другими людьми – коллективом ВКП, хотя я этой работы в глаза не видел. А мое научное редактирование «Словаря издательских терминов» заключалось, по сути дела, в том, что я просто переписывал заново большинство статей работников ВКП, весьма приблизительно и часто очень неточно представлявших себе содержание издательских терминов. Не могу судить, каково качество второй редакции «Словаря издательских терминов», мне неизвестной, но нельзя не возмущаться такой заведомой ложью. Мой «Издательский словарь-справочник» был написан сначала для журнала «Книжное дело», после того как я предложил его главному редактору Сергею Сергеевичу Носову опубликовать словарь Книжной палаты, над которым, как я знал, велась работа. Но С.С. Носов не захотел иметь дело с Книжной палатой и предложил написать для журнала такой словарь мне. Я подготовил «Издательский словарь-справочник», опубликованный в журнале «Книжное дело» (1995. № 1–8/9). Впоследствии в доработанном виде, как я уже писал, словарь этот вышел двумя печатными книжными изданиями (1998 и 2003) и электронным в Яндексе (2006). Ни одного определения из «Словаря издательских терминов» ВКП я в своем словаре не заимствовал, хотя многие в нем принадлежали мне, настолько велика была правка.
Эдуард Рубенович Сукиасян, заведующий сектором РГБ, главный редактор Библиотечно-библиографической классификации, сразу же откликнулся в письме ко мне на эту грязную ложь, которую можно было сочинить только для оправдания собственной бездеятельности:
Сергей Сергеевич Носов, переживая вместе с Вами, написал мне, поделился, прислал Ваше письмо. Хорошо, что он это сделал – пересказать их «поведение» (даже не знаю, как цензурно можно назвать выпад этих деятелей) нельзя. Тамара [Тамара Александровна Бахтурина, библиограф, жена Э.Р. Сукиасяна] была возмущена до глубины души: ведь сравнивать эту небольшую синюю книжку с Вашим фолиантом – и по объему, и по глубине – невозможно. У нас все есть дома, и мы прекрасно знаем цену каждого издания: одними пользуемся повседневно, другие так и стоят для истории.
Я не сразу пишу Вам. Еще вчера мне казалось, что Вам стоит написать что-то типа «открытого письма в редакцию» (только вот в какую?). Но потом я подумал, что это будет поводом для Джиго и Сухорукова[21] – они, конечно, ответят. И ответят так грязно, что не захочется потом уже писать, общаться с ними на страницах профессиональной печати.
День прошел, но сегодня моя (и Т.А.) позиция изменилась. Лучше сделать вид, что Вы этой пакости не читали. Есть хорошая пословица «Метать бисер перед свиньями». Как раз по этому поводу. Тот, кто разбирается в теме, тот – так же, как и все мы – поймет и даст оценку совести (или ее отсутствию) тех, кто смог такое написать. Тот, кто не разбирается – ему и не так уж важно и интересно.
<…>
Поэтому скажу Вам, родной Аркадий Эммануилович: оставьте их с грязными мыслями. Вокруг Вас столько людей, которым Вы нужны. Берегите здоровье!
К сожалению, я не сумел найти письмо С.С. Носова к Э.Р. Сукиасяну, но хорошо помню, что он в нем подтвердил, что не захотел связываться с Книжной палатой, будучи уверен, что она подведет, и поэтому предложил написать словарь мне.
Вот такая история. Кто в ней выглядит в неприглядном свете, видно по письму Э.Р. Сукиасяна.
Об издании «Книгой» библиографических пособий
Среди книг издательства библиографические пособия занимали большое место; в их число входили издания разного вида и назначения.
Во-первых, это были издания государственной учетно-регистрационной библиографии: «Ежегодник книги СССР за… год» (фолианты в 120–140 листов) и уступающий ему по объему том «Библиография советской библиографии за… год» (листов 45–50). Они сильно влияли на средний объем годового выпуска и приносили существенный убыток, но были обязательными и потому неуязвимыми для критики.
Во-вторых, научно-вспомогательные библиографические указатели общей библиографии и частично библиографии художественной литературы. Последний разряд составляли главным образом указатели, подготавливаемые ВГБИЛ:
• персональные библиографические указатели крупнейших зарубежных писателей-лассиков – русских переводов их произведений и критической литературы на русском языке (Шекспира, Уэллса, Бальзака, Гофмана и т. д.);
• библиографические указатели серии «Писатели зарубежных стран» (вступительная статья о жизни и творчестве писателя, а затем описание его книг в оригинале и в переводе на русский).
К этой группе относилось также многотомное издание Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина «Русские писатели-поэты» и «Русские писатели-прозаики».
К числу библиографических указателей общей библиографии относились также указатели справочной и мемуарной литературы по русской истории: «Справочники по истории дореволюционной России» и многотомная «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» (выпускались с 1976 по 1984 год).
Я бы, однако, погрешил против истины, если бы стал утверждать, что выпуск этих пособий был строго системным. Многое тут определялось тем, что издательство было обязано выпускать труды коллективных авторов – центральных библиотек. И даже из описания, сделанного выше, можно понять, каких усилий мне стоило придать хоть какую-то систему выпуску этих пособий.
В-третьих, «Книга» выпускала издания рекомендательной библиографии в помощь читателям, пользующимся услугами массовых библиотек. Они придавали планам издательства актуальный характер, так как многие из них пропагандировали литературу на злободневные общественно-политические темы. Вдобавок эти многотиражные издания приносили издательству прибыль.
Я сознавал их слабости, особенно из-за строгой формы, выработанной отделом рекомендательной библиографии Библиотеки имени Ленина и рассчитанной только на хорошо подготовленного читателя. Особенно они не нравились Телепину, хотя многие из них все же были хорошими путеводителями по книжному морю. Но, несомненно, требовались рекомендательные пособия и другого типа, способные привлечь читателя не меньше, чем привлекают его хорошо написанные популярные издания.
Отталкиваясь от мысли библиографоведа О.П. Коршунова, который в статье о рекомендательной библиографии писал, что ее пособия должны стать таким же советчиком, как приятель, друг, поскольку книгу для чтения чаще всего выбирают именно по их совету, я написал в своей записной книжке:
Вопрос: как это сделать? Как возбудить интерес к книгам, которые этого заслуживают? Один из путей – поставить автора в положение того друга, который прочитал книгу и рассказал, что она ему дала. Авторитетный ученый, любимый писатель, конечно, не друг-приятель, но его слово о книге, несомненно, более весомо, чем слово работника библиотеки, пересказывающего содержание рекомендуемой книги, в сущности составляющего аннотацию. Если авторитетный человек будет опираться на свои впечатления от чтения рекомендуемой книги, будет писать о том, что она ему дала, то наверняка возбудит у читателя желание эту книгу прочитать. В пособиях, создаваемых библиотеками, полезно было бы использовать и отзывы о книгах рядовых читателей, а для этого собирать их.
Но все эти соображения оставались не более чем благими пожеланиями, которыми известно что вымощено. Для того чтобы их реализовать, нужны были другие редакторы в редакции рекомендательной библиографии, перешедшей в «Книгу» из ГБЛ, и другой заведующий этой редакцией, который был бы не только организатором-исполнителем, а человеком творческим, с выдумкой. К тому же куда девать сам отдел рекомендательной библиографии библиотеки, привыкший работать по-старому? Такие преобразования ни мне, ни Телепину были не под силу.
Библиографические издания «Книги» удостоились внимания литературоведа С. Машинского, который посвятил им статью «Золотоискатель перед Гималаями: О справочно-библиографической службе», напечатанную «Литературной газетой» 29 ноября 1972 года под рубрикой «Полемические заметки».
Машинский критиковал положение дел с изданием справочно-библиографических пособий, которых выходит явно недостаточно (нет сводных указателей толстых журналов, «Литературного наследства», «Ученых записок» и т. п.), а если что и выпускается, то мизерным тиражом, практически недоступным для многих читателей. И в качестве примера С. Машинский привел выпущенное издательством «Книга» библиографическое пособие «Справочники по истории дореволюционной России». Назвав тираж 4500 экз., он, заостряя, писал: «Через пять минут после появления указателя он стал раритетом». И назвал причины малого числа пособий и малого их тиража: книготорговля не занимается изучением спроса на такие издания, издатели не желают ими заниматься из-за сложности набора, трудной корректуры, незначительности тиража.
Другие издания «Книги» в статье не упомянуты, но зато Машинский писал: «Хорошо бы наладить в издательстве “Знание” выпуск рекомендательной библиографии», – как будто рекомендательных библиографических пособий, выпускаемых издательством «Книга», не существует вовсе.
Естественно, что «Книга» не могла не откликнуться на статью Машинского. И я написал письмо в «Литературную газету». К сожалению, копия первых двух страниц этого письма не сохранилась, а следующие три страницы я воспроизведу.
Назвав число выпущенных издательством рекомендательных библиографических пособий за 1969–1972 годы (а их было, ни много ни мало, полторы сотни), я указал некоторые неточности и неверные утверждения в статье Машинского, хотя кое в чем с ним и согласился:
Например, он [Машинский] пишет: «…попробуйте выяснить, что по интересующей вас теме там [в трудах институтов] напечатано, – сколько времени на это надо потратить!» Действительно много, если не знать, что еженедельно выходит «Летопись журнальных статей» (орган государственной библиографии), в которой сообщается о статьях, напечатанных не только в журналах, но и в продолжающихся изданиях типа «трудов», «ученых записок».
Но в одном С.И. Машинский прав. Положение с выпуском изданий научно-вспомогательной библиографии нельзя признать удовлетворительным, несмотря на выход многих ценных изданий. Если говорить о библиографии художественной литературы и литературоведения, то эта неудовлетворительность сказывается прежде всего в том, что издательства художественной литературы выпуском библиографических изданий пока почти не занимаются и заниматься не хотят. Не считают это своей задачей. Издательство же «Книга» призвано выпускать издания общей или многоотраслевой библиографии и библиографии справочной литературы. Оно, правда, в силу особенностей своего рождения издает научно-вспомогательные указатели художественной литературы и литературоведения, причем больше зарубежной, чем отечественной, поскольку издательский отдел Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы влился в издательство при его организации. Но это только подтверждает отсутствие в издании научно-вспомогательной библиографии художественной литературы подлинной системы. Не лучше обстоит дело с библиографическими изданиями и в других специализированных издательствах. Указатели литературы выходят в них редко и в основном случайно. Объясняется это несколькими причинами. Библиографические издания, во-первых, очень трудоемки, во-вторых, велики по объему, в-третьих, убыточны, в-четвертых, непривычны, требуют привлечения не только специалистов, но и библиографов. В результате все специализированные издательства всячески стремятся отказаться от библиографических изданий. И шлют в издательство «Книга» свои предложения о выпуске узкоотраслевых тематических указателей геологи и языковеды, машиностроители и философы, литературоведы и педагоги.
Методического центра научно-вспомогательной библиографии действительно нет. И он действительно нужен. Как и общегосударственный план выпуска ретроспективных научно-вспомогательных указателей всех видов литературы, составленный не из случайно предложенных тем, а исходя из обоснованной, определяемой потребностями различных отраслей науки, культуры и народного хозяйства программы действий, с распределением пунктов программы по издательствам и издательским организациям. Это позволило бы значительно улучшить библиографическое дело в стране. Таким образом, часть предложения С.И. Машинского заслуживает безусловной поддержки.
Главный редактор издательства «Книга» А.Э. Мильчин.
Послал свой отклик на статью Машинского и сектор литературы и искусства Отдела рекомендательной библиографии Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. В этом письме было описано фактическое положение с рекомендательной библиографией художественной литературы и подчеркнуто, что «рекомендательная библиография в нашей стране существует, приобрела права гражданства, и уже налаженное дело не следует начинать заново, а надо развивать и улучшать».
Почти через год, в августе 1973 года «Литературная газета» напечатала редакционную статью под тем же заглавием, что и статья Машинского, желая «познакомить читателей с официальными откликами, так сказать, заинтересованных организаций», среди которых названы издательство «Книга», а также Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина и Всесоюзная книжная палата.
Мое письмо упомянуто несколько раз. Первый раз приводится цитата из него о действительной необходимости методического центра научно-вспомогательной библиографии и общегосударственного сводного плана выпуска указателей всех видов литературы. Второй раз – в связи с указанием в моем письме на то, что наше издательство выпускает пособия рекомендательной библиографии. Авторы редакционной статьи поняли это в том смысле, что я счел предложение С. Машинского о выпуске этих пособий в издательстве «Знание» некоей недооценкой рекомендательных библиографических пособий, выпускаемых издательством «Книга». И поддержали это предложение С. Машинского арифметическими подсчетами – сообщили, что при существующих тиражах наши указатели достигают лишь одной из десяти массовых библиотек, хотя нужно было говорить о другом – о том, что наряду с нужными пособиями, подготовленными библиотеками, следовало бы выпускать и пособия несколько другого типа, о которых я писал выше.
На том все и завершилось, без всяких последствий для книгоиздательской практики.
Факсимильное издание альманаха А. Бестужева и К. Рылеева «Звездочка»
Еще когда редакция миниатюрных и факсимильных изданий была только задумана, я, приступая к выработке ее программы, включил «Звездочку» в число тех факсимильных изданий, которые следует выпустить.
Когда редакция была создана, редактор Л.Я. Давтян начала работу и над «Звездочкой». Вступительную статью она заказала Янине Леоновне Левкович, старшему научному сотруднику Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР.
Лия Яковлевна Давтян, филолог по образованию, опытом редактирования книг не обладала. А заведующий редакцией Геннадий Иванов, журналист по образованию, не был знаком с книгоизданием, занимался главным образом организационной работой и не проверял работу редактора по существу. Все это привело к тому, что во вступительной статье Я.Л. Левкович, напечатанной в сопроводительной брошюре к факсимильному изданию, появились без оговорки авторства тексты, написанные самой Давтян, и подобранные ею цитаты. Всей своей восторженной душой отдавшаяся изданию «Звездочки», Лия Яковлевна считала, что улучшает издание, забыв, что на сопроводительной брошюре автором значится Я.Л. Левкович.
И вскоре после того, как факсимильное издание «Звездочки» вышло в 1981 году в свет, 13 января 1982 года «Литературная газета» опубликовала следующее письмо в редакцию Я.Л. Левкович под заглавием «Семь раз отмерь…: Неосуществленное намерение, или Драматическая судьба одного альманаха»:
Альманах Бестужева и Рылеева «Полярная звезда», в свое время чрезвычайно популярный среди российской читающей публики, прекратил существование в 1825 году. Последний выпуск (издатели назвали его «Звездочкой») находился в типографии во время декабрьских событий. Тираж был арестован, а через тридцать шесть лет после этого уничтожен, и только случай сохранил два экземпляра листов, которые типография успела отпечатать до 14 декабря 1825 года. Рукопись, с которой печатался альманах (так называемая «цензурная рукопись»), сохранилась. Полный текст «Звездочки» (с добавлениями по цензурной рукописи) был известен с 1883 года, когда историк М. Семевский напечатал его в «Русской старине». В 1960 году он (вместе с тремя выпусками «Полярной звезды») был снова напечатан в серии «Литературные памятники» (издание подготовили В. Архипов, В. Базанов и Я. Левкович).
Однако видеть этот альманах воочию, в том (хотя бы приближенном) виде, в каком он был в руках издателей, цензора, наборщиков, доступно немногим. Оба сохранившихся экземпляра находятся в отделах редких книг Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и Пушкинского Дома АН СССР.
И вот издательство «Книга» выпустило фототипическое издание альманаха. Такое издание должно было иметь большое историко-культурное значение, однако приходится с сожалением констатировать, что драматическая судьба «Звездочки» не закончилась в 1861 году. В нынешней публикации текст альманаха предстал перед читателем в окружении неимоверного количества высокопарных слов и полуграмотных сведений, которыми издательство от щедрот своих снабдило его воспроизведение. Издание состоит из двух брошюр, вложенных в один футляр. В первой – фототипическое воспроизведение тех листов альманаха, которые типография успела отпечатать до 14 декабря, во второй:
1) статья, написанная мною по заказу издательства, об истории альманаха;
2) та часть рукописи, которая оставалась ненапечатанной до 14 декабря. Здесь же помещены иллюстрации к изданию, при этом статья перемежается множеством картинок с подписями, к которым я как автор не имею никакого отношения и увидела их впервые уже в изданной книге. Составитель многочисленных текстов под картинками, рядом с картинками, перед статьей, после статьи, перед текстом цензурной рукописи и после нее свое имя скрыл. А между тем небезынтересно было бы знать, кто с такой лихостью написал рядом с воспроизведением одной из страниц цензурной рукописи следующее: «Под известным отрывком из “Евгения Онегина” цензор поставил и свою подпись, не смущаясь тем, что выглядит соавтором. Так они и вошли в бессмертие – гениальный поэт и надсмотрщик над его музой». Но ведь цензурная рукопись потому и называется «цензурной», что представляется в цензуру и цензор обязан ставить на ней свою подпись. Не только «известный отрывок» из «Онегина», но и все произведения Пушкина, как и других авторов, могли быть напечатаны только с разрешения цензора или, по терминологии автора текста, «в соавторстве» с цензором.
Неизвестный автор гневной тирады в адрес цензора Бирукова, упрекнув его в присвоении чужого произведения, тем не менее тут же подхватывает прием, который, как ему кажется, он уловил в действиях цензора, пишет свой текст и присоединяет к нему без кавычек текст чужой. С подобным случаем сталкиваешься на стр. 69 второй брошюры. Здесь текст почти слово в слово переписан из книги В. Вацуро «“Северные цветы”. История альманаха». Тщетно, однако, было бы искать ссылку на источник.
Очевидно, люди, которые занимались составлением этого издания, не поверили, что оно может быть интересным для современного читателя, поэтому и подключили к нему монтаж, состоящий большей частью из сентиментальных сентенций, широковещательных лозунгов и беспорядочного набора фактов. Вот лишь несколько примеров. Вслед за приведенными стихами Пушкина читаем: «Несколько обширных, со вкусом убранных комнат для литераторов тех лет были тем же, чем позднее стали страницы журналов и газет». Хочется спросить автора текста: разве в пушкинские времена не было газет и журналов и разве в послепушкинские времена не было литературных салонов и кружков? И откуда он знает, что комнаты обязательно были «убраны со вкусом»? И вообще, какое отношение убранство комнат светских и литературных салонов имеет к настоящему изданию?
Еще один пример: брошюра, содержащая текст «Звездочки», заключена в обложку, на которой читаем: «Ни в одной из известных нам библиотек, как общественных, так и частных, ни у одного из наших библиографов не сохранилось “Звездочки” 1826 года…»
Эта цитата из работы Семевского, будучи приведена вне контекста истории альманаха, невольно относит факт, сообщенный Семевским в 1861 году, к нашему времени – не спасает положения и набранная мелким шрифтом ссылка на источник.
Нельзя не сказать несколько слов о грамматике, которую также не пощадили составители. Так, на стр. 47 находим следующую характеристику О.М. Сомова: «О.М. Сомов (1793–1833). Наибольший интерес представляют статьи Ореста Михайловича Сомова, особенно его программный трактат “О романтической поэзии”, хотя писал он и стихи, и прозу, служил в Российско-американской компании с Рылеевым и жил на одной квартире с Александром Бестужевым».
В этой неграмотной фразе так же неграмотно отобраны и факты. Статья Сомова о романтической поэзии не имеет отношения к «Полярной звезде», и в короткой информативной подписи о ней можно было не сообщать, а вот то, что Сомов был ближайшим помощником Рылеева и Бестужева в издании альманаха, упомянуть следовало бы. Приведу еще характеристику Баратынского: «Е.А. Баратынский (1800–1844). Пользовавшийся у современников славой первоклассного элегика и поэта, выдерживающего сравнение с Пушкиным, Евгений Абрамович Баратынский отдавал предпочтение “Полярной звезде” и альманаху “Северные цветы” Дельвига». Что значит в контексте этой справки «отдавал предпочтение»? Стихи Баратынского печатались не только в альманахах, но и в журналах, а в 1826 году, то есть тогда, когда должна была выйти «Звездочка», он «отдал предпочтение» альманаху М.П. Погодина «Урания», напечатав там больше стихотворений, чем в «Северных цветах» и чем отдал издателям для «Звездочки».
Подобных примеров можно привести много. Хочется задать издателям несколько вопросов: почему в книге названа только одна фамилия – автора статьи Я. Левкович, а сочинитель всех других текстов скромно отошел в тень? Почему книга не имеет оглавления? Отсутствие оглавления приводит к тому, что даже искушенные читатели, дойдя до текстов (во второй брошюре), которые являются дополнением к отпечатанным листам альманаха по наборной рукописи, спрашивают: «А зачем альманах напечатан два раза?» Может быть, все эти «почему» возникли из-за того, что, несмотря на неоднократные мои просьбы, я не получила от издательства корректуры всей книги, не знала, что написанные для нее мною примечания были отброшены, а вместо них появился тот текст, примеры из которого я приводила.
Издатели «Полярной звезды» отличались хорошим вкусом, недаром отдавали им свои стихи лучшие поэты пушкинской поры. Хорошего вкуса явно недостало тем лицам в издательстве «Книга», которые всеми средствами стремились сделать это издание не лучше, а дороже. В итоге благое намерение вернуть из небытия уничтоженную книгу достойного воплощения не получило.
Янина Левкович, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССРНесомненно, большинство замечаний Я. Левкович справедливы, хотя объективный читатель заметит и натяжки, продиктованные желанием накопать как можно больше криминала. Безусловно, Л. Давтян допустила много оплошностей, за которые и поплатилась: ушла из «Книги». Однако далеко не все факты из истории издания, приведенные Я. Левкович, соответствуют действительности.
Не помню, посылало ли издательство ответ на письмо Я. Левкович в «Литературную газету». А если и посылало, то я им не располагаю.
Не буду приводить примеры ее неточностей. Процитирую только два письма: одно от Я. Левкович к Л. Давтян, другое от меня к Я. Левкович. Они помогут увидеть, где и как Я. Левкович исказила истину.
Я. Левкович – к Л. Давтян (без даты, судя по тексту письма, позднее 12 ноября 1979 года):
Уважаемая Лия Яковлевна!
Посылаю Вам корректуру «Звездочки». Она пришла, когда меня не было в Ленинграде (я уезжала на все праздники и вернулась только 12-го). Все цитаты я проверила заново. Кроме типографских опечаток и нескольких моих огрехов (в цитатах) пришлось внести несколько исправлений. Так, на стр. 22 я восстановила (с сокращениями) текст, который был в моей рукописи – неуклюжую фразу с двумя «в» необходимо убрать.
Сложнее обстоит дело с цитатой из Герцена на стр. 22. Ни цитаты, ни вводных ее слов у меня не было – я не знаю, кто и откуда ее взял и не проверяла ее текст. Я уже писала Вам (к сожалению, недостаточно категорично), что ее лучше убрать. Она не подходит к статье по существу (1. Не относится к «Полярной звезде»; 2. В «Полярной звезде» не печатались «революционные стихи» Пушкина, ведь нельзя же назвать «революционными стихами» отрывок из «Братьев-разбойников»?). Кроме того, эта цитата приведена без ссылки на источник – я его не искала, потому что считаю цитату ненужной и не беру на себя ответственность за ее точность.
Цитату можно снять. Прилагаю для этого дополнения на стр. 24 – расширенные отрывки из «Исповеди Наливайки» и «Воспоминаний» М. Бестужева. Это было бы оптимальным выходом из положения. Если же, по техническим причинам, такой выход абсолютно невозможен – то весь этот абзац следует перенести со стр. 22 на с. 30 после слов: «многие называли “Полярную звезду”», т. е. перед абзацем, начинающимся со слов: «Издав третью книжку…» и т. д. Сейчас этот абзац вываливается из контекста, разбивая историю издания «Звездочки». Им можно (если нельзя его убрать) закончить рассказ о «Полярной звезде».
Я бы хотела иметь возможность купить 10 экземпляров книги, но не знаю, к кому мне следует обратиться с этой просьбой. Буду крайне признательна Вам, если Вы узнаете об этом и сообщите мне.
С уважением Я. Левкович
В конце июня я на два месяца уеду из Ленинграда. Если корректура примечаний будет летом – прошу Вас выслать мне ее по адресу:
175410 Новгородская обл., п/о Миронеги, дер. Борцово Левкович Я.Л.
Кстати, корректуру я получила только потому, что наш почтальон помнил мою фамилию. Мой домашний адрес: пер. Ильича, д. 11 кв. 74 (на конверте было 47).
А.Э. Мильчин – к Я.Л. Левкович 22.02.82:
Глубокоуважаемая Янина Леоновна!
Натан Яковлевич Эйдельман передал мне по Вашей просьбе содержание полученного Вами якобы от бухгалтерии издательства «Книга» письма, письма более чем странного и лживого от начала до конца.
В брошюре, приложенной к факсимильному воспроизведению листов «Звездочки», весь текст, кроме Вашей статьи, написан или подобран редактором издания Л.Я. Давтян, давно в издательстве не работающей. Никакого гонорара ни она, ни, естественно, кто-либо иной за эту работу не получал. Ни одно из упомянутых в «подметном» письме лиц к выпуску «Звездочки» никакого отношения не имело. Так что упомянутое письмо можно расценить только как провоцирующее Вас на какие-то дополнительные шаги против издательства и, возможно, против меня (пусть отмывается от комков грязи, авось пятна останутся).
Не могу в связи с этим не высказать своего отношения к Вашему письму в редакцию «Литературной газеты». По существу Ваши замечания совершенно справедливы, и я очень сожалею, что доверился целиком энтузиазму Л.Я. Давтян, не проконтролировал как следует ее работу, а те, кто это делал, оказались не на высоте [видимо, я имел в виду помимо Г. Иванова еще и моего заместителя Быкова]. Но, скажу Вам откровенно, форма, которую Вы придали своему письму в редакцию, и некоторые утверждения в нем не показались мне ни корректными, ни точными.
Так, сравнивать судьбу издания с судьбой оригинала – его уничтожением жандармами, на мой взгляд, вряд ли правомерно. Передержкой выглядит и упрек в том, что читатель не поймет, почему текст «Звездочки» напечатан дважды: Вы сами объяснили суть дела в конце своей статьи. Слишком категоричны и гиперболичны общие выводы.
Неточны Вы и когда пишете, что, несмотря на неоднократные Ваши просьбы, издательство не прислало Вам корректуры всего текста. Я и директор издательства узнали о Ваших просьбах только из письма в «Литературную газету». Подписали Вы корректуру статьи в печать, как выяснилось при просмотре, без всяких оговорок. Если Вы просили об этом Л.Я. Давтян, то так и следовало написать.
Некорректно и обвинение нас в том, что мы стремимся сделать издание не лучше, а дороже. Во-первых, недостатки издания – результат самых благих, самых лучших устремлений. Во-вторых, малотиражные факсимильные издания не могут не быть дорогими, так как цена на них устанавливается по себестоимости, а затраты на бумагу и типографские расходы велики.
Наконец, можете мне поверить, что случившееся есть следствие не позиции и методов работы издательства, а непродуманности и редакционно-издательской неопытности Л.Я. Давтян. Наше сотрудничество с очень многими и самыми разными авторами, в том числе из Пушкинского дома, никогда не омрачалось даже подобием тени.
От себя лично не могу не принести Вам извинения за то, что в издании не было обозначено авторство Л.Я. Давтян, чем Вы были поставлены в ложное положение, и за то, что Вам не был показан весь текст сопроводительной брошюры. Очень сожалею об этом.
Прошу Вас, правда, не рассматривать это письмо как официальное письмо издательства. На такое я не был уполномочен.
Всего доброго. Мильчин.
Со всем случившимся и со своим письмом к Я. Левкович я познакомил О.В. Рисса. Он 14 февраля 1982 года написал в ответ:
Проект Вашего ответа зловредной Янине, на мой взгляд, составлен умно и убедительно, благо она сама «подставила» свои бока. Так, наличие корректуры ее статьи, конечно, ставит под сомнение ряд ее обвинений. Думаю, что дело не просто в раздраженности, а в чем-то другом, скорее, просто в фанаберии от комплекса неполноценности.
А затем под впечатлением всей истории 9 марта 1982 года вписал ее в литературный контекст:
…Ваша «детективная история» действительно типична для современной «эпохи», когда развелось столько мелких и крупных подлецов, высшее удовольствие которым доставляет попытка сделать какую-нибудь гадость другому. <…>
Вымышленное обвинение в мнимом письме из бухгалтерии тоже коварным поступком не назовешь. Это даже не отдаленный потомок Яго сочинял, а «духовный» брат (или сестра) того купринского мелкого Галушки (в рассказе «Мирное занятие» или «На покое»), который, выйдя на пенсию, занимается сочинительством кляуз на известных ему лиц. Помнится, Вы когда-то писали мне о каких-то других «грязных» проделках в бухгалтерии. Ужас в том, что кое-кто «клюет» и на такие фальшивки. <…>
Если у Левкович есть какие-то остатки совести, то, полагаю, она поймет, в какую грязную историю ее хотят затащить.
«Альманах библиофила»
Это издание – детище Евгения Ивановича Осетрова, много лет возглавлявшего клуб книголюбов в Центральном доме литераторов. Он основал это издание и, до самой своей кончины в 1993 году оставаясь его главным редактором, подготовил к изданию 28 выпусков.
Первый выпуск «Альманаха библиофила» был напечатан издательством «Книга» в 1973 году в качестве собственного издания. Последующие второй, третий и четвертый выпуски вышли уже с грифом Всесоюзного общества книголюбов (ВОК), а затем издательство начало выпускать «Альманах библиофила» как заказное издание Центрального правления ВОК.
Сотрудничать с Евгением Ивановичем Осетровым работникам издательства «Книга» было весьма непросто. Причин было несколько.
Он, например, предлагал опубликовать сомнительные материалы вроде «Велесовой книги», и стоило приложить немало усилий, чтобы заставить его отказаться от этого и не позорить альманах и издательство. Удалось это только благодаря рецензиям авторитетных историков и лингвистов, которые доказывали, что текст «Велесовой книги» – фальсификация, написанная в XIX или XX веке и примитивно имитирующая древний славянский язык. Осетров же считал, что если подобная публикация вызовет скандал, это прекрасно: все обратят внимание на издание, оно «прославится».
Еще одной бедой было то, что Е.И. Осетров больше заботился о том, чтобы печатать литературоведческие и историко-литературные статьи и материалы (возможно, те, которые ему не удавалось напечатать в журнале «Вопросы литературы», где он с 1968 года служил заместителем главного редактора), чем о публикации профильных библиофильских материалов. А это вызывало недовольство библиофилов. Между тем у альманаха имелась редколлегия. Первоначально она была действительно рабочей, включала А.И. Маркушевича, В.Г. Уткова, А.А. Сидорова (он хотя и не приезжал на заседания, но присылал свои короткие отзывы на присланные ему материалы) и секретаря редколлегии Л.М. Наппельбаум, которую Е.И. Осетров хорошо знал как библиотекаря ЦДЛ. С первого заседания редколлегии я принимал в ней участие как главный редактор издательства «Книга» (впоследствии ЦП ВОК ввело меня в ее состав) и могу засвидетельствовать, что все члены редколлегии читали подготовленные к публикации материалы и докладывали устно или письменно их оценку. Но затем в ее составе стали появляться люди, которые никакого участия в работе редколлегии не принимали. Например, близкие по духу Евгению Ивановичу П.В. Палиевский, В.В. Кожинов, Е.А. Исаев, а также представлявшие руководство Госкомиздата СССР – сначала И.И. Чхиквишвили, а затем сменивший его на посту первого заместителя председателя этого ведомства В.В. Чикин – или представители писательских организаций или комитетов по печати союзных республик И.В. Абашидзе, К.С. Айни, Ю.П. Некрошюс.
В помощники себе Е.И. Осетров в качестве секретаря редколлегии сначала выбрал Ю.М. Акутина, человека знающего, с которым можно было иметь дело, но, к величайшему сожалению, он вскоре скончался. Сменившие же его на этом посту люди были пешками Евгения Ивановича, и работать с ними было очень трудно.
Много неприятностей доставлял Е.И. Осетров издательству своей манерой держать корректуру. Он порой правил верстку так, как правят машинописный авторский оригинал. Мог выбросить набранную статью по той простой причине, что удосужился впервые прочитать ее после набора.
В общем, выпуск «Альманаха библиофила» постоянно сопровождался какими-то осложнениями и казусами.
И все же «Альманах» отвечал потребностям библиофильского движения, и хорошо, что он выходил. А что касается его главного редактора, то приходится сожалеть, что особенности его характера и увлечений снизили возможности альманаха.
«Памятные книжные даты», или Бег с препятствиями
Это издание стоит упоминания прежде всего потому, что оно расширяло как круг изданий и авторов, входящих в советский культурный канон, так и подходы к рассказу о них. В годы, когда ширилось движение книголюбов, талантливо написанные эссе делали это издание очень привлекательным для читателя, приобщающегося к книжной культуре. Памятные даты были лишь поводом для рассказа о писателе, художнике, издателе, замечательной книге.
Задумала это издание редактор редакции литературы по книговедению и библиофильству Инна Павловна Глазырина. Она долго носилась с идеей выпуска книжного календаря, но если бы ее не поддержала заведующая редакцией Тамара Владимировна Громова, а я не нашел формы и заглавия, позволивших «Книге» выпускать такое издание, ничего бы не получилось. Монополией на выпуск календарей обладал по постановлению директивных органов Политиздат. Книжка же с заглавием «Памятные книжные даты» не покушалась на эту монополию. И Главная редакция общественно-политической литературы не стала исключать ее из плана.
Первая книга «Памятных книжных дат» вышла в 1981 году (с юбилейными датами 1981 года), а последняя – в 1991-м (с юбилейными датами того же года). Глазырина была редактором-составителем первого выпуска этого издания и редактором второго, потом ее сменили другие редакторы: Э.Б. Кузьмина, Н.А. Тишкова, М.Я. Фильштейн, Л.С. Еремина.
Мотором издания была Тамара Владимировна Громова. Она привлекла самый широкий круг составителей и авторов. Сама выступила в роли составителя и автора, мобилизовала на эту роль Р. Баландина, молодых тогда литературоведов А.Л. Зорина, С.Л. Козлова, А.Л. Осповата, искусствоведа Ю.А. Молока, журналистку Л.В. Поликовскую.
Громова сформировала общественную редколлегию издания. В нее вошли К.Н. Тарновский, Е.А. Краснощекова, С.А. Ошеров, С.С. Дмитриев, А.К. Василевский (мой заместитель). Впоследствии добавились А.П. Толстяков и М.О. Чудакова, а позднее и другие деятели культуры, науки, литературы, книжного дела: Б.М. Кедров, Г.И. Ломидзе, Г.А. Белая, Я.Н. Засурский, В.П. Кочетов (литературный критик, сменивший А.К. Василевского на посту моего заместителя), Т.Л. Мотылева, В.Г. Утков. В 1987 году, когда я был уже на пенсии, Т.В. Громова включила и меня в состав редколлегии. Впрочем, я и раньше, не будучи ее членом, принимал участие во всех ее заседаниях.
Громова и Глазырина определили структуру и композицию издания – его разделы: Политика; Наука и просвещение; Русская литература; Зарубежная литература; Советская литература; Книжное дело. Заглавие раздела «Русская литература» было преобразовано с 1982 года в заглавие «Отечественная дореволюционная литература». К политике добавилась публицистика. С 1985 года появился еще и раздел «Искусство книги».
В сборнике отмечались юбилеи авторов, их книг или важнейших статей, причем для рассказа об этом привлекались лучшие специалисты по данной теме.
В эссе о книгах и писателях оттачивали свое мастерство тогда только начинавшие талантливые историки литературы А. Зорин, А. Немзер, Н. Зубков, О. Майорова, А. Долинин, А. Строев, В. Мильчина (последняя только после моего выхода на пенсию).
Удавалось напечатать статьи о книгах и авторах, чьи имена тогда были в загоне: о сборнике Ахматовой «Вечер», о поэте Василии Князеве, загубленном в 1937 году, об Игоре Северянине, о полузабытом талантливом писателе Виталии Семине, привеченном «Новым миром» Твардовского (очерк новомирского редактора А. Берзер). И это только из выпуска 1987 года.
Нужно особо сказать о том, что в большинстве случаев эссе о юбилейных датах были талантливо написаны. И читать их было большое удовольствие.
Но есть еще одна причина, по которой нельзя не вспомнить об этом издании. Это цензурные по сути препятствия, которые приходилось преодолевать прежде всего Громовой и заместителю главного редактора, опекавшему ее редакцию, а иногда и мне как главному редактору издательства.
Все мы на собственном опыте испытали, что такое пресс советской иерархии имен. Именно это сторона привлекала к изданию пристальное внимание заместителя главного редактора Главной редакции общественно-политической литературы Вячеслава Викторовича Викторова, отвечавшего за контроль над нашим издательством.
До прихода в Госкомиздат Викторов был секретарем парткома ТАСС, а впоследствии стал инструктором сектора издательств Отдела пропаганды ЦК КПСС. Видимо, в этом отделе высоко оценили его строгий партийный подход к оценке книг. Его око не пропускало в «Памятных книжных датах» ничего, к чему можно было прицепиться. Контроль начинался с числа строк, отведенных писателю или ученому. Оно должно было быть прямо пропорционально его «прогрессивности», как ее оценивала советская история литературы или науки, а главное, партийные документы или партийные верхи.
Сложности возникали с такими писателями, как Зощенко, Бабель, Пильняк и некоторые другие писатели. С другой стороны, не дай бог пропустить юбилей книги или автора, особенно преданного партии (вроде А. Софронова или В. Кочетова), и обойтись без похвал им. Не попасть впросак было крайне трудно. И даже когда Викторов перешел на работу в ЦК КПСС, он и туда после выхода очередного выпуска «Памятных книжных дат» вызывал меня, Громову и ведущего редактора и грозил нам всякими карами, если мы не будем придерживаться того подхода, который он считал единственно правильным.
О такого же рода иерархических трудностях, встававших перед составителями «Краткой литературной энциклопедии», пишет в своем «Новомирском дневнике» (М., 1991. С. 349–350) Алексей Кондратович:
7/I–69 г.
А.Т. рассказал, что ехал с дачи с Ждановым[22] и тот говорил ему о своем объяснении в ЦК. В частности, он написал: «Дымшиц считает, сколько строк отпущено писателям, и делает из этого далеко идущие заключения. Но ведь у нас в “Л[итературной] э[нциклопедии]” о Булгарине дано больше строк, чем о самом Дымшице, но из этого совсем не значит, что мы относимся к Булгарину с бóльшим уважением, чем к Дымшицу».
Кондратович сопроводил эту запись очень точной характеристикой подобных трудностей:
«Литературная энциклопедия» – одно из тех изданий, которые у нас заранее обречены на огонь по всей площади. Мы не можем жить без иерархии, которая выражается в списках (ищут, кто включен, кого нет), в эпитетах, в факте упоминания или неупоминания, в объеме высказываний и т. п. С этим каждый раз сталкиваются докладчики (из-за чего писательские доклады, скажем, на писательских съездах больше похожи на прейскурант), авторы итоговых статей. И с этим в полном объеме столкнулась «Лит. энциклопедия». Стоило появиться первому тóму, как посыпались письма обиженных: почему не включили этого и того, почему об этом с библиографией, а о том без, почему этому посвящена большая статья, а тому маленькая. Групповые и личные страсти взыграли. И письма, конечно, посыпались не в адрес самой энциклопедии, а в редакции газет и журналов, в ЦК – не меньше того. Письма-доносы. Статьи-доносы.
«Памятные книжные даты» выпускались до начала 90-х годов. Последний выпуск вышел в 1991 году с датами этого года, а далее условия издательской деятельности и читательские потребности настолько изменились, что такое издание не могло не умереть. Об этом написал в «Книжном обозрении» член редколлегии издания и один из активных его авторов Андрей Зорин. Я, преданный идеям, вызвавшим к жизни «Памятные книжные даты», болезненно воспринял этот «некролог» и попытался возразить Зорину в той же газете, но позднее уже для себя самого вынужден был признать его правоту.
Несостоявшиеся издания
Одно из них – работа об А.П. Чехове как редакторе собственного собрания сочинений, которую собиралась написать Елизавета Николаевна Коншина, старейшая сотрудница Отдела рукописей ГБЛ, много лет занимавшаяся хранящимся в этом отделе архивом Чехова.
Скажу честно, что хотя мы и заключили с Коншиной договор на такую книгу (а может быть, статью об этом), я сомневался, можно ли назвать редактированием работу автора над подготовкой к изданию не чего иного, как собственного собрания сочинений. Наверно, моя точка зрения была узколобой. Ведь опыт такого выдающегося человека мог послужить уроком для редакторов. Но это я понимаю сейчас, а тогда был иного мнения. Считал, что работа Чехова относится к области творческого процесса писателя.
Сейчас я бы уже не был столь категоричен: ведь из того, как, например, правит свое сочинение мастер слова, редактор издательства может извлечь много полезных уроков, хоть это и не редактирование в собственном смысле слова.
Что же касается темы Коншиной, то речь ведь шла о работе автора – А.П. Чехова – над собранием своих сочинений, т. е. о его взглядах на то, как такое собрание сочинение, в частности, должно быть построено. А мнение на этот счет такого человека, как Чехов, полезно знать современным издательским работникам.
Почему же работа, задуманная Е.Н. Коншиной, не была опубликована?
К сожалению, память не сохранила причину, помешавшую состояться этому изданию (или статье в сборнике «Редактор и книга»).
Но у меня сохранились письмо и открытка Елизаветы Николаевны, написанные в отчаянии из-за невозможности связаться со мной по телефону
Сначала прибыло письмо:
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Почти три недели не могу к Вам дозвониться (по тел. В 400-32-476), либо занято, либо никто не подходит. А Вы мне нужны очень по двум делам:
Во-первых, я хочу просить отсрочку, потому что из льготного января у меня ничего не получается; каждый день меня рвут на всякие консультации о Чехове, предстоит два доклада (в Институте мировой литературы и у нас в библиотеке), и я прихожу домой с котлом или кочаном капусты вместо головы на плечах! Мне жалко кончать книгу так второпях. Что мне нужно делать, чтобы получить отсрочку? Кому писать? Как подать? Мне хотелось бы до половины марта, потому что 5 февраля последний (третий) доклад. Будьте добры, дозвонитесь до меня или напишите мне. Я с своей стороны буду пытаться дозвониться Вам и получить от Вас ответ.
Во-вторых, мне очень хотелось бы показать Вам одно место текста и спросить Вас, как его следует технически оформить для типографии.
Из этого следует, что мне нужно к Вам приехать и для заявления об отсрочке, и для совета. Когда Вам было бы удобно? Если Вы будете мне отвечать письменно, то назначьте два-три дня на выбор и укажите часы, и… если можно – маршрут. На чем ехать от Ленинской библиотеки? И как Вас разыскать в здании?
Вот все мои горестные вопросы. Не сердитесь на меня за задержку. Она меньше всего входила в мои планы.
С терпеливой надеждой жду Вашего ответа. Жму руку. С уважением Е. Коншина.
16/I-1960С болью читаю эти строки замечательного специалиста, чудесной женщины, впечатляющий рассказ о которой написала в своих воспоминаниях «Просто жизнь» С.В. Житомирская; не помню, что именно я ответил ей, но, видимо, что-то ответил, так как в открытке ко мне, написанной позднее, она спрашивает уже о судьбе рукописи:
6/VII-60
Глубокоуважаемый Аркадий Эммануилович!
Какова судьба моей книги? Если не трудно, пришлите мне открыточку. По телефону меня сейчас трудно поймать, потому что по условиям работы я часто отсутствую на своем месте, а работаю в помещении, далеком от телефона. Я пыталась несколько раз Вам позвонить, но обычно бывает занят не только Ваш коммутатор, а даже вся станция «В» – наберешь три цифры, и уже пищит в ухо сигнал занятости. Буду Вам очень признательна за сообщение.
Е. Коншина.Не может быть, чтобы я не ответил, но вся переписка, видимо, осталась в архиве издательства. Вспомнить же точно, что помешало опубликовать ее работу, если она была представлена, не могу. Тут нужна точность. Житомирская об этой ее работе ничего не пишет. Видимо, Коншина о ней в отделе не говорила.
Все же одну работу Елизаветы Николаевны Коншиной мы опубликовали в третьем выпуске сборника «Редактор и книга». Называлась эта работа так: «Чехов – редактор Короленко (Две главы рассказа Короленко “Лес шумит” с редакторской правкой Чехова) / Подготовка текста и коммент. Е.Н. Коншиной». Правка А.П. Чехова была, собственно, вычеркиванием лишнего в тексте рассказа. Поучительный мастер-класс!
К несостоявшимся изданиям относятся и две задуманные мною книги: «Занимательное книговедение» и «Биографии знаменитых книг». Виноват в этом я один. Не взял на себя ответственность быть их составителем, не проявил энергии и воли, чтобы найти себе достойную замену. Вот и остались замыслы только в виде заглавий.
Еще в начале 1968 года я писал Риссу, в надежде привлечь его в качестве автора, каким я представляю себе книгу «Занимательное книговедение»:
«Занимательное книговедение» – это вполне реально. Общий объем книги – около 10 листов, включая иллюстрации, которых по идее должно быть немало. Участвовать будут много авторов. Разделы самые разнообразные. В числе других «Занимательная корректура» (название раздела может быть, конечно, и другим, более интересным и привлекательным). Содержание – самостоятельные рассказики, историйки, случаи, заметки на полях, анекдотики, причем поразнообразнее, а сверхзадача – показать читателю, какой сложный и опасный путь у книги, какого кропотливого труда она требует. Объем – пока сказать определенно не могу. Все же, поскольку разделов в книге будет много – все отрасли книговедения, – то, пожалуй, вместе с иллюстрациями это не должно превышать листа полтора. Наверно, не помешает сообщить некоторые способные поразить воображение факты из истории корректуры, особенно русской. Вот замысел. Вы, безусловно, внесете в него свои поправки, но основа, вероятно, останется неизменной. Как только Вы сообщите названия сюжетов (о каждом можно написать одну-две строки характеристики), мы заключим договор. Очень Вас прошу помочь нам выпустить такую книгу. Пусть книжное дело станет близким многим людям, которые знают о нем понаслышке.
Но дальше этого письма дело не пошло. Не нашел я заслуживающего доверия составителя (а впрочем, и не искал). Сам же не имел возможности этим заниматься из-за огромной загруженности в издательстве. Так замысел и остался замыслом.
О второй книге – «Биографии знаменитых книг» – я впервые написал тому же своему постоянному советчику Риссу 13 ноября 1977 года:
Раздумывая о том, чтó крупного интересного могли бы мы сделать, пришел к любопытному замыслу о создании большого справочного издания «Биографии знаменитых книг», своего рода энциклопедии книжных судеб, где каждая статья посвящена книге, сделавшей ее автора знаменитым. И статьи будут называться – «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера и т. д. В каждой статье раскрывается история создания, сообщаются сведения об издательской и читательской истории книги, характеристика важнейших изданий, указываются текстологически важные вехи и т. д. и т. п. По-моему, такое издание может стать и очень полезным, и очень интересным. Причем точность фактических данных должна сочетаться с популярностью изложения, расчетом не только на научное и практическое использование, но и просто на чтение книголюбами, т. е. с обязательным включением наиболее занимательных историй и т. п.
Хотелось бы услышать Вашу оценку такого замысла, Ваши замечания и соображения по этому поводу. Конечно, придется создавать большую редколлегию, привлекать значительные авторские силы, т. е. развернуть колоссальную организаторскую работу, но зато такое издание может оставить действительно заметный след в истории книгоиздательства мирового, не только советского.
И этот замысел остался замыслом. Попытки заинтересовать им Тамару Владимировну Громову провалились. Ее эта идея не увлекла. Впоследствии я пытался заинтересовать этим замыслом заведующую редакцией издательства «ОЛМА-пресс» Динару Робертовну Кондахсазову, посылал ей подробный проспект и, кажется, даже примерный перечень книг для статей, но и здесь не преуспел.
Каким главным редактором я был: оценки и самооценка
Став главным редактором «Книги», я уже примерно знал обязанности главного редактора издательства. Хочу сразу уточнить: в сущности, я был главным редактором не издательства, а его книжной части. Издательство выпускало много периодических изданий: библиографические летописи ВКП (Всесоюзной книжной палаты), газету «Книжное обозрение», журнал «В мире книг»; ими руководили их главные редакторы и к их выпуску имела отношение не главная редакция, а другие службы издательства.
Тем не менее обязанности главного редактора книжной части издательства были чрезвычайно многообразны, и, выполняя их, можно было утонуть в текучке и потерять всякие ориентиры.
Суждение обо мне как главном редакторе разных лиц было противоречивым: от крайне негативного (Г.А. Виноградова) до преувеличенно одобрительного (Ю.А. Молока, по словам М.В. Раца).
Глеб Александрович Виноградов, который был сначала старшим редактором редакции полиграфической литературы, а затем заведующим этой редакцией и немало лет проработал со мною рядом, сказал мне, как я уже упоминал, что не представляет меня в роли главного редактора. Это надо было понимать так, что по своим человеческим качествам я мало подхожу для того, чтобы быть начальником. И я не могу с этим не согласиться. Но раз меня назначили на эту должность, думал я в ответ, то так или иначе попытаюсь с ней справиться. Вдобавок я боялся, что если откажусь, то могу лишиться редакторской работы вообще.
Юрий Александрович Молок, как пишет М.В. Рац, считал, что именно я создал издательство «Книга». Это было явным преувеличением. Я не знаю, почему он пришел к такой оценке. Для меня совершенно ясно, что создателем прославленной «Книги» 80-х годов были все ее руководящие работники – директор Владимир Федорович Кравченко, главный художник Аркадий Товьевич Троянкер, заведующая редакцией литературы по книговедению и библиофильству Тамара Владимировна Громова, заведующая планово-экономическим отделом Фаина Михайловна Шкловер, заместитель директора по производству Ким Львович Шехмейстер. Но думаю, что многим «Книга» обязана и мне. И то, что именно я придумал слоган (по нынешней терминологии): «Всё для книги, всё о книге», не случайно, а закономерно, потому что именно такое направление я старался придать издательству.
Третье, промежуточное суждение обо мне как главном редакторе принадлежит автору уже многократно упоминавшейся беседы со мной, опубликованной в журнале «Книжное дело» (1994. № 1), Инне Рахманиной. В разговоре со мной она заметила: «Вы совсем не похожи на других главных редакторов издательств». Она не разъяснила, в чем, на ее взгляд, эта несхожесть, но думаю, она имела в виду, что другие главные редакторы назначались главным образом из партийной номенклатуры, так сказать, сверху, из числа тех, кто мало знаком с издательским делом и хорошо если знал содержание выпускаемой издательством литературы. Я же вышел из редакционно-издательских низов, прошел все ступени издательской лестницы.
Став главным редактором издательства «Книга», я не мог не задумываться над тем, что` занимающий такую должность обязан делать. Не то чтобы я сел и принялся специально сам с собой обсуждать эту проблему и делать основополагающие выводы. Конечно, нет. Но в суете текущих дел мои мысли то и дело возвращались к главному в собственной работе.
Из моего прошлого опыта заведующего редакцией и заместителя главного редактора мне было ясно, что главному редактору необходимо:
– составлять тематические планы (выпуска, редакционной подготовки, годовой и перспективный);
– налаживать редакционно-издательский процесс подготовки рукописей к производству и подписания в печать корректурных оттисков;
– контролировать содержание предназначенных к выпуску работ тех редакций, контроль за которыми закреплен за ним (в моем случае вначале двух редакций: литературы по издательскому делу и книжной торговле и литературы полиграфической, а впоследствии еще и редакций литературы по книговедению и библиофильству, по книжному искусству, миниатюрных и факсимильных изданий), и наиболее ответственных книг других редакций.
Это были, так сказать, текущие обязанности главного редактора. Но я понимал, что главный редактор должен заниматься не только текущими делами.
Поэтому я посчитал, что прежде всего мне нужно четко сформулировать основные задачи издательства, чтобы, исходя из них, строить планы выпуска книг, отбирать (на основе анализа и оценки) произведения к изданию, намечать темы книг, которые помогли бы в наибольшей степени выполнить эти задачи.
В моем домашнем архиве я нашел несколько недатированных записок, в которых пытаюсь определить основные задачи и направления деятельности «Книги». Процитирую одну из них, самую короткую:
Три основные задачи ставит перед собой издательство, три генеральных направления выпуска литературы развивает.
Первое направление – выпуск литературы, которая способствует развитию и совершенствованию книжного дела и книги, т. е. профессиональной литературы для работников на книжном поприще (она помогает повышать квалификацию работникам издательств, полиграфических предприятий, книжных магазинов, библиотек, готовить новые их кадры, развивать научную книговедческую, библиотековедческую, библиографоведческую мысль).
Второе направление – выпуск библиографических изданий в помощь научной, производственной, просветительной деятельности читателей, их самообразованию, в помощь справочной и книжно-пропагандистской работе библиотек.
Третье направление – выпуск литературы, которая пропагандирует культуру чтения, книжные и библиотечно-библиографические знания, любовь к книге среди самых широких кругов читателей.
Все же я обладал некоторыми качествами, полезными и нужными для главного редактора.
Прежде всего, умением систематизировать разнородные материалы, без чего невозможно составить логически состоятельный план.
Положительным было и мое стремление подчинять свою деятельность ясно понимаемым основным задачам издательства.
Несмотря на то что меня заедала бюрократическая текучка, я все же не терял из виду основную и важнейшую свою редакционную задачу. Такой задачей я считал перспективное планирование, позволяющее организовать системный выпуск книг, исходящий из основных задач издательства по каждому разделу литературы. С этого я начал свою работу в качестве заведующего редакцией еще в «Искусстве». То же продолжал я делать как заместитель главного редактора и тем более как главный редактор «Книги».
Перспективный план – это путеводная нить издательской деятельности. За время работы в «Книге» (18 лет) я вместе с редакциями три раза составлял пятилетние перспективные планы.
Они сравнительно широко обсуждались.
У меня сохранился конспект моего выступления в Ленинграде перед редакторами и другими работниками издательств по перспективному плану выпуска издательством «Книга» литературы по издательскому делу. Конечно, это только часть перспективного плана, лишь по одному разделу, наиболее мне близкому и дорогому. Поэтому именно его я и выбрал для собственного выступления.
Мне кажется, что есть смысл воспроизвести здесь этот конспект, так как он отразил принципы моей издательской и редакторской работы, хотя сегодня я и вижу в нем много наивного.
1. Вы, наверно, согласитесь, что деятельность издательства лишь тогда становится целеустремленно плодотворной, когда вдохновляется глубокими, значительными идеями.
Они помогают ему отбирать темы, отдавать предпочтение одним, отклонять другие, оставаться равнодушным к третьим.
Они становятся критерием оценки рукописей, заставляя радостно биться сердце редактора, когда автору удалось приблизиться к воплощению этих идей, и горестно вздыхать, когда автор взамен ожидаемого перепевает давно известное.
Они, эти идеи, воодушевляют и руководят, направляют и движут.
2. Какими же идеями руководствуемся мы, работники издательства «Книга», в подготовке и выпуске литературы для издательских, прежде всего редакторских работников?
В самом общем виде можно ответить так: мы стремимся помочь издательским работникам повысить эффективность и качество их деятельности. Это генеральная идея.
Именно поэтому мы стали присматриваться к тому, чтó сдерживает эффективность, чтó препятствует повышению качества изданий, и пришли к выводу: самые большие потери издательства несут из-за того, что вынуждены тратить массу сил на такое исправление рукописей, которого можно было бы в значительной мере избежать, если бы авторы хорошо знали основные требования к рукописям. Если бы редактор и автор хорошо знали типовые требования, у них бы больше времени, возможностей оставалось на совершенствование важнейших достоинств рукописи, на решение наиболее существенных творческих задач.
Вот почему мы считаем, что нам надо все силы положить на то, чтобы создать систему пособий и справочников, которые помогали бы авторам готовить рукопись в полном соответствии с издательскими требованиями, а редакторам, оценивая рукописи, руководствоваться теми же требованиями.
Речь идет и о формальных, и о содержательных требованиях к рукописи в целом и каждому ее элементу.
Многие из этих требований еще не сформулированы, многие сформулированы плохо или спорно.
Издания страдают от того, что многие авторы плохо знают издательские требования, и от того, что немало редакторов недалеко ушли от таких авторов, часто не знают, что с рукописью делать, не вооружены для критики авторской работы.
Издатели-редакторы в огромном числе случаев слабо ведут подготовительную, предварительную работу с автором (перед заключением договора). Между тем, только точно сформулировав основные требования к автору, можно увеличить вероятность авторского успеха, придать целенаправленность авторской работе.
3. Таковы в основном наши замыслы и планы. Кто может помочь нам их реализовать? На кого мы в первую очередь рассчитываем?
Мы убеждены, что ставку надо делать и на редактора, и на автора, ибо, практически решая многообразные творческие задачи, редактор и автор могут, а в принципе и обязаны осмысливать свои решения.
Нельзя рассчитывать на серьезные сдвиги в качестве книг и других изданий, если не обобщать практику, не вытягивать из нее все то, что может послужить качественному подъему литературы.
Именно здесь издательство может наиболее ощутимо повлиять на литературный процесс.
4. И задачу нашего издательства мы понимаем как задачу создания благоприятных издательских условий для обобщения и осмысления передовой издательской практики как наиболее широкой и прочной базы для развития издательской теории.
5. Какие же издательские формы мы хотели бы использовать для решения своих задач?
Прежде всего создание и издание новой серии «От рукописи – к книге».
Ее основная задача – обобщать и осмыслять опыт создания книг для выработки важнейших требований и положений, которыми целесообразно руководствоваться в своих действиях редактору и автору.
Мы разработали тематический состав серии, исходя из классификации требований к изданиям.
Автору и редактору надо хорошо знать специфические требования к изданиям разного вида по целевому назначению. Что мешает и что помогает добиваться своей цели учебникам, справочникам, монографиям, научному сборнику, инструкции и т. д.? Где автор не учитывает видовых особенностей, а где бьет точно в цель?
Отсюда первая группа пособий серии – книги о видах изданий по целевому назначению.
Мы полагаем, что во многих случаях это будут коллективные работы.
Нам нужно посеять сейчас зерна, чтобы в течение многих лет собирать урожай.
Нам нужно увлечь своей идеей широкий круг издательских работников и авторов, убедить их в том, что их успех не только и не столько в плодотворной работе над данной рукописью с данным автором, что повысить качество и эффективность своей работы они смогут, лишь приложив серьезные творческие усилия для обобщения и осмысления своего опыта.
Мы призываем вас ответить на наш призыв, подумать о посильном своем и своих товарищей участии в нашем предприятии.
Ленинградские издатели – большая сила, богатый творческий коллектив, и мы на него очень полагаемся.
Кроме серии – в вашем распоряжении сборник «Редактор и книга», где можно помещать статьи по частным проблемам, или тем общим, которые выходят за рамки серии, или даже на темы, совпадающие с темами серии, но тогда, когда для выступления с книгой нет еще достаточного материала, а решения, касающиеся отдельных сторон, уже найдены.
Мы готовы предоставить редакторам возможность выступить с отдельными книгами, обобщающими их многолетний опыт, итоги их наблюдений и размышлений, полезных для молодых и немолодых редакторов.
Не нужно забывать, что опытный редактор – это большая ценность для издательства, что если бы остальные равнялись на его знания, умения, навыки, приемы, качество изданий существенно возросло бы.
Книги Рождественской, Чуковской, Каплана – вот и все, что мы сегодня можем предоставить читателям. Мало.
Нам очень важно знать, как вы оцениваете изложенную программу. Поддерживаете ли ее? Что считаете нужным в ней уточнить, исправить, перестроить? Какие темы добавить? На каких сосредоточить внимание в первую очередь?
Ваша поддержка, ваши замечания и поправки для нас очень важны.
Еще одна группа вопросов связана с необходимостью вооружить издательских работников и авторов продуманной системой профессиональных справочников.
Сегодня издательские работники располагают сравнительно небольшим кругом справочных изданий [далее перечислены эти издания].
И поскольку нам предстоит разработать программу дальнейшего выпуска справочных изданий для издательских работников, хотелось бы услышать сегодня, в каких справочных изданиях вы испытываете нужду? Какой вам представляется система справочных изданий для издательских работников, если исключить из нее общие словари по русскому языку издательства «Русский язык», предметные отраслевые справочники, словари и энциклопедии разных издательств. Назову некоторые возможные темы для более предметного обсуждения проблемы:
Словарь-справочник названий.
Справочник по пунктуации.
Справочник по издательской экономике.
Справочник по корректуре.
В связи с переизданием «Справочной книги корректора и редактора» нам очень важны ваши конкретные замечания и предложения. Что можно изъять, учитывая малый круг пользователей и наличие первого издания? Что надо добавить? На какие вопросы надо дать ответ? Что нужно уточнить и поправить? Каким быть по составу приложениям? Что малопонятно? Как лучше построить таблицы единиц физических величин, чтобы ими удобнее было пользоваться?
В общем, нам важны любые ваши советы. Это одна из главных причин сегодняшней встречи.
Нам очень важно знать, что вы цените в наших книгах, а что и почему отвергаете? Какие решения кажутся вам образцовыми, а какие неудачными? Нам нужно это знать, чтобы на ходу корректировать свои действия и лучше учитывать ваши потребности.
Из предшествующего текста может показаться, что я стал чувствовать себя на посту главного редактора довольно уверенно. Однако это не так, о чем можно судить по отрывкам из моих писем Риссу.
17 февраля 1968 года:
Работы у меня действительно много. И самое положение главного редактора для меня непривычно. Подписываю что-нибудь и не верю: «Неужели это я – главный редактор? Что-то не очень похоже». Воспринимаю все это как недоразумение и готовлю себя к тому, что все это не надолго, что при первой же крупной неприятности постараются укрепить руководство издательства. Вот какая история. А пока в меру своих сил буду стараться честно исполнять свои обязанности, хотя вчера узнал о первой наметившейся неприятности из-за одной, казалось бы, самой безобидной книги [сейчас не вспомню, что за книга и какая с ней была неприятность].
Писал я Риссу и о том, что для моей должности (тогда еще заместителя главного редактора) нужно иметь пробивную натуру, а он в ответ убеждал меня, что многие из тех, кто обладает пробивной силой, наносят только вред делу. Но я с ним не мог согласиться:
Хотя Ваши рассуждения о пробивных и непробивных людях во многом справедливы, должен сказать, что могу согласиться с ними только отчасти. Хороший, порядочный человек, наделенный большой энергией, сильной волей, обладающий даром красноречия, может много хорошего сделать. Другое дело, что такие люди редки, но их-то и не хватает. Я все же хотел бы обладать большей энергией и волей, умением убедительно отстаивать свое мнение, а то на практике получается, что все хорошие доводы приходят на ум после драки, а после драки кулаками не машут. Прописная истина. Да и от стула отрываюсь маловато. В общем, самокритика. Просто часто понимаешь, что должность обязывает ко многому такому, на что я не способен, и этот разрыв между пониманием того, что нужно делать, и тем, что делаешь на самом деле, достаточно мучителен, отчего я при первой же возможности вернулся бы к обычной редакторской деятельности. Надоел я, наверно, с этими своими разговорами. Никак не могу уйти от этой темы (17.06.67).
Олег Вадимович Рисс своими ответными письмами морально поддерживал меня, как никто другой.
13 марта 1967 года:
Простите, что с небольшим опозданием отвечаю на Ваше откровенное и грустное письмо. То, о чем Вы упоминали, омрачает не только Вашу жизнь. Увы, это «знамение времени», или «болезнь века», ибо полное подобие упомянутого Вами лица мы видим во главе почти всех ленинградских издательств. Да и только ли издательств? Невольно заподозриваешь в этом какую-то определенную линию – не случайность. Как в таких случаях быть? Я тоже когда-то негодовал и ершился, а потом затвердил на все случаи жизни последнюю строку пушкинского «Памятника» и решил взять ее за руководство. Да, слава богу, нашел еще обнадеживающие строки у Салтыкова-Щедрина. Так что выход один: смотреть на все это как на преходящее, временное явление и набраться мужества и терпения. А в деловом отношении меня еще умные политработники в 40-е годы учили, как поступать с невежественным начальством: указания выслушивать, а делать то, что считаешь нужным. Как раз так и действовали председатели колхозов, когда им навязывали кукурузу.
24 февраля 1968 года:
…Все же думаю, что лучше занимать его [пост главного редактора] Вам, чем кому-либо другому. Для этого есть все основания и прежде всего интерес к делу, который все решает.
Увы, я продолжал жаловаться. Вот что я писал 14 апреля 1968 года:
Письмо это заканчиваю 20 апреля. Не было настроения писать. Очень тяжелая неделя двигалась. Вот она прошла. Сейчас немного успокоился, хотя продолжаю терзаться сомнениями. Если удастся встретиться, расскажу о них. А писать – понадобилось бы слишком много места или получилось бы невольно огрубленно, неточно. В общем, усиленно думаю о рядовой работе, для которой я лучше приспособлен.
Чем были вызваны эти горькие строки, точно не помню. Но причин могло быть много:
– конфликт Телепина с месткомом профсоюза, который не дал согласия на увольнение работника, посчитав, что для этого нет достаточных оснований, а директор, подстрекаемый своим помощником по кадрам, проходимцем и пьяницей Сергеевым, не придумал ничего лучшего, как подать на местком в суд;
– выпады Телепина против коллектива издательства, спровоцированные тем же Сергеевым;
– цензурные придирки;
– навязывание Телепиным авторов, недостойных печататься в издательстве, вроде А. Ерохина, журналиста бездарного, но зато из когорты помощников М. Суслова.
Рисс в ответ приложил немало усилий, чтобы рассеять мои мрачные мысли:
…Видимо, Вы такой же человек настроения, как и я. Стесняться этого не следует, так как еще Ленин говорил Горькому, что настроение – великая вещь. Но я прекрасно понимаю, что при наличии совести (атрибут в наше время вообще-то наличествующий не у всех) Вас будут постоянно мучить разные обстоятельства, которые Вы не властны изменить. Бороться с этим можно только уверяя себя, что все течет, все изменяется, и что мы уже пережили (я в большей степени, Вы в меньшей – соответственно прожитым годам) смену приливов и отливов. <…> Вы не настолько охочи до «высоких мест», чтобы трагически переживать возвращение «к станку», если оно произойдет. Всегда опасно лететь с высот тому, кто нечестно на них забрался, а Вы безусловно не из таких.
Конечно, я догадываюсь, Вам очень трудно угодить на все вкусы и действовать против своей совести там, где Вы уверены, что надо поступать иначе, но – увы! – жизнь требует постоянных компромиссов. Особенно на такой работе, как Ваша. Сначала я обеспокоился, как отзовутся на практике всякие новые «установки», но потом успокоился, что не хватит ни воли, ни умения проводить их твердо в жизнь. Не те времена и не те люди.
<…>
Итак, хорошо, что одна неприятная неделя прошла. Не бойтесь следующей. С каждым разом накат воли ослабевает (24.04.68).
Признаюсь, письма Олега Вадимовича действовали успокаивающе, но переменить настрой не могли. Все же это была единственная поддержка в то время, и я благодарил его за нее:
Спасибо за дружескую поддержку. Она пришлась очень кстати. Письмо Ваше придало мне силы, помогло не впасть в отчаяние, к которому я был близок. И хотя я по-прежнему настроен пессимистически, все же Ваши слова возродили проблески надежды. Меня менее всего пугает возврат к рядовой работе. Беда в том, что этот возврат сегодня для меня закрыт, а завтра может оказаться вовсе недоступным. Ведь места-то заняты. Если бы сегодня освободилось хотя какое-то редакторское место, я тут же стал бы претендовать на него. Руководящая работа меня тяготит по многим уже изложенным ранее причинам (03.05.68).
Тут был еще такой нюанс. Меньше всего я имел в виду, что останусь без работы. Но мне ведь требовалась не любая редакционная работа, а такая, которая составляла смысл моей жизни, – связанная с редактированием и редакционно-издательской деятельностью, а возврат в редакцию то ли на должность заведующего, то ли старшего или просто редактора был закрыт. Не увольнять же работающих там людей ради того, чтобы освободить мне место, особенно если такое передвижение вниз будет связано с какими-то моими прегрешениями.
Когда же такая возможность представилась – перешел на работу в Институт марксизма-ленинизма В.В. Сазонов, заведовавший редакцией литературы по издательскому делу и книжной торговле, – я не осмелился просить директора вернуть меня в редакцию. Это было бы неверно истолковано: я помнил угрозу В.С. Фомичева. К тому же от такого шага удерживала меня обстановка в издательстве. На месте главного редактора я смогу защитить редакционный коллектив от глупых нападок, чего сменивший меня на этом посту, скорее всего, делать не станет.
Олег Вадимович, конечно, сразу же (06.05.68) постарался рассеять мой «преждевременный пессимизм». Он даже предложил «технический прием», помогающий развеять плохое настроение: «Когда вас что-то тяготит, то надо, так сказать, размотать клубок, т. е. постараться найти первопричину упадка духа. И вот так, следуя по нити, не только находить “зерно”, но и восстанавливать душевное равновесие». Так мы с Олегом Вадимовичем поддерживали друг друга. То я его, то он меня.
На мою жалобу, что в издательстве работать сейчас неприятно, Рисс отреагировал философски:
…спросите кого угодно, работает ли он на заводе, в театре или в школе, он скажет то же самое. <…> Так что утешьтесь… Работать-то все-таки надо!
В письмах к нему я продолжал сообщать о своих делах и своем самочувствии на новом посту:
Меня давит громадность задач, которые вижу в подробностях и которые, чувствую, во всем объеме мне не под силу (до 4 ноября 1968 года).
Что до меня, то разрываюсь в ответах на тысячи вопросов, в основном мелких, а крупные уплывают, и я с ужасом чувствую, как дело все больше и больше управляет мной. Единственное, что меня хоть чуть-чуть примиряет с этим, так это то, что людям со мной легко (11.06.68).
Положение издательства в конце 1968 года, первого года моего пребывания на посту главного редактора, потребовало от меня головоломных усилий для решения проблем, с которыми я, как ни странно, справился. Вот что я писал Риссу об этом:
У меня сейчас наступают очень горячие и очень тяжелые дни. При утверждении плана 1969 года летом нам прибавили стараниями директора Библиотеки им. Ленина 4 млн. листов-оттисков, доведя листаж до 18,5 млн. печ. листов-оттисков. Немного, но все же легче стало дышать. Ведь мы удовлетворяем запросы библиотек и читателей всего на 30–50 процентов в очень многих случаях. Сворачивать все издательство, чтобы выпустить две-три книги, невозможно. Не только потому, что люди останутся за бортом, но и потому, что кроме практических нужд и интересов любознательного читателя существуют интересы науки, интересы исследователей, требуется большое число учебников. В общем замкнутый круг. Так вот, помимо того, что из плана 1968 года перешло свыше 30 названий книг общим листажом 5 млн. печ. листов-оттисков, теперь, к концу года выясняется, что из добавленных первоначально 4 млн. печ. листов-оттисков 2 млн. отбирают. И вот теперь мне предстоит из первоначального плана в 135 названий и 18,5 млн. печ. листов-оттисков выбросить книг на 7 млн. печ. листов-оттисков. Представляете себя задачку! А ведь это не только книги. Это люди. Это коллективы. Это самолюбия. Это интересы. Можно либо свихнуться, либо потерять чувствительность. Ведь каждого жалко, каждого понимаешь, но если каждого жалеть, то как найти выход.
<…>
Помимо того, сейчас идет большое число рукописей, которые нужно читать как для контроля, так и для того, чтобы не засохнуть в административно-полубюрократической суете, которая высасывает все соки, не давая ни удовлетворения, ни радости; надо позаботиться о новом перспективном плане на 1971–1975 гг. Хочется, чтобы этот план был составлен не по обычному шаблону, а как перечень основных задач на этот период и тем, которые помогают в решении этих задач. <…> Хочется сосредоточить усилия издательства на основных, решающих направлениях и проблемах, чтобы было меньше случайности в издании литературы нашего профиля. Возможно, я идеалист, и ничего не добьюсь, но не потому, что это практически невозможно (возможность безусловна), а потому, что это требует бешеной энергии, тысяч встреч, умения легко разговаривать, а вот этого-то у меня и не хватает, хоть тресни. Для меня всякий разговор – это преодоление какой-то мертвой точки. То, что другому дается без всяких усилий, у меня отнимает много сил. Вот беда. Это еще из детства. Конечно, в силу необходимости преодолеваю сопротивление характера, но трудно это дается. Честное слово! Вот уже три недели, если не больше, как записал телефон Алексея Николаевича Леонтьева, психолога, чтобы посоветоваться с ним относительно планов издания психологических трудов, связанных с нашими интересами. И что же? Не хватает решительности начать этот разговор. Позвоню, конечно. [Так и не позвонил.] Но ведь время идет, может быть, что-то важное уже упущено (18.11.68).
Некоторое представление о моей рабочей загрузке дает письмо к Риссу от конца ноября 1968 года:
На целую неделю задержался с письмом: куча причин – главным образом невероятный наплыв работы (рукописей, совещаний и прочих напастей). Приходил домой на последнем издыхании. Да к тому же три вечера из пяти были заняты: заседание бюро секции редакционно-издательских работников Союза журналистов до 10 вечера, после которого нужно было прочитать 5-листную рукопись беседы о книгах, чтобы пойти к 9 утра на обсуждение ее в Библиотеку им. Ленина – один вечер; партсобрание, посвященное ходу выполнения плана, – другой вечер; отчетно-выборное профсоюзное собрание, после которого мы еще успели побывать в театре – смотрели в филиале МХАТа «Жил-был каторжник» Ануя, – третий вечер. Наконец, вчера мучился из-за вспухшей десны (абсцесс, который вскрыли, но который настолько давал себя знать, что не мог вообще ничего делать, даже читать).
И все же, оглядываясь назад, могу без лишней скромности сказать, что я оказался более или менее удовлетворительным главным редактором. Не потому, что удержался на этой должности 18 лет, а потому, что
– немало сделал, чтобы направить выпуск книг издательством в соответствии со сформулированными мною основными его задачами;
– сумел организовать редакционно-издательский процесс подготовки изданий к производству и их выпуска, несмотря на все внешние и внутренние препятствия;
– внес немалый вклад в пропаганду и рекламу книг издательства (в основном печатную, а однажды даже телевизионную, которую сам, увы, не видел);
– разборами редакторских работ по правленым рукописям и сигнальным экземплярам на заседаниях в главной редакции способствовал повышению квалификации редакторов и улучшению качества книг;
– наладил нормальные отношения с коллективными авторами – центральными библиотеками (задача далеко не легкая и простая).
Некоторые авторы одобрительно отозвались в печати о моей деятельности главного редактора.
Когда в 2005 году меня удостоили звания Человека книги, один из них, профессор И.Г. Моргенштерн, прочитав об этом, написал:
…я вспоминаю, как в 1976 г., прислав в издательство «Книга», главным редактором которого был А.Э. Мильчин, предложение выпустить книгу типа «Занимательная библиография», мы с Б.Т. Уткиным получили от него письмо с вопросом, как вы себе представляете эту книгу? Написали и отправили несколько рассказов занимательного характера. В ответ – готовый договор. Далее – два издания (1978 и 1987 гг.) общим тиражом в 120 тысяч экз., 12 рецензий на них и множество ссылок.
Ранее в письме к моей дочери один из активных наших авторов В. Кунин также одобрительно отозвался обо мне как главном редакторе. К сожалению, это письмо затерялось в море моих бумаг. Я так прокомментировал этот отзыв в своей записной книжке:
Почему Кунин так высоко ценит меня? Вспоминая наше общение, могу сказать, что я приветствовал его как автора потому, что он этого заслуживал, был по-настоящему хорошим литератором.
В один из составленных им сборников он включил перевод человека, уехавшего в Израиль, что в то время приравнивалось если не к преступлению, то к предательству; публикация его перевода в моем случае считалась бы большим прегрешением. Поэтому указание в печати: Перевод такого-то было бы оценено как пособничество предателю и отступнику. Кунин ничего от меня не скрыл, и мы с некоторым риском опубликовали перевод под псевдонимом.
Во внутрииздательском планировании и организации редакционно-издательского процесса мне удалось проявить полезную изобретательность. При месячных графиках сдачи оригиналов в производственный отдел все редакции умудрялись сдавать рукописи в последних числах месяца, а то и в самый последний день. Из-за этого в корректорской создавались пробки и вычитка части оригиналов задерживалась. Нужно было построить процесс таким образом, чтобы на всех этапах редакционного процесса оригиналы не залеживались, а сразу поступали в обработку. Поэтому я решил заменить месячные графики сдачи оригиналов в производственный отдел декадными. Точнее, графики оставались месячными, но с подекадной разбивкой. При этом для каждого редактора месяц начинался и заканчивался в свою декаду (10-го, 20-го или 30-го числа). Это решение оказалось удачным.
Однако заведующие редакциями, пользуясь моей мягкостью, порой задерживали сдачу графиков. И мой заместитель Владимир Павлович Кочетов изобразил летучку в главной редакции в шуточной пьесе:
Летучка
Шутка в одном действии
Действующие лица:
Мильчин, главный редактор.
Иванова, заведующая редакцией по издательскому делу и книжной торговле.
Федорова, и. о. заведующего редакцией миниатюрных изданий.
Кошелева, заведующая редакцией литературы по библиотековедению и библиографии.
Лебедев, заведующий редакцией по искусству книги.
Синюков, заведующий редакцией факсимильных изданий.
Громова, заведующая редакцией литературы по книговедению и библиофильству.
Троянкер, главный художник.
Пиляева, заведующая отделом оформления.
Лещинская, заведующая редакцией рекомендательной библиографии.
Рубин, заведующий редакцией ведомственных и заказных изданий.
Соколова, старший редактор отдела рекламы.
Крючкова, заведующая производственным отделом.
Сергеева, старший редактор группы планирования.
Волкович, младший редактор главной редакции.
Мильчин. Все сдали месячный график?
Иванова (испуганно). А когда нужно было сдать?
Мильчин. Вчера.
Иванова. А можно через неделю?
Федорова. Я тоже через неделю – у нас в редакции некомплект!
Звонит телефон
Мильчин (снимает трубку). Рита, вас.
Волкович выходит в приемную
Кошелева. А мне непонятно…
Синюков уныло вздыхает, думает
Рубин, закрыв глаза, посапывает
Волкович возвращается
Лебедев (охорашивается)…
…..
…..
… (все цензурно)
Все подавленно молчат
Мильчин. У кого какие вопросы?
Синюков (в меланхолии). To be or not to be?
Громова (настырно). Когда будет готово оформление? Когда будет готово оформление? Когда будет готово оформление?
Троянкер. Не могу знать. Не могу знать. Не могу знать. Мне кажется, это как бы не входит в круг моих обязанностей.
Пиляева (поспешно). Я отвечу, я отвечу, я отвечу…
Звонит телефон
Мильчин (снимает трубку). Рита, вас.
Волкович выходит в приемную и больше не возвращается.
Кошелева. А мне непонятно, а мне непонятно, а мне непонятно…
Федорова. Некомплект!
Лебедев, Лебедев, Лебедев, Лебедев, Лебедев, Лебедев.
Лещинская. Коровицына, Коровицына, Коровицына [зав. отделом рекомендательной библиографии Б-ки СССР им. Ленина].
Соколова. Немцы, болгары, эфиопы, поляки, англичане, датчане, китайцы, французы, Объединенные Арабские Эмираты, Западная Сахара, Тринидад и Тобаго, Сейшельские острова…
Пиляева. Брошюру Рубина «Сливщику-разливщику» мы можем воспроизвести только на японской технике.
Рубин, вздрогнув и открыв глаза, озирается
Крючкова (неприступно). А мы не можем! Не можем! Не можем!! Не можем!!! Редакторов надо сечь, сечь, сечь!.. Художников – палкой, палкой, палкой!..
Мильчин (устало). Спасибо. Все свободны.
Сергеева (вдогонку). К тридцать второму числу месяца просьба сдать план по оргработе, по учебе, по воспитанию, по соцсоревнованию!
Мильчин. План! План! План! План!
Кочетов застенографировал
Мое участие в разработке издательских нормативных документов и в оценке их проектов
Мои знания техники и методики издательской работы были замечены в Комитете по печати (Госкомиздате СССР), и руководители разных комитетских управлений привлекали меня к разработке общеиздательских нормативных документов.
Так, когда первому по времени главному редактору Главной редакции общественно-политической литературы А.С. Махову поручили разработать инструкцию «Типового положения о подготовке рукописи к изданию», он включил меня в состав авторского коллектива. Мне достались разделы, касающиеся работы редактора и корректуры. А когда проект инструкции был подготовлен, его отпечатали небольшим тиражом и разослали в издательства с требованием прислать замечания в Комитет.
Писем с замечаниями прибыло много. И Махов поручил мне внести изменения и подготовить текст для утверждения на коллегии Комитета.
Работа эта была, можно сказать, титанической (более подробно о ней рассказано в главе «Мое авторство»). У многих издательств была своя специфика, которую нужно было учесть в инструкции. Короче говоря, в результате моих трудов печатный проект инструкции превратился в лоскутное одеяло с бесчисленными машинописными вставками или поправками в связи с обоснованными замечаниями и предложениями издательств. В конечном счете инструкция была утверждена, а мне вынесли благодарность в приказе Комитета «за активное участие в разработке “Типового положения о подготовке рукописи к изданию”».
Вторым документом, в подготовке которого мне пришлось принять участие по просьбе начальника планово-экономического управления Комитета, был Прейскурант № 116 номиналов на книги. От Комитета этой работой занималась Великанова, которая перешла туда из издательства «Искусство», где была экономистом в планово-экономическом отделе. Так что мы хорошо знали друг друга. Конечно, я уже не помню детали моего вклада в подготовку этого важнейшего для издательского дела документа, который определял розничные цены книг. Помню только, что по моим замечаниям в его проект внесли немало поправок классификационного характера. Кроме того, я избавил текст проекта от стилистических недочетов. Делал это все я в нерабочее время, и начальник управления настоял, чтобы я был вознагражден деньгами. Мне пришлось подписать соглашение с одной из типографий (кажется, это была типография «Искра революции») за какую-то работу, так как в Комитете на оплату денег не было. Для меня это было неприятно. Успокоил свою совесть тем, что я действительно много сделал и деньги мне достались не задаром.
Возможно, меня пригласили после того, как ознакомились с написанными мною замечаниями и предложениями по проекту от издательства «Книга».
Замечания были существенными:
1. Устанавливать номинал необходимо на учетно-издательский лист, а не на печатный. При установлении номинала на печатный лист будут одинаково расцениваться разные затраты труда (при более высокой емкости печатного листа затрат труда издательских работников будет больше, при меньшей – меньше, а цена одна). Вдобавок такое ценообразование не будет способствовать экономии бумаги, к чему нас постоянно призывают (зачем издательству вкладывать больше материала в печатный лист, если это не будет учитываться в цене?).
2. В «Методических указаниях к прейскуранту» указано, что к научно-популярной литературе относятся «произведения художественно-документальной и художественно-публицистической литературы (художественные очерки и дневники, документальные романы, повести и рассказы)». Это разъяснение противоречит делению литературы на виды, но, самое главное, не учитывает различия в оплате авторского труда: художественно-документальный роман с точки зрения постановления об авторском вознаграждении должен быть оплачен только как художественная проза со всеми вытекающими отсюда последствиями (более высокие ставки гонорара, выплата потиражных), т. е. затрат у издательства значительно больше, чем при издании научно-популярной литературы, а цена та же. Издательство предлагает относить всю художественную литературу к разделу «Художественная литература».
И так далее 6 страниц замечаний и предложений, которые сохранились в моем архиве и уже потеряли всякую ценность, и если имеют какое-то значение, то только для истории отечественного издательского дела.
Разные научные организации, разрабатывающие стандарты, положения, инструкции, прежде чем представить их на утверждение в вышестоящие организации, рассылали их в издательства с просьбой прислать замечания, пожелания, предложения. Большинство издательств либо вовсе не отвечало на такие просьбы, либо отделывалось формальными отписками. В лучшем случае главный редактор предлагал какой-либо из служб издательства подготовить ответ по существу. Мог бы так поступать и я, но этому препятствовало то обстоятельство, что я был не только главным редактором, но и специалистом по книгоиздательскому делу, автором работ на эти темы. Поэтому, как ни трудно мне было выкроить время, я всегда сам подготавливал и слал детальные конкретные замечания.
Так, в самом начале июня 1968 года (письмо не датировано) я посвятил Рисса в «достоинства» одного такого проекта документа:
Кажется, писал Вам уже, что присылали нам на отзыв проект нового стандарта корректурных знаков. Нового в нем очень мало. На обсуждение он выносится довольно странно. Знаки уже приняты СЭВом и замечания предлагают делать только по примерам применения корректурных знаков. А так как Всесоюзная книжная палата поручила эти примеры подготовить какому-то отставному полковнику, который, по-видимому, не смыслит в корректуре ни уха, ни рыла, то можете себе представить, что там творилось. Пришлось написать несколько страниц замечаний. Их не меньше по количеству знаков, чем в самих примерах. Когда писал, порывался несколько раз бросить. Ну что это в самом деле! Ведь масса своих дел, которые не успеваешь переделать. А тут еще из-за какого-то малограмотного дяди сиди, критикуй, чтобы потом он пожинал плоды этой критики. Единственное, что удержало и заставило довести до конца, это опасение, что стандарт могут утвердить в таком непотребном виде.
И действительно, письмо с замечаниями по этому стандарту заняло 5 страниц через полтора интервала. Стандарт был безграмотным по смыслу формулировок, показывавших, что писавший не знает того, о чем пишет. Всего два-три примера для иллюстрации.
Так, первое из основных правил в проекте стандарта устанавливало, что большинство корректурных знаков повторяется на поле, за исключением тех, которые повторять не следует. А какие не следует, оставалось догадываться.
В правиле применения одного из знаков было написано, что знак в поле повторяется. А в примере рядом, что «знак в поле повторять не следует». Многие примеры применения корректурных знаков были оформлены с нарушением правил. Доморощенная терминология могла только запутать читателя: «Сократить линейку» вместо «Укоротить линейку», «Заменить выделяющимися знаками» вместо «разными знаками» или «различающимися знаками».
Сменивший А.С. Махова на посту главного редактора Главной редакции общественно-политической литературы В.С. Молдаван использовал мои знания для того, чтобы я готовил ответы Главной редакции с замечаниями по проектам разных нормативных документов, которые присылали ВКП и другие организации. Я разбирал и оценивал эти документы от имени Главной редакции и пересылал свои разборы Молдавану. Было их немало. Но эти разборы и замечания служили и для ответа от имени издательства «Книга». В моем домашнем архиве сохранилась довольно пухлая папка копий таких отзывов издательства. По ним можно судить о качестве работы организаций-разработчиков и, конечно, о моих знаниях и критическом мышлении.
Как Госкомиздат руководил издательским делом
Достоинства централизованного управления книгоизданием перечеркивались его грубыми издержками. Когда в Госкомиздате или в секторе издательств Отдела пропаганды ЦК КПСС появлялся новый начальник или инструктор, он немедленно навязывал всем свою точку зрения на работу издательств, причем часто делал это исключительно ради того, чтобы его не могли упрекнуть в бездействии. А принимая даже, в общем, необходимое решение, придавал ему такую жесткую форму, что всякое разумное и целесообразное отступление от нового правила расценивалось почти как преступление, и чтобы не провиниться, издательства совершали порой глупейшие действия.
Один пример – не из моей практики, но вполне характерный для партийного стиля руководства. М.М. Пришвин 22 февраля 1944 года записал в своем дневнике:
Оказалось, что для экономии бумаги в ЦК решили убрать все предисловия. Так и у меня из юбилейного сборника убрали, и читатель не будет знать, почему же именно и для чего сделана вермишель из моих сочинений.
А вот пример уже из жизни нашего издательства.
Когда Госкомиздат СССР принялся бороться за экономное расходование бумаги, ему сразу изменило чувство меры в оценке использования бумаги издательствами.
И вот издательство «Книга» подверглось жесткой критике руководства Госкомиздата СССР за множество пустых страниц в переводной книге Рудера «Типографика. Руководство по оформлению» (М., 1982), хотя если бы мы не сохранили оформление оригинального издания, оно потеряло бы всякий смысл. Ведь автор показывал, как именно, на его взгляд, нужно решать ту или иную оформительскую задачу. Да и тираж книги был для того времени небольшим – 10 тыс. экз. Но какой удобный пример для того, чтобы высечь издательство и продемонстрировать, что Госкомиздат всерьез взялся за экономию бумаги ради того, чтобы удовлетворить спрос на издания художественной литературы.
Для того чтобы осуществлять идеологический контроль за деятельностью издательств, главные редакции Госкомиздата рецензировали рукописи готовящихся к изданию книг и вышедшие книги. Выбор определялся заглавием, которое вызывало подозрения у сотрудников главной редакции, иногда по идиотическим причинам, как это было с книгой О.В. Рисса «От замысла к книге. О технике литературного труда». Подробно об этом рассказано в моем «Жизнеописании… О.В. Рисса». Здесь я коснусь только основного мотива, вызвавшего тревогу: «А вдруг на эту книгу будут опираться графоманы?» Видимо, жалобы графоманов на издательства так осточертели госкомиздатовским сотрудникам, что они, обжегшись на молоке, стали дуть на воду. Подозрения вызывали любые книги для авторов как якобы плодящие графоманов, хотя на самом деле графоманов плодила выпускаемая издательствами серая литература. Внешне все в таких книгах было как надо: и тема актуальная, и герои – передовики. Вот и пример для графоманов: «Так и я могу». Мы же, издавая книги для авторов, преследовали главным образом благую цель – помочь им представлять в издательства рукописи (в том числе и договорные) в надлежаще оформленном виде, соответствующем всем издательским требованиям. Благодаря этому могли быть сокращены сроки выпуска запланированных книг, поскольку редакторам и авторам не пришлось бы тратить время на приведение рукописи в соответствие с издательскими требованиями. Не случайно ведь чуть ли не каждое издательство старалось выпустить инструкцию для авторов о подготовке рукописи к изданию, которую можно было приложить к договору как одно из особых его условий. Издательства стремились экономить свое и авторское время. Правда, в этом была и отрицательная сторона – опора на сложившиеся в каждом издательстве правила и традиции, далеко не всегда обоснованные и ведущие к разнобою в книгах разных издательств. И мы видели свою задачу в том, чтобы убедительно обосновать издательские требования к авторам и привести их к единообразию. А остановить графоманов запрет на литературу для авторов все равно бы не помог.
ЦК КПСС последовательно принимал решения о повышении требовательности к идейному содержанию книг, а Госкомиздат в соответствии с ними предъявлял свои требования к издательствам.
Так, издательство «Книга» подверглось в 1972 году жесткой идеологической критике председателя Госкомиздата СССР Б.И. Стукалина в его отчетном докладе на партийно-хозяйственном активе отрасли по итогам 1971 года и в решении актива за несколько, казалось бы, безобидных абзацев в книге В.Н. Ляхова «Очерки теории искусства книги» (М.: Книга, 1971).
Разбирая в главе «Литература. Иллюстрация. Книга» сложную проблему воспроизведения словесных тропов писателя иллюстратором, В.Н. Ляхов в параграфе «Выразительность слова. Тропы» писал, в частности:
Современный читатель все более углубляется в подтекст, ищет скрытые моменты литературного повествования. И интерес к художественной форме во многом исходит именно отсюда.
Без этого невозможно, например, войти в удивительный, трогательный и величественный роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». В его сложнейшей художественной структуре легко обнаруживаются два смысловых и, соответственно этому, два пластических плана: бытовой (реальный) и фантастический. Прихотливо переплетая их, писатель, однако, повсюду остается верен с самого начала принятому колористическому принципу. «Земной» мир выдержан им в сером, как бы тоновом регистре, в системе точных пространственно-предметных отношений, которые не утрачиваются даже в самых острых гротесковых описаниях. А рядом, в мире, не подчиняющемся законам земной причинно-следственной зависимости, – сверкание цвета: то мрачно-таинственного, врубелевского, то идиллически мягкого, то беспощадно резкого, но всегда звучного и значимого, дающего музыкальный тон всему действию. Вспомним, как сильно звучит переход от первой главы книги ко второй, когда в глаза прямо-таки ударяет поток света, цвета… «В белом плаще с кровавым подбоем…» Целый каскад красочных пятен будит в нас чувства, совсем не похожие на те, что возникали на первых страницах книги, где гомонила задыхающаяся от жары вечерняя Москва, где звучали слова о пиве, МАССОЛИТе, о подсолнечном масле и антирелигиозной пропаганде…
«Мастер и Маргарита» – одна из книг, которая заставляет всерьез задуматься над природой художественного издания писателя и возможных путях отражения его своеобразия в искусстве иллюстрации (с. 235).
Почему же этот текст был признан руководителем Госкомиздата СССР идейно-порочным? Он сам ответил на это в своем докладе: потому, что Михаил Булгаков был антисоветски настроенным писателем, а значит, всякая похвала его произведений (а в тексте Ляхова она звучала вполне отчетливо) не отвечает интересам партии и должна быть осуждена, а действия издательства, которое похвалу пропустило, могут быть объяснены только его идейной нетребовательностью.
И этой позиции Стукалин держался твердо. Когда Андрей Дмитриевич Гончаров, заведовавший кафедрой в Московском полиграфическом институте и тесно связанный с Госкомиздатом в качестве одного из самых авторитетных членов жюри конкурса искусства книги (он, кажется, даже был его председателем), вместе с В.Н. Ляховым, тоже членом того же жюри, пошли к нему и попытались отговорить от нападок на издательство и книгу (поскольку решение актива готовится загодя, об этих нападках стало известно заранее), они потерпели неудачу. Идейная неполноценность работников «Книги» была заклеймена. Думаю, что позднее Б.И. Стукалину было не очень приятно вспоминать этот эпизод преследования Булгакова, признанного, по одному из опросов, лучшим русским писателем нашего столетия.
Еще один частный эпизод, демонстрирующий стиль госкомиздатовского руководства.
И.И. Чхиквишвили, бывший завсектором издательств Отдела пропаганды ЦК КПСС, стал первым заместителем председателя Госкомиздата СССР. Мне пришлось с ним общаться всего один раз и только по телефону. Осадок от этого общения остался неприятный.
С.В. Михалков очень хотел, чтобы мы выпустили сборник его басен в виде миниатюрной книги. Басни сами по себе очень подходили для такого издания. Но мы не могли сразу удовлетворить желание Михалкова, так как выпускали издания художественной литературы только в связи с юбилейными датами; ведь художественная литература не входила в профиль нашего издательства. Сегодня все это выглядит глупо, но тогда это была реалия издательской жизни.
Не получая согласия, С.В. Михалков пожаловался Чхиквишвили. Тот снял трубку и позвонил мне (вероятно, директора не было на месте, иначе он не снизошел бы до уровня главного редактора такого издательства, как «Книга»). Он представился и спросил, почему мы не принимаем заявку Михалкова. Я попытался объяснить так, как это написано выше, но он не стал слушать мой лепет, перебил меня и сказал, чтобы мы приняли к изданию сборник, а затем с явной угрозой в голосе прибавил, что он не привык повторять свои распоряжения.
Вот такое общение. Грубый, не терпящий возражений тон был весьма неприятен, но таков был стиль партийных боссов и после перехода на государственную службу.
Новый этап в жизни «Книги»
Этот этап, этап безусловного расцвета и больших успехов, связан с приходом на место ушедшего на пенсию Телепина нового директора, Владимира Федоровича Кравченко.
Владимир Федорович Кравченко
В самом начале 1977 года заместитель председателя Госкомиздата СССР В. Сластененко представил издательству «Книга» нового директора – Владимира Федоровича Кравченко. Почему это представление было поручено именно Сластененко, который курировал в Комитете книжную торговлю, могу только догадываться (возможно потому, что он хорошо знал брата В.Ф. Кравченко, работника Госплана СССР, и был знаком с самим Владимиром Федоровичем).
Я не сразу, но все же понял, что лицо Владимира Федоровича мне знакомо и что я его уже видел. Мы познакомились с ним года за два до его прихода в «Книгу» в Кишиневе, куда я ездил для чтения лекции на республиканском семинаре (или конференции) по повышению квалификации молдавских работников отрасли. Он даже встречал меня у подножки вагона, был суетлив и подчеркнуто любезен. Тогда, конечно, ни он, ни я не подозревали, что нам придется встретиться совсем в других ролях: он станет моим начальником, а я – его подчиненным.
В Кишинев он, выпускник редакционно-издательского отделения факультета журналистики МГУ, поехал по собственному желанию, хотя ему, по его словам, предлагали место в редакции журнала «Вопросы литературы», где он проходил преддипломную практику. Но Кравченко выбрал Кишинев по семейным обстоятельствам (кажется, в Молдавии обосновались его родители). В Кишиневе он поначалу стал редактором в редакции художественной литературы главного издательства республики «Картя молдовеняскэ» (возможно, как все такие выпускники, освоив предварительно первую редакционную ступеньку – работу младшего редактора). Человек деятельный, энергичный, творческий (креативный, как сказали бы теперь), он через несколько лет стал заведующим редакцией художественной литературы. Затем он приглянулся Академии наук Молдавии и был назначен директором республиканского академического издательства «Штиинца». Но по истечении некоторого времени вошел в конфликт с главным редактором издательства, молдаванкой. Это немудрено при его вспыльчивом, не терпящим возражений характере. В первые годы его работы в «Книге» он не раз жаловался мне на молдавский национализм – видимо, памятуя о том, что в конфликте с главным редактором поддержали не его, а ее. В конечном итоге его назначили директором рекламно-информационного издательства «Тимпул» (Время). В этой должности он и пребывал в тот мой приезд в Кишинев.
Помню, что он принимал участие в дружественном не то обеде, не то ужине, устроенном сотрудниками издательства «Картя молдовеняскэ» для гостей конференции – меня и еще одного приезжего лектора, работника, кажется, Одесского издательства, – с домашними угощениями молдавских редакторов (очень вкусными), лекцией профессора-виноградаря о винах Молдавии (блистательной) и с их дегустацией.
В общем, знакомство наше с Владимиром Федоровичем было шапочным. Смутно припоминаю, что он говорил что-то о местной провинциальности.
Все же вполне понятный страх (кого еще пришлют нами командовать?) несколько уменьшился, когда я понял, что знаю этого человека.
Он, как чуть позднее это стало мне от него самого известно, недовольный работой в Молдавии, добился (вероятно, не без помощи знакомств) перевода в Москву, где был зачислен в резерв номенклатуры Госкомиздата СССР, а в ожидании, пока для него найдется подходящее место, его назначили главным редактором газеты «Архитектура» (приложения к «Строительной газете»).
О том, каким директором «Книги» был Владимир Федорович Кравченко и каковы его заслуги в том, что издательство стало в 1980-х годах одним из самых прославленных, а выпускаемые им книги – бестселлерами, я написал в некрологе о нем, который хочу привести в начале этой части моих «Записок», чтобы потом сосредоточиться на наших взаимоотношениях в течение всего времени сотрудничества (1977–1985) и на его человеческих качествах. Мне трудно сочетать одно и другое в едином повествовании.
Итак, вот что я написал в некрологе, опубликованном в сборнике «Книга: Исследования и материалы» (2002. Сб. 80):
Имя скончавшегося 8 января 2002 г. Владимира Федоровича Кравченко неразрывно связано с издательством «Книга», издательством, сыгравшим заметную роль в развитии отечественного книжного дела, пока еще мало освещенную в отечественной печати.
Владимир Федорович возглавил издательство «Книга» в самом начале 1977 г. и руководил им более десяти лет. В его трудовой биографии деятельность в издательстве «Книга» – несомненно, высшее достижение, хотя после «Книги» он занимал более высокие посты, был начальником управления Госкомиздата СССР, ректором Всесоюзного института повышения квалификации работников печати.
Родился В.Ф. Кравченко в июле 1935 г. в Воронежской области. Высшее образование получил на редакционно-издательском отделении факультета журналистики МГУ. Окончив его, поехал работать в Кишинев, где прошел путь от рядового редактора до директора издательства. Так что в «Книгу» он пришел уже опытным работником, со сложившимися взглядами на редакционно-издательскую деятельность, с четкими представлениями не только об ее цели применительно к издательству «Книга», но и о средствах достижения этой цели.
Главная задача, которую он поставил перед собой, – превратить «Книгу» из узко отраслевого издательства, главным образом обслуживающего ведомственные потребности книгоиздания и библиотечно-библиографического дела, в издательство для широких кругов читателей, в издательство, чьи книги стали бы образцом книжной культуры.
Быстро разобравшись в состоянии дел «Книги», он начал реформировать издательство, наметив несколько неотложных целей:
– поставить на все ключевые посты в издательстве специалистов самого высокого класса;
– придать системность издательскому репертуару, непременно включив в него книги, которые бы по содержанию и оформлению заставили бы говорить о них всю страну;
– создать новые редакции для развития перспективных направлений;
– объединить разбросанные по Москве службы издательства в одном помещении.
И Владимир Федорович стал действовать, проявляя недюжинную хватку, энергию и волю.
В издательстве не было должности главного художника. Владимир Федорович добился включения ее в штатное расписание, пожертвовав второстепенной административной единицей.
Он хотел видеть на этой должности такого художника, который способен совершить прорыв в оформлении книг, создать для книг издательства свой фирменный стиль. Как ни тщательно отбирал В.Ф. Кравченко кандидатов, нужные нашлись не сразу. Ни для первого занимавшего этот пост художника, ни для второго такая задача оказалась не по силам. И Владимир Федорович решительно отказался от их услуг, не теряя надежды на успех. Его жизненное кредо: всего можно добиться, если очень захотеть и не сидеть сложа руки. Наконец он остановил свой выбор на известном книжном дизайнере Аркадии Троянкере и, несмотря на сопротивление Госкомиздата, добился его утверждения, что было не просто. Выбор оказался на редкость удачным. Троянкер вместе с художником Борисом Трофимовым разработал оригинальный фирменный стиль издательства. В издательство пришли замечательные художники, создавшие шедевры книжного оформления: М. Аникст, С. Бархин, Г. Берштейн, Ю. Ващенко, А. Костин, И. Макаревич, Л. Орлова, Ю. Перевезенцев, А. Райхштейн, Г. Спирин, Л. Тишков, В. Черниевский, В. Янкилевский и др. Благодаря им книги издательства привлекли к себе внимание не только отечественной, но и мировой художественной общественности. Не случайно и в сегодняшних газетах нет-нет, да и помянут «Книгу» добрым словом. «…Это было чрезвычайно интересное явление, издательство “Книга”», – вспоминал в «Экслибрисе НГ» художник Леонид Тишков. О высоком престиже «Книги» вспомнили также «Известия» в приложении, посвященном современному российскому книгоиздательству.
Понимая, как важно для «Книги» и новых целей высокое полиграфическое качество изданий, Владимир Федорович так же требовательно отнесся к подбору своего заместителя по производству, остановив выбор после одной неудачи на Киме Львовиче Шехтмейстере, бывшем тогда заместителем главного редактора журнала «Полиграфия». Такое решение не было неожиданным, и тут нельзя не отдать должное проницательности директора «Книги», его умению разглядеть в людях скрытые возможности. Потому что Ким Львович сумел наладить хорошие отношения с руководителями многих типографий и создать издательству благоприятные условия для сотрудничества с ними.
Смелым было решение Владимира Федоровича назначить заведующей редакцией литературы по книговедению и библиофильству журналистку Тамару Владимировну Громову, раньше никогда не работавшую в книжном издательстве. Благодаря ее энергии и организаторской хватке с «Книгой» начали сотрудничать многие первоклассные авторы, вышли книги, прославившие издательство.
К концу первого года своего пребывания в издательстве Владимир Федорович добился включения в повестку коллегии Госкомиздата СССР вопроса о работе «Книги», что помогло структурной перестройке издательства. Он не побоялся того, что коллегия выдвинет перед издательством сложные задачи, за выполнение которых придется отвечать. Зато комитет записал в свое решение ряд пунктов, позволивших изменить структуру издательства и улучшить его материальное положение.
Были созданы новые редакции: литературы по книговедению и библиофильству, по искусству книги, миниатюрных и факсимильных изданий. Все это переводило издательство в иной, высший разряд.
Талантливый администратор, умело приспособившийся к особенностям советской системы управления, Владимир Федорович не был чужд, что очень важно, и творческих устремлений. Он был человек живой, загорающийся, изобретательный. Именно ему издательство и читатели обязаны созданием серии «Писатели о писателях», название которой тоже было предложено им. Госкомиздат СССР ради изменения структуры выпуска в пользу художественных и детских книг стал поручать издательствам научно-технической и общественно-политической литературы выпускать переиздания таких книг, пользующихся большим спросом. Владимир Федорович убедил руководство комитета поручить «Книге» в рамках этого комитетского задания издавать серию художественных биографий писателей. Несколько такого рода книг вне серии издательство уже выпустило ранее. Предложение было очень удачным. Серия позволила резко увеличить листаж выпуска и, кроме того, расширила известность «Книги» среди широкого круга читателей. Поначалу в нее входили только переиздания книг, но потом серия постепенно стала наполняться оригинальными произведениями – подлинным вкладом в литературу. Достаточно назвать «Сотворение Карамзина» Ю. Лотмана, «Жизнеописание Михаила Булгакова» М. Чудаковой, «Скрещение судеб» М. Белкиной, «Жизнь Ивана Крылова» М. Гордина.
Особенное значение придавал Владимир Федорович выпуску миниатюрных и факсимильных изданий. По его почину была разработана концепция их выпуска. Много усилий приложил он, чтобы изданию этих книг придать большой размах. Он не скупился на гонорары для художников, чтобы привлечь лучших из них в издательство. Многие из миниатюрных книг – настоящие шедевры книжного искусства.
Серию миниатюрных изданий «Книга и время» самым естественным образом дополнили малоформатные издания такого же типа, и «Книга», поощряемая своим директором, в нарушение профиля стала выпускать и художественную литературу. Девиз издательства «Всё о книге, всё для книги» давал для этого основания. К миниатюрным и факсимильным изданиям добавились сборники художественных произведений разных стран о книге, чтении, книжниках – «Корабли мысли», «Очарованные книгой», «Вечные спутники» и др.
Малоформатные художественные издания «Книги» стали предметом чаяний библиофилов. Любоваться ими можно бесконечно. При этом Владимир Федорович считал необходимым и миниатюрные, и малоформатные издания выпускать с развитым аппаратом (вступительной статьей, примечаниями, биографией художника и т. д.), привлекая для этого лучших специалистов. Так что книги эти были образцом и высокой издательской культуры.
Впервые за многие годы отечественного книгоиздания «Книга» порадовала читателей отлично выполненными факсимильными изданиями рукописных книг, шедевров отечественного книжного искусства, книговедческой классики.
Новый импульс получили издания по книговедению, издательскому делу, полиграфии, по библиотечно-библиографическим проблемам. Обогатились новыми выпусками серии «Деятели книги», «Труды деятелей книги».
Работа издательства была замечена. Появились отклики в центральной печати – «Правде», «Известиях».
Особенно много сил положил Владимир Федорович на то, чтобы получить для издательства достойное помещение. Он использовал свои связи с архитектурно-строительными организациями Москвы, поскольку непосредственно перед приходом в «Книгу» около года работал главным редактором «Архитектуры» – приложения к «Строительной газете». Но сделанные ему предложения по разным причинам не подходили. Помог случай. Вызванный совсем по другому поводу в ЦК КПСС к В.В. Воронцову, помощнику М.А. Суслова, В.Ф. Кравченко так красочно описал беды издательства, что заручился его поддержкой, и после благоприятной резолюции М.А. Суслова развернул бешеную деятельность, итогом которой было выделение здания на Тверской, 50. Дому потребовалась реконструкция и капитальный ремонт. На один проект полагалось не меньше двух лет. Но Владимир Федорович сумел так очаровать главного архитектора, что проект был завершен за год. В дальнейшем строительство дома в его заботах вышло на первое место. И результаты превзошли все ожидания. Издательство могло гордиться своим зданием, с конференц-залом, с музеем миниатюрной книги, с прекрасной справочной библиотекой.
Работать под началом Владимира Федоровича было нелегко, но очень интересно. Он был неутомим в поисках путей развития издательства, любил ставить перед подчиненными сложные, порой, казалось, невыполнимые задачи. Его любимым словом был глагол «озадачить», но не в смысле удивить, а именно поставить задачу. Руководителем он был требовательным, и жестко проверял, как исполняются обязанности и планы.
В.Ф. Кравченко сумел создать условия, при которых «Книга» смогла стать издательством уникальным, вписавшим в историю отечественного книгоиздания новые оригинальные страницы. Бывшие сотрудники издательства уверены, что, не перейди он на работу в комитет, «Книга» бы и сегодня радовала читателей замечательными изданиями.
Не отказываясь ни от единого хвалебного слова Владимиру Федоровичу, я должен честно сказать, что громаднейшие его достоинства сочетались с очень серьезными нравственными изъянами: в некрологе говорить о них было неуместно, но и умолчать о них было бы неправильно.
В первый год директорства Владимир Федорович подчеркнуто демократично налаживал добрые доверительные отношения со мной и с другими сотрудниками, в частности производственного отдела. Ходил вместе с нами (чаще всего это были, кроме меня, технолог Валентина Григорьевна Белозерова, ставшая позднее заместителем заведующего производственным отделом, и плановик-экономист Тамара Мондрус, кто-то еще) обедать в соседний ресторан Дома композиторов. Разговоры за столом не об издательских делах помогали директору сблизиться с сотрудниками, лучше узнать их. Видимо, он хотел создать о себе доброе впечатление и в то же время прощупать, каковы мы как специалисты и что думаем об издательстве и его работе.
Поначалу Кравченко был сама любезность. Две его фразы из этого времени запомнились особенно хорошо.
Одна выражала, какими ему хочется видеть наши взаимоотношения:
– Надеюсь, будем дружить домами.
Вторая говорила о том, как он мыслит наше взаимодействие в издательстве:
– Вы возьмете на себя научную сторону дела, я – административно-хозяйственную.
Домами мы не дружили, может быть, больше потому, что у меня не было к этому никакой склонности и я никак не поддержал эту идею.
Что касается взаимодействия в руководстве издательством, то, в общем, такое разделение обязанностей долгое время выдерживалось. И это неудивительно: тогда он еще сознавал, что в книговедении и сложной многообразной продукции издательства разбирается плоховато. Ведь это факт, что он тогда не знал, кто такой Алексей Алексеевич Сидоров и что значит слово «инкунабула». Это не значит, что Владимир Федорович не высказывал своих мнений по поводу планов, но в содержательную оценку запланированных к выпуску книг он не вмешивался, целиком полагаясь на меня и редакторов.
Все же такая скромность директора в оценке собственной роли меня немного удивила, но, подумал я, раз ему хочется так разделить труд директора и главного редактора, что ж, определенная логика в этом есть. Впрочем, я уже тогда понимал малую осуществимость этого предложения, что и подтвердилось в дальнейшем, и понятно, что не могло быть иначе при замыслах Кравченко и при тех задачах, которые поставил перед ним председатель Госкомиздата Б.И. Стукалин. Сразу стало понятно, что новый директор ставит перед собой цель прославить издательство, сделать его непохожим на другие, заставить говорить всех о нем и о его книгах. Действительное же положение издательства было таково, что человек, не обладающий таким безграничным тщеславием, такой бешеной энергией и непреклонной волей, быстро опустил бы руки. Но нашего директора интеллигентские сомнения не мучали. Он нацелился на то, чтобы сделать издательство (а значит, и себя) знаменитым, и двинулся по этому пути решительно и напролом.
Его не могло устраивать, что профиль издательства ограничивал возможности выпуска книг для широкого читателя, в частности изданий художественной литературы.
Он считал, что выпуск книг того или иного направления можно развить, только создав соответствующую редакцию, все усилия которой будут направлены на расширение выпуска литературы этого направления.
И прежде всего это относилось к библиофильско-книголюбской литературе, которую до «Книги» выпускало Издательство Всесоюзной книжной палаты и редакция «Искусства» (книги Смирнова-Сокольского, Вл. Лидина). А тогда как раз набирало силу Общество книголюбов, и поэтому Кравченко сразу уловил перспективность выпуска книг этого рода. А раз так, то в намеченной им структурной перестройке издательства было предусмотрено создание редакции литературы по книговедению и библиофильству. Это создавало предпосылки для того, чтобы издательство из узкоспециального превратилось в такое, которое по известности не будет уступать «Художественной литературе».
Владимиру Федоровичу нужны были в репертуаре издательства книги-сувениры, книги-подарки, которые могли бы прославить «Книгу» и в то же время служить своеобразным обменным товаром: с их помощью директору было сподручно решать хозяйственные проблемы.
В планах и производстве «Книги» находилось несколько миниатюрных изданий. Издание «Миниатюрные книги: вчера, сегодня, завтра» Е.Л. Немировского и О.М. Виноградовой (директора московской типографии № 5, которая практиковала производство миниатюрных книг) вышло в 1977 году. До этого, в 1975 году, было выпущено двухтомное миниатюрное библиографическое издание «Миниатюрные книги СССР», составленное председателем Московского клуба собирателей миниатюрных книг П.Д. Почтовиком и библиографом ГБЛ С.И. Захаровой (общая редакция и вступ. ст. О.С. Чубарьяна). Готовилась к сдаче в производство «Похвала книге: Мысли и высказывания» – сборничек, составленный прежним директором Телепиным, который долгое время отбирал афоризмы, казавшиеся ему наиболее яркими и значительными.
Вероятно, направляя Кравченко в «Книгу», Стукалин объяснил ему, каким видится это издательство Комитету. Впрочем, он говорил об этом и на коллегии Госкомиздата после отчета Телепина о работе «Книги». Стукалину представлялось, что издательство должно выпускать экспериментальные книги; подразумевал он под этим, видимо, книги новых конструкций, оригинально смакетированные, отпечатанные новыми способами печати. Отдавая должное отдельным превосходным изданиям, выпущенным «Книгой» и замеченным мировой издательской общественностью (вероятно, он имел в виду книгу В.Р. Аронова «Эльзевиры» в серии «История книжного искусства»), он, однако, считал, что такие книги не были результатом системной работы, появились в известной степени случайно.
Естественно, что миниатюрные книги привлекли внимание Кравченко. Конечно, составить программу их выпуска и даже сформулировать задачи пришлось мне. Кравченко ведь принадлежали лишь самые общие установки. Конкретизировать их предстояло редакционному коллективу и мне как его руководителю, и я это охотно делал, поскольку понимал перспективность и целесообразность намеченной перестройки (см. ниже главку о миниатюрных и факсимильных изданиях). Было бы ошибочно думать, что своему расцвету «Книга» обязана исключительно и целиком только В.Ф. Кравченко. Успех издательства – плод усилий многих, хотя отправную точку сумел найти именно он. Однако при всей его хватке, энергии и воле ему бы не удалось содержательно свершить то, что он задумал, если бы в издательстве не было, во-первых, меня, владевшего необходимыми для этого книжными знаниями и опытом выпуска книговедческой и библиофильской литературы, во-вторых, таких талантливых людей, как главный художник А.Т. Троянкер, заведующая редакцией литературы по книговедению и библиофильству Т.В. Громова и ряд других редакционных работников. Троянкеру и Громовой я посвятил отдельные главки (см. ниже).
Еще немного о разделении труда. Кравченко в разработку перспективных планов не вмешивался, лишь высказывал некоторые требования. Так, он просил начать выпуск серии книг для редакторов, которые мы совместными усилиями назвали «От рукописи – к книге», что могло меня только порадовать.
А вот с другой его редакционной идеей я не был согласен, хотя и не возражал ему. Желая видеть издания «Книги» не какими-то жалкими брошюрами в бумажной обложке, а непременно книгами в переплете, он потребовал преобразовать серию «Судьбы книг» так, чтобы каждый ее выпуск издавался в привлекательно оформленном переплете. Это было бы неплохо, но требовало объема 10–12 печатных листов, а не у каждой книги с интересной судьбой мог быть такой объем. Кравченко парировал это возражение советом: «Готовьте сборники, повествующие о судьбах нескольких книг». Вполне разумное предложение, хотя оно и очень осложняло редакционно-подготовительную работу. Ведь объединять в один серийный выпуск рассказы о судьбах нескольких книг можно только тогда, когда между этими книгами есть нечто общее. Кравченко же полагал, что можно соединять в одну книгу ничем не связанные рассказы. Мои возражения против такого симбиоза были основаны, в частности, и на том, что на переплете таких книг вместо единого заглавия оказалось бы сочетание нескольких разных заглавий тех произведений, которые в нем опубликованы, а это неизбежно осложнило бы их распространение. И мы впоследствии выпускали сборники, если составляющие их произведения были объединены чем-то общим («Рожденные Октябрем», «Слова, пришедшие из боя», «Книги, открывающие мир»).
Короче говоря, наши взгляды порой расходились, но если в первые год-два Кравченко воспринимал это спокойно, то с течением времени его отношения и со мной, и с другими сотрудниками издательства стали иными. Он уже не ходил вместе с нами обедать в ресторан Дома композиторов или позднее в столовую Моссовета. Он уже смотрел на выпускающих или техредов несколько свысока. Сознавая, что своими успехами «Книга» в очень большой степени обязана именно ему, он почувствовал свою силу и уже не нуждался в налаживании полудомашних отношений с подчиненными и не стремился выглядеть добрым дядюшкой. Не сразу, но в конечном счете он стал чувствовать себя большим советским начальником: добился для себя персональной черной «Волги», получил трехкомнатную квартиру на Плющихе в элитном доме. Позднее, в 1985 году, защитил диссертацию «Актуальные проблемы современного книгоиздания (Опыт системного исследования)», в которой подвел итоги успехам «Книги», и стал кандидатом филологических наук (реферат диссертации он подарил мне с надписью Аркадию Эммануиловичу от всего сердца). Он написал вступительную статью к сборнику произведений И. Друцэ, выпущенному «Молодой гвардией».
Чем больших успехов достигало издательство, тем заметнее менялся облик его директора. Из простого, доступного, улыбчивого рубахи-парня, любезного и внимательного к каждому, он превратился в грубого, не терпящего никаких возражений, капризного начальника, смотрящего свысока на рядовых работников. Он доверял только своему вкусу и своему пониманию вещей, при этом главное внимание обращал на внешность книги, ее оформление. Насчет всего остального его мнение совпадало с мнением вышестоящих.
Все это отразилось на его общении с сотрудниками издательства и со мной в частности.
Он уже не мог спокойно выслушивать мои соображения, если они расходились с его мнением. Однажды это вылилось в приступ бешенства. Он побелел и завопил на меня:
– Не возражайте мне! Потом скажете, что хотите! Не случайно Телепин, передавая мне дела, говорил, что вы упрямы.
Для меня такая вспышка гнева, в сущности, из-за пустяка была внове и унизительна. Я вышел из его кабинета как оглушенный и долго не мог успокоиться. На глазах у меня были слезы обиды. Куда девалась уважительность и предупредительность, граничащая с льстивостью? Еще минуту назад мне казалось, что мы коллеги, товарищи по совместной работе, а иерархия должностей не более чем формальность. И на тебе!
Я пошел зачем-то в планово-экономический отдел, который находился тогда в другом помещении, на задворках кооперативного дома композиторов, и, чтобы дойти до него, нужно было пересечь двор. Лишь через некоторое время я пришел в себя.
Подобострастный с начальством, Кравченко хотел, наверно, чтобы и его подчиненные относились к нему так же. Он считал недопустимым, чтобы младшее по должности лицо возражало против оценок и выводов старшего по должности. На одном из заседаний коллегии Главной редакции общественно-политической литературы при обсуждении годового тематического плана издательства руководитель этой редакции В.С. Молдаван стал безапелляционно высказываться относительно какой-то книги как ненужной. Я попытался отстоять ее, стараясь доказать необоснованность и неверность его заключения. Кравченко тут же стал «мягко» меня поправлять в том смысле, что Аркадий Эммануилович возражает по горячности, что нужно прислушаться к тому, что говорит Василий Савельевич, и если он считает, что без этой книги лучше обойтись, то нужно с этим согласиться. Ему важнее было подчеркнуть свое уважение к непосредственному комитетскому начальнику, свою дисциплинированность, чем отстоять какую-то там книгу. Доброе отношение начальства дороже любой книги. Не беда, что автор уже несколько лет ждет включения своей работы в план. Не беда, что издательство давно выплатило 60 процентов гонорара. Зато завтра можно ожидать благоприятного отношения Молдавана к нуждам издательства.
Вообще, В.Ф. Кравченко с самого начала старался наладить с самыми разными своими начальниками добрые отношения, оказать им услуги, стать для них нужным человеком.
Он «обхаживал» главного редактора Василия Савельевича Молдавана, заведующего редакцией (отделом) этой главной редакции Бориса Ивановича Федорова, старшего редактора Татьяну Евгеньевну Сергееву. Он приглашал их на все издательские вечера. А когда я через полгода после прихода Владимира Федоровича в «Книгу» защитил кандидатскую диссертацию, он настоятельно рекомендовал мне отметить защиту ужином в ресторане в узком кругу. На этот ужин по его совету я пригласил всех упомянутых выше лиц. Я мог это сделать хотя бы потому, что Василий Савельевич Молдаван знакомился с авторефератом моей диссертации и даже написал на нее благожелательный отзыв. Все же, честно говоря, мне это не нравилось, поскольку выглядело угодничеством. Но по слабости характера я не сопротивлялся, и ужин в ресторане «Центральный» состоялся; впрочем, прошел он вполне благопристойно.
Позднее Кравченко «выбил» для В.С. Молдавана в гараже, с директором которого у него уже давно был тесный контакт, другую, лучшую служебную машину. В.В. Чикину, первому заместителю председателя Госкомиздата СССР, он помог с ремонтом квартиры.
Это только то, что известно мне.
Он быстро сумел вступить в неформальные дружеские отношения с начальником Управления руководящих кадров Кислицыным.
Он приглашал Молдавана, Кислицына и других руководящих комитетских лиц на издательские вечера с ужином в ресторане. Такие, например, как вечер в Доме архитектора.
Вечер этот был, среди прочего, ознаменован тем, что Молдаван во время танца с Фаиной Михайловной Шкловер, будучи в подпитии, уронил ее на пол и чуть не упал сам.
Любопытная деталь, характерная для нравов номенклатуры: Кислицын, уходя с вечера, оказался перед дверью рядом со мною и вдруг стал расспрашивать, а не обижает ли меня Кравченко. Скажите, мол, мы быстро его одернем. Не в моем стиле было ябедничать. Да и доверять Кислицыну я не мог, так что отказался от его «помощи». Убежден, что это была чистейшей воды мелкая провокация, инспирированная, возможно, самим Кравченко, хотя не исключаю, что до Кислицына дошли какие-то сведения о грубости Кравченко. Кстати, шедший рядом с Кислицыным Молдаван поддержал его: скажите, мол, мы не дадим вас в обиду. Трудно допустить, что Госкомиздат стремился защитить меня от Кравченко. Скорее это могло быть использовано, чтобы заменить меня другим человеком, более подходящим для руководства Госкомиздата и его Управления руководящих кадров.
«С чего вдруг такая внимательность и благожелательность?» – подумал я потом. А в ту минуту ответил только, что никто меня не обижает.
Не помню, раньше или позже описанного вечера в Доме архитектора с Кравченко случилась неприятная история. В Госкомиздат поступило анонимное письмо-донос: Кравченко, мол, ведет себя аморально, вступил в близкие отношения с заведующей канцелярией Анной Викторовной Сергеевой, молодой женщиной привлекательной наружности. Письмо то ли действительно было написано малограмотным человеком, то ли стилизовано под малограмотного. В нем говорилось и о том, что директор груб с подчиненными.
Несмотря на то что письмо было анонимным, в Госкомиздате решили не оставлять его без внимания и поручили В.С. Молдавану проверить, что здесь правда, а что ложь. Он стал вызывать к себе сотрудников издательства для разговора.
Пригласил и меня. Дал прочитать письмо. Спросил, правда ли это, сказал, что я могу быть откровенным: никому о содержании нашей беседы он не расскажет. Поинтересовался, как я вообще расцениваю Кравченко как директора. Я был краток:
– Владимир Федорович Кравченко приносит издательству большую пользу. Внимание к Анне Викторовне он проявляет, но насколько близки их отношения, я не знаю. Да и не мое это дело. На работе это не сказывается. Что касается грубости, то это правда. Он бывает груб, оскорбительно кричит на подчиненных, в том числе и на меня.
На это Молдаван заметил:
– Если по делу, ничего страшного в этом не вижу. Я тоже бываю очень жестким с подчиненными.
На том мы и расстались.
Краткость и сдержанность моего ответа объяснялась не только тем, что мне был неприятен повод для этого разговора, но и уверенностью в том, что все мною сказанное Молдаван, несмотря на все заверения, передаст Владимиру Федоровичу. Я ведь видел, что между ними установились дружеские отношения, выходящие за рамки отношений начальника, благоволящего к успешно работающему подчиненному. И был прав.
Конечно, Кравченко мне не сказал, что он знает все, что я говорил Молдавану. Но по его довольному тону при разговоре со мной вскоре после беседы с Молдаваном и некоторым намекам было ясно: Молдаван ему все рассказал.
Любопытно, что когда позднее я собрался по поручению Госкомиздата СССР поехать в Кишинев, чтобы выступить с докладом на то ли конференции, то ли семинаре работников республиканской книгоиздательской отрасли, Кравченко меня предупредил:
– Имейте в виду: вы там обо мне особенно не распространяйтесь. Все, что скажете, мне станет известно.
Я, собственно, и не собирался откровенничать о нем, так что предупреждение было излишним. Но расспросы о нем были. И я удовлетворял любопытство, но скупо и сдержанно, не позволяя себе никакой критики.
Чем объяснить его предупреждение? Ведь он как бы оберегал меня. Думаю, ему важнее было, чтобы никто в Молдавии не усомнился в его достоинствах. Но беспокоился он напрасно. Да и оценивал я его деятельность и без того в целом положительно. Был объективен в этом, несмотря на его грубость и свои обиды. А обижаться было на что.
Когда я вернулся на работу после долгого (в несколько месяцев) отсутствия из-за тяжелой болезни и перенесенных двух тяжелых операций, он не справился о моем самочувствии, а встретил меня убийственной фразой:
– Вы сорвали мне отпуск!
Встретить так товарища по работе после того, как тот пребывал в больнице в состоянии между жизнью и смертью, – это нужно уметь.
И это было не единственным проявлением хамства по отношению ко мне. Заведующая редакцией Т.В. Громова 18 июня 1982 года написала на имя директора заявление с просьбой перевести редактора М.Я. Фильштейна, выходца из Молдавии и знакомого Кравченко, на должность старшего редактора и увеличить его оклад (со 120 до 140 р.). Я по ее просьбе завизировал это заявление, что, мол, не возражаю. И что же? Он передал это заявление заведующей планово-экономическим отделом Ф.М. Шкловер, приколов к нему бумажку с такой резолюцией:
Т. Шкловер Ф.М.
Следовало бы объяснить т. Мильчину А.Э., что не визировать, а выдвигать конструкт. предложение он должен: за счет кого, вместо кого и т. д.
И поделикатней! Кравченко
Все это было подготовкой к моему вытеснению из «Книги». Цель – сделать мое положение в издательстве невыносимым.
Для того чтобы вынудить уйти работника, который не справляется со своими обязанностями или неугоден по другим причинам, у Кравченко был выработан действенный, хотя и довольно примитивный метод.
Сначала шла подготовка в виде заданий, которые надо выполнить к определенному сроку, и в виде резкой критики на собраниях и заседаниях. Затем поступало предложение заслушать отчет такого работника на заседании партбюро. И если эта угроза не действовала, то партбюро по итогам отчета выносило партийное взыскание и рекомендовало директору укрепить руководство данного участка. Но чаще всего до этого не доходило и объект нападок быстренько подавал заявление с просьбой уволить его по его собственному желанию.
По этой схеме Кравченко добился ухода заместителя директора по производству, бывшего главного инженера одной из типографий Академии наук СССР, которого он же сам переманил в издательство. Но этот заместитель не столько вел сложные производственные дела издательства, сколько они вели его. В итоге он предпочел уйти по собственному желанию, что и надо было Кравченко.
В общем, по этой же методе началось вытеснение из «Книги» и меня. Подготовку Кравченко начал в начале 1984 года. В декабре мне должно было исполниться 60 лет, и, значит, можно было отправить меня на пенсию. Но, сознавая мой большой авторитет в издательском коллективе, а может быть, и завидуя ему, директор понимал, что нужно очень веско убедить коллектив в обоснованности своих претензий ко мне.
Я тогда как раз вышел на работу после долгой и тяжелой болезни. 30 сентября 1984 года я писал Риссу:
Вот уже неделю, как я работаю. <…>
На упрек директора, что я сорвал ему отпуск, я ответил, что в болезни моей вины нет. На это последовала реплика, что не виноват, конечно, но отпуск сорван, причем с энергичным нажимом. Я был ошарашен, но общий замысел мне еще тогда не открылся. Я воспринял это только как проявление низкой культуры поведения и административного хамства.
Но дальше, через несколько дней, этот факт вписался как органично входивший в линию, намеченную по отношению ко мне. Вышел я на работу в понедельник, а на четверг было назначено партийное собрание. По плану следовало рассматривать основные тематические направления перспективного плана на 1986−1990 гг. Но, учитывая мое долгое отсутствие, тему заменили другой, которая в конце концов обрела такую формулировку: «О выпуске изданий на актуальные темы». Мне директор дал наставление выступить с информационным сообщением на 10 минут. Я, естественно, подготовил такое сообщение, но не на 10, а на 20−25 минут, так как в качестве важнейших Госкомиздат выделил около 15 тематических направлений, и охарактеризовать каждое и наше участие в нем за 10 минут было мудрено. Перед самым собранием по моему проекту решения было неожиданно сделано замечание – нет, мол, ни слова о том, как издательство, редакции обеспечивают высокое качество идейного содержания, художественного оформления и полиграфического исполнения. Не говоря уже о том, что в проекте, хотя и в скромном объеме, этот аспект все же присутствовал, но в свете того, что мне было поручено информационное сообщение, замечание казалось странным. На собрании директор выступил с длинной речью, суть которой сводилась к нападкам на меня, представленного в форме «главная редакция», и на редакции. Мы в стороне от главных дел, которыми занимается издательство. Издательству удалось решить проблемы хозяйственные, проблемы производственные и только редакционные в загоне и запустении. Создали комплексную редакцию миниатюрных книг, но она в развале, в ней нет заведующего. (В скобках замечу, что сделали это во время моей длительной болезни, но не довели до конца, заведующего редакцией миниатюрных и факсимильных изданий Кравченко перевел в новую редакцию факсимильных изданий, не позаботившись о замене, считая, что в такую редакцию, как редакция миниатюрных изданий, найти заведующего проще простого; выработать же нужное положение о такой редакции без меня не сумели.) Наметили создать филиал издательства в Ленинграде, довести до конца не сумели. Начали внедрять комплексную систему управления качеством, начали хорошо, даже другие издательства интересовались опытом, но не завершили. От хозяйственных проблем в стороне. Только он занимается тем, какой будет вывеска в издательстве, а главной редакции и дела до этого нет. В строительство здания вклада тоже никакого не внесли. Нет в издательстве и крепкого координационного центра, который бы четко и крепко руководил всем редакционно-издательским процессом. А таким центром должна быть главная редакция.
Обоснованность одной из этих нападок – о том, что не сумели довести до конца создание филиала в Ленинграде, – была более чем слабой. В 1981–1982 годах Кравченко загорелся идеей создать в Ленинграде поначалу общественный филиал нашего издательства и поручил мне организовать его. Я обратился за помощью к Николаю Павловичу Лаврову, преподавателю ленинградского филиала МПИ и внештатному инструктору сектора печати Ленинградского обкома КПСС. Он собрал заинтересованных лиц – представителей институтов, библиотек, издательств, типографий, повел меня к заведующему сектором печати обкома. Все высказали заинтересованность в идее, а обкомовец даже выразил готовность создать отделение издательства в Ленинграде (может быть, обкому это и было под силу, но не издательству с его ограниченными ресурсами). Дальше разговоров дело не пошло. Быть может, и у меня пороху не хватило. Но главное все же в том, что материальных возможностей для того, чтобы развернуть в Ленинграде работу, у издательства не было. На общественных началах все собравшиеся при содействии Лаврова были готовы работать, но при условии, что издательство примет их предложения (заявки) о выпуске конкретных книг. Но именно этого издательство не могло сделать в тех объемах, которые предлагали наши общественные помощники.
Любопытна цитата из письма ко мне Якова Борисовича Рабиновича, моего эпистолярного друга, капитана первого ранга в отставке и известного ленинградского библиофила, от 4 декабря 1982 года:
…в разговоре с В.А. Петрицким [коллега Рабиновича по работе в Городской секции библиофилов] я узнал, что он беседовал с директором издательства Вашего т. Кравченко и тот якобы сказал ему, что этот филиал вообще нереален, да и не нужен.
Это похоже на правду, а если так, то вот какова цена попреков Кравченко в мой адрес. Из того же письма Рабиновича стало также ясно, что на производство миниатюрных книг в типографиях Ленинграда рассчитывать нечего, так как обком отнесся к этому отрицательно, как сообщил ему В.Г. Федоров, председатель Ленинградского отделения ВОК РСФСР.
Резкая критика меня как главного редактора под видом критики главной редакции была лишь частично вызвана действительным недовольством моей работой, а также сравнительно частым отсутствием по болезни (1979 год – месяц в клинике, 1980/81 год – полтора месяца в госпитале, на стыке 1983 и 1984 годов – три месяца). И ошибки редакционного характера были не столь угрожающими, чтобы они могли склонять к выводу о несостоятельности моего руководства издательством. Конечно, был испорчен проспект МККВЯ-85, и его пришлось перепечатывать, и я не сумел это предотвратить, была резкая, но примитивная и необоснованная критика за иллюстрирование «Последнего летописца» Н.Я. Эйдельмана (о чем рассказано выше). Но все это рабочие ошибки, без которых не обходится практически ни одно издательство.
Главная причина, как позднее выяснилось, была в ином. Кравченко хотел угодить Управлению руководящих кадров, с начальником которого у него сложились дружеские отношения, а тому надо было трудоустроить оканчивавшего Академию общественных наук заместителя заведующего Отделом международных связей Комитета Алексея Филипповича Курилко. Тогда я этого не знал, но понимал, что Кравченко поставил своей целью изгнать меня из «Книги», выпроводить на пенсию сразу после того, как мне исполнится шестьдесят. Но так как коллектив вряд ли одобрил бы это, директор начал исподволь подготавливать почву излюбленным своим методом.
На собрании резкую отповедь его критике дал Владимир Матвеевич Ленау из редакции журнала «Полиграфия». Это несколько спутало карты Кравченко. Он настолько не ожидал такого афронта, что смешался. Однако реакция на это последовала после собрания незамедлительно. Он добился от секретаря партбюро, чтобы в редакции журнала «Полиграфия» была организована самостоятельная партийная организация: ведь журнал территориально был разобщен с издательством.
Кравченко считал, что я работаю на уровне заместителя главного редактора, т. е. занимаюсь внутренними делами издательства, но не представительствую в организациях и учреждениях, не расширяю связи с общественностью, не выступаю по телевидению и радио (заметки о книгах издательства я все же писал, но и только, а значит, представительствовал недостаточно), погряз в мелких издательских делах, не привлекаю в защитники интересов издательства новых влиятельных людей, не посещаю сектор издательств Отдела пропаганды ЦК КПСС, чтобы знать, куда ветер дует, иначе говоря, меня нельзя назвать деловым в том смысле, в каком понимал этот эпитет сам директор.
Однако то, что казалось ему мелким, на самом деле было необходимым для успеха издательства, потому что выстраивать системный выпуск книг – дело весьма сложное и важное. Если Кравченко считал моей главной задачей держать нос по ветру: бывать в ЦК КПСС (он ставил мне в пример директора издательства «Художественная литература» Валентина Осипова, который, по его словам не вылезал из ЦК), то я понимал свою задачу как главного редактора по-иному. Самым важным своим делом считал перспективное планирование, которое позволяло бы воплощать издательские замыслы в жизнь, не дожидаясь, пока книги на нужные темы сами свалятся на столы редакций. Ведь книге, чтобы родиться, надо не девять месяцев, а порой не меньше пяти лет. А затем не один год уходит на процесс издания. Вообще, планирование редакционной подготовки и выпуска – первейшая забота главного редактора.
Но, как я уже писал в главе «Моя издательская карьера, или Моя издательская судьба», я борьбе за свой пост предпочел почетный уход на пенсию. И был прав. Нужно отдать должное Кравченко. Мое согласие на уход так обрадовало его, что по его ходатайству я получил звание заслуженного работника культуры РСФСР и персональную пенсию. Кравченко заключил со мной договор на сборник «Писатели советуют, негодуют, благодарят» (над его рукописью я работал более десяти лет). Издательство широко отметило мой юбилей (8 декабря 1984 года мне исполнилось 60 лет).
Как восприняли мой уход на пенсию сотрудники? Многие – как болезненную утрату. Вот что записал в своем дневнике 19 августа 1985 года, когда я покидал издательство, заместитель главного редактора Вячеслав Трофимович Кабанов, способный литератор, пришедший в издательство из Госкомиздата, где его не оставили только потому, что сестра его жены эмигрировала в Израиль:
Понедельник
У меня новый главный редактор, имеющий фамилию Курилко. Он бывший замначальника Управления международных связей Комитета [Госкомиздата]. Я его знал, но не очень. Он окончил Академию общественных наук, и его нужно было пристроить. Поэтому Мильчина срочно пенсионировали. А мы успели сойтись. И, главное, я у него мог обучиться издательскому делу. Аркадий Эммануилович – корифей, уходящая натура, больше таких не будет (Кабанов В.Т. Однажды приснилось: Записки дилетанта. М., 2000. С. 361).
Кравченко же вскоре в полной мере оценил, какого главного редактора он приобрел, и даже жаловался мне на него, встретивши меня как-то в издательском коридоре. На это я ответил: «Вы же знали, кого брали».
Впоследствии на одном партийном собрании в издательстве тому же Кабанову директор через своего секретаря поручил выступить с докладом о задачах издательств в связи с очередным пленумом ЦК КПСС. Вот что рассказал об этом докладе в своих воспоминаниях, опубликованных в «Знамени», сам Кабанов:
Из моего доклада:
…Но почему же нет ощущения, что атмосфера в издательстве меняется? И это не только ощущение, она действительно не изменилась. Кто тут виноват? Думаю, что все виноваты – и руководство, и партийная организация, и весь коллектив.
Наверное, в стиле работы каждого издательства большую роль играет личность его директора. А в жизни нашего издательства – особенно большую. Потому что я не знаю в нашем коллективе более сильной личности, чем Владимир Федорович Кравченко. Личность такого масштаба, имеющая «верховную» власть в сочетании с настоящим профессионализмом, может очень многое. Очень многое Владимир Федорович и делает. Но пришло, думаю, время поговорить о продолжении его достоинств – о недостатках. Здесь позволю себе небольшое лирическое отступление. Когда я думаю о Владимире Федоровиче, мне почему-то приходят на память пушкинские строки:
… Он человек, им властвует мгновенье, Он раб молвы, сомнений и страстей. Простим ему неправое гоненье: Он взял Париж. Он основал Лицей.
Да, Владимир Федорович основал наш славный «Лицей», и он взял не один «Париж». Он настоящий мастер стратегии и тактики, умеющий реализовывать самые дерзновенные, самые фантастические замыслы… Но ведь время расцвета издательства «Книга» пришлось, как ни удивительно, на период застойных явлений. Владимир Федорович спас издательство от застоя, но действовал методами, сообразными с застойной действительностью. Теперь настала пора перестраиваться, в корне менять методы и стиль работы. Пока этого не происходит.
Возьмем простую вещь. Мы видим по телевизору процедуру выборов директора рижского завода RAF. Одна из претензий к старому директору, что он не бывает в цехах. Наше издательство по сравнению с RAFом – маленькое гнездышко. А Владимир Федорович бывает в редакциях? Знает повседневные проблемы людей, их настроения? Думаю, что хочет знать, но только – не выходя из кабинета, через систему управленческих связей.
В кабинет директора очень трудно попасть. Может быть, это и правильно, но при этом Владимир Федорович установил такой режим отношений, что без его личного участия не решается ни один сколько-нибудь важный вопрос. А это уже парадоксальная ситуация. Механизм начинает лихорадить.
При этом самые важные вопросы решаются исключительно в узком кругу доверенных лиц. Это не вдохновляет коллектив на активность. Настроение преобладает такое: все равно без нас решат.
Кроме того, происходит легкое головокружение у тех, кто посвящен в решение вопросов…
Комитет дал нам права, устраняет мелочную опеку, но его старые функции теперь берет на себя администрация самого издательства, иногда просто создавая механизм торможения.
Не буду останавливаться на кадровых вопросах. Скажу только, что и здесь у нас пока что преобладают волевые решения. Следствия же такого подхода бывают плачевные. Думаю, необходимо во всеуслышание сказать то, что всем давно уже ясно: крупной ошибкой была отставка Аркадия Эммануиловича Мильчина. Мы до сих пор расплачиваемся за эту ошибку. Пусть это даже была инициатива комитета, платим-то мы… (Знамя. 2009. № 7).
На следующий день после того, как Кабанов произнес эту речь, Владимир Федорович вызвал его в свой кабинет и, по словам самого Кабанова, сказал ему:
– Вот на том самом месте, где вы сидите, сидел Мильчин и просил меня отпустить его на творческую работу.
На самом деле я спрашивал его, хочет ли он продолжать со мной работать. Но ложь во спасение. Кабанова он сплавил в создававшееся тогда издательство «Книжная палата», где тот в качестве главного редактора сумел сделать много хорошего – выпустить много превосходных книг.
Все же я понимал, что своему расцвету «Книга» обязана прежде всего Кравченко, Троянкеру, Громовой. Их вклад нагляден и убедителен. А моя работа хоть что-нибудь да значила? Этот вопрос мучил меня. И несмотря на то, что в дни моего 80-летия на меня обрушился шквал похвал (впрочем, главным образом речь шла обо мне как авторе, а не как об издателе), в том числе и со стороны В.Т. Кабанова, я чуть позднее написал ему:
Тщеславие – вещь бездонная. Уж скольких комплиментов я удостоился, а мне все мало. Впрочем, дело не в их нехватке, не в желании получить еще и еще, а в том, что я сам для себя не уяснил по гамбургскому счету, в чем конкретно, очень конкретно я сделал полезного не по собственному мнению, а по мнению других людей, для издательства «Книга». Я все время задаю себе вопрос: успехам своим «Книга» обязана прежде всего Кравченко (без него их быть не могло), Троянкеру (без него прославленных своим оформлением книг тоже быть не могло), Громовой (без нее в издательство не пришли бы многие авторы, чьи книги принесли издательству успех). А была ли в этих успехах какая-то моя роль? И если была, то в чем она выражалась, если не считать обычного руководства редакционным процессом и умения не мешать и поддерживать все ценное, что предлагалось другими работниками издательства. И точного ответа не нахожу. Были, конечно, книги и серии, которые мне обязаны своим рождением. Вот и вся конкретика.
Я даже решил задать этот вопрос Троянкеру. Ему ведь со стороны виднее. Но у меня не было его телефона, да и звонить кому-либо по телефону для меня мука, какой-то психологический комплекс неполноценности. Но на днях меня посетил художник Максим Жуков, приехавший из Нью-Йорка, где он остался жить после службы в ООН от нашей страны, читать лекции в какой-то работающей в Москве английской школе дизайна. Он передал мне привет от Троянкера, у которого был до меня, а заодно сообщил и его телефоны. Три дня я собирался и наконец позвонил. Поговорили. На мой странный вопрос он сказал, что вкратце может ответить сразу. Что-то вроде того, что интеллигентность, культура, содержание выпускаемых книг. Очень общо и несопоставимо с его и Кравченко вкладом. Хотя, может быть, этого вполне достаточно, и нечего мне трепыхаться (02.07.06).
В ответ Вячеслав Трофимович написал мне:
Сначала о гамбургском счете. Виктор Борисович Шкловский, может быть, и напрасно ввел этот счет в литературу и вообще в искусство. Даже его беглое сопоставление имен и то – эпатажно: кто доезжает, а кто и не доезжает до города и пр. У борцов «гамбургский счет» имеет прямой смысл; кто-то на лопатках, а кто-то сверху. А в творчестве и даже в строении творческой атмосферы, в достижении организационно-творческого градуса гамбургский счет почти всегда неприменим. Кстати, такой счет отчасти возможен при сопоставлении Кравченко с Троянкером, потому что Кравченко хотел играть с Аркадием на одном поле, но, конечно, до города Гамбурга не доезжал… Аркадий мне как-то пожаловался:
– Он думает, что знает искусство оформления и полиграфию лучше меня… А я-то знаю, что я лучше знаю!
Да, тут гамбургский счет и был бы уместен, хотя дело не просто в знании и умении. Они были несопоставимы в том, что называется вкус. Когда я в «Книге» пробил издание Высоцкого к его пятидесятилетию, Кравченко, получив на этот счет практически поручение ЦК, так возбудился, что разыскал где-то цветной печатный портрет Высоцкого с вьющимися кудрями на фоне скачущих коней – работы… Шилова и радостно мне его передал для помещения на переплет. Это была такая мерзость, это было так ужасно, что у меня зачесались зубы. Я молча взял портрет, свернул его в трубку, заложил за шкаф и даже не показал Троянкеру. А Кравченко, слава Богу, уже летел «от гор и мимо башен» и сел «на чахлый пень».
Вообще-то о Вашей роли в успехах «Книги» надо спрашивать не меня. Я видел Вас в деле очень недолго и в почти еще несознательном состоянии. И не Троянкера спрашивать. Он человек сухой и жесткий, хотя верный ответ надо искать где-то там, в том, что он назвал «очень общо». О роли Мильчина надо, пожалуй, спрашивать Громову. Вот кто Вас действительно любил и понимал. Я помню ее короткую плачущую речь при расставании с Вами, когда Тамара Владимировна говорила, что, глядя на Вашу подпись в резолюциях, где прочитывалось только «Мил…», ей хотелось продолжать: «Милый…»
Громова возопила бы, узнав, что ищете сопоставления своего вклада с вкладом Кравченко и Троянкера! Да разве это сопоставимо? – вскричала бы она. – Кравченко добыл роскошное помещение, привел в роскошное состояние свой кабинет, устроил музей миниатюрных изданий, умел входить и выходить с добычей из кабинетов Комитета, крепил связи с влиятельными практически людьми, был мастером интриги и демагогии… Какой же тут гамбургский счет может быть между Кравченко и Мильчиным? Да самое большое достижение Кравченко и было в том, что он опирался на Мильчина и Троянкера, не любя их, завидуя им… Троянкер был, конечно же, великий мастер, виртуоз, но и только. Души в нем не было, но было мастерство. И оказался он в прекраснейшем, наизамечательнейшем положении, когда директор расчетливо дает ему свободу действий, а главный редактор любуется его мастерством.
<…>
Аркадий Эммануилович, я же помню собрания бессмертных в Вашем кабинете: книговеды, искусствоведы, историки – «разношерстные все господа», – но с именами, заслугами, званиями. И все они, даже споря с Вами, глядели на Вас и Вашего ждали мнения, слова… Ваша личность – человеческая и профессиональная – определяла лицо издательства «Книга». О каких еще конкретно вкладах тут нужно говорить? Не надо Вам перебрасывать костяшки на счетах. Вам надо просто поверить мне и множеству еще людей «Книги», которые Вам этого не скажут (может быть), но от которых я до сего времени слышу:
– Нас Мильчин учил!
Ваш вклад в «Книгу» и книгоиздание вообще не просчитывается – так он велик.
Думаю теперь, что я терзался зря. Ведь не случайно Тамара Владимировна Громова заплакала, когда узнала, что меня выдворяют на пенсию. Потому что она, как никто, знала, что` я делал для издательства, как поддерживал ее, как помогал ей, направляя работу руководимой ею редакции. А Вячеслав Трофимович Кабанов своим только что процитированным письмом утвердил меня в этой мысли.
Издательство «Книга» стало по-своему легендарным. Так о нем вспоминали на газетных и журнальных страницах уже после того, как оно закончило свое существование.
Газета «Известия» в номере за 1 сентября 1999 года:
В издательстве «Книга», которое замышлялось как отраслевое, но в конце 70-х годов резко подняло планку и стало многопрофильным, тщательно следили за полиграфическим уровнем книг. Вопреки тогдашней советской моде на «рисованные» обложки (в лучшем случае – фотомонтажи) здесь применяли современные дизайнерские решения. Стильное оформление, факсимильные и миниатюрные издания – все это вкупе с неизменно высоким уровнем авторов и редакторов работало на престиж «Книги». Лучшие литературоведы – Юрий Лотман, Мариэтта Чудакова – входили в редакционный совет; филологические серии «Судьбы книг» и «Писатели о писателях» набирали колоссальные тиражи – и пятьдесят, и сто, и двести тысяч.
Кому же издательство «Книга» обязано тем, что стало по-своему легендарным?
Мне представляется, что по большому счету Тамаре Владимировне Громовой, Аркадию Товьевичу Троянкеру (см. ниже главки о них) и, конечно, Владимиру Федоровичу Кравченко. Но без ложной скромности скажу: и мне.
Системное тематическое планирование и разработанная мною концепция выпуска миниатюрных и факсимильных изданий сыграли немалую роль в успехе издательства, и, может быть, будь на моем месте кто-то другой, достижения издательства были бы не так велики.
Ф.М. Шкловер, отдавая должное В.Ф. Кравченко за высокое качество выпущенных книг, порицает его за экономически рискованные решения. Она пишет, что он «допустил одну из непоправимых ошибок, отдав карточки и летописи издательству “Книжная палата”. Ведь у нас на счетах всегда были деньги, и по тем временам весьма немалые. А с расширением прав издательств ими можно было по-деловому воспользоваться, увеличивая производство, расширяя тематику и даже создавая собственную полиграфию».
Закончилась работа Кравченко в «Книге» из-за того, что ему стало тесно в рамках нашего издательства. Он все носился с идеей объединения с другими издательствами, например с «Художественной литературой», но из этого ничего не получилось и в конце концов он пожертвовал ради карьеры своим детищем – «Книгой» – и перешел в Госкомиздат СССР в качестве начальника Управления издательств, выпускающих литературу на экспорт. Тогдашний председатель комитета Ненашев перевел в преобразованную в акционерное общество «Книгу» на место Кравченко своего советника Адамова, а впоследствии стал председателем совета директоров акционерного общества «Книга и бизнес» (так было переименовано издательство «Книга»). Кравченко, правда, не хотел полностью расставаться с «Книгой» и добивался, чтобы она вошла в подчинение тому Управлению, которое он возглавлял. Однако, несмотря на все заслуги Кравченко, ведущие работники издательства всячески уговаривали нового директора не поддаваться его уговорам и воспрепятствовать переподчинению издательства. Видимо, его опека вкупе с капризностью и узким пониманием задач при работе над конкретными книгами им осточертела. Другое дело, что их надежды на Адамова не оправдались, поскольку он стал виновником гибели «Книги». Но о гибели «Книги» особый разговор ниже. Во всяком случае, те, кто своим талантом прославил «Книгу», – Троянкер и Громова – вскоре покинули издательство из-за неблагоприятных условий для творческой созидательной работы.
Точными сведениями о том, как Кравченко руководил Союзэкспорткнигой, я не располагаю, но от сотрудников «Книги» до меня доходили слухи, что он вошел в конфликт с зубрами – директорами подведомственных ему издательств, культурный уровень которых был, безусловно, выше его культурного уровня. Так или иначе, но это управление себя не оправдало и его ликвидировали, а Кравченко назначили ректором Всесоюзного института повышения квалификации работников печати, где он стал даже профессором, а после распада СССР и естественного конца этого института организовал Международную академию книги и книжного искусства. Что крылось за таким громким названием, сказать трудно. Но ее дебюту – миниатюрному изданию «Тысячи и одной ночи», выпущенному издательством «Эврика», также созданным Владимиром Федоровичем Кравченко, – посвятило подвал «Книжное обозрение» (1993. № 28. 16 июля). Об «Эврике» я знал от Валентины Федоровны Лариной, которой Кравченко предлагал стать редактором этого издательства. Выпустила ли «Эврика» еще какие-то издания, не знаю. А издательскую деятельность Кравченко прервала безвременная кончина.
Тамара Владимировна Громова
Тамара Владимировна пришла в издательство из журналистики. До издательства она много лет работала в «Комсомольской правде», сначала в качестве специального корреспондента на целине (впрочем, там она могла быть и по комсомольской путевке), затем как редактор и заведующая отделом культуры этой газеты. Из «Комсомольской правды» она перешла на работу в отдел культуры ТАССа. Работа там ее не удовлетворяла: ей нужна была деятельность, в которой она могла бы в полной мере проявить свои организаторские таланты, энергию и творческую жилку.
Ю. Буртин в своей «Исповеди шестидесятника», вспоминая одаренных сокурсников по Ленинградскому университету, не забыл и о Громовой, «чья редакция в издательстве “Книга” еще в доперестроечные 80-е годы выпускала то, что никто тогда не осмелился бы издать» (Дружба народов. 2000. № 12. С. 124).
Он посвятил Громовой фрагмент, дающий представление о ее личности и характере:
Я хотел бы упомянуть еще об одном событии своих студенческих лет – о своих разговорах с Тамарой Громовой.
Она училась на отделении журналистики, была, кажется, старшей дочерью в многодетной рабочей питерской семье, а на нашем курсе – едва ли не самой яркой и «моторной», «комсомольской богиней», бессменным членом (если не секретарем) то ли курсового, то ли факультетского бюро. В составе какой-то молодежной делегации она однажды даже ездила в «капстрану» – Финляндию, что тогда было крайней редкостью, знаком особого политического доверия. Отчасти «по должности», а главное, благодаря свойствам своего характера: живости, энергии, доброжелательности, открытости – она со всеми на курсе была в прекрасных отношениях. Но я был достаточно далек от комсомольских «сфер», на собрания ходил лишь изредка, от стройотрядов уклонялся, предпочитая им мамин огород, так что до последних месяцев нашего студенчества у нас с ней не было поводов для общения. Однако на пятом курсе с ней стало что-то происходить. Она отказалась от комсомольской карьеры, которая была ей обеспечена, отдалилась от руководящих сфер и – не знаю уж, по каким причинам, – задумалась. Тогда, за пару месяцев до окончания, нас вдруг потянуло друг к другу. Раз-другой я был у нее дома, мы пили чай и разговаривали. Тут ни с одной стороны не было ни малейшего намека на влюбленность, но была солидарность в направлении мыслей, общность вопросов, для формулировки которых мы – ввиду их новизны и непривычности – с трудом подбирали слова. Одну из таких трудно добытых формулировок-открытий, ставшую для меня, может быть, главным итогом этих бесед, я запомнил навсегда: да, конечно, в нашей советской жизни преобладает хорошее, но есть в ней один изъян – мы… духовно… несамостоятельны… Этот, на сегодняшний взгляд, элементарнейший вывод по тем временам дорогого стоил; мое отпадение от сталинизма, в сущности, началось именно с него (Там же. С. 134).
В наше издательство Тамара Владимировна Громова попала в некоторой степени случайно. Заведующая отделом рукописей ГБЛ Сарра Владимировна Житомирская позвонила мне и порекомендовала ее как хорошего работника. Думаю, что она сделала это по просьбе Н.Я. Эйдельмана, которого Тамара Владимировна привлекла к сотрудничеству в «Комсомольской правде». А мы в это время подыскивали кого-либо на место заведующего только создаваемой по инициативе Кравченко редакцией литературы по книговедению и библиофильству. Я уже беседовал на этот предмет с Ю. Коротковым, который успешно работал в редакции «Жизни замечательных людей» «Молодой гвардии», а затем перешел в издательство «Большая советская энциклопедия», откуда в то время то ли ушел, то ли собирался уйти на творческую работу. Но он, поразмыслив, отказался. Были и другие неплохие кандидаты, но по разным причинам они отпали.
Переговорив с Тамарой Владимировной, я, опираясь больше на рекомендацию Житомирской, чем на собственную оценку, решил, что она подходит. Впрочем, мне сразу стало ясно, что как организатор Громова будет на месте: живой характер был виден отчетливо. И я решил представить ее Кравченко. На него Тамара Владимировна тоже произвела хорошее впечатление, и после беседы ее с руководством Главной редакции общественно-политической литературы (кандидатов на должность заведующего редакцией утверждала Главная редакция) Громова была принята в издательство в таком качестве.
Для «Книги» приход Тамары Владимировны был большой удачей. Живая, энергичная, иногда даже бесцеремонная в стремлении достичь цели, если этого требовали интересы дела, она быстро увлеклась благородными задачами, стоявшими перед редакцией: раскрыть и восславить роль книги в жизни человека и общества. У Тамары Владимировны не было никаких рефлексий, она действовала стремительно, все время была как бы в атаке, наступлении.
Главная ее заслуга – в том, что она привлекла к сотрудничеству с издательством первоклассных авторов: Ю.М. Лотмана, Н.Я. Эйдельмана, К.Н. Тарновского, А.Л. Осповата, М.Д. Тименчика, М.О. Чудакову, Н.Н. Покровского, Ю.В. Манна и др. Привечала и всячески поддерживала Тамара Владимировна М.В. Белкину.
Благодаря энергии, настойчивости, активности и личному участию Тамары Владимировны в подготовке книг были основаны важнейшие для издательства серии и продолжающиеся издания; выходили сборники художественных произведений о книге, чтении, книжниках разных стран и эпох («Корабли мысли», «Лучезарный феникс», «Очарованные книгой», «Зеркало мира», «Листая вечные страницы», «Библиотека в саду»).
Благодаря ей состоялась и стала популярной серия «Писатели о писателях», потому что она привлекла к авторству книг серии таких авторов, как Лотман, Чудакова, Манн и др. Она усилила серию «Судьбы книг» произведениями Л. Аннинского, В. Порудоминского, А. Аникста.
У нее было хорошее критическое чутье.
Тамара Владимировна смело привлекала к работе молодых талантливых авторов: А. Зорина, А. Пескова, А. Немзера, А. Долинина, которые тогда только начинали свой творческий путь и стали известными литераторами гораздо позднее.
Без нее не могло бы состояться такое продолжающееся издание, как «Памятные книжные даты» (о нем я уже рассказывал выше, в посвященной ему главке).
Хотя она и была членом компартии, она не скрывала от меня, что не верит в коммунистические и советские догмы, в сказки о социализме с человеческим лицом, но она уважала мнение тех, кто считал ленинизм учением, лишь неверно примененным на практике, например историка К.Н. Тарновского, уважала и мои тогдашние убеждения.
Вскоре после того, как в издательство пришло новое руководство во главе с Адамовым, неблагоприятная для творческой работы атмосфера вынудила Громову покинуть издательство и перейти на работу главным редактором сначала Издательства Детского фонда, а затем издательства «Рудомино» при Библиотеке иностранной литературы.
Аркадий Товьевич Троянкер
Его роль в успехе «Книги» несомненна. Он вместе со своим единомышленником Борисом Трофимовым разработал фирменный стиль оформления издательства. Этому стилю впоследствии посвящали целые статьи – см., например, статью С.С. Водчица «Свое лицо, или Фирменный стиль издательства» в журнале «Университетская книга» (2008. № 9. С. 39–41).
Он привлек к созданию книг замечательных художников (многие из них перечислены мною выше в некрологе Кравченко).
Благодаря ему книги издательства стали образцами книжного искусства.
Вот что позднее, в 2001 году, вспоминал о его работе привлеченный им к сотрудничеству с «Книгой» оригинальный художник Леонид Тишков в беседе с Еленой Герчук:
…Когда Аркадий Товьевич Троянкер стал главным художником издательства «Книга», они с художественным редактором Гришей Берштейном рискнули дать мне сделать иллюстрации к книге из их тогдашней малоформатной серии. На выбор: «Корабль дураков» или «Войну с саламандрами». Я выбрал Чапека.
– «Саламандру» я прекрасно помню, тогда это была сенсация – твои картинки.
– Потом я еще много в «Книге» работал. Вместе с моим соавтором Николаем Козловым сделал «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», нарисовал всего Козьму Пруткова. Сейчас уже ясно, что это было чрезвычайно интересное явление, издательство «Книга». Вся малоформатная серия, все, что в ней делали художники – Костин, Бархин, Ващенко, Юлий Перевезенцев, Игорь Макаревич, – совершенно уникально. И фотоиллюстрации к художественной литературе в то время впервые там появились – Янкилевского, Володи Куприянова, Олега Смирнова. И вообще все, что они тогда создали, все их книги о книгах – это все, конечно, прямо в историю искусств. И еще ведь все эти книжки типографски очень хорошо выглядят. Там об этом заботились. Когда я делал книжку, то ездил сам в типографию, общался даже с ретушером. Увидел, как книги делаются, увидел процесс. Это был мой институт, я дальше мог уже этими знаниями пользоваться. Это на уровне технологии; а идеологический подход какой был? Когда возникла идея издать книгу поэм Пушкина, где каждый художник должен был иллюстрировать одну поэму, то организовали выездную сессию. Мы все поехали в Прибалтику, и туда по просьбе издательства приехал Юрий Михайлович Лотман, и мы с ним беседовали, задавали свои вопросы, он нам читал блестящие лекции – всего для нескольких человек, и все это для того, чтобы проиллюстрировать Пушкина. Уже кто-то начал, кто-то что-то сделал, у меня тоже есть рисунки – «Домик в Коломне» должен был делать, – а потом сразу крах произошел, сменилось руководство, Троянкера как-то вытеснили, и все художники сразу ушли. Не та атмосфера стала. А мне уже понравилось, я хотел и дальше книжки делать. Но уже самостоятельно. Сам стал сочинять, писать, рисовать, издавать… (Ex libris НГ. 2011. 22 нояб. С. 5).
О работе Троянкера еще позднее писал и художник Петр Перевезенцев:
…хороший издатель – он творец, такой же, как художник, художник ставит себе творческую задачу, и издатель тоже может поставить ему задачу творческую, а не маркетинговую. У меня был опыт работы с Троянкером, когда он был главным художником издательства «Книга», в 1987 году. Все это был типичный редкий случай, когда издатель действительно прав. Мучил он художников страшно, но в моей практике это был единственный случай, когда мои иллюстрации раз от разу становились все лучше и лучше. У него был такой любимый афоризм: «Здесь работают только лучшие – и не ради денег». То есть книга понималась как чистое творчество, – его, Троянкера, творчество, и он мог с полным правом говорить – «мои книги». Его детища (Книжное обозрение. 2004. 24 февр. С. 9 / PRO 3).
И уйти из «Книги» Троянкер был вынужден потому, что новое руководство (Адамов и компания) предпочли творческому процессу создания книги соблюдение производственных графиков, создали обстановку, при которой созидательная художественная работа невозможна.
Миниатюрные и факсимильные издания
Уже вскоре после того, как Владимир Федорович Кравченко в самом начале 1977 года был представлен коллективу издательства «Книга» как новый его директор, 12 апреля 1977 года я написал О.В. Риссу:
В издательстве у нас, вероятно, будет создана новая редакция – миниатюрных и факсимильных изданий. Дело интересное. Поработал над проектом трехлетнего плана работы этой редакции. Можно много хорошего сделать, если, конечно, будут созданы нормальные условия. Тогда подвергнемся атакам со стороны всяких любителей. Тиражи-то этих изданий не могут быть большими. Значит, придется туго. Но дело стоит того. Можно получить дополнительную возможность для расширения изданий книг в области книжного дела, пусть и маленьких, и переиздать немало ценных справочных и тому подобных изданий вроде Мезьер [23], Иллюстрированной истории книгопечатания Булгакова и интересных книг ХVIII – начала XIX века. Хотя бы рылеевской «Звездочки», сохранившейся в единственном экземпляре, хранящемся в Публичной библиотеке.[24]
Издательство «Книга» и до прихода в него В.Ф. Кравченко выпустило несколько миниатюрных книг, но системным выпуском их оно обязано новому директору, который задумал создать специальную редакцию миниатюрных и факсимильных изданий и добился этого. По его просьбе председатель Госкомиздата СССР Стукалин, который благоволил к В.Ф., включил в план работы коллегии Комитета отчет издательства «Книга». Это нужно было Кравченко, в частности, и для того, чтобы в решение коллегии по его отчету вошел пункт о создании такой редакции в издательстве «Книга». Только так можно было воплотить в жизнь идею Стукалина сделать «Книгу» издательством эталонных и экспериментальных книг, образцов книжного искусства и полиграфического мастерства. Без специальной редакции сделать это было намного сложнее.
Конечно, Кравченко смотрел далеко вперед и понимал (как я уже говорил выше), что помимо выполнения задания Стукалина эти наши книги как неизбежный дефицит при их малом тираже станут хорошей «валютой», которая поможет наладить нужные издательству и ему самому деловые связи и создать благоприятные условия для реализации трудно воплощаемых замыслов.
Мое посильное участие в создании редакции миниатюрных и факсимильных изданий – разработка концепции и основных тематических направлений выпуска этих изданий.
На мой взгляд, это было делом именно главного редактора издательства. Конечно, им мог заняться и заведующий этой редакцией. Но самой редакции и, естественно, заведующего ею еще не существовало. А когда Кравченко его выбрал и назначил, стало ясно, что ему это не под силу. Г. Иванов, журналист, вернувшийся со службы в советском посольстве в Чехословакии, не только не разбирался в миниатюрных и факсимильных изданиях, но и азами редакционно-издательского дела еще не овладел. Он мог быть только организатором, им он и был.
Я же к этому времени уже был более или менее знаком с миниатюрными книгами как типом издания, поскольку по просьбе заместителя директора ГБЛ Огана Степановича Чубарьяна опекал выпуск двухтомного миниатюрного библиографического указателя отечественных миниатюрных книг с начала ХIХ века до середины 1970-х годов (формат 70 × 90 в 1/128 долю листа) под заглавием «Миниатюрные книги СССР (М., 1975. Т. 1: Дореволюционные издания. 192 с. Т. 2: Издания советского периода. 192 с.).
О.С. Чубарьян был большим любителем миниатюрных книг. Он написал вступительную статью к этому изданию «О миниатюрных книгах». Составителями выступили председатель Московского клуба собирателей миниатюрных книг Павел Давидович Почтовик, инициатор этого издания, и библиограф ГБЛ Софья Ивановна Захарова. Издательским редактором в редакции по библиотечному делу и библиографии стала Наталья Сергеевна Митрофанова, хорошо владевшая правилами библиографического описания.
Почтовик, работник Трансжелдориздата, сразу же вовлек меня в работу возглавляемого им клуба и пригласил на заседание по случаю его пятилетия. Оно проходило в Доме актера на Тверской, поскольку М.И. Жаров также оказался поклонником и собирателем миниатюрных книг. Павел Давидович уговорил меня быть редактором небольшой миниатюрной брошюры о работе клуба, выпущенной по случаю его пятилетия.
Так что когда зашла речь о создании редакции миниатюрных и факсимильных изданий, я мог уже высказать некоторые общие суждения о том, какими должны быть миниатюрные книги.
В моем архиве сохранилась записка того времени с рассуждениями на эту тему:
Выпуск миниатюрных книг не может вестись только исходя из литературных соображений, когда самое главное – что издать. Здесь центр тяжести неизбежно смещается на то, как издать. Это, конечно, не значит, что издатель миниатюрных книг может быть равнодушным к содержанию и выбору литературных произведений. Это говорит лишь о том, что каждая новая миниатюрная книга должна быть событием книжной культуры, что она непременно должна обладать совершенно оригинальной формой, делающей ее драгоценной именно благодаря своеобычной книжной форме. Таков один пласт миниатюрных книг, который следовало бы отнести к высокохудожественным изданиям. Другой же пласт – это книги деловые: миниатюрные справочники, путеводители, памятки и т. п., для которых миниатюрная книжная форма есть наилучшая с точки зрения работы с ними читателей (на ходу, в процессе какой-либо деятельности). В обоих случаях, таким образом, речь идет о том, что миниатюрная форма для изданий произведений самая органичная, что любая другая не позволит добиться наилучшего для читателя результата.
Именно поэтому произведение или произведения, которые могут быть воплощены в миниатюрную книжную форму, должны подходить для нее, должны органично выливаться в эту форму, как наилучшую, а для этого обладать такими особенностями, как: малый объем; выдающаяся значительность содержания и литературной формы, оправдывающая затраты и высокую художественность оформления и полиграфического исполнения издания. Это во-первых. А во-вторых, за миниатюрную книгу имеет смысл браться, когда художник может выдвинуть цельный замысел художественной миниатюризации, органичного воплощения в маленькую книгу именно этого содержания (не просто уменьшенная во много раз большая книга, которую без труда можно обратить в книгу обычную, а книга, которую и помыслить нельзя в иной художественной форме, в ином размере).
Поэтому поверхностный взгляд на новые миниатюрные книги, когда радость от пополнения коллекции застилает глаза и мешает оценке издания по существу, полезно заменить глубоким анализом их по выдвинутым выше критериям и, быть может, еще некоторым. Малый размер любой вещи – не только книги – всегда заставляет учащенно биться сердце взрослого, не утратившего способности чувствовать.
В конце этой записки я выдвинул идею выпуска серии «Шедевры русского рассказа», поскольку рассказ лучше всего подходит для миниатюризации.
Эти суждения и легли в основу разработанных мною «Основных тематических направлений выпуска издательством “Книга” миниатюрных и факсимильных изданий». Машинописная копия их с надписью «Приложение 2», которую В.Ф. Кравченко, видимо, прикрепил то ли к какому-то документу, то ли к просьбе о создании новой редакции, сохранилась в моем архиве:
Приложение № 2Основные тематические направления выпуска издательством «Книга» миниатюрных и факсимильных изданий
1. МИНИАТЮРНЫЕ КНИГИ
1. Основоположники марксизма-ленинизма, выдающиеся деятели КПСС о книге и книжном деле (издания о пропаганде и распространении книг).
2. Выдающиеся писатели и ученые о книге. Сборники материалов.
3. Художественные произведения о книге (издания отдельных произведений, сборники).
4. «Деятели книги». Миниатюрная серия. Краткие популярные очерки биографий русских издателей, типографов, книгопродавцев, библиотекарей, библиографов.
5. Миниатюрные альбомы произведений малой книжной графики (издательские марки, экслибрисы, буквицы, заставки, концовки).
6. Библиографические издания (указатели миниатюрных книг, библиофильской литературы, рекомендательные указатели к юбилейным и знаменательным датам и т. д.).
7. Библиофильская и книговедческая классика (лучшие избранные произведения библиофильской и книговедческой русской и зарубежной литературы).
8. Очерки о русской и советской миниатюрной книге и ее издателях.
9. Справочные книговедческие издания (справочники об издательствах, словари книговедческих, издательских, полиграфических терминов).
10. «Судьбы книг». Миниатюрная серия. Краткие популярные очерки об истории создания, издания и читательской судьбе выдающихся политических, научных и художественных книг.
К сожалению, вторая страница с основными тематическими направлениями факсимильных изданий у меня не сохранилась, но по приводимой ниже примерной типологии миниатюрных и факсимильных изданий о ней можно составить достаточно точное представление.
Многие из этих тематических направлений нашли впоследствии отражение в продукции нашего издательства.
А «Примерная типология миниатюрных и факсимильных книг издательства “Книга”» заняла 5 машинописных страниц. Приведу из них выдержки только о намеченных там группах книг:
А. Миниатюрные книги
Целесообразно различать следующие группы миниатюрных книг (по целевому назначению):
1) миниатюрную книгу как вид подарочного издания (будет разнообразить подарочные юбилейные издания благодаря своей необычности, особой остроте выразительности);
2) миниатюрную книгу как форму издания произведений малого объема (и подарочное издание, и функциональное);
3) миниатюрную книгу чисто функционального типа как наиболее отвечающую условиям пользования;
4) миниатюрную книгу как чисто экспериментальное издание с целью проверки пределов художественно-полиграфических возможностей («блоху подковать»).
Б. Факсимильные издания
Следует различать такие группы:
1. Издания – источники для работы специалистов (главным образом рукописные книги, а также рукописи, раскрывающие творческую историю выдающихся произведений, лабораторию писателя, ученого).
2. Памятники искусства книги, позволяющие библиофилам, книголюбам, художникам, издателям изучать шедевры художественно-полиграфического оформления, а музеям книги, клубам книголюбов устраивать выставки искусства книги с целью приобщения к художественной книжной культуре широкого читателя (рукописные и печатные книги, ставшие вехами в истории книжного искусства).
3. Памятники истории книги, уникальные по своей судьбе или социальной значимости, книги-реликвии (типа первых изданий произведений В.И. Ленина, «Звездочки», первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и т. п.).
4. Редкие издания о библиофильстве для книголюбов.
5. Справочно-библиографические издания, выпускающиеся ограниченными тиражами, для пополнения лакун государственных и личных библиотек.
6. Книги и альбомы с факсимильными воспроизведениями книжной графики.
Примечание. Любая из этих книг может быть выпущена как юбилейное издание.
По выпущенным впоследствии миниатюрным и факсимильным изданиям можно убедиться, что издательство исходило именно из названных выше их типов.
Выпускать литературно-художественные миниатюрные книги нам было сложно по нескольким причинам: во-первых, потому, что издательство «Книга» подчинялось Главной редакции общественно-политической литературы Госкомиздата СССР, а не Главной редакции художественной литературы того же учреждения, а во-вторых и в главных, потому, что Комитет стремился к строгой типизации издательств, с тем чтобы избежать дублирования. Поэтому, чтобы не обращаться в Комитет со специальной просьбой разрешить нам выпуск миниатюрных изданий художественной литературы, я предложил, учитывая в целом их подарочный характер, положить в основу планирования юбилейный принцип, оправдывающий выпуск любого издания любого вида литературы. Это не вызывало нареканий, но несколько связывало в выборе произведений, достойных миниатюризации.
В августе 1983 года, когда мы уже накопили опыт выпуска миниатюрных книг, В.Ф. Кравченко получил приглашение принять участие в Международном совещании по миниатюрным книгам в Любляне (Словения), которое он охотно принял. Один из организаторов этого совещания, словенский коллекционер миниатюрных книг, общавшийся с Московским клубом собирателей миниатюрных книг и постоянно приезжавший на ММКВЯ, очень заинтересовался нашим опытом: посещал наш стенд на выставке, побывал и у нас в издательстве, стал пополнять свою коллекцию нашими книгами. Он-то и постарался пригласить Кравченко на совещание. Тот попросил меня подготовить проект доклада на тему «Издание миниатюрных книг в СССР на современном этапе», что я и сделал. Воспроизводить его здесь в полном виде нет смысла (хотя у меня сохранилась его копия), но положения той концепции выпуска миниатюрных книг, которую исповедовало наше издательство, стоит привести, поскольку в них выражена их отличительная особенность:
Рост популярности миниатюрных книг не означает, однако, что во взглядах на них в СССР все издатели единодушны и что практика их выпуска достаточно цельна и последовательна. Можно сказать, что здесь сталкиваются, противоборствуют и стараются утвердиться три разные точки зрения, три разные издательские концепции.
Первая, которую исповедует издательство «Книга»: миниатюрная книга – не игрушка, а хоть и особая, но книга для чтения – она должна набираться удобочитаемыми шрифтом, включать необходимый справочно-вспомогательный аппарат, требует специально создаваемого для нее полноценного художественного оформления, поскольку каждая такая книга должна быть неповторимым произведением книжного искусства, событием в издательской жизни страны. Она требует особо тщательного, образцового полиграфического исполнения, без которого ее выпуск обессмысливается.
Вторая, которую своей предшествующей практикой представляет, например, издательство «Художественная литература»: миниатюрная книга радует читателя одним своим малым размером, ею главным образом любуются, но произведения, напечатанные в ней, удобнее читать в издании обычного размера, и потому нет необходимости заботиться об удобочитаемости шрифта, об иллюстрировании и аппарате – достаточно яркой суперобложки и полиграфического изящества.
Третья: миниатюрная книга хороша и в таком полиграфическом исполнении, в каком выпускается обычная книга, с теми же допусками, поэтому нет необходимости добиваться особой тщательности полиграфического исполнения, предъявлять повышенные требования к оформлению, набору, печати, брошюровочно-переплетным работам; отсюда небрежность в исполнении, низкое качество материалов и т. п., хотя одно это должно было бы заставить отказаться от миниатюризации.
Гибель «Книги»
Я разговаривал с разными работниками АО «Книга и бизнес» о том, почему погибла «Книга» и кто ее погубил. Гибель издательства, с которым была связана большая часть моей издательской работы, не могла не мучить меня. В частности, и потому, что пока АО «Книга и бизнес» еще существовало как полноценное издательство, я мог его посещать как бывший сотрудник и не чувствовать себя отрезанным от издательской жизни. Поэтому я стал расспрашивать разных его работников, в чем причина гибели сначала прославленного, чуть ли не легендарного издательства «Книга», а затем и АО «Книга и бизнес». По мнению Ирины Аркадьевны Лепилиной, ведущего редактора издательства, работавшей в нем почти до самой продажи В.Н. Адамовым здания на Тверской, 50, которого с таким трудом добился для издательства Владимир Федорович Кравченко, главный виновник краха – М.Ф. Ненашев, последний председатель союзного Госкомиздата.
Опасаясь, что возглавляемый им комитет может испариться как дым, он задумал многоходовую комбинацию, при которой не остался бы без работы и хорошего заработка в случае, если комитет исчезнет, а сам он в новых условиях выпадет из руководящей номенклатуры. Он реорганизовал комитет, создал в нем экспортное управление, которому подчинил издательства «Прогресс», «Мир», «Радуга», «Аврора», выпускающие книги для зарубежных стран, соблазнил Кравченко перейти на место начальника этого управления, а директором в «Книгу» послал своего советника Виктора Николаевича Адамова. Издательский опыт последнего явно не тянул на руководство таким издательством: он до прихода в «Книгу» был главным редактором журнальчика о комсомольской жизни в «Молодой гвардии». Главное же, содержательная сторона издательской деятельности ему была глубоко безразлична. Зато Адамов был удобен для Ненашева как свой человек, который останется ему верен. И это предопределило выбор.
Так и получилось. Еще прежде чем Комитета не стало, Ненашев поспособствовал тому, чтобы издательство превратилось в акционерное общество (АО). Благодаря Адамову Ненашев избирается председателем совета директоров АО с солидным окладом и работой «не бей лежачего». Издательство «Книга» превращается в одно из звеньев АО «Книга и бизнес» ― ЛТД «Книга и бизнес». В качестве главного редактора ее возглавляет пришедший из комитета в «Книгу» вместе с Адамовым И.А. Прохоров. Тогда проходило сокращение аппарата комитета. Прохоров, работавший до этого в Политиздате, затем в комитете в качестве заместителя главного редактора Главной редакции общественно-политической литературы и инспектора Управления руководящих кадров, подпадал под него, и поскольку место главного редактора «Книги» пустовало, его отправили туда. Для него, точно так же как и для Адамова, содержание и направление работы издательства не были чем-то близким, важным, лично нужным.
Итак, издательство оказалось во власти людей, заинтересованных главным образом в собственном благополучии.
Когда я узнал, что главным редактором Адамов берет себе Прохорова, с которым я был знаком по его работе в Главной редакции общественно-политической литературы, то, понимая, что он не в состоянии руководить редакционной службой такого издательства, решил по наивности порекомендовать Адамову в качестве главного редактора Владимира Павловича Кочетова, работавшего одно время моим заместителем, а затем вернувшегося на работу в аппарат Союза писателей. Образованный литературный критик, талантливый человек, он бы много хорошего мог сделать для издательства. Адамов внимательно меня выслушал, но не стал ничего менять: зачем ему было тогда портить отношения с Госкомиздатом, которому требовалось трудоустроить Прохорова?
Ради собственного благополучия Адамов и Прохоров пустились в коммерческие авантюры. Превратив издательство «Книга» в акционерное общество «Книга и бизнес», они в конце концов практически перестали издавать книги, а в бизнесе потерпели жесточайшее крушение.
Хотя, например, бывшая заведующая планово-экономическим отделом Ф.М. Шкловер по-иному оценивает экономические таланты Адамова. Она написала мне в ответ на вопрос, в чем причина гибели «Книги»:
Расцвет экономики пришелся на время правления Адамова. <…> Адамов – дитё комсомола – мало заботился о тематике, и поэтому пришлось идти другим путем: создавать совместно с иностранным капиталом (впервые в отрасли) акционерное общество «Книга и бизнес». <…> Виктор Николаевич, несомненно, умный и хваткий человек, но он не смог подобрать нужные кадры, очень поддавался так называемым друзьям-коллегам, которые направляли весь его незаурядный талант в сторону бизнеса, не всегда умелого и достойного. Вначале с приходом Адамова издательство достигло значительных успехов в перестройке издательского дела, в громадном потенциале новых экономических рычагов: мы первые в отрасли создали совместное советско-канадское акционерное общество «Книга Принтшоп», вышли на международный рынок не только со своей продукцией, но и по созданию международного концерна по переработке макулатуры и выпуску совместных изданий на основе полученной от переработки макулатуры бумаги, завязали связи с неотраслевыми предприятиями (кооперативами, малыми предприятиями и т. д.), выпуская совместные периодические и книжные издания. Все это работало на экономику издательства. Финансовое положение издательства было стабильным, оплата труда работников издательства на порядок превышала уровень всех других издательств. Но у Адамова началась «звездная болезнь». Он стал подумывать о разделе издательства, о создании мелких акционерных обществ, входящих в состав АО «Книга и бизнес». Вот тут он все и испортил. Каждая вновь созданная фирма стала работать только на себя, а то, что осталось у него, уже не могло заниматься книгоизданием, и он стал заниматься сомнительным бизнесом, который привел к краху, к большим долгам. И чтобы рассчитаться, пришлось продать дом на ул. Горького, 50.
Фаина Михайловна сочиняла ответ в спешке, торопясь переслать его мне из Израиля, где она теперь живет, с гостями из Москвы. Отсюда повторы, стилистические погрешности, но приведенные ею факты в общем не противоречат тому, о чем пишу я.
Загубили издательство люди, которым все достижения Кравченко и его коллектива были глубоко безразличны.
Многие государственные издательства, руководители которых не привыкли быть самостоятельными, деятельными, разворотливыми предпринимателями, в новых экономических условиях оказались на краю гибели и в лучшем случае влачили жалкое существование. Конечно, условия оказались очень жесткими. Тому, кто не располагает оборотными средствами, трудно поддерживать издательскую деятельность. Но все же и среди государственных нашлись такие, которые сумели не только выжить, но и успешно вступить в соревнование с издательствами негосударственными. Назову, например, издательства «Финансы и статистика», «Радуга».
Что же касается «Книги», то ее увядание и гибель объясняются не столько указанными выше причинами, сколько заботой ее руководителей главным образом о себе, о своем кармане.
Адамов пустился в коммерцию, не связанную с издательским делом, не обладая для этого личными деловыми качествами. И, превратив «Книгу» в АО «Книга и бизнес», в бизнесе потерпел крах.
Конечно, как специализированному («Всё о книге, всё для книги») издательству было не выжить. Но уверен, что если бы во главе его оставался Кравченко, «Книга» бы все же не погибла. При всех неприятных чертах его характера он был деятельным, энергичным хозяйственником с коммерческой жилкой. Скорее всего, он превратил бы АО в издательство чисто художественной литературы, частично выпускаемой в виде элитных изданий. Все же он был издателем-профессионалом и в первую очередь дорожил результатами своей деятельности, успехом издаваемых книг. Хотя и среди изданий «Книги» были такие, которые в новых условиях могли пользоваться большим спросом и приносить доход. Во всяком случае, другие издательства не раз их переиздавали и неплохо на этом зарабатывали. Назову «Справочник по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя. Его издавали не менее пяти раз после того, как «Книга» выпустила его пятое издание в 1989 году. А серия «Книжное дело» издательства «Юристъ»? Конечно, она вряд ли принесла ему заметную выгоду, но и убытков не причинила. А миниатюрные книги издательства «ЯникО»? Разве они не заняли нишу, которая раньше принадлежала издательству «Книга»? Да и мой «Справочник издателя и автора» выпускался тремя изданиями. Таким образом, издательство могло продолжать выпуск книг и своего специфического профиля, если бы, конечно, этот профиль и само издательское дело были по-настоящему дороги его руководителям.
На тему причин гибели «Книги» я разговаривал со многими его работниками. В частности, 11 апреля 1999 года я побеседовал с Ларисой Семеновной Ереминой, давним редактором «Книги», ведущим редактором группы (в ту пору, когда редакции заменили редакционными группами). Она работала в издательстве «Книга и бизнес» вплоть до того времени, когда оно предпочло расстаться со всеми редакторами и сузить издательскую деятельность до нескольких книг в год, для чего, конечно, штатные редакторы, а тем более их группы не нужны.
Еремина поначалу объяснила гибель новыми экономическими условиями, к которым старые издательства не смогли приспособиться. А мой вопрос: «Почему же издательства “Радуга”, “Финансы и статистика” сумели это сделать?» – она парировала короткой фразой: «Они не создавали холдинга». А потом добавила: «Адамов оголтело бросился в коммерцию, предпочел “бизнес” развертыванию издательской деятельности, хотя она бизнесу ничуть не мешала. Заработанные от издательской деятельности деньги пошли на предприятия сомнительных фирм, возглавлявшихся сомнительными личностями: строительство коттеджей на Черноморском побережье, гостиницы в Москве. Деньги были вложены и испарились. Если бизнес что-то и дал, то руководителям АО, а не издательству, на основе которого АО возникло».
Таково мнение Ереминой. А заместитель генерального директора АО «Книга и бизнес» по производству Ким Львович Шехтмейстер, с которым меня связывали давние дружеские отношения, рассказывал мне, что в 1993–1994 годах, чтобы начать производство очередной книги, надо было дождаться выхода предыдущей, которая дала бы деньги для продолжения. Между тем издательство ввязалось в выпуск журналов «Он» и «Она» явно нереализуемым тиражом и понесло огромные убытки.
Почему же неглупый человек, генеральный директор В.Н. Адамов, пускался в гибельные авантюры? И почему коллектив издательства, его акционеры, стерпели все это, не прокатили Адамова на собрании акционеров? Особенно тогда, когда они уже никак не зависели от него, будучи уволенными за ненадобностью? Интересные вопросы, ответа на которые не знаю.
Между прочим, АО «Книга и бизнес» как издательство существует до сих пор[25], или, точнее сказать, влачит жалкое существование. Проследить за тем, какие книги оно выпускает, трудно. В списках сигнальных экземпляров «Книжного обозрения» я заметил такие две книги:
Воротников В.И. А было это так…: Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. 2-е изд., доп. М.: Книга и бизнес, 2003. 640 с. 2000 экз.
Безопасность Евразии-2003: Энцикл. слов. – ежегодник. Вып. 2 / Авт. – сост. В. Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2004. 624 с. (За нашу и вашу безопасность). 500 экз. Прил. к журн. «Безопасность Евразии».
В интернете список выпущенных «Книгой и бизнесом» изданий выглядит довольно бедно:
Баханькова Е.Р. Некоммерческие организации: финансовое управление. М.: Книга и бизнес, 2008.
Гамольский П.Ю. Некоммерческие организации: особенности налогообложения и бухгалтерского учета в 2008 году (с учетом последних изменений и дополнений). М.: Книга и бизнес, 2008.
То же в 2009 и 2010 годах, без хронологических уточнений.
Гамольский П.Ю. Некоммерческие организации: образцы документов. М.: Книга и бизнес, 2011.
Один раз для получения справки о моем заработке в издательстве «Книга» за последние пять лет работы, которую потребовал собес для перерасчета пенсии, мне пришлось посетить АО «Книга и бизнес». Оно занимало верхний этаж здания, принадлежащего какому-то ресторану. Бухгалтер, который подготовил для меня справку и подписывал ее у В.Н. Адамова, сообщил мне, что Виктор Николаевич меня помнит. Радости это мне не доставило.
На пенсии
Итак, я оказался вне стен издательства, отправленный на заслуженный отдых, который был мне вовсе не нужен.
Что было делать?
Просто жить в свое удовольствие для меня удовольствием быть не могло.
Правда, некоторое время ушло на то, чтобы завершить работу над книгами, начатыми или задуманными еще раньше.
Первая – технически очень сложное второе издание «Памятной книги редактора». Вышло оно в 1988 году, но работать над ним я начал, еще когда состоял в штате «Книги». В сущности, называть эту книгу вторым изданием можно только с очень большой натяжкой, так как она строилась совсем по иному принципу, чем в первом издании, и поэтому текст нескольких глав, перешедших оттуда, пришлось перестраивать. Вдобавок пришлось проделать большую расчетную работу, чтобы текст примеров отвечал нормативным требованиям – например, соответствовал по ширине установленному нормативами формату.
В обращении «К читателю», открывавшем книгу, написано:
Наглядно продемонстрировать, как нужно в соответствии с нормативными документами, издательскими правилами и условиями пользования изданием оформлять заголовки и перечни, сокращения и выделения, числа и даты, единицы физических величин и цитаты, формулы и таблицы и т. д. и т. п. – такова задача этого справочного пособия.
Я стремился выпустить книгу образцов, которым автор и редактор могут без труда следовать. Так, в книгу вошел список названий действующих издательств в форме, установленной для библиографического описания. Например:
М.: Агропромиздат
Кострома: Верх. – Волж. кн. изд-во. Костром. отд-ние.
Вторая книга – «У слова стоя на часах» О.В. Рисса (второе издание его книги «Дозорные печатного слова»). Рисс скончался в 1986 году и не успел завершить подготовку этого издания. И я как его эпистолярный друг и как человек, побуждавший его к такой подготовке, был обязан это сделать. Кроме того, я написал послесловие о жизни и творчестве автора на основе моей переписки с Олегом Вадимовичем и его архива, переданного мне вдовой. Книга вышла в свет в 1989 году.
Третьей по дате выхода стал сборник «Писатели советуются, негодуют, благодарят: О чем думали и что переживали русские писатели XIX – начала ХХ века при издании своих произведений: По страницам переписки» (М., 1990). Замысел этой книги возник лет за пятнадцать до ее выхода, когда я начал систематически читать эпистолярные тома собраний сочинений русских писателей XIX – начала ХХ века, а также книги и журналы с их письмами и перепиской и делать выписки фрагментов, связанных с изданием их произведений.
Параллельно я читал лекции по редактированию во Всесоюзном институте повышения квалификации работников печати на условиях почасовой оплаты, которая вместе с пенсией в 132 руб. не должна была превышать 190 руб., что практически означало не более шести двухчасовых лекций в месяц. Все же это было полезным и в какой-то степени творческим делом. Пригласил меня читать лекции Раис Галеевич Абдуллин, заведующий кафедрой редактирования этого института (тот самый, который много лет назад полемизировал с моей первой статьей о редактировании, о чем рассказано ниже, в главе «Мое авторство»). Ректор С.А. Чибиряев еще тогда, когда я работал в «Книге» и Кравченко не стремился меня оттуда «выжить», по телефону предложил мне перейти в его институт заведовать кафедрой редактирования. Я поблагодарил его, но сказал, что не могу оставить издательство, и порекомендовал ему Абдуллина, который прежде был секретарем ученого совета ГБЛ, но после ухода с поста ее директора Н.М. Сикорского чувствовал себя там неуютно. Поэтому Абдуллин охотно принял это предложение. Но после того как Советский Союз распался, Всесоюзный институт повышения квалификации работников печати приказал долго жить.
Вот тут-то я и оказался на распутье. Как преподаватель я стал невостребованным. В МПИ меня никто не приглашал, да и мои представления о редактировании и его преподавании расходились с представлениями заведующего кафедрой редактирования Сикорского. Когда дело касалось преподавания этой дисциплины на факультете повышения квалификации, это не было препятствием. Там разрешалось преподавать по собственной программе.
Кажется, именно в это время я принялся составлять каталог домашней библиотеки, которая разрослась до такой степени, что найти в ней нужную книгу только по памяти было уже крайне затруднительно. Трудоемкая эта работа заняла немало времени.
И тут бывший заместитель директора «Книги» Виктор Иосифович Энгель, основавший собственное издательство «Рассвет», пригласил меня занять в нем должность главного редактора. Кроме меня, в это издательство он пригласил в качестве редактора Ольгу Васильевну Сергееву (Полькину), которая в «Книге» была редактором в редакции литературы по издательскому делу и книжной торговле. Удачная находка для «Рассвета»: Ольга Васильевна – человек очень живой, не чурающийся черновой работы, а главное, толковый, схватывающий все на лету.
До нашего прихода в «Рассвет» это издательство выпустило всего одну книгу – «Библейские сказания».
Я видел свою первостепенную задачу в том, чтобы подобрать для небогатого «Рассвета» книги небольшого объема, которые бы не требовали выплаты авторского гонорара и которые можно было бы отпечатать без больших затрат на покупку бумаги и оплату полиграфических услуг.
Я перерыл массу справочных изданий в поисках достойных произведений и составил необъятный список «Библиотеки малой прозы». Но для начала, поскольку в те годы был огромный спрос на книги, в советские времена малодоступные или вовсе недоступные, выбрал для издания книгу В.О. Ключевского «Краткое пособие по русской истории». В 1992 году она была выпущена тиражом 150 тыс. экз. и принесла «Рассвету» существенный доход.
Впрочем, В.И. Энгель поддерживал финансовую устойчивость своего издательства не столько изданием собственных книг, сколько перепродажей книг других издательств на периферии (в то время, как известно, система книжной торговли в стране перестала существовать).
Что же касается книг «Рассвета», то я стал готовить сборник произведений Бабеля «Одесские рассказы» в виде малоформатного издания с не печатавшимися ранее рисунками Филипповского, а Ольга Васильевна – «Сказки» Уайльда (правда, это последнее требовало некоторых затрат – авторский гонорар переводчику, точнее его наследнице и автору вступительной статьи Е.Ц. Чуковской). Но поскольку оба издания выпускались большим тиражом, это не могло служить препятствием.
Однако когда книга Бабеля была набрана, прошла все корректуры и оригинал-макет ее был подписан в печать, выяснилось, что Энгелю не хватает средств за закупку бумаги для тиража в 100 тыс. экз., а это было обязательным условием типографии. Так подписанный к печати оригинал-макет «Одесских рассказов» лег на полку в квартире Энгеля, а вскоре и само издательство «Рассвет» закончило свой недолгий жизненный путь. Было очень обидно, что издание сборника Бабеля не состоялось. На его подготовку было затрачено много усилий. Я привлек к участию в нем Ушера Спектора, библиофила, собирателя и знатока миниатюрных книг, радиоинженера по специальности и исследователя-любителя по призванию, большого поклонника творчества Бабеля. Он раскопал материалы о прототипах героев бабелевских «Одесских рассказов», особенно знаменитого Япончика. Я знал об этом благодаря встречам со Спектором на заседаниях Московского клуба собирателей миниатюрных книг и предложил ему поучаствовать в нашем издании «Одесских рассказов». Он охотно согласился. Выяснилось, что он владеет оригиналами рисунков художника Филипповского к «Одесским рассказам», из которых печаталось лишь несколько. Их подарила ему вдова Филипповского Эрна Ракузина. Она училась в МПИ на одном курсе со мной, только на художественно-оформительском отделении. Ушер Спектор написал для сборника послесловие и справку о рисунках Филипповского. Над текстами Спектора пришлось немало потрудиться, так как писал он небрежно и слога своего не выработал. Все было завершено, вся правка с ним согласована, но, увы, он скончался, не дождавшись выхода книги. Да она и не была издана. О Спекторе и его участии в несостоявшемся издании «Одесских рассказов» я уже много позднее опубликовал заметку в четвертом выпуске альманаха «Иерусалимский библиофил» (2011). Заметку проиллюстрировали ранее напечатанными рисунками Филипповского к «Одесским рассказам» Бабеля. В том же году был издан альбом всех рисунков художника: «Филипповский иллюстрирует Бабеля» (М.: Рус. импульс, 2011. 87 с.: ил.). Составили альбом Эмиль Казанджан и Вера Калмыкова. Им же принадлежат вступительные статьи. Первый после кончины Спектора стал владельцем рисунков Филипповского. Кстати, когда М.В. Рац узнал от меня о нереализованном издании сборника «Одесские рассказы» Бабеля, он предложил Казанджану взять на себя это издание (а я в надежде на это даже позвонил Энгелю, чтобы узнать, цел ли оригинал-макет, и Энгель заверил меня, что оригинал-макет хранится у него в целости и сохранности), но Казанджан ответил, что не располагает для этого средствами.
После того как издательство «Рассвет» приказало долго жить, я снова оказался не у дел. Но продолжалось это сравнительно недолго. Вскоре меня пригласил для беседы на предмет участия в подготовке справочно-методического пособия для новых издателей и тех, кто стремится ими стать, Юрий Федорович Майсурадзе, начальник управления издательств и книжной торговли Министерства печати. Встретившийся мне там в коридоре инспектор по кадрам Неретин (им он был в Госкомиздате СССР, а какую должность занимал в тот момент, не знаю) сказал, что это он рекомендовал меня Юрию Федоровичу. Может быть, и так. Юрия Федоровича я немного знал по его работе в Главном управлении координации Госкомиздата СССР, где он был заместителем начальника управления и занимался изданиями Всесоюзной книжной палаты.
Юрий Федорович предложил мне быть составителем задуманного сборника-справочника. Мне это было не по душе. Не столько затруднял подбор авторов, сколько пугала нелюбимая организаторская работа. Я предложил Юрию Федоровичу такой вариант сотрудничества. Я составлю план-проспект сборника и предложу известных мне приемлемых авторов-исполнителей, а также с удовольствием возьмусь написать главы на темы, которыми хорошо владею: редактирование, корректура, основные сведения о книге. Не отказался я и от общего редактирования сборника. Юрий Федорович согласился с этим. Он был заинтересован в выпуске сборника не только как начальник управления, но и как один из потенциальных авторов. Редакторская моя работа над сборником была обычной, но достаточно трудоемкой.
Для выпуска этого пособия Майсурадзе выбрал издательство «Прогресс» и работавшую в нем редакцию нового журнала «Книжное дело», возглавляемую Сергеем Сергеевичем Носовым. Этот выбор был для меня в известной степени судьбоносным. Тесно сотрудничая с этой редакцией, прежде всего с самим Носовым как одним из титульных редакторов сборника (вторым был Майсурадзе), я стал желанным сотрудником для журнала.
Пособие «Как издать книгу» вышло в свет в 1994 году и получило одобрение в напечатанной в «Книжном обозрении» обширной рецензии Бориса Владимировича Ленского, где он, среди прочего, лестно упомянул о моих лекциях на курсах повышения квалификации редакторов Внешторгиздата (на которых был одним из слушателей).
Еще до выхода упомянутой книги в том же 1994 году в № 1 «Книжного дела» была опубликована организованная С.С. Носовым беседа со мной И. Рахманиной. Видимо, сделано это было в преддверии моего 70-летия. Впрочем, беседовала со мной И. Рахманина еще в 1993 году, и это меня немного удивило: я не привык к такому вниманию к моей особе.
В выпускаемом Носовым журнале я стал публиковать свои книговедческие заметки. Кроме того, Сергей Сергеевич привлекал меня в качестве внештатного редактора публикуемых в журнале переводных материалов из зарубежной периодики того же профиля, что и «Книжное дело». Так что проблема, чем заняться, передо мной не стояла. К тому же мне очень нравилось, как делался журнал «Книжное дело». И я старался помочь Носову полезными, на мой взгляд, соображениями. Поскольку Сергей Сергеевич ввел в журнал раздел всяких справочных сведений, необходимых прежде всего работникам издательств, я посоветовал ему напечатать словарь издательских терминов, который научно-исследовательский отдел Книжной палаты готовил к изданию на основе ранее выпущенного под моей редакцией «Словаря издательских терминов» (М., 1983). Но Сергей Сергеевич сказал, что не хочет связываться ради этого с научными учреждениями, и предложил составить такой словарь для журнала мне, что я и сделал, как говорится, с чистого листа, не опираясь на определения «Словаря издательских терминов» ВКП. Легко проверить, что мои определения не совпадают с определениями упомянутого издания. Приходится это подчеркивать, потому что в отчете о проделанной Книжной палатой работе недобросовестно, без всяких для этого оснований было объявлено городу и миру, что я напечатал в журнале словарь, подготовленный сотрудниками Книжной палаты (хотя я его в глаза не видел), дополнив справочными сведениями (об этой некрасивой истории и о дальнейшей судьбе моего словаря я уже рассказал более подробно в главке «“Словарь издательских терминов”»).
Мой «Издательский словарь-справочник» был напечатан сначала в журнале «Книжное дело» (1995. № 1–8/9), а затем, в 1998 году, вышел отдельным изданием в серии «Книжное дело» издательства «Юристъ».
На это издание откликнулся рецензией в журнале «Библиография» (1999. № 1) А.А. Гречихин. Одобряя книгу и не разбирая определений терминов в словаре-справочнике, он сосредоточил свои усилия на критике предметно-тематического указателя к нему, который рассматривал как терминосистему. Я не мог не откликнуться на эту рецензию и послал в журнал «Библиография» реплику, которая была напечатана в № 4 за 2000 год в отделе «Дискуссии и обсуждения» под заголовком «Камень преткновения издательской терминологии». В ней содержится критика определений основных издательских терминов в ГОСТ 7.60–90. Кроме того, я посетовал на то, что А.А. Гречихин разбирает предметный указатель – элемент книги прагматического назначения – как научную работу. Но сам факт обсуждения нельзя было расценить иначе как положительно.
Вообще, конец 1990-х годов оказался для меня очень удачным. Мне уже не нужно было задумываться, чем бы полезным заняться. Самой же большой удачей этого времени было предложение директора издательства «Олимп» М. Каминского написать для него «Справочник издателя и автора» (формулировка моя; Каминский говорил о справочнике для издателей). Вышел «Справочник издателя и автора» в 1999 году. В нем мне принадлежат все главы, кроме одной – о правилах написания названий; ее автор – Л.К. Чельцова, один из ведущих научных сотрудников Института русского языка РАН.
Впоследствии, в 2003 году, «Справочник издателя и автора» вышел вторым изданием в издательстве «ОЛМА-пресс».
Особенно удачным было третье издание «Справочника», выпущенное Студией Артемия Лебедева[26]. Оно было значительно дополнено, а главное, очень хорошо оформлено и отпечатано. Получился настоящий гроссбух, пользующийся большим успехом.
Издательство «Центрполиграф», куда перешел из «Прогресса» журнал «Книжное дело», погубило его как книговедческое издание. Он продолжал выходить, но как издание чисто книготоргово-библиографическое, ни в малейшей степени не играя той роли, которую исполнял этот журнал под руководством С.С. Носова. Поэтому свои заметки книговедческого характера я стал публиковать сначала в газете «Книжное обозрение», а затем в журнале «Полиграфист и издатель». Но после кончины главного редактора этого журнала А.И. Овсянникова в редакцию пришли новые люди, которые не проявили никакого интереса к моим заметкам. Пришлось мне вернуться к сотрудничеству с редакцией «Книжного обозрения».
Когда заметок накопилось довольно много, я задумал объединить их в небольшое пособие, поскольку полагал, что журнал и газету немалое число редакторов, издателей и авторов не видели и не читали. Но долгое время мои предложения разным издательствам успеха не имели. Затем мне повезло. Моя дочь Вера, зная о широких издательских связях хорошо знакомого ей известного переводчика Александра Яковлевича Ливерганта, спросила его, может ли он поспособствовать в устройстве моего сборника, которому я дал название «Культура издания: Как надо и как не надо делать книги». А.Я. Ливергант переговорил с гендиректором издательства «Логос» Николаем Николаевичем Пахомовым, и тот согласился принять мое предложение. В 2002 году небольшая моя книжечка, приятно оформленная и хорошо отпечатанная, вышла в свет.
Она пользовалась успехом, и Н.Н. Пахомов через несколько лет говорил мне, что подумывает о допечатке ее тиража.
Этого, правда, не случилось. Зато, к моей радости, в «Логосе» я встретил Сергея Сергеевича Носова, которого Пахомов пригласил заведовать отделом распространения. Вскоре, правда, Носов перешел в редакцию журнала «Университетская книга» и превратил его в журнал, интересный для сотрудников всех, а не только университетских издательств.
Связь с издательством «Логос» привела к тому, что оно охотно приняло мое предложение выпустить третьим изданием мое пособие «Методика редактирования текста». Поскольку со времени выхода второго издания прошло 20 лет, можно было обоснованно предположить, что новым поколениям редакторов и авторов оно малодоступно.
Николай Николаевич Пахомов решил получить на него гриф университетского учебника. Он заказал рецензии ректору МГПУ А.М. Цыганенко и Б.В. Ленскому, к тому времени уже ставшему доктором филологических наук и профессором. Положительные рецензии были получены, и книга в третьем издании получила гриф Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области полиграфии и книжного дела в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 – «Издательское дело» и специальности 030901 – «Издательское дело и редактирование».
«Методика редактирования текста» вышла в «Логосе» в 2003 году в серии «Новая университетская библиотека».
Этот же 2003 год ознаменовался для меня и выпуском издательством «ОЛМА-пресс» двух моих книг – второго издания «Справочника издателя и автора» (о чем я уже упоминал выше) и второго же издания «Издательского словаря-справочника». Я называю «Справочник издателя и автора» моим, хотя, как я уже указывал, одна глава была в нем написана Л.К. Чельцовой. Она, впрочем, сама удивлялась, что я сделал ее соавтором, но иное решение – лишь указать на обороте титульного листа, что такая-то глава написана ею, – казалось мне принижающим ее роль в создании книги. Конечно, подготовка каждого нового издания требовала от меня немалой работы, но мне это было только в радость.
Не могу не отметить, что все мои книги и в «Логосе», и в «ОЛМА-пресс» практически не редактировались, выходили, так сказать, в авторской редакции. Вся работа редакторов сводилась к корректуре. Ни замечаний, ни исправлений не было. Это меня несколько удивляло и даже огорчало, потому что я, как любой автор, небезгрешен и редакторские критические замечания могли бы в чем-то улучшить книгу. В «Логосе» редактировать мои книги поручили опытному корректору А.В. Поляковой, работавшей до «Логоса» в издательстве «Советский писатель». Впрочем, тогдашний главный редактор «Логоса» (фамилию ее позабыл) сказала мне: «Вас редактировать – только портить» (воспроизвожу смысл, а не точные ее слова).
Параллельно с работой над собственными книгами протекала моя большая и очень трудоемкая редакторская работа.
Редколлегия сборника воспоминаний бывших студентов МПИ попросила меня взять на себя его редактирование. Не зная еще, во что выльется эта работа, я согласился, посчитав выбор редколлегии лестным для себя: ведь и в редколлегии, и среди авторов воспоминаний было немало опытных и талантливых редакторов. Вероятно, причиной стал мой опыт редактирования книг по редакционно-издательскому делу.
В 2001 году исполнилось 50 лет со дня окончания МПИ наиболее многочисленной группой редакторов. Среди них оказалось несколько деятельных, которым и пришла в голову идея выпуска сборника воспоминаний об альма-матер. Сколотилась инициативная группа, которая по цепочке стала предлагать бывшим выпускникам выступить на страницах сборника с такими воспоминаниями.
Тогда же, не помню от кого, получил такое предложение и я. Меня оно увлекло. И я согласился на него и написал воспоминания, которые были одобрены бывшей студенткой Пушкиной (кажется, именно она и предложила мне написать воспоминания). Она развеяла мои сомнения в их пригодности[27].
Организаторскую работу на себя взяла выпускница художественно-оформительского отделения МПИ Ольга Кравченко. Без нее, уверен, сборник вряд ли бы состоялся. Она собирала тексты и передавала их мне. Причем она старалась связаться и с теми выпускниками, которые жили за рубежом, была на редкость дотошной. После редакционной обработки я возвращал тексты ей, и она занималась организацией перепечатки.
Большое содействие нам оказывала Светлана Владимировна Морозова, заведующая Музеем МПИ.
Книга 1 сборника «Мы из МПИ» вышла в 2005 году, книга 2 – в 2006 году. Участие мое в подготовке сборника в целом доставило мне большое удовольствие. Было приятно общаться с бывшими выпускниками, такими как Анатолий Сафонов, Саида Сахарова, Светлана Мартемьянова, Женя Смирнов (с ним мы вдобавок когда-то вместе работали в «Искусстве» и он, как я уже рассказывал выше, прекрасно оформил книгу О.В. Рисса «Дозорные печатного слова»).
После работы над сборником «Мы из МПИ» я вернулся к своей авторской работе. Возможно даже, что ее я выполнял и параллельно с работой над сборником.
После 2006 года редактировать книги мне не приходилось, я был занят только авторской и составительской работой, которую описал в главе записок «Мое авторство».
Мое авторство
Вступление
За свою уже долгую жизнь я написал и опубликовал довольно много текстов: книг, глав в книгах, статей, рецензий, обзоров, заметок.
Количественно это выглядит на конец 2012 года, пожалуй, даже солидно:
• более 30 книг (написанных мною целиком или в качестве одного из соавторов);
• 185 статей и заметок по проблемам редактирования, издательского дела, книговедения, библиографии;
• более 30 статей-обзоров, пропагандирующих книги редакции литературы по книгоиздательскому делу, полиграфии и книжной торговле, а также издательства «Книга»;
• около 10 рецензий на книги и заметок об авторах;
• около 20 предисловий, послесловий, вступительных статей и т. п.
Подавляющее большинство этих текстов носит специальный, отраслевой характер, относится к той области деятельности, которой я занимался профессионально, – редактированию, издательскому делу, книговедению, библиографии. В этой области я – могу сказать это без ложной скромности – составил себе имя; в нее я внес нечто новое, то, чего до меня никто не говорил. Это отнюдь не значит, что я оцениваю свое авторство и свои печатные работы как нечто настолько важное, что о нем не забудут еще долгое время хотя бы специалисты. Вовсе нет. Я не настолько самонадеян, чтобы считать даже лучшее из мною напечатанного классикой в профессиональной литературе по книгоиздательскому делу, хотя некоторые оценивают это именно так – как классику. Я не раз на опыте предшественников видел, как быстро забываются их достижения и заслуги, как постепенно вытесняются их произведения из круга чтения молодых специалистов произведениями новых авторов, хотя далеко не всегда это новое – лучшее и более достойное.
Конечно, вполне отвечающие действительности слова обо мне: «издательский работник, автор книг и многих статей по издательскому делу и книговедению» – звучат вроде бы значительно, даже многозначительно. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что так можно охарактеризовать не одного меня. Таких немало. Это не более холмика на ровном месте. Пройдет немного времени, и все это забудется, прежде всего потому, что сама отрасль меняется все быстрее и быстрее. И это потребует новых авторов, новых идей, новых книг и статей ради подготовки новых кадров и совершенствования действующих. Единственное, что может как-то утешить, – это относительная уверенность в том, что есть в мною написанном нечто, что используют, вберут в свои труды авторы, которые придут на смену мне и современным мне авторам на том же поприще. А главное значение многие мои работы имеют потому, что помогали тем, для кого они писались, прежде всего издательским работникам и авторам, лучше выполнять свои обязанности, облегчали их труд. Это оценили студенты Тюменского университета, изучающие издательское дело и редактирование; они прислали мне заключенную в рамку «почетную грамоту» с таким текстом:
Аркадий Эммануилович, спасибо Вам за наше счастливое редакторское детство!
Несмотря на все сказанное выше, я считаю полезным написать и проанализировать то, что я назвал «моим авторством», т. е. что и почему я написал, какой резонанс мои писания имели.
Зачем?
Во-первых, мне это интересно. Как ни дорожил я редакторской работой, как ни любил ее за возможность созидания книг, все же еще дороже была для меня работа литературная – так сказать, прямое творчество, созидательная деятельность в полном объеме.
Во-вторых, рассказ о моей литературной работе полезен и потому, что позволяет осмыслить развитие литературы по редактированию и издательскому делу, понять ее сильные и слабые стороны.
Редактируя книги по редакционно-издательскому делу, я был обречен на то, чтобы и самому стать автором таких книг, поскольку видел, чего в редактируемых мною книгах не хватает с точки зрения интересов и потребностей читателя.
Первые неудачи
Думаю, что одна из причин, объясняющая, почему я стал литератором, – рано проснувшиеся графоманские склонности.
Отчетливо помню, как в классе четвертом захотел я написать рассказ. Но о чем?
Как раз в это время мама рассказала мне, как во время Первой мировой войны родители папы получили на него похоронку. В суматохе при окружении и разгроме армии Самсонова, в рядах которой оказался вольноопределяющийся Мильчин, папину шинель случайно надел другой солдат, а папа, естественно, надел его шинель. Солдат этот погиб, а так как он был в шинели папы, то посчитали убитым не его, а папу. Об этом послали извещение папиным родителям. На самом же деле папа попал в плен, долгое время, до 1918 года, находился в немецком концлагере и освободился только благодаря поражению немцев.
На меня этот факт папиной биографии произвел очень сильное впечатление. Он казался взятым из какого-то романа.
Поэтому, когда желание написать что-то художественное стало особенно сильным, я, как уже упоминал выше, в главе о папе, решил, что случай с папиной «гибелью» можно положить в основу новеллы.
Но ничего хоть в малой степени путного из этой попытки не получилось и получиться, как я теперь понимаю, не могло. Не исписав и половины тетрадной страницы, я пришел к выводу, что написанное иначе как неудачей назвать нельзя. И выбросил страничку в печку.
Вторая попытка сочинять связана с большим впечатлением от рассказа К.И. Чуковского о писателе Слепцове, жизнь которого была, несомненно, подобна роману. Вот я и решил воссоздать своим пером художественную биографию Слепцова.
Помню только, что начинаться это повествование должно было со сцены в церкви – какой именно сцены, память не сохранила. Но чтобы такую сцену написать, нужно было хоть приблизительно знать церковную обстановку и церковную службу, а я понятия о них не имел. В церкви никогда не был, службы никакой не видел. А между тем все в моем повествовании должно было быть подлинным. Такой человек, как я, не мог не быть реалистом. Я стал искать описание церковной обстановки и службы в книгах, но ничего найти не сумел: слишком мал был мой книжный и библиографический опыт. Тем дело и кончилось. Я даже нескольких строк не написал.
Третью попытку я бы не стал называть такой же неудачной, как первые две. Хотя и удачной ее тоже бы не назвал.
Это был беллетризованный рассказ о малозначимых событиях моей ученической жизни, о встречах с соученицами и соучениками за пределами школы, воссоздание их внешнего вида (словесный портрет), наших разговоров. Тетрадка с этим опусом путешествовала со мной по дорогам войны, и лишь в конце 40-х годов, когда я случайно уронил ее в коридоре коммунальной квартиры, где мы жили, и жена, найдя ее, вернула мне, выразив неудовольствие моей рассеянностью, я впопыхах из стеснительности ее уничтожил.
Институтские письменные работы
В институте моя тяга к сочинительству находила удовлетворение в курсовых работах, которые я писал с большим воодушевлением, и они получались у меня лучше, чем художественные опыты.
Первой такой работой, которую я писал для Дитмара Эльяшевича Розенталя (он вел у нас курс синтаксиса русского языка), было сочинение на тему о роде определения при существительном, зависящем от числительного два, три, четыре, или, иначе, о согласовании определения со счетным оборотом с числительными два, три, четыре.
Розенталь был сторонником точки зрения, согласно которой нормы литературного языка создаются не произвольно, а формируются писателями в ходе творчества. Мне это казалось правильным. Смысл и цель работы была в том, чтобы установить, как согласовывали эпитеты с названным выше счетным оборотом в своих произведениях русские классики, и на этой основе определить преимущественную форму согласования. Речевая практика должна была помочь сформулировать языковую стилистическую норму.
Я стал читать классику и выписывать примеры. Собрал огромное их число. Систематизировал их и сделал выводы о тенденциях, так как практика единообразной не была. Пытался определить причины отклонений от складывавшейся нормы.
Дитмар Эльяшевич оценил работу как отличную. Больше того, что-то в ней его, видимо, зацепило. Во всяком случае, как я упомянул выше в рассказе о годах учебы в МПИ, лет через пять после того, как я писал эту курсовую, он вспомнил ее тему.
Полагаю, что работа эта все же чем-то выделялась на фоне других. Во всяком случае, я работал над нею истово. Меня и в дальнейшем всегда воодушевляла возможность собирать материал, проявляя терпение и выдержку. Мне казалось, что уж тут меня трудно будет опередить и что если не талантом, то трудолюбием я достигну того, на что другим терпения не хватит. Это было своеобразным преодолением комплекса неполноценности. Вероятно, Дитмар Эльяшевич посчитал мои наблюдения серьезным материалом для подкрепления той нормы, которая формулировалась в пособиях по грамматической стилистике, а именно: с существительными мужского и среднего рода определения, как правило, надо ставить в родительном падеже (два вместительных шкафа, три широких окна), а с существительными женского рода – как правило, в именительном падеже (две милые девушки). Это подтверждалось практикой большинства русских писателей.
Вторую курсовую «Некрасов – издатель» я писал для Константина Иакинфовича Былинского (о ней я уже рассказал в главке, посвященной учебе в МПИ).
Нужно сказать, что, много позднее просматривая печатные работы на тему «Некрасов – издатель», я видел серьезные пробелы в раскрытии этой темы. Во всяком случае, серия народных изданий «Красные книжки» либо вовсе выпала из поля зрения авторов этих работ, либо освещалась ими явно не так полно, как она того заслуживала, поскольку была одной из первых попыток подлинной демократизации русского книгоиздательства. Справедливым было замечание К.И. Былинского о том, что надо было показать Некрасова не только как издателя, но и как редактора. Тогда я просто ограниченно понял свою задачу, хотя редакторская деятельность издателя Некрасова очень поучительна во многих отношениях.[28]
В главе об учебе в МПИ я рассказал и о третьей моей курсовой, посвященной изображению исторических событий в трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам». Преподавательница И.В. Мыльцина, как я уже говорил, оценила мою работу очень высоко, но сейчас, бегло перечитывая сохранившийся у меня черновик этой работы, я невольно покрываюсь краской стыда, когда дохожу до славословий социалистическому реализму и порицаний за отходы от его принципов. От этого коробит. Зачем я это делал? Конечно, во многом подчиняясь условиям игры («так нужно»), но, признаться честно, во многом и потому, что по наивности и глупости принимал все это всерьез.
Сужу об этом не только по курсовой, но и по учебной рецензии на повесть Э. Казакевича «Двое в степи» (об этой рецензии я тоже упоминал в начале записок). Чтобы защитить повесть от нападок критиков, я доказывал, что писатель следует принципам социалистического реализма, а не изменяет им. Это не помешало И.В. Мыльциной оценить мою рецензию так:
Вы выступаете адвокатом Казакевича – и порой чересчур восторженно о нем говорите. Вы прошли мимо серьезных недостатков повести.
Оценку за рецензию я получил 4=. Черточки, вероятно, означали два минуса. Понимаю, что иначе Мыльцина тогда поступить не могла. Понимаю также, почему Казакевича не могли в то время не поносить. Ведь у нас безусловный приоритет отдавался обществу перед личностью. Личность ценилась только в той степени, в какой она была полезна обществу. Ошибки личности, граничащие с преступлением, даже если эта личность может их искупить, в этих условиях прощены быть не могли. И попытка спасти жизнь оступившегося человека от уничтожения, дать ему шанс искупить свою вину расценивалась как гнилой либерализм, как проявление буржуазного гуманизма. Я с таким подходом согласиться не мог. Герой, совершивший ошибку, за которую его должны были расстрелять, но по случайности этого не сделали, потом храбро воевал, заслужил много наград. Отсюда следовал вывод, что нельзя распоряжаться жизнью человека бездумно, исходя из каких-то постулатов, которые жизнь опровергает, как опроверг их случай с героем Казакевича.
Мой литературный наставник во время учебы в институте, известный переводчик и литератор Нора Яковлевна Галь, чувствуя мое стремление писать, попросила своего друга и однокашницу по пединституту писательницу Фриду Абрамовну Вигдорову поспособствовать, чтобы мне дали какое-нибудь задание в редакции журнала «Пионер». Задание оказалось таким – написать для журнала очерк о ежедневной стенгазете, которую выпускали пионеры младшего класса одной московской школы. Явление, несомненно, незаурядное. Во многих классах и раз в месяц не удавалось регулярно выпускать газеты, а тут – каждый день. Поехал я в эту школу, встретился с редактором газеты, с председателем совета пионерского отряда, с пионервожатой, поговорил с ними, но ничего особо интересного из беседы не извлек. Они очень скупо говорили о своей газете. А я не умел направить разговор так, чтобы открылось что-то важное и интересное для очерка. Мешала собственная стеснительность, умноженная на стеснительность ребят, делавших газету. Просмотр же самих номеров газет (мне предоставили для изучения несколько выпусков) тоже не открыл мне чего-то заслуживающего внимания читателей «Пионера». Короче говоря, я провалил задание, написать очерк не сумел. Это было закономерно: я не обладал талантом журналиста вообще и очеркиста тем более. Естественно, что другого задания я не получил и приобщиться к литературной работе для редакции «Пионера» мне не удалось.
Во время работы корректором в издательстве «Искусство» неудовлетворенность этим занятием усиливала желание писать и публиковаться. Читая книги, я особенно остро замечал то, чего не сделал редактор, и, следуя тогдашней моде на разоблачительство, которой особенно отдавала дань газета «Культура и жизнь», решил написать отклик на грубые промахи издательств. Когда на зубок попалась «Молодая гвардия» (а именно в этом издательстве мы с женой в институтские годы очень успешно проходили практику, но на работу туда нас не взяли), я с мстительным удовольствием, хотя и не отдавая себе в этом отчета, написал письмо в «Культуру и жизнь», но побоялся подписать его сам и уговорил сделать это своего школьного товарища, тогда студента МЭИ, Шуру Цидулко. Речь шла о фактических неточностях и несообразностях в книге научно-фантастических повестей Вл. Немцова «Три желания». В одной из них героиня, посещая с экскурсией Ленинград, осматривает в Петропавловской крепости знаменитый Алексеевский равелин, от которого, как указывали справочные издания, осталась лишь полуразрушенная стена. В другой профессор радуется тому, что сгорел лес на площади 100 кв. км, так как это позволит ему провести некоторые исследования.
Отдел писем газеты переслал письмо в издательство, а оно 21 декабря 1949 года послало Шуре ответ на «его» замечания на четырех машинописных страницах. Подписал письмо старший редактор художественной литературы Л. Стержин (если я правильно разобрал рукописную подпись). Согласился старший редактор только с одним замечанием – по поводу Алексеевского равелина. Все остальные он отверг, доказывая не без основания их несостоятельность и расценивая как придирки.
Привел я этот случай с письмом только потому, что у меня и мысли бы не возникло писать такого рода письмо, если бы не тяга к редактированию и авторству.
Первые печатные работы
Во время работы в корректорской «Искусства» возникла еще одна возможность заняться собственно литературной работой. Наша (моей и жены) однокурсница Рита Гуревич попала по распределению в редакцию калининской областной газеты «Пролетарская правда», где трудилась в отделе культуры. Отдел нуждался в рецензиях на свежие произведения современной литературы. Вот она и предложила мне попытать свои силы в написании таких рецензий. Объектом были выбраны произведения, удостоенные Сталинской премии по литературе или получившие одобрение в центральной прессе, т. е. такие, которые надлежало хвалить и рекомендовать читателям.
И такие рецензии стали моими первыми публикациями хоть и в провинциальной, но уже большой печати.
В том же году, когда мы окончили МПИ, в «Пролетарской правде» была напечатана моя рецензия на роман В. Попова «Сталь и шлак» (1949. 17 сент.), удостоенный, кажется, Сталинской премии. Сейчас мне стыдно читать то, что я накропал в этой рецензии. Это пересказ содержания по литературным шаблонам того времени. Но именно это, видимо, и требовалось тогда калининской областной газете.
Настоящий литературный разбор с выявлением художественных особенностей романа и не был мне по силам. Я не знал, какой вообще должна быть рецензия на художественное произведение. Поэтому рецензия свелась к пересказу сюжета романа, с плоским комментарием советского образца. Слабая была рецензия, и тогда я понимал это, а сейчас, когда перечитывал ее, чувствовал только стыд.
Хотя графоманская тяга моя к сочинительству и публикациям была велика, я трезво оценивал свои возможности, очень скептически относился к своим литературным способностям, был уверен, что настоящим литературным талантом не обладаю и вообще творческой жилки лишен. Оценивая свой творческий потенциал, скорее испытывал комплексы, чем проявлял самоуверенность, но был убежден, что могу восполнить эту мою слабость старательностью и систематичностью. Все это не было отчетливо сформулированными выводами, какими они выглядят здесь, скорее – ощущениями. Отсюда тяга к составлению справочников, к тщательному изучению книжного организма и книжных элементов. Это и определило мой выбор профиля литературной работы – я начал вынашивать идею создания справочника для редакторов. Потребность в нем не подлежала сомнению. В нем нуждался я сам и видел, что в том же нуждаются коллеги. А тут, думал я, моя усидчивость и мой педантизм могут оказаться очень кстати. Я твердо знал, что не пожалею времени на такую работу, за которую никто другой не возьмется из-за внешней ее невыгодности. Меня вдохновляла необходимость этого дела, полезность его, и я готов был сидеть за сбором нужного материала сколько угодно. Мне казалось, что пишу я натужно, стертым языком. То же чувствую и сейчас, когда сочиняю эти записки.
Укреплял мою уверенность в том, что я не совсем безнадежен в литературной работе, случайный графологический анализ, который признал наличие во мне таланта, что было для меня приятной неожиданностью.
Желание напечататься было большим, и тогда я не относился так критически к напечатанной в газете рецензии. В глубине души я, конечно, невысоко ее ставил. Но важнее было, что чудо состоялось: под моей фамилией был напечатан написанный мною текст.
Сотрудничество с «Пролетарской правдой» в лице Риты Гуревич продолжалось еще примерно полгода.
Вскоре я написал по ее просьбе рецензию на повесть Ю. Лаптева «Заря». Рецензия такого же качества, как и первая, была опубликована под двумя именами: моим и М. Семеновой (псевдоним Риты Гуревич) 27 ноября 1950 года. По каким-то редакционным условиям это нужно было для Риты. Точно так же была напечатана и следующая рецензия – на опубликованную в «Знамени» повесть А. Чаковского «У нас уже утро» из дальневосточной жизни (Пролетарская правда. 1950. 6 мая). Мне этот автор тогда нравился, особенно первой своей вещью о ленинградской жизни, видимо автобиографического характера. Сейчас уже не помню, как она называлась. Что-то романтическое.
На этом сотрудничество закончилось. Причины его прекращения не помню. Возможно, перейдя из корректорской в редакцию, я полностью переключился на редактирование книг, начал подумывать о составлении справочника для редакторов и уже не так нуждался в реализации своего творческого потенциала на газетной ниве.
Первая проба пера в профессиональной литературе
В главе, посвященной моей работе в «Искусстве», я уже рассказал о том, как в 1954–1955 годах редактировал третье издание книги А.Н. Почечуева «Вычитка рукописи» и анонимно (но, разумеется, с согласия автора) написал для этого пособия раздел, касавшийся вычитки драматических текстов. Это был мой первый опыт написания рекомендаций для методического пособия, адресованного редакционно-издательским работникам; впоследствии именно этим – подготовкой справочных изданий для редакторов и авторов – я занимался много лет.
Малый фельетон «Почти по Марку Твену»
Следующее мое выступление в печати, тоже анонимное, состоялось в том же году. Поводом послужила статья писателя Владимира Лидина, известного библиофила, в газете «Советская культура» (1955. 15 марта). Рассуждая о причинах низкого полиграфического качества изданий, Лидин допустил много фактических искажений. Поскольку я, занимаясь редактированием полиграфических книг, стал уже разбираться и в терминологии, и в существе производственных процессов, то мне это бросилось в глаза и побудило написать маленькую заметку фельетонного типа «Почти по Марку Твену», которую напечатал журнал «Полиграфическое производство» в 1955 году (№ 2). Она не была подписана, т. е. редакция решила представить ее как редакционную. Это была попытка испытать свои литературные возможности в критическом жанре. Получилось, как мне и сейчас кажется, не так уж плохо.
Первая книга – «Редактирование таблиц»
В 50-е годы вышла и моя первая книга, написанная в соавторстве с М.Д. Штейнгартом. Ее историю я уже рассказал в главе, посвященной моей работе в «Искусстве». Здесь добавлю только, что, возможно, своим вниманием к форме таблиц я компенсировал недоступность мне анализа научно-технического произведения по существу содержания. Мои знания в области полиграфической техники и технологии, математики, химии, физики были для этого слишком примитивными, а то и нулевыми, и в этом отношении я должен был полагаться только на добросовестность авторов. Эту свою ущербность я и восполнял стилистической правкой и правкой таблиц.
Пристальное внимание к таблицам, стремление сделать их легкодоступными читателю, функционально совершенными было первым моим опытом редактирования на основе функционального анализа одного из элементов книги. В дальнейшем такому же изучению и испытанию были подвергнуты другие элементы – библиографические ссылки, списки иллюстраций, оглавление и содержание, вспомогательные указатели.
«Редактирование таблиц» вышло в свет в 1958 году. Набиралось и печаталось оно в типографии издательства «Известий» благодаря помощи нашего автора Александра Ивановича Геодакова, который был начальником цеха цинкографии этой типографии. Пособие пользовалось успехом у читателей-покупателей. В редакцию журнала «Полиграфическое производство» поступила рецензия корректора А.И. Новикова. Она была напечатана под заглавием «Полезное пособие по редактированию таблиц» в № 11 за 1958 год. Впоследствии я узнал, что в ленинградской многотиражке Лениздата «Полиграфист» 6 февраля 1959 года напечатал свой одобрительный отзыв Олег Вадимович Рисс, в будущем постоянный автор нашей редакции и мой эпистолярный друг (в ту пору мы с ним еще не были знакомы).
Уверен, что наше пособие помогло многим редакторам и авторам в анализе, оценке и перестройке таблиц. На книгу стали ссылаться в учебниках редактирования. Она вошла в библиографические списки и обзоры литературы по редакционно-издательскому делу.
Вызвала книга и единичное письмо-отклик. Его прислал И.И. Трепененков, кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии. Он писал, обращаясь к авторам:
С удовольствием и с пользой прочел Вашу книгу «Редактирование таблиц». В ней много сведений, которые, несомненно, пригодятся в авторской практике.
Впервые я узнал, что табличный материал имеет подлежащее и сказуемое; такая систематика облегчает принятие решения о форме построения таблицы.
Книга богато иллюстрирована примерами, которые делают ее особенно наглядной.
Указал Трепененков и на недостатки книги. Им посвящена вся остальная часть письма. В частности, он попенял нам, что не во всех таблицах выдержана закономерная последовательность строк и граф, что не упомянута т. н. фасонная прографка, когда несколько клеток соседних граф с одинаковыми данными объединяются в одну общую графу. Пример таблицы с такой прографкой он вложил в письмо. Этот совет я использовал в главе о таблицах в «Справочной книге корректора и редактора».
С этого времени мои литературные замыслы связаны с редакционно-издательской проблематикой. Редакционно-издательская работа – постоянный предмет моих размышлений и обобщений – органично стала темой моих книг и статей.
Статья о машинописном оригинал-макете
Выше я уже писал о методе издания с помощью машинописного оригинал-макета, который активно пропагандировали в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Какое-то время я сам принадлежал к числу его сторонников. Однако довольно скоро стало ясно, что помимо положительных у этого метода имеются и отрицательные стороны; разгорелась дискуссия, в которой принял участие и я. Моя статья «Оригинал-макет нужен, но какой?» была напечатана в журнале «Полиграфическое производство» (№ 5 за 1961 год). В ней я оспаривал идею, выдвинутую двумя ленинградскими полиграфистами М.А. Карповским и М.В. Шульмейстером в статье, опубликованной в «Полиграфическом производстве» (1961. № 2). Они предложили перенести изготовление оригинал-макетов в типографии, создав там для этого конструкторско-технологические бюро, и обещали от такого новшества улучшение художественно-полиграфического качества изданий. Я же в этом сомневался и обосновал свои сомнения. В целом я ратовал за оригинал-макет, приближенный по внешнему виду к тому, который увидит читатель. Между тем машинописный оригинал-макет не позволял художественной редакции проконтролировать, насколько удачно выполнена верстка, размещены и отбиты от текста иллюстрации, заголовки и другие элементы набора. Мне казалось, что видеть текст таким, каким его увидит читатель, важно и для редактора, и для автора. Практика пошла впоследствии по этому пути: оригинал-макеты стали изготовлять на машинно-печатающих устройствах, имитирующих типографский шрифт. Можно было подписывать в печать оригинал-макет, который представлял будущую книгу такой, какой ее увидит и читатель. Сейчас же при повсеместном внедрении в издательствах компьютерного набора распечатка сверстанного набора ничем не отличается по внешнему виду от оттиска в напечатанном издании: та же гарнитура шрифта, те же кегли заголовков и т. д. Автор видит свой текст таким, каким он предстанет перед читателем.
«О предмете редактирования»
Однако больше, чем чисто издательские проблемы, меня волновали проблемы редактирования. Что это за работа такая – редактирование? Зачем она нужна? Я стал задумываться над этим еще во время учебы в институте.
В своем архиве я обнаружил запись, которую хочу привести здесь в том сыром виде, в каком она была занесена на бумагу, для того, чтобы стали понятны мои размышления, которые привели к написанию статьи «О предмете редактирования»:
Обычно, когда произведение выношено, продумано автором до деталей, редактору чаще всего остается только оценить его при чтении, определить, насколько полно и безошибочно воспринимается читателем содержание. В этом случае его вмешательство в текст не выходит за границы отдельных, пусть существенных, текстовых исправлений. Он позволяет себе уточнить словосочетание, сжать то или иное выражение.
Редактора называют и первым читателем книги, и ведущей творческой фигурой издательства, и первым помощником автора и т. д. Но что же он, собственно, должен делать? Что требуется понимать под редактированием?
Что до обязанностей, то тут господствует согласие: редактор обязан выпускать в свет только хорошие книги. В единичных статьях о работе редактора, которые изредка появляются в свет, односторонне определялась его главная задача. Он «должен выпускать произведение в наилучшем из возможных для данного автора и данного материала виде, найти, выявить в произведении все лучшее, что в нем есть, но что не вышло на поверхность, не стало живой тканью книги, плотью ее образов, идей» (Замошкин Н. Заметки о редактировании // Октябрь. 1953. № 4. С. 176).
Пусть это назначение приблизительное – все лучшее в произведении где-то глубоко спрятано и его требуется «выявлять», – зато оно в какой-то мере обрисовывает круг обязанностей основной творческой фигуры издательства. Только как же он выполнит эти обязанности? Какая методика работы редактора может считаться приемлемой?
Исправляя то или иное место содержания, редактор не всегда уверен, что не переступает границы принятого и дозволенного в его работе. Он вносит в текст отдельные словесные, текстуальные и композиционные исправления. Каждое из этих исправлений в какой-то мере, пусть совсем незаметно, изменяет авторскую мысль и часто болезненно задевает автора.
И в самом деле, почему редактор позволяет себе уточнять, подправлять автора? Ведь всем известно, что издание книги – дело прежде всего ее творца – писателя. Ведь известно, что и сильные и слабые стороны произведения наиболее полно и объемно может ощутить только ее творец. Сам автор наиболее авторитетно может судить о пригодности или ненужности любой композиционной части произведения, о пригодности или ненужности того или иного слова. А раз так, то о какой методике объективного редакторского вмешательства в текст может идти речь? Ее нет и, кажется, не может быть.
Так, и сегодня можно слышать, что искать закономерности в работе редактора – занятие пустое: довольно искать «рецептов редакторской работы; их нет да и сомнительно, могут ли они быть» (Замошкин Н. Цит. соч. С. 176).
Мучительные раздумья о редактировании и профессии редактора, не оставлявшие меня во время работы в корректорской «Искусства», в редакции полиграфической литературы сделались еще сильнее. Они нашли отражение в заметке для издательской стенгазеты, текст которой опубликован в главке «Стремлюсь стать редактором».
Со всем написанным в заметке я согласен и сегодня. Я не менял в ней ни слова, хотя стилистические погрешности стоило бы устранить.
Мысли по поводу редактирования и деятельности редактора в конце концов сложились в статью, названную мною «О предмете редактирования», которую принял к публикации сборник «Книга. Исследования и материалы» (М., 1962. Сб. 7. С. 354–362).
Весь пафос статьи заключался в том, чтобы доказать вредность узкого понимания редактирования, которое сводится к тому, что редактор лишь устраняет в рукописи ошибки разного рода, приводит авторское произведение в соответствие с правилами литературного слога. Направлена она была и против пренебрежительного отношения к методике редакторского труда в учебных курсах редактирования.
Редактирование определялось мною как особый вид критической деятельности, цель которой: 1) привлекать авторов к созданию наиболее нужных читателю книг; 2) не допускать выхода плохих, посредственных, просто бесполезных книг; 3) помогать автору совершенствовать содержание и форму литературного произведения для наилучшего воплощения плодотворного авторского замысла, для наиболее полного удовлетворения потребностей читателей; 4) заботиться о высокой издательской культуре книг. Главным в редактировании я назвал оценку рукописи.
Исходя из этих посылок, завершающую часть статьи я посвятил тому, чем должен быть предмет редактирования как учебной дисциплины. Я считал, что таким предметом должны стать приемы и навыки критической оценки рукописи, т. е. организация, методика и техника редакторского труда. Вот перечень вопросов-тем, на которые, по моему тогдашнему мнению, должен отвечать курс редактирования:
С чего начать? В какой последовательности работать? В чем заключается предварительная – до создания произведения – работа редактора с автором? Как принимать от автора рукопись? Что при этом проверять? Сколько раз и как читать рукопись? Как ее рецензировать? Какова техника и методика исправления логических, композиционных и стилистических недочетов? Как технически готовить рукопись к перепечатке на машинке и после перепечатки к сдаче в производство? Каковы границы вмешательства в труд автора? Какова методика проверки и оценки отдельных элементов произведения: композиции, фактических данных, таблиц, формул, иллюстраций и т. д.? (С. 360.)
Сейчас я понимаю, что включал в редактирование и то, что относится не к нему собственно, а к работе редактора, которая шире понятия «редактирование», поскольку редактирование – только часть этой работы, главная, важнейшая, но часть, а многие названные мною приемы относятся к методике работы редактора, но не к редактированию как критической деятельности.
Все эти мысли родились и выкристаллизовались в процессе моей редакторской работы в редакции полиграфической литературы. Я отчетливо осознал, что институт не оснастил нас многими знаниями, необходимыми для практической редакторской работы.
Читая сегодня эту статью, я вижу в ней много наивного, но в то же время не могу не отдать должное своему стремлению обсудить, чем же, собственно, должно быть редактирование, и желанию, чтобы на практике редактирование как критическая деятельность не подменялось редактированием как устранением ошибок автора. Любопытны следующие мысли статьи:
Если… считать, что редактирование – это устранение ошибок и подготовка издания к производству, то придется прийти к выводу, что все усилия нужно направить на превращение издательств в совершенным образом организованную начальную ячейку книгопроизводства.
Правда, в этом случае издательства не смогут быть творческими центрами того или иного вида литературы. Такими центрами должны будут стать какие-то другие общественные организации, и редактор как критик работы автора в издательствах не понадобится. Издательствам нужны будут квалифицированные специалисты, организаторы подготовительных процессов книгопроизводства, в которых, бесспорно, широчайшее применение найдут многочисленные и разнообразные машины и приспособления, идущие на смену утомительному и однообразному техническому по характеру труду, которого еще так много в издательствах.
Это, конечно, не означает, что издательская деятельность утратит творческий характер, но творческий характер будет в издательствах носить лишь процесс превращения рукописи в предмет материальной культуры, в творение особого вида искусства – книжного. Создание проекта оформления книги, ее наиболее целесообразной графической формы, наилучшим образом передающей содержание, – вот на чем будут сосредоточиваться творческие усилия издательских специалистов. Издательство будет создавать на основе рукописи проект книги, эталонный экземпляр ее, который типография размножит в нужном количестве. А отбор и совершенствование произведений того или иного вида литературы для издания перестанет быть задачей издательства. Этим будут заниматься другие организации, сдающие в издательства, им подчиненные или им принадлежащие, отобранные, пригодные к изданию рукописи, удовлетворяющие с точки зрения содержания и формы самым высоким требованиям читателей (с. 361).
К сожалению, статья не вызвала дискуссии. Те идеи, которые казались мне тогда плодотворными хотя бы для обсуждения, были, возможно, очень далекими от издательской практики. Кроме того, сборник «Книга. Исследования и материалы» выпускался очень малым тиражом, а если учесть, что в издательствах редакторами в основном работали профессионалы каждый в своей области, не считавшие редактирование своей профессией, то нетрудно предположить, что они не включали сборник в круг своего чтения и, скорее всего, статью просто не видели.
Секция редакционно-издательских работников Союза журналистов тогда еще не развернула обсуждений насущных тем редакционно-издательской работы.
Все же два отклика в печати на эту статью были: один – критический Р.Г. Абдуллина в сборнике «Книга. Исследования и материалы» (сб. 11. М., 1965) в статье «О работе редактора с автором в книжном издательстве», другой – одобрительный в обзорной статье М. Лапшина в журнале «Вопросы литературы» (1963. № 8).
Решительно не согласный с критикой Р.Г. Абдуллина, я в ответ написал «Письмо в редакцию», опубликованное в сб. 13 (М., 1966). Меня возмутил искаженный пересказ Р.Г. Абдуллиным моей точки зрения на то, как следует поставить обучение редакторов. Он писал: «Мы совершенно убеждены в том, что редактированию можно и должно учить, только не в том плане, как это предлагает А.Э. Мильчин. По его мнению, редактора следует обучать лишь (курсив мой. – А.М.) профессиональным приемам и навыкам, т. е. организации, методике и технике редакторского труда». Я не случайно подчеркнул слово лишь. Именно в нем вся загвоздка, поскольку я ничего подобного не утверждал. Я ратовал за то, чтобы в преподавание редактирования все это вошло, но вовсе не за счет ущемления других дисциплин и знаний, а в дополнение к ним. Но учебному предмету «Теория и практика редактирования», на самом деле очень далекому от практики, это было чуждо, и Абдуллин, вставший на его защиту, поспешил отвергнуть мои предложения, однако прибег для этого к явно неблаговидным приемам. Решительно не согласился он и с моим толкованием редактирования как критической деятельности, но опроверг его таким же неблаговидным образом, а именно приписав мне точку зрения, согласно которой я свожу все редактирование только к критической деятельности. Именно это возмутило меня и вынудило написать «Письмо в редакцию».
Статья М. Лапшина «Книга о книгах» была обзором семи сборников «Книга. Исследования и материалы». Было, конечно, приятно, что он посчитал нужным особо отметить мою статью и отвел для разговора о ней немало строк:
Следует приветствовать появление в седьмом выпуске дискуссионной статьи А. Мильчина «О предмете редактирования».
Известно, что в создании книги вместе с автором участвует и редактор. К сожалению, о редакторах у нас пишут мало и почти совсем не обобщают опыт их работы. Уж так повелось: о редакторе вспоминают преимущественно для того, чтобы задать вопрос: «Куда смотрел редактор?» Правда, в последние годы вышли поучительные книги – Л. Чуковской («В лаборатории редактора»), К. Рождественской («За круглым столом») и других авторов; выходят сборники «Редактор и книга». Но эти издания не могут все же исчерпать всех вопросов. Не случайно существует такая разноголосица во мнениях о редакторской работе. Одни считают, что редактор – это неудавшийся писатель или журналист, другие отказываются считать редактором человека, не выступающего в печати. Одни готовы предоставить редактору неограниченные права, другие не признают малейшего вмешательства в авторский текст. Одни думают, что хороший редактор – это прежде всего редактор опытный, другие полагают, что опыт ни при чем, главное – призвание и т. д.
Основная заслуга А. Мильчина – автора статьи «О предмете редактирования» – в том, что он пишет о редактировании не как о ремесле, а как об искусстве.
Рассматривая редактирование как творческий процесс, автор статьи много внимания уделяет принципиальности и требовательности. И не случайно. Вопрос об эстетическом вкусе редактора, его разумной требовательности – вопрос о движении книжного дела к высотам мастерства (с. 181).
Конечно, разбор моей статьи М. Лапшиным поверхностен. Он скорее отталкивается от затронутых в статье вопросов для высказывания собственных довольно банальных соображений о редактировании, чем разбирает концепцию статьи. Но похвала и в таком виде приятна.
Для меня статья «О предмете редактирования» была очень важным этапом литературной работы. Она стала зерном написанной мною и выпущенной впоследствии книги «Методика и техника редактирования текста» (М., 1972).
С этого времени мою литературную работу стало стимулировать не столько тщеславное желание видеть свои опусы напечатанными, сколько стремление посильно участвовать в решении редакционно-издательских проблем.
«Вредная традиция: О формах библиографических ссылок на цитируемую литературу»
Именно этим объясняется публикация мною в том же 1962 году статьи «Вредная традиция: О формах библиографических ссылок на цитируемую литературу» в сборнике «Редактор и книга» (1962. Вып. 3). Мною руководило стремление к рационализации книжной формы, которая одновременно позволяла бы издательствам достичь большой экономии средств. В изданиях политической литературы с бесконечными ссылками на Полное собрание сочинений В.И. Ленина в виде сносок терялась большая площадь и впустую тратилась драгоценная бумага. Не случайно я начал статью предупреждением, что расцениваю ее как рационализаторское предложение. Суть его была в том, что ссылки на ПСС В.И. Ленина можно без ущерба для читателей перенести в текст непосредственно после цитат. В большинстве случаев такие внутритекстовые ссылки не приведут к образованию дополнительной строки: пробел концевой строки абзаца поглотит текст ссылки, в то время как в виде сносок ссылки отнимают от основного текста при одной ссылке на странице – две строки, при двух ссылках – три строки, при трех ссылках – четыре строки. На примере одной книги Соцэкгиза «Основные вопросы политической экономии социализма в трудах В.И. Ленина» (М., 1960) я показал, что перенос ссылок из сносок в основной текст позволил бы сэкономить 16 полос. На сэкономленной благодаря этому бумаге можно было бы отпечатать брошюру объемом 32 с. тиражом 7500 экз. Не лучше было положение и в других книгах Госполитиздата и Соцэкгиза, а также других издательств.
В конце статьи я привел таблицу с расчетом по 14 книгам (12 – Соцэкгиза, 2 – «Советского писателя»). Расчет показал, что в этих книгах, использовав форму внутритекстовой библиографической ссылки, можно было сэкономить свыше 80 тыс. бумажных листов и отпечатать на сэкономленной бумаге еще одну книгу объемом 196 с. тиражом 25 тыс. экз. Тогда это предложение прошло не замеченным руководящими инстанциями. Небольшой тираж сборника и малое число читателей-редакторов также не давали основания рассчитывать на внедрение предложения в практику.
Впоследствии я еще раз вернулся к этой теме, опубликовав в журнале «Полиграфия» (1967. № 2) статью «Бережно расходовать бумагу». Потому что в издательской практике ничего не менялось. Издательства продолжали практиковать нерациональное оформление библиографических ссылок, равно как и другие приемы нерационального оформления книг. И в статье приводились разительные примеры. Так, только при отказе от выделения разрядкой переводов иноязычных текстов в комментариях к книге Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» можно было сэкономить 1 т. бумаги.
«О наборе текста в “Литературной газете”»
Это письмо в редакцию не было опубликовано, но мне хочется о нем рассказать. Дело в том, что до сих пор далеко не все понимают: оформление текста, в том числе его набор, исполнено смысла, и пренебрегать им – значит осложнять читателю восприятие текста. Посылал я это письмо, кажется, в «Журналист», поскольку публикация в «Полиграфическом производстве» вряд ли попалась бы на глаза журналистам-газетчикам, а писал я прежде всего ради этого.
О чем же шла речь в моем письме?
Процитирую основную часть:
С некоторых пор многие статьи в «Литературной газете» стали набираться шрифтом не одного, а двух кеглей, главным образом петитом и нонпарелью. Если бы набор части текста той или иной статьи шрифтом уменьшенного кегля имел хоть какое-то смысловое значение, это было бы понятно. Ради того, чтобы отделить одну часть текста от другой либо подчеркнуть второстепенный или иллюстративный характер ее, типографы уже сотни лет пользуются шрифтом уменьшенного кегля. Однако в «Литературной газете» шрифтом меньшего кегля набирают любой технически подходящий абзац, пусть даже он продолжает разговор, начатый в предыдущем абзаце, и не завершает его.
И далее приводилось два примера из газеты с таким набором. Не могу их привести, так как в машинописи не выделил, какую часть текста набрали шрифтом меньшего кегля. Но делалось это только с одной целью – втиснуть статью в ту площадь, которая была отведена под нее. И если после набора выяснялось, что текст статьи не уместился, тогда, вместо того чтобы заставлять автора и редактора из-за нехватки места на полосе сокращать статью, искали подходящий по объему абзац и перебирали его шрифтом меньшего кегля. Статья умещалась в отведенную ей площадь. Цель была достигнута. Но при восприятии текста читатель, привыкший понимать такие выделения текста как имеющие смысл, не мог не теряться в догадках, чем вызван переход с одного набора на другой. Иначе говоря, набор затруднял восприятие и понимание текста.
Заканчивал я статью такими сентенциями:
Да, конечно, содержание газетного материала важнее его полиграфической формы. Последняя должна быть подчинена первому, а не наоборот. Однако полиграфическая форма – техническое средство выражения литературного содержания. Она тоже содержательна. И писательской газете следовало бы не пренебрегать ею, а находить такие технические решения, которые позволяли бы наилучшим, а не ухудшенным образом преподносить читателю литературный материал. Тем более что такие решения известны. Еще более разнообразное по кеглям и гарнитурам шрифтовое оформление позволит умещать статьи на отводимое для них место без всякого ущерба и для содержания, и для полиграфической формы.
«Библиографические ссылки»
Подготовка статьи «Вредная традиция: О формах библиографических ссылок на цитируемую литературу» привлекла мое внимание к библиографическому аппарату изданий. Я решил изучить, какими принципами руководствуются авторы и редакторы, оформляя библиографические ссылки и списки или указатели. Составил список работ библиографов, посвященных этой теме, прочитал их. И начал просматривать книги с тем, чтобы уловить хоть какие-то принципы и правила оформления в них этого аппарата. Разнобой оказался чудовищным. Поэтому я посчитал необходимым установить правила, которыми могли бы руководствоваться авторы и редакторы. Опираясь на правила библиографического описания того времени, на функциональный анализ этих элементов аппарата, написал статью «Библиографические ссылки: Основные правила употребления и редакционно-технического оформления», которая была напечатана в 1965 году в пятом выпуске сборника «Редактор и книга». В сущности, это была не статья, а справочник с практическими рекомендациями. Вряд ли многие авторы и редакторы воспользовались этим «справочником»: и тираж сборника был мал, и интерес к профессиональной литературе по редакционно-издательскому делу проявляла лишь очень небольшая часть редакционных работников. Да и местные традиции препятствовали внедрению моих рекомендаций. Почти каждое издательство выпускало свои инструкции, где формулировало свои правила, в том числе и правила оформления библиографического аппарата, обязательные для авторов и редакторов. Но работа эта не осталась бесследной. Во-первых, составители первого госстандарта библиографического описания использовали впоследствии мои наработки для обязательного справочного приложения 2 к стандарту 7.1–84. Оно называлось «Библиографические ссылки, библиографическое описание в прикнижных и пристатейных библиографических списках». Во-вторых, материалы статьи вошли в «Справочную книгу корректора и редактора» (М., 1974), а затем и в другие справочные издания по редакционно-издательскому делу с моим участием («Справочная книга редактора и корректора» 1985 года, «Памятная книга редактора» 1988 года, «Справочник издателя и автора» 1999 и 2003 годов). Статья нашла отражение и в «Словаре-справочнике автора» 1979 года, а также в «Издательском словаре-справочнике» 1998 и 2003 годов. Все эти издания широко использовались авторами и редакторами. Так что в конечном счете моя работа достигла адресата. В обзоре отечественной литературы «Теория и практика редактирования» (М., 1970) Р.Г. Абдуллин высоко оценил и справочную, и научную ценность моей статьи.
Просматривая свои бумаги, я обнаружил в них ответ на мое предложение директору издательства «Искусство» подготовить книгу о правилах оформления библиографического аппарата в книгах:
14 декабря 1960 г.Тов. А.Э. МильчинуУважаемый Аркадий Эммануилович!
Ваш проспект книги, посвященной правилам оформления библиографии в книге, принят при обсуждении проспектов на редакционном совещании. Издательство считает целесообразным выпуск подобного методического справочного пособия для редакционных работников. Объем книги не должен превышать 9 авторских листов. Редакция включает это издание в план редакционно-подготовительных работ на 1961 год с расчетом выпуска его в 1962 году. Рукопись должна быть представлена Вами до 1 декабря 1961 года. После одобрения рукописи с Вами будет заключен договор.
Директор издательства (А.В. Караганов)Я совершенно забыл, что у меня был такой замысел. Не помню также, почему я от него отказался. Возможно, я не успевал и, воспользовавшись возможностью напечатать пособие в сборнике «Редактор и книга», решил не выпускать отдельную книгу на такую тему. Впоследствии ее написали библиографы Академии наук и редакторы Физматгиза, а я выступил титульным редактором этого пособия: Госин И.Я., Смирнова М.Н., Черняк Л.Е., Шилина А.Т., Ясельман Э.С. Библиографические сведения в изданиях: Справочно-методическое пособие для издательских работников и авторов. М.: Книга, 1981. 191 с.
«Памятная книжка редактора» (М., 1966)
В 1966 году вышла составленная мною «Памятная книжка редактора». Это была, в сущности, профессиональная записная книжка. На обороте титульного листа значилось: Составлено А. Мильчиным по предложению О. Мешкова. Олег Мешков был слушателем факультета повышения квалификации МПИ в группе, в которой я вел занятия по редактированию. Он, в прошлом капитан дальнего плавания, заведовал редакцией литературы по водному транспорту в издательстве «Транспорт». Молодой, толковый, красивый, с явными литературными способностями, знающий предмет выпускаемых его редакцией книг не только в теории – «о таком заведующем редакцией можно только мечтать», думал я тогда о нем.
Я старался использовать общение с редакторами на этих курсах для того, чтобы выяснять, какие книги они хотели бы получить от нашей редакции. В ответ на мою просьбу такого рода Олег Мешков предложил издать памятную книжку редактора, в самом буквальном смысле памятную, с формами для записей (своих планов, графиков, сведений о рукописях, авторах, рецензентах и т. п.) и небольшим справочным отделом, содержащим сведения, которые для редактора равносильны таблице умножения или системе единиц физических величин: ставки гонорара, основные правила оформления элементов текста и т. п. Цель – помочь организационной стороне редакторской работы. Идея мне пришлась по душе, и я постарался ее реализовать. Тем более что тогда всякого рода настольных книг для записей в продаже не было. К тому же составление такого мини-справочника было в русле вынашиваемого мною уже тогда замысла о создании справочника редактора. Директор издательства М.Я. Телепин был не против того, чтобы я составил такую памятную книжку: затрат на гонорар на нее практически не было. Он согласовал с Комитетом по печати, как тогда требовалось, мое составительство, и за год «Памятная книжка редактора» была создана. Получилась она изящной по формату, почти как обычная записная книжка (9,5 х 12,5 см), чуть больше фотооткрытки. Скромно, но приятно оформил ее наш художественный редактор Николай Дмитриевич Карандашов.
Я послал «Памятную книжку редактора» О.В. Риссу. Мне вообще хотелось подарить это изделие ему из чувства симпатии, а к тому же от него можно было ожидать нелицеприятной дружеской критики. И она последовала в письме от 8 ноября 1966 года:
Теперь воспользуюсь приглашением на обороте титульного листа и выскажу свои соображения о «Памятной книжке». Я вообще ЗА всякие подобные издания, вероятно, потому, что с детства полюбил прекрасный календарь – памятную книжку «Товарищ», имевшую, по-моему, большое педагогическое значение и немало способствовавшую воспитанию юного поколения. Такие издания очень интересны и полезны. Знаю, что при сжатом объеме приходится отбирать самое необходимое и многое упускаешь. Но что хотелось бы видеть в «Памятной книжке редактора», хотя бы за счет экономии в первой части (прографках)?
Очень давно я прочел интересную книжку профессора-геодезиста Витковского «За океан» (она у меня есть). Описывая свое плавание в Америку, он целиком приводит остроумные «Заповеди для пассажиров», которые вручаются одновременно с билетом. Недавно я узнал, что такая доходчивая форма «печатной пропаганды» или «воспитательной работы», называйте, как хотите, – применяется за рубежом до сих пор. Нечто подобное я встречал и в старых памятных книжках. Вот мне и кажется, что в памятной книжке для советского редактора следовало бы две-три страницы отвести высказываниям-афоризмам о редакторской работе – из Горького, Короленко, Лихтенберга, Гете и пр.
Второе – коль скоро это справочник, то в нем обязателен тоже краткий списочек литературы по специальности. По своим встречам и беседам знаю, что редакторы, даже окончившие факультет журналистики, очень мало читают и не знают необходимой литературы. Для вас же, издателей, здесь двойной «профит»: заодно продвигали бы работы издательства «Книга».
Следовало бы, особенно в свете последних решений по НОТу, отвести хоть небольшое место организации труда и рабочему месту редактора. Здесь возникает такой злободневный вопрос: можно ли пользоваться шариковыми ручками? (О нем, кстати, не мешало упомянуть и в книге о корректуре.) Хотя шариковые ручки и узаконены банковскими инструкциями, я убежден, что в полиграфии они зло. И не потому, что надписи стираются. Нет, следы пасты в оригинале и корректуре настолько бледнее чернил, что наборщики пропускают примерно половину правок.
С внедрением шариковых ручек качество типографской правки резко ухудшилось. Да и исправления шариковой ручкой в оригинале для набора видны хуже, чем исправления чернилами. Следовало бы, по крайней мере, собрать на этот счет мнения производственников.
В разделе о технических правилах верстки не мешало бы упомянуть об одном существенном моменте, обойденном технической инструкцией и как раз смущающем редакторов. Дело в том, что мало кто из них знает о рабочем приеме верстальщиков: когда на полосе не хватает строки до формата, они ставят перевернутую очком вниз линотипную строку, а когда, наоборот, строка лишняя, то они перевертывают концевую строку «с ног на голову». В первом случае это сигнал «выгнать», а во втором – «вогнать». И вот представьте себе, этот прием «не доходит» не только до многих редакторов и корректоров, но даже иной раз и технических редакторов. Помечают либо убрать «марашковую» строку, либо перевернуть строку как надо. А полоса так и остается неполной или с лишней строкой.
Пишу об этом так подробно, потому что это типичная и очень распространенная ошибка, против которой надо предостеречь.
Далее, на стр. 163 «Памятной книжки» говорится о правилах отбивки цифр по классам – и совершенно правильно с точки зрения технической инструкции. Но на практике все чаще встречаешь, когда отбивку делают не с пяти цифр, а с четырех (я говорю не о таблицах, где делают «выравнивание»). Кроме того, необходимо предупредить, что отбивка не делается не только в десятичных дробях (я видел – тоже начали отбивать!) и номерах, но и в разных технических обозначениях (например, отбивают ХПС-329 678, а ведь это, по существу, тоже номер). Вот мне и кажется, что во всех подобных случаях надо бы побольше «соломы подстелить», чтобы неопытные редакторы не поскользнулись.
В ответном письме я так прокомментировал замечания О.В. Рисса:
Подавляющее большинство Ваших замечаний справедливо. И если книжка придется по вкусу и когда-нибудь понадобится повторить ее издание, я постараюсь ими воспользоваться.
Правда, афоризмы о редакторской работе лучше разбросать по тексту, чем объединить на нескольких страницах. Так действие каждого будет, пожалуй, сильнее. Единственное, что меня смущает – не будут ли они противоречить сухому, деловому характеру материала справочной части.
А вот за пропуск списка литературы по специальности, который я первоначально планировал поместить, очень себя ругаю. Это большое упущение.
Не совсем представляю себе, какие сведения справочного характера, необходимые для постоянного возобновления в памяти (отбирался материал именно такого характера), можно подобрать об организации труда и рабочем месте редактора. Тут я просто пасую. Условия, в которых работают редакторы, так далеки от нормальных, что говорить об этом довольно сложно. Заповедь насчет чернил и ручек, безусловно, нужна.
Что касается перевернутых строк и строк за пределами полосы, то, пожалуй, сказать об этом стоит, но не в технических правилах верстки, а в кратких рекомендациях приемов компенсационной правки.
В отношении многозначных цифр Вы правы (12.11.66).
Захотелось мне получить отзыв и О. Мешкова, чтобы узнать, насколько исполнение соответствует его замыслу. Но когда я поинтересовался у слушателей из «Транспорта», как поживает О. Мешков, то выяснилось, что он снова ушел в море, вернулся к своей капитанской профессии.
Поначалу казалось, что «Памятную книжку редактора» придется переиздавать постоянно: ведь она рассчитана на ограниченное число записей, да и ряды редакторов пополняются новыми работниками. Однако большого отклика начинание с «Записной книжкой редактора» не имело. Продолжения – тоже.
Сама форма распространения книг препятствовала этому. Она была рассчитана главным образом на активных покупателей, постоянно посещающих магазины. Не говоря уже о том, что, как я уже упоминал, книги по издательскому делу пылились в отделах книг по легкой промышленности, куда по книготорговой классификации была отнесена полиграфическая промышленность, а вместе с ней и книги по издательскому делу. Активность от покупателя требовалась двойная. А рекламой издательство «Книга» тогда заниматься еще не научилось. Если в Москве с продажей книг по издательскому делу все обстояло более или менее благополучно, то в других городах издательские работники были практически отрезаны от изданий своей профессиональной литературы.
Записные книжки большого формата, издаваемые организациями и учреждениями, а потом появившиеся и в широкой продаже, вполне подходили и для редакторов, что делало бесперспективным продолжение издания такого рода, как упомянутая «Памятная книжка редактора». Справочный отдел в ней был невелик. Это вызвало критические замечания читателей, которые испытывали в большей степени потребность в справочных сведениях, чем в формах для рабочих записей, для которых годятся любые блокноты и записные книжки общего характера. Это и привело к тому, что последующие издания с заглавием «Памятная книжка редактора» (1980) и «Памятная книга редактора» (1988) стали чисто справочными изданиями, включающими сведения, которые постоянно нужны редакционным работникам.
Отзывов читателей в издательство также не поступало. Я в письме к О.В. Риссу взывал:
…не слышали ли Вы хоть каких-нибудь отзывов о «Памятной книжке редактора»? Ее раскупили в Москве мгновенно. Недели две назад звонили мне из издательства «Недра», просили хотя бы показать один экземпляр: может быть, сами скопируем, говорят. Но какой-нибудь оценки, несмотря на призыв, не слышно. А ведь хочется знать, как расценивается работа в деле. В ней ведь собрано все известное, все дело в обработке материала, форме его преподнесения. Если придется Вам что-либо услышать, напишите мне, пожалуйста. Я просто изнываю от желания узнать, чего же стоит моя работа, что в ней хорошо, что плохо (13.02.67).
«Справочник редактора»
История этой книги, замысел которой я так и не реализовал полностью, – это, в сущности, история моей жизни. Замысел этот возник у меня вскоре после того, как я начал работать редактором.
Почему это произошло?
Конечно, точно восстановить причины я вряд ли смогу, но примерно представить ход моих раздумий можно.
Я испытывал на себе, как важно для производительной работы редактора не разыскивать нужные сведения по разным справочникам, а иметь их под рукой в одном компактном издании. Конечно, в него невозможно было включить все мыслимые справочные сведения, но собрать в нем те, какие наиболее часто нужны редактору любого издания, было вполне реально.
Такая книга, думал я, несомненно, относится к самым необходимым изданиям для редакционно-издательских работников. Она будет пользоваться безусловным спросом.
Я хорошо знал те справочные книги, которые уже были выпущены и которыми пользовались редакторы; я был не только их потребителем, или пользователем, как сказал бы компьютерщик, но и редактором некоторых из них и отчетливо видел их слабости – недостаточную систематичность (а отсюда неполнота и случайность сведений), рекомендации без должных обоснований, опора на ограниченный круг изданий (отсюда узость примеров).
Я же чувствовал уверенность, что смогу эти слабости преодолеть. Это с одной стороны.
С другой стороны, будучи человеком с комплексами, я, как уже писал выше, склонен был низко оценивать свои авторские литературные способности и возможности; напротив, составление справочника я считал работой, которая мне по силам и в которой мой характер будет мне не мешать, а помогать.
Итак, справочник нужен редакции (она по самому смыслу своего существования призвана его выпустить), нужен мне как предмет приложения сил, нужен читателям.
В 1966 году я составил развернутый план «Справочника редактора» и даже послал его Олегу Вадимовичу Риссу для критики. План этот занял 5 стандартных машинописных страниц и сохранился в моем архиве. Вот он:
План «Справочника редактора»
(справочные сведения о книге, необходимые редактору для успешной работы над превращением рукописи в издание)
Конечно, сегодня я бы раскритиковал этот план за пробелы, за некоторые отклонения от системы, но на то время это была неплохая попытка систематизации и организации справочных сведений для редакторов в одном справочнике.
Олег Вадимович в письме от 11.11.66 так оценил этот план:
Он разработан настолько досконально и методично, что я просто растерялся, не зная – к чему «придраться». Все же, поскольку это справочник, хочу поделиться своими наблюдениями о том, в чем слабоваты редакторы. Во-первых, в раздел «Элементы текста» следовало бы включить вопрос о терминологии. Делаю это предложение с тем большим основанием, что недавно ознакомился (с опозданием, увы!) с интересной книгой: Д.С. Лотте. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961. Оказывается, более 30 лет выходят списки (?) терминов и стандарты на них, но редакторы, как правило, этих пособий не знают, не пользуются ими и путаются в терминологии. Вопрос важный, и редакторам в нем помочь надо. В разделе о редакционном процессе я бы уделил раздел проверке точности приводимых данных (акрибии). Это тоже стало бедой редакторского состава. Читаю книги Лениздата и поражаюсь беспечности наших редакторов. Страшно путаются в фамилиях, датах и т. д. В одной книге было напечатано, что М.И. Калинин, выступая на совещании в 1932 году, говорил… о стахановском движении. Вероятно, в этом разделе следует дать насколько методических советов о проверке и указать подручный материал.
О редактировании рукописи Вы не упоминаете – это нарочно?
Сейчас возрастает роль рекламы; кажется, вышла какая-то книга даже. Может быть, стоит в VI разделе что-то сказать и о рекламе.
Опять же в связи с увеличением НОТ что-то надо сказать и об организации редакторского труда. ‹…›
Конечно, дело интересное и полезное, но надо оговорить, что это справочник редактора книги. Ведь прочих редакторов (а их множество в газетах и журналах) Вы оставляете без внимания. А может быть, перекинуть какой-то мостик и к ним? Хочется, чтобы книга нашла больше читателей.
Поблагодарив Олега Вадимовича за эти замечания и пожелания, я написал:
… название все же оставляю без «книги», а в аннотации или предисловии оговорю, что это краткая энциклопедия книжных знаний, большая и значительная часть которых в полной мере относится ко всем произведениям печати и будет полезна также работникам газет и журналов, хотя основной читатель – редактор книжного издательства. Впрочем, круг читателей практически должен быть шире – вообще издательские работники и авторы. Не случайно даже к «Памятной книжке редактора» проявили большой интерес в типографии, и наши производственники даже опасались, что будет большая недостача тиража (13.11.66).
Однако работа над справочником не складывалась:
…в библиотеке теперь, к сожалению, почти не бываю, хотя все собираюсь наладить регулярное посещение. Творческой собственной работой занимаюсь урывками, и очень боюсь, что «Справочник» не успею написать за полтора года. Состряпать можно, а вот написать на основе изучения сотен книг, как хочется (по типу статьи в сборнике «Редактор и книга» [статья «Библиографические ссылки»]), – для этого нужно ежедневно хотя бы несколько часов отводить справочнику (13.11.66).
И чуть позднее тот же мотив:
У меня производственные дела отнимают так много времени и сил, что на большую работу над справочником просто ничего не остается, так что как мне удастся выполнить намеченную программу – не знаю, и это страшно тяготит. Мне-то хотелось, чтобы каждый раздел был результатом овладения всем кругом литературы вопроса и изучения издательского опыта на основе просмотра большого числа книг. А времени нет. И как отбирать книги для просмотра, как из миллионов выбрать те, что могут дать материал для обобщений и рекомендаций, и где практически просматривать книги – ума не приложу, хочется сделать все основательно, продуманно, так, чтобы действительно помочь практике, дать редакционным и не только редакционным работникам настольную книгу, которая вобрала бы в себя весь многообразный издательский опыт, подвела бы под него базу. И вот ничего не успеваю. И каждый раз находятся причины, чтобы не выполнить зарок – написать заветную страницу за день. А время неумолимо движется. В общем, жалуюсь, но не ради сочувствия, а просто потому, что накопилось на душе, а я особенно на эти темы ни с кем не разговариваю (письмо к Риссу от 11.12.66).
Статья «Библиографические ссылки», о которой я уже рассказал выше, была одной из ступенек к «Справочнику редактора», о создании которого я по-прежнему мечтал.
Я прочитал все или почти все опубликованные к тому времени статьи и книги на эту тему, но, не удовлетворенный прочитанным, стал подбирать все виды ссылок, чтобы сформулировать, как их лучше оформить, чтобы и читателю было удобно к ним обращаться, и издательство не страдало из-за пустых потерь площади. Кроме того, хотелось предоставить издательским работникам возможность выбора из всех применяемых на практике форм. И это мне в основном удалось.
До этого, читая одни книги и просматривая другие, попавшие в руки, накопил огромный материал (страниц сто, не меньше) о форме и разновидностях примечаний и комментариев.
Настроен я, таким образом, был весьма серьезно, хотя многое представлял еще весьма смутно. И то и другое определилось в письме к Риссу от 08.01.67:
Сегодня составлял список того, что предстоит прочитать в ближайшее время для «Справочника» и для самообразования, и подумал, что он будет неполным, если я не буду убежден, что просмотрел все изданное Ленинградским научно-исследовательским институтом книговедения. Нет ли у Вас такого списка? Или, может быть, Вы знаете, как его разыскать? Каталоги вряд ли содержат такую выборку. А я испытываю глубочайшее уважение ко многим из тех, кто работал в этом институте. Они много сделали для книговедения и издательств и кое-что из этого, к сожалению, утрачивается.
В этом же письме я упоминал о необходимости готовить переиздание «Справочной книги корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина (М., 1960), запланированное нами в перспективном плане. В начале 1967 года мысль о переориентировке с переиздания «Справочной книги корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина на «Справочную книгу корректора и редактора» еще не возникла, и я не предполагал, что смогу в известной степени реализовать таким образом некоторые свои задумки, относящиеся к «Справочнику редактора». Я продолжал мечтать и размышлять об этом справочнике, но по-прежнему продвигался очень медленно. На это я жаловался Риссу 06.02.67:
Успеваю мало. Справочник не двигается: не хватает железной дисциплины и силы отказаться от разных «мелких» удовольствий (вроде чтения художественной литературы, посещений театров изредка и т. п.). К тому же я поставил перед собой цель – овладеть необходимым материалом логики и психологии. Поэтому сейчас, в начальный период, выхода быть не может. Он появится, может быть, через десятки книг, если так можно выразиться.
Рисс не остался безразличным к моим намерениям штудировать литературу и прислал мне в письме от 10.02.67 список превосходных работ; часть из мне была уже известна, но других я не знал. Вот фрагмент этого письма Олега Вадимовича:
…одолело меня сомнение, все ли источники Вам известны по психологии и методике чтения. Вдруг чего я Вам не подсказал. Называю некоторые, если случайно их нет в Вашем списке.
Шварц Л.М. Психология навыка чтения. Л., 1941.
Шварц Л. Психология и оформление книги // Психология. 1932. № 1/2.
Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. М., 1950.
Чернышев В.И. В защиту живого слова. СПб., 1912.
Жебунов А. О процессе чтения и обучения грамоте // Родной язык в школе. Сб. 3. М., 1927.
Кравков С.В. Глаз и его работа. М.; Л., 1950. (С. 73, 338, 340).
Никитин А. Исследования учебных книг в гигиеническом отношении. [Б.м.], 1907.
Исследования по психологии восприятия. Сб. Изд-во АН СССР, 1948.
Зрительные ощущения и восприятия. Сб. М., 1935.
Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 2 (С. 376–484 – о внимании). М.; Л., 1948.
Гинкен Ант. О чтении и книгах. Вып. 1. СПб., 1913.
Реформатский А.А. Длина строки и гарнитуры шрифта как условие удобочитаемости // Полигр. производство. 1933. № 1.
Вахнин И.Л. К вопросу изучения утомляемости при чтении… // Сов. вестник офтальмологии. Т. 4, вып. 1. 1934. С. 63–72.
Рябушкин Т.В. Как читать статистические цифры. М., 1954.
Ричардсон Ч. О выборе книг и о том, как их читать. СПб., 1913.
Вот сколько набралось, но, конечно, не все Вам пригодится. Во всяком случае, постепенно, может быть, одолеете.
Благодаря Рисса за список в письме от 13.02.67, я написал, что намерен все перечисленное прочитать обязательно:
Не всегда находишь нужное для осмысливания редакционной работы, но непременно обогащаешься мыслями. Увлекательная наука – психология, но сложная. Очень жалею, что не занялся ею раньше. У меня теперь два конька: психология и логика. Мне они представляются как раз такими, на которых только и можно ехать к успеху в редакционной работе над нехудожественным произведением.
Тут же я напомнил Риссу о его обещании сообщать кое-какие пожелания редакторов относительно «Справочника редактора». Он ответил 01.03.67:
Насчет «Справочника редактора» боюсь, что слишком Вас обнадежил. Дело обстояло так, что одна из наших редакторш, М.А. Шаталина, обратилась ко мне по частному вопросу: чья фамилия должна стоять раньше – составителя или научного редактора, если книга серийного издания? Ответ она не нашла ни в «Памятной книжке редактора», ни на с. 100–102 «Справочной книги корректора». Я заметил ей, что такие вопросы следовало бы адресовать будущему «Справочнику редактора», да и вообще неплохо было бы собрать среди редакторов пожелания составителю. Она обрадовалась и сказала, что, конечно, надо поговорить.
Но так как Рисс тогда заболел, узнать о результатах этих разговоров я не мог. Я все же постарался не оставить вопрос М.А. Шаталиной без ответа, написав Риссу 05.03.67:
Вопрос М.А. Шаталиной несложен для ответа. Конечно, фамилия составителя сборника должна в большинстве случаев идти раньше фамилии научного редактора. Составитель – тот же автор если не книги, вернее – произведения, то издания. Редактор же работает над тем, что сотворил составитель. Так подсказывает здравый смысл. Руководствоваться тут нужно указаниями межреспубликанских технических условий «Выходные сведения в издательской продукции». Мы недавно их издали, а теперь, в марте, должны сделать новый тираж. Их рассылают издательствам бесплатно. Как только отпечатают, вышлю Вам обязательно. Авось пригодится когда-нибудь. Я не исключаю, правда, случай, когда научный редактор выступал как руководитель издания, и составление проходило под непосредственным руководством этого редактора. Но тогда и определение должно было быть иным: Составил такой-то под руководством такого-то. В «Памятной книжке редактора» я как раз собирался поместить справочные сведения, но из-за того, что в это время технические условия пересматривались, был лишен такой возможности. В «Справочнике редактора» предполагаю поместить непременно. Любые пожелания будут для меня очень ценны. Поэтому очень Вам благодарен за такое содействие.
Увлечение мое психологией и логикой тем временем продолжалось, о чем свидетельствует письмо к Риссу от 26.02.67:
Одолеваю книги по психологии и логике. Много интересного узнаю. Не перестаю поражаться тому, как обогащают эти науки. Вот только раньше нужно было за это взяться. Читаю и дома, и в метро, но времени маловато. К вечеру все же теряешь работоспособность наполовину, если не больше. Голова быстро начинает падать на книгу, что называется, носом начинаю клевать.
Попытки писать «Справочник редактора» я не оставлял, о чем и писал Риссу 21.05.67:
Я наконец собрался приступить вплотную к «Справочнику», а то дни летят, а я не сдвигаюсь с «мертвой точки». Дал себе зарок хоть страницу в день да извести. Пусть сыро, неполно, но писать, писать, писать. Правы те, кто это советует. И не только потому, что, если не писать, теряешь навыки, утрачиваешь даже крупинки мастерства, которыми владел. Пожалуй, еще важнее потеря чувства обязательности работы, необходимости ее, как воды, хлеба, воздуха. Только в этом случае преодолеваешь инерцию мертвой точки без особых усилий.
Однако в конце января 1968 года в письме к Риссу я печально констатировал:
Справочник покоится в пыли. Нужно бы начать, а что-то духу не хватает.
Из письма к Риссу 03.05.68:
Над справочником я практически не работаю, хотя в этом вижу предмет приложения своих сил, полезный для других в наибольшей степени.
Из письма к Риссу от начала ноября 1968 года, после 4-го:
…Работа поглощает столько сил, что на писание ничего не остается. Писание ведь требует систематичности. Думаю, думаю, думаю. То ли бросать преподавание, то ли не бросать. Оно все же много дает. Заставляет все время думать, писать, продвигаться в понимании редактирования, читать разнообразную литературу.
Однако все мое время поглотила подготовка переиздания «Справочной книги корректора», которую я дополнил многим из того, что планировал для «Справочника редактора», благодаря чему и добавил в заглавие «…и редактора», из осторожности поставив редактора на второе место: чтобы не принимали все рекомендации, правила, советы за то, что составляет содержание редакторского труда. Книга эта вышла в 1974 году, и я еще вернусь к рассказу о ней. Эта работа стала для меня шагом на пути к «Справочнику редактора», точнее частичной его заменой. Такую же роль сыграли и «Памятная книга редактора», «Словарь-справочник автора», «Издательский словарь-справочник», «Справочник издателя и автора». О них речь пойдет отдельно. В наибольшей степени приблизился к «Справочнику редактора» «Справочник издателя и автора», хотя и он далек был по своему охвату материала от первоначального замысла и плана, о чем говорил его ограничивающий тему подзаголовок: Редакционно-издательское оформление издания. Все рекомендации, советы и правила опираются в нем на исследования массива книг с функциональной точки зрения, что я и ставил себе задачей, но все же многие справочные сведения, необходимые редактору, издательскому работнику и автору, в него не вошли. Но думать сейчас об осуществлении своего старого замысла по ряду причин поздно.
Глава «Вычитка» для учебника корректуры (1966)
Почти одновременно с «Памятной книжкой редактора» занимался я подготовкой главы о вычитке в учебнике корректуры для издательских техникумов. Предложил мне написать главу Борис Георгиевич Тяпкин, преподаватель МПИ. Он сколачивал авторский коллектив, руководителем которого собирался быть как титульный редактор. Не исключаю, что предложение было продиктовано желанием заручиться поддержкой внутри издательства. Но я согласился, так как учебник все равно нужно было создавать по плану выпуска учебной литературы. К тому же мне хотелось обобщить свой опыт вычитки, накопленный в корректорской издательства «Искусство». Без ложной скромности могу сказать, что некоторые редакторы добивались, чтобы их рукописи вычитывал именно я (я уже упоминал об этом в главе, посвященной моей работе в корректорской). Мне это льстило, а объяснялось просто: наряду с вычиткой я много делал для устранения стилистических погрешностей, которых в рукописях книг по изоискусству было множество. Другие вычитчики помогали в этом отношении меньше. Мне же это было интересно и компенсировало невозможность работать по специальности напрямую. Но для написания главы было важно другое: в процессе вычитки я старался осмыслить свои действия и постепенно составил представление о том, чему нужно в этом отношении обучить будущих корректоров, поскольку вычиткой в издательствах практически приходится заниматься именно им. До этого о вычитке оригинала более или менее системно писал только Н.Н. Филиппов в своем «Руководстве по книжной корректуре» (М.; Л.: Гизлегпром, 1938), в которое входила глава «Вычитка корректуры». К сожалению, я не располагал тогда этой книгой и не мог отталкиваться от нее при написании своей главы. Пришлось самому изобретать велосипед. Мне кажется, что он получился мобильным.
Сравнивая сейчас мою главу с главой Н.Н. Филиппова, вижу, что знакомство с ней облегчило бы мою работу. Наверно, нужно было мне познакомиться и с книгой М.М. Каушанского «Издательская корректура» (М., 1934), о существовании которой я тоже ничего не знал. Определение задач вычитки Н.Н. Филиппов как раз заимствует из Каушанского. И все же не могу не отметить, что, говоря о методике вычитки, Н.Н. Филиппов больше внимания уделил редакционной стороне ее, чем собственно методике.
В конечном счете в двух главах о вычитке во втором издании учебника (в первом издании этому была отведена всего одна глава) мне, кажется, удалось четко определить, что такое вычитка, охарактеризовать ее значение для редакционно-издательского процесса, место в нем, сформулировать задачи этого процесса, показать, что вычитка – это завершение редакторской работы над рукописью. В главе о методике и технике вычитки были выделены операции, из которых должна складываться вычитка, раскрыто их содержание и приемы работы, особенное внимание уделено методам изучения оригинала, технике и методике чтения оригинала (названы семь основных методических принципов вычитки).
«Здесь печатается “Правда”»
Заведующий сектором полиграфии Отдела пропаганды ЦК КПСС М.Н. Яблоков в 1966 году созвал у себя небольшое совещание руководителей полиграфической промышленности и ее крупнейших предприятий с участием директора издательства «Книга» и поставил задачу к 50-летию Октября в 1967 году выпустить книги об орденоносных полиграфических предприятиях – Первой Образцовой, «Правде», Фабрике детской книги (в Москве), типографии имени Ивана Федорова и «Печатном Дворе» (в Ленинграде).
Задача была очень сложной потому, что времени оставалось мало, вдобавок нужны были талантливые авторы, а охотников писать такие книги среди них не было или мы их не знали. Но худо-бедно для всех книг редакция нашла авторов-журналистов. А вот директор типографии газеты «Правда» Борис Александрович Фельдман предпочел организовать авторский коллектив из работников типографии.
О том, что из этого получилось, я писал О.В. Риссу 28.06.67:
…Самая большая беда с пятой [книгой] – о «Правде». Они решили писать сами, ничего не написали, вернее, дали сырье. И теперь настаивают, чтобы я ими целиком занялся, помог написать.
Поясню, почему выбор Б.А. Фельдмана пал на меня как на редактора и одного из авторов. Я помогал Борису Александровичу писать его книгу «Технология производства массовых иллюстрированных журналов» (1956), о чем я уже рассказал выше, в главке «Моя редакторская работа в 1956 году». Мне идея Фельдмана не очень понравилась, или, точнее, очень не понравилась. И потому, что я не обладаю публицистическим даром и журналистским опытом, а только при этом условии можно увлекательно рассказать о типографии и ее людях. И потому, что у меня и своей работы в издательстве было сверх головы. К тому же это грозило срывом отпуска. Вплотную разговор о моем участии в издании этой книги зашел в июне 1967 года, когда до выпуска книги к юбилею оставалось несколько месяцев.
Но против натиска Бориса Александровича Фельдмана устоять было очень трудно, да еще мне с моим мягким характером. Фельдман обладал бешеной напористостью. Помню, мне однажды пришлось ехать с ним в машине, и он сам вел ее. Так вот, он ни за что никому не уступал дорогу. Готов был столкнуться лоб в лоб, но не уступить. Не выдерживали, во всяком случае в тот раз, другие водители, уступали ему дорогу.
На мою долю, помимо редактирования глав других авторов, выпала задача написать главу об истории типографии.
Но сначала Фельдман распорядился, чтобы инженер производственного отдела провела меня по всем типографским цехам и детально познакомила со всем, что там делается. Без этого мне трудно было бы оценивать главы других авторов, да и только так можно было составить о типографии четкое и конкретное представление. В конечном счете я увлекся новой задачей, даже подружился с некоторыми авторами, в первую очередь с заместителем главного инженера и начальником лаборатории Анатолием Григорьевичем Эмдиным, который очень охотно мне помогал в трудных случаях, объяснял непонятное.
О лучших работниках типографии написала в виде коротких очерков на полях редактор «правдинской» многотиражки Р.В. Левина. Она же предоставила в мое распоряжение подшивки многотиражки, кроме довоенных, которые мне пришлось доставать в Ленинской библиотеке. На основе прочитанного я и написал очерк истории типографии, включая предысторию, так как типография, в которой печаталась «Правда» в 60-е годы прошлого века, была построена в 30-е годы того же века и начала работать только в 1934 году.
В начале августа 1967 года я ушел в отпуск и уехал в Запорожье к маме. Риссу я писал:
Отдых будет неполным, приходится брать с собой материалы для брошюры о «Правде». И их еще недостает. Будут еще присылать вдогонку. А что получится – бог его знает. Это не мое амплуа, а вот вынужден по собственной глупости и мягкости играть.
Эту тему я продолжил в следующем письме к Риссу (10.08.67):
Отдыхаю я в общем хорошо. Правда, обычно я… занимаюсь только поделками из дерева и чтением художественной литературы, стараясь заполнить бреши, которые неизбежны при московском житье-бытье. На этот раз все не так. Вынужден был привезти… ворох материалов для брошюры о типографии газеты «Правда» и каждое утро упражняться не деревянными поделками, а тяжелыми для меня попытками создать что-то мало-мальски приемлемое, тяжелыми главным образом потому, что я владею материалом лишь отчасти, а помощи от типографских товарищей получаю довольно мало, а также из-за отсутствия публицистических способностей в той мере, в какой это необходимо. Вот и мучаюсь. Написал всего десять страниц вступительной, первой главы и вчера послал в издательство «Правда» для разгрома. А дальше дело застопорилось, хотя отступать мне некуда. Приходится ломать голову.
В начале октября (письмо не датировано) я оправдывал краткость своего письма к Риссу тем, что «оба выходных дня корпел над рукописью, посвященной типографии “Правды” – не то редактировал, не то писал». А 31 октября 1967 года подробно описал, как проходила заключительная стадия выпуска этой книги:
Наконец-то подошла к концу эпопея с книгой «Здесь печатается “Правда”». Последние дни были вообще сумасшедшими. В пятницу утром я поехал в типографию «Правды», а вернулся домой только вечером в субботу, ни на минуту в течение 36 часов не сомкнув глаз вместе с художником, техническим редактором и очень милым заведующим лабораторией «Правды», который очень мне помог. Не успел я вздремнуть, как привезли продолжение корректуры. Пришлось читать ночью. А утром снова на «Правду». Дело в том, что директор издательства и типографии Б.А. Фельдман решил во что бы то ни стало преподнести книгу гостям 1 ноября, когда типографии будут вручать знамя навечно. 25 октября мы сдали в набор рукопись, еще не имея иллюстраций, а затем пошло-поехало – гранки, клише, макет, верстка, сверки, чтение рукописи влиятельными лицами. И так далее. И тому подобное. Очень я устал. Сейчас какая-то депрессия. Но работать было приятно, даже радостно и не утомительно. Усталость навалилась потом. В результате завтра нужно будет подписывать сигнальный. Конечно, материал жизненный такой, что книгу можно было создать по-настоящему хорошую. Сейчас же она скорее получится красивой по виду, а по тексту, над которым я корпел и бился, – не очень. Хочу, как только представится возможность, послать Вам эту книгу в подарок. Правда, немного боязно. Я ведь искренне увлекся материалом, а получилось-то, наверно, не очень хорошо. Во всяком случае, работал я не из-за денег, на общественных началах, тратя все свое свободное время, и вытащил книгу, которая могла бы появиться в свет, только если бы за нее взялись писатели, журналисты, а не тот коллектив, который стоит на титульном листе. Вот почему я не сумел раньше продолжить свое прошлое короткое письмо.
Олег Вадимович, получив от меня в подарок книгу, сразу же откликнулся письмом, одобряющим ее оформление, но не затрагивающим содержания, так как он не успел еще ее прочитать.
Книга, которую я сначала называл брошюрой, на самом деле больше походила на альбом с большеформатными репродукциями фотографий, сделанных выдающимися фотомастерами «Огонька». Они давали представление о громаде цехов.
Поблагодарив Рисса за поздравление с выходом книги, я, еще раз подтвердив, что «текст ее действительно оставляет желать много лучшего», попросил его не тратить время на чтение. Но не тот человек Рисс, чтобы не прочитать книгу о типографии, коль скоро он сам типографский работник. И он не только ее прочитал, но и прислал мне письмо со множеством замечаний и соображений насчет текста (16.11.67):
Вы напрасно принижаете содержание книги «Здесь печатается “Правда”». Оно, конечно, не так броско, как оформление, и сделано, быть может, суше, но несет, что называется, хороший информационный заряд. Во всяком случае, наши дамы из химлаборатории (наиболее интеллигентная часть Лениздата), которым я на день дал книгу, не только с интересом прочитали все, что написал А.Г. Эмдин, но и сделали, по их признанию, полезные выписки.
Я тоже с увлечением прочитал страницы, посвященные строительству новых корпусов «Правды» в 1930-х годах, тем более что сам побывал там сразу после вселения редакции в новые хоромы. Вероятно, недостаток времени не позволил найти более разнообразные формы подачи материала, но меня прямо-таки очаровала маленькая новелла на стр. 135 «Тысяча девятьсот тридцать второй год». Если бы эти «новеллы» в корешок («Династия правдистов») были бы более подробно разработаны (а что много интересного осталось за бортом, сужу по юбилейному номеру «Правдиста» за 1947 год и старым номерам «Журналиста», которые у меня сохранились), то в дополнение к полиграфическому и художественному оформлению книга блистала бы и литературным оформлением.
Не могу, к сожалению, не отметить досадный конфуз, который в иных условиях дорого бы стоил. На стр. 87 рядом с отзывом о типографии слушателей комсомольских курсов приведен и отзыв приезжавшего в Москву французского министра Лаваля. А вот что сказано о Лавале в «Энциклопедическом словаре»: «Лаваль Пьер (1883–1945) – франц. полит. деятель, фашист, предатель франц. народа. После освобождения Франции от герм. оккупации казнен за государственную измену». Кто это Вам подсунул Лаваля? Ясно, что его мнение в записи в Книге почетных посетителей, как говорится, нынче «не играет».
Смущает меня фотография на стр. 61. На ней изображен дом № 10 по Ивановской улице (угол Кабинетской). Возможно, что там в 1912 году и печаталась «Правда». Но типография Березина находилась в доме № 14. Там в 1916–1917 гг. печаталась газета «Русская воля» (это я хорошо знаю, так как писал дипломную работу об этой газете), а 25 октября «Русская воля» была закрыта и ее типографию занял Военно-революционный комитет для печатания «Правды». Далее там помещалась «Петроградская (и «Ленинградская») правда», а в 1939–1943 гг. здесь, в этом доме, я работал в типографии «Смены». Дом мне знаком с подвала до чердака. Знаю я и его историю. Таким образом, на с. 65 неправильно сказано, что до переезда в Москву возобновленная «Правда» снова печатается в той самой петроградской типографии, где начала свою славную жизнь. А вот что писал в «Правдисте» № 88 5 мая 1947 г. метранпаж В. Приходько: «В 1910 году я работал в Петербурге… в типографии Березина (Ивановская, 14)…» Значит, все-таки на фотографии не тот дом?
Замечания Рисса прибыли вовремя и пришлись очень кстати. Я написал ему 19.11.67:
Огромное спасибо за письмо. Мы завтра будем вносить исправления для печатания тиража книги (Вы получили экземпляр из небольшой пробной части), и я смогу учесть Ваши замечания: заменить фотографию здания типографии, вычеркнуть имя Лаваля, сделав его высказывание безымянным. У нас вообще в спешке проскользнуло много всяких ошибок, и в основной части тиража мы их непременно устраним (те, что заметили, конечно). В общем, спасибо большущее за своевременную подсказку.
В заключение не могу не рассказать показательный эпизод из истории подготовки этого издания. Б.А. Фельдман решил на всякий случай (а может быть, так полагалось по его статусу) показать текст рукописи книги руководству редколлегии газеты «Правда». Читал ее тогдашний первый заместитель главного редактора «Правды» Борис Иванович Стукалин. Он сделал одно замечание – приказал выбросить материал о поездке делегации правдистов в Америку для знакомства с тамошними газетными типографиями, с опытом их работы для того, чтобы все полезное использовать в строящейся типографии «Правды». Интересный материал об этом был напечатан в многотиражке «Правдист», и я использовал его для очерка истории типографии. Мне он казался очень ценным, но именно его пришлось выбросить: помешала холодная война, нежелание наших идеологов извещать, что мы чему-то полезному научились у американцев.
«Типовое положение о подготовке рукописи к изданию»
Руководство Комитета поручило подготовить такое Положение главному редактору Главной редакции общественно-политической литературы Комитета по печати (этой Главной редакции непосредственно подчинялось наше издательство) Арсению Сергеевичу Махову. Это был один из первых шагов Комитета по упорядочению деятельности издательств, внедрению некоей единой дисциплины. Положение должно было сформулировать единые требования к оригиналам, а значит, могло служить нормативным документом во взаимоотношениях издательств и типографий. А.С. Махов сформировал авторский коллектив для написания документа. Включил в него и меня. Сейчас уже не могу припомнить, почему это произошло. Издательство наше считалось третьестепенным. Видимо, каким-то образом Махову стало известно, что наша редакция по издательскому делу готовила такое же Положение к Всесоюзному совещанию работников издательств и полиграфической промышленности в 1955 году, о чем я уже рассказал выше. Могу предположить, что порекомендовал включить меня в состав авторов Александр Павлович Рыбин, экс-начальник Главиздата Министерства культуры СССР, предшественника Комитета по печати в руководстве издательско-полиграфической отраслью, хотя тогда в разработке документа я участия не принимал, был только редактором. Так или иначе, я вошел в авторский коллектив. Между его членами были распределены разделы Положения. Мне, кажется, достались разделы «Предварительная работа издательства с автором», «Прием рукописи от автора», «Работа издательства над корректурными оттисками». Но главная моя задача была в редактировании Положения, а для этого нужно было учесть многочисленные замечания издательств. Обычно руководители издательств не придавали проектам таких документов никакого значения и поручали сообщать замечания по ним второстепенным сотрудникам издательств, но на этот раз они отнеслись к проекту более чем серьезно.
У меня сохранился экземпляр проекта с вклеенными в него дополнениями и вписанными изменениями. Только дополнительных пунктов пришлось внести 35(!). А изменений текста не сосчитать.
Память плохо сохранила подробности, но в моем архиве в проект Положения с поправками оказались вложены два документа: 1) приглашение издательской секции Центрального правления НТО полиграфии и издательств на заседание для обсуждения проекта положения; 2) конспект моего доклада на этом совещании.
Они многое проясняют в том, как готовился проект положения, кто в этой подготовке участвовал и т. д.
Приглашение гласило:
Издательская секция Центрального правления НТО полиграфии и издательств 23 сентября 1966 года в 14 часов 30 минут проводит расширенное заседание секции по обсуждению проекта «Положения о подготовке рукописи к изданию».
Заседание секции состоится в помещении Московского полиграфического института (Садово-Спасская ул., д. 6, 2-я аудитория).
С сообщением о проекте «Положения о подготовке рукописи к изданию» выступит зам. главного редактора издательства «Книга» Мильчин А.Э.
Просим Вас направить на указанное заседание представителя издательства, предварительно ознакомив его с проектом «Положения о подготовке рукописи к изданию».
Председатель издательской секции ЦП НТО полиграфии и издательствБ. ГОРБАЧЕВСКИЙКонспект моего сообщения был таким:
1. Как создавался проект нового положения.
Разработка проекта была поручена Главной редакции общественно-политической литературы. Главная редакция привлекла для подготовки проекта комиссию в следующем составе: Г.А. Виноградов, В.А. Маркус, А.Э. Мильчин, В.В. Попов, Н.М. Сикорский, от Главной редакции общественно-политической литературы Н.И. Алексеев. Впоследствии в один из разделов внес свою лепту И.Б. Эйдельнант. После длительных споров и обсуждений, подчас бурных, сошлись на том варианте, который перед вами.
2. Какие общие задачи ставила себе комиссия, создавая проект нового положения?
а) Четко определить суть каждого этапа прохождения рукописи в издательстве.
б) Не обюрокрачивая редакционно-издательский процесс, регламентировать то, без чего прохождение рукописи в издательстве оказывалось бы в худших условиях.
в) Точно сформулировать права и обязанности автора и издательства в ходе редакционно-издательского процесса, чтобы и издательство не страдало, и автор был огражден от произвола.
3. Что же нового в «Положении» по сравнению с инструкцией 1955 г. «Подготовка рукописи к изданию» (приказ Министерства культуры № 280 от 13 мая 1955 г.)?
Исходя из общих задач, комиссия стремилась сделать положение в целом более детализированным, более полным по сравнению с инструкцией 1955 г.
Нетрудно увидеть, что в «Положении»:
а) Раскрыта предварительная работа издательства с автором (раньше акцент делался на порядке заключения договора – и только), установлены сроки рассмотрения авторских заявок, оформления договоров, введен пункт о предварительной калькуляции для учета экономических результатов издания (всего этого в инструкции не было).
б) Во избежание всевозможных затруднений в процессе подготовки рукописи к изданию более детально определены требования к оформлению автором рукописи и авторских подлинников иллюстраций; установлены сроки рассмотрения и оценки рукописи с этой стороны.
в) Введен материал о технической подготовке рукописи к производству и изданию.
г) Включен раздел об особенностях организации редакционно-издательского процесса при выпуске изданий по методу оригинал-макета.
д) Везде установлены сроки и ответственность исполнителей.
Итак, общая детализация и установление сроков – это первое отличие нового «Положения».
Второе отличие – в том, что положение формулирует суть и назначение важнейших этапов издательского процесса – редактирования, рецензирования, технической подготовки рукописи к производству и изданию. Этого не было в старой инструкции.
Третье отличие – в «Положении» нет разделов об отдельных видах изданий, как было в инструкции 1955 года (собрания сочинений, переводы), поскольку задача «Положения» – дать общие правила, равно применимые для изданий любого вида.
Четвертое отличие – более строгая структура.
Конечно, влияние всякой инструкции на практику относительно. Все же хорошая инструкция помогает лучше организовать труд, избежать потерь.
Комиссия стремилась создать именно такую инструкцию. Насколько это удалось, покажет практика. Многое зависит и от сегодняшнего обсуждения. Замечания, критика позволят сделать проект более совершенным. Ценность такого обсуждения еще и в том, что сами замечания можно будет обсудить.
Хотя в комиссию, судя по моему сообщению, не входил главный художник Главной редакции общественно-политической литературы Ильенко, я хорошо помню, что он делал существенные замечания по тексту разделов «Работа в издательстве над оформлением издания» и «Работа издательства над корректурными оттисками». Сказался его опыт работы в издательстве до прихода в Комитет по печати. Запомнил я это хорошо, потому что не ожидал от него такого. Он казался скорее заносчивым начальником, чем знающим специалистом.
После издания «Положения» в моей трудовой книжке появилась запись:
Приказом Комитета по печати СМ СССР № 495 от 31.8.67 объявлена благодарность за активное участие в разработке «Типового положения о подготовке рукописи к изданию».
Для меня работа над составлением и редактированием «Положения» имела большое значение главным образом потому, что я, хотя уже стал заместителем главного редактора издательства, продолжал чувствовать себя редактором, ответственным за выпуск литературы по редакционно-издательскому делу. А работа над «Положением» погружала меня в гущу споров о постановке редакционно-издательского процесса, позволяла взглянуть на него не только глазами редактора с опытом работы в двух издательствах («Искусство» и «Книга»), но и глазами сотрудников самых разных издательств.
«Некоторые проблемы редакторского анализа рубрикации»
Эта маленькая заметка (Издательское дело. Книговедение. 1969. № 4. С. 14–15) не заслуживала бы упоминания, если бы не стала вместе с другой аналогичной заметкой «Об издательской культуре справочно-вспомогательного аппарата книги» (Издательское дело. Книговедение. 1971. Вып. 1. С. 19–21) зерном будущих моих книг и статей о культуре издания, основанных на функциональном анализе элементов и частей аппарата книг. Первая заметка у меня куда-то запропастилась, и я даже не могу вспомнить, чтó именно о рубрикации в ней было написано. Во второй же представлен функциональный разбор аппарата сборника «Землю всю охватывая разом…» издательства «Художественная литература». Обоснованно доказывалась неоправданная бедность аппарата – только указатель иллюстраций и «Содержание» в неудобной для читателя форме. Но все не сводилось только к критике неудач в издании. Привел я и поучительный пример оригинальных колонтитулов в литовском издании краткой биографии В.И. Ленина. Это отвечало моей идее о необходимости изучать, как сделаны книги разных издательств мира, для того чтобы новаторские решения доводить до сведения издательских работников и они могли использовать их в своей практике либо непосредственно, либо с изменениями, связанными с особенностями издания.
«“Вчитываясь в правленые строки…”: (По страницам с редакторской правкой В.И. Ленина)»
Начал я изучать правку В.И. Ленина вовсе не для того, чтобы писать статью для юбилейного сборника «Книга. Исследования и материалы», выпускаемого в связи со столетием со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году. Цель моя была другая – я хотел изучить правку Ленина, как правку человека выдающегося ума, в чем у меня и сейчас нет никаких сомнений. Я вообще считал, что для практики редактирования такое изучение очень полезно и поучительно. Именно поэтому был задуман и реализован издательством «Книга» выпуск сборника «Толстой-редактор». Были попытки издать также сборник «Ленин-редактор», но, к сожалению, ничего не получилось.
Когда же стал формироваться состав юбилейного сборника «Книга. Исследования и материалы», я подумал, что мои наработки могут составить предмет статьи. Естественно, редакция сборника такую тему приветствовала. Статья была очень деловой, не проникнутой юбилейным духом. Единственное, что мешает пользоваться ею сегодня, это развенчание Ленина как политика. Да и мне сегодня не хочется представать верным ленинцем. Хотя не могу не признать, что, прославляя Ленина как редактора, я пекся не только о развитии редактирования как учебной дисциплины, но и о том, чтобы противопоставить хорошего Ленина плохому Сталину: ведь я был одним из шестидесятников и разделял распространенные тогда заблуждения.
Но если откинуть эти привходящие обстоятельства, сам анализ ленинской правки подтверждал мое понимание редактирования. И в этом отношении, мне кажется, статья не устарела. Тем более что правил Ленин в основном очень хорошо и точно.
Конечно, в общем юбилейном славословии трудно было удержаться от громких слов и завышенных оценок, но как раз накануне работы над статьей я выступил против фетишизации ленинских высказываний. Когда Рисс прислал мне статью Г.М. Дейча на тему о Ленине-редакторе (может быть, тема статьи была и шире), я так написал ему об этой статье (22.03.67):
Сам материал, как Вы и отмечали, не содержит ничего нового. Все это мне было известно. Я сборники В.И. Ленина штудировал. Честно говоря, меня начинает пугать другое: фетишизация высказываний В.И. Ленина. Нельзя каждое слово превращать в основополагающие указания. А у нас это начинает проскальзывать. Например, когда начинают цитировать слова о наборе заголовков не курсивом, потому что это слишком торжественно, то недоумеваешь. Не знаю, что В.И. Ленин имел в виду, но мне это просто непонятно. Курсивы-то разные бывают. И почему плох полужирный? Мы им прекрасно пользуемся для заголовков, и не становятся они от этого торжественными. Это только один пример. Можно было бы указать и на другие. Ну да ладно. Я к редакторскому наследию Ленина отношусь с огромным уважением. В нем много такого, что должно быть в основе нашей работы. Но я против перехлеста, за разумный подход в использовании наследства.
Правда, не могу не признать, что во многих своих работах сам по заведенной традиции, если было к месту, использовал высказывания Ленина по поводу, например, таблиц и т. д.
Более того, к 70-летию Октября в 1987 году по заказу Российского общества книголюбов написал методическое пособие «Октябрь и книга» для лекторов общества, и в нем немало говорилось о ленинском отношении к книгоизданию, о воздействии Ленина на издательский репертуар первых лет советской власти. Все это апологетически, некритически, хотя и на почве фактов, а они говорили, что Ленин хотел приспособить книгоиздание к нуждам страны, как он это понимал.
Юбилейный сборник «Книга. Исследования и материалы» был замечен – удостоился откликов в массовой печати. В частности, о нем написал Евгений Кригер в «Известиях». Обозревая содержание сборника, он нашел несколько слов для моей статьи. К сожалению, я куда-то задевал вырезку этой рецензии.
«Методика и техника редактирования текста» (М., 1972)
Эту книгу я без ложной скромности могу считать моим серьезным вкладом в литературу о редактировании. Это не только самооценка, но и оценка рецензентов и читателей. Так что о том, как она создавалась, какие отклики вызвала, есть основание написать более или менее детально.
Вероятно, в начале 1969 года я стал всерьез подумывать о том, чтобы на основе лекций на курсах по повышению квалификации редакторов написать пособие по редактированию текста. Многое из того, что я обобщил в лекциях, в литературе для редакторов отсутствовало. К тому же настоящее практическое пособие по методике редактирования текста еще не издавалось. Учебники редактирования преподавателей МПИ, МЗПИ для этой цели годились лишь отчасти: конкретных методик, облегчающих работу редактора, в них не содержалось. Между тем редакторские промахи далеко не всегда носили индивидуальный и случайный характер. Выпуск методического пособия по редактированию прямо отвечал и одной из задач издательства «Книга». Между тем после создания этого издательства ни одного серьезного пособия по редактированию в 1964–1969 годах выпущено не было. Так что мои личные творческие планы вписывались в планы издательства.
Правда, в первом учебнике по редактированию для высшей школы (Лихтенштейн Е.С., Сикорский Н.М., Урнов М.В. Теория и практика редактирования книги. М.: Высшая школа, 1961. 381 с.) была глава, которая называлась «Методика работы редактора над рукописью и корректурами» (с. 152–252). Однако при непредвзятом анализе оценить эту главу как способную реально помочь редакторам в их работе над оригиналом книги никак нельзя. Само построение главы противоречит последовательности редакторской работы над рукописью: сначала авторы пишут о видах правки, хотя методически начинать с правки грубо ошибочно, и уж затем об этапах работы над текстом, редакционной обработке таблиц, об иллюстрациях, подготовке оригинала и корректуре. Кстати, и параграф «Этапы работы над текстом» вызывает много вопросов. О каких этапах можно говорить, если, начав с чтения рукописи и пометок на полях, авторы переходят к заглавию книги, проверке фактического материала и заканчивают композицией произведения? Здесь трудно разглядеть этапы. Да и методически неверно заканчивать анализом и оценкой композиции. Могу сослаться на аргументы в моем пособии, обосновывающем необходимость начинать редакторскую работу над рукописью с композиции. Конечно, в рассматриваемом параграфе речь идет не об этапах работы над текстом, а просто о работе над текстом, в отличие от последующих подпараграфов, в которых говорится о таблицах и иллюстрациях, т. е. нетекстовых элементах произведения. Однако разговор о работе над текстом почему-то вовсе не касается анализа и оценки стиля, а та часть текста, которая озаглавлена «Чтение рукописи. Пометки на полях», начинается анекдотической фразой: «Правка начинается с чтения рукописи» (с. 171). Где логика? Разве можно чтение рукописи считать правкой? Вероятно, авторы имели в виду, что правку нельзя начинать, не прочитав рукопись, но выразили эту мысль удивительно небрежно. А ведь это учебник редактирования. Видимо, редактор «Высшей школы», которая вела учебник, Л.Н. Паньшина была преисполнена такого почтения к солидным авторам, что потеряла необходимую редактору критичность. Главный же недостаток учебника в том, что все его рекомендации очень общи, не опираются на конкретный опыт редакторской работы. Ну какую пользу извлечет будущий редактор из такой, например, фразы: «Заметив неточные, ошибочные формулировки, повторения, шероховатости языка, стиля, редактор делает пометки на полях» (с. 171)? Вопрос ведь совсем не в том, чтобы считать пометки основным методом работы, а в том, как заметить все перечисленные недостатки, какие методические приемы могут этому помочь. А вместо пометок на полях вполне можно воспользоваться постраничными замечаниями на карточках. Авторы вообще придали пометкам на полях не присущую им вовсе силу: «Особенно значительна роль пометок на полях при работе редактора над языком художественного произведения» (с. 173). Почему? Следует такое объяснение: «Они дают возможность не оставить без внимания буквально ни одной языковой погрешности, добиваться точности, емкости, изобразительной конкретности каждого словесного образа» (Там же). Между тем сами по себе пометки на полях такой возможностью обладать не могут. Это всего лишь технический прием фиксирования замечаний, не больше и не меньше. А какими будут эти замечания, зависит вовсе не от технического приема их фиксации, а от глубины анализа текста редактором.
(Не могу не сделать замечания в скобках. Я осознаю, что оценке первого учебника по редактированию не место в мемуарных записках, но не могу удержаться от этих замечаний. Иначе никак не объяснить, в каком направлении шли мои поиски иного содержания пособия по методике редактирования и почему я противопоставлял его, так сказать, официозу. Но все же я обуздал себя и не стал демонстрировать все перлы учебника, низкий уровень которого легко показать.)
Возможно, конечно, что я подумывал написать методическое пособие по редактированию и раньше. Во всяком случае, в конце мая 1967 года в письме к Риссу (без даты) я уже упомянул о том, что стало впоследствии частью этой книги:
У меня дела не со «Справочником [редактора]», а с некоторыми соображениями о психологии редакторского труда сдвинулись с мертвой точки. В связи с чтением «Психологии запоминания» А.А. Смирнова пришел к некоторым выводам. Собираюсь даже проделать в следующем учебном году некоторые психологические эксперименты с учащимися, чтобы получить подтверждение своим догадкам, которые основываются на близком материале. Речь идет об определении психологических условий, при которых деятельность редактора протекает наиболее продуктивно и полезно для дела, причем эти условия должны принудительно толкать его на лучшее выполнение работы, задачи, которая перед ним поставлена. Я вдруг почувствовал, что опять начинаю что-то соображать. Последнее время почему-то ощущал творческую депрессию и полную неуверенность в своих силах, которым я всегда давал очень и очень скромную оценку. Это не бравада и я не напрашиваюсь на комплименты или возражения; это истинное положение, и я просто откровенничаю с Вами тем, чем никогда ни с кем не делился.
Собственный редакторский опыт и опыт преподавания основ редактирования на курсах повышения квалификации навели меня на мысль о том, что научные основы редакторской работы надо искать в психологии мышления и психологии чтения. Они должны содержать положения, из которых нельзя не исходить редактору, поскольку его труд – это труд интеллектуальный, труд специального чтения. А значит, он не может не считаться с теми условиями, без соблюдения которых нельзя добиться положительного результата, или, точнее, нельзя осознанно достигать поставленных целей, познакомиться же с этими условиями должна помочь психология мышления и чтения. У мыслительного процесса и процесса чтения не может не быть закономерностей. Учебная дисциплина, называемая «Теория и практика редактирования», не может ограничиться только несколькими методическими советами и общими соображениями, основанными на чисто субъективном частном опыте.
Этот мой интерес к психологии умственной деятельности отразился в письмах к О.В. Риссу.
Так, 07.06.67 я писал ему:
За предложение выслать книги по психологии благодарю очень. Неловко принимать это предложение, но я так увлекся сейчас психологией, что не в силах от нее отказаться. Должен сказать, что пришел к выводу о необходимости изучать психологию людям любой профессии, как общую, так и специальную. Насколько я почувствовал себя богаче и увереннее в ряде вопросов, прочитав всего лишь несколько книг по психологии. Мечтаю изучить хотя бы важнейшие, так как убедился: все рассуждения о редакторской работе, пренебрегающие психологией, мало стоят, поскольку редактору для полноценной работы необходимо точно знать установленные наукой условия, благоприятствующие глубокому пониманию текста, его анализу. В этом отношении мне очень много дал А.А. Смирнов своей «Психологией запоминания» (М.; Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948). Думаю, что многие положения этой книги полностью применимы и к корректуре. Книга написана почти 20 лет назад, а для нас, издательских работников, была тайной за семью замками. Может быть, я и преувеличиваю, может быть, среди редакторов были, вернее есть и такие, которые это познали раньше меня, но знания эти не стали достоянием многих. А жаль. Я, во всяком случае, постараюсь информировать редакторов каким-нибудь образом о тех богатых возможностях для более рациональной и успешной работы, которые предоставляет в их распоряжение чудо-наука – психология. Как видите, и я самообразовываюсь. Ананьева… одну или две книги читал. А вот книгу Л.М. Шварца пока не нашел, о чем крайне сожалею.
В 1969 году я уже перешел от замысла пособия к его воплощению. Во всяком случае, даже попросил у Рисса разрешения прислать ему для критического рассмотрения первую главу, на что он ответил согласием, а потом посылал ему главу за главой и в ответ получал письма с их разбором и оценкой.
2 октября 1969 года он писал о первой главе:
Вы, конечно, знаете, как меня интересует все, что относится к редакционно-издательской деятельности, и как я приветствую все попытки проложить новые дельные пути в этом направлении. Поэтому я с большим интересом читал начало Вашего пособия и думал, как оно может пригодиться. Сразу привлекает внимание то, что читатель вводится в суть дела с помощью диалога. Этот прием, которым так мастерски пользовался Дидро, не очень часто теперь применяется. Далее порадовали меня Ваши старания более точно определить содержание работы редактора. Совершенно правильно Вы указываете на неточность и неполноту тех определений, которые даются в энциклопедиях. Вообще, мне по душе тот пафос, если можно так выразиться, с которым Вы отстаиваете роль и назначение редактора. Для меня совершенно ясно, что профессия редактора не только требует других данных, чем, скажем, профессия парикмахера, но относится, так сказать, к числу артистических профессий, в которых внутреннее мастерство преобладает над внешним эффектом. Работа редактора как бы всегда «за кулисами», но тем больше в ней благородства и изящества.
Заметил, что Вы мне прислали, по-видимому, первый, неотделанный вариант Вашей работы, ибо оставили неисправленными кое-какие стилистические шероховатости (например, излишне длинные предложения) и «непричесанные» мысли. Поэтому разрешите мне высказать все свои замечания подряд, и прежде всего некоторые конструктивные предложения. Во-первых, посылаю Вам выписку из Словаря русского языка, в котором, на мой взгляд, есть некоторые упущенные Вами моменты. Наиболее точно, кажется, определение редактора как руководителя издания – это относится не только к газете, но и к книге. Интересна и сама этимология слова – от латинского «упорядочивать». Во-вторых, из книжки В.Г. Камышева «Издательский договор на литературные произведения» я узнал, что некий В.Я. Ионас в книге «Критерий творчества в авторском праве и судебной практике» (Госюриздат, 1963, стр. 127) вносит свои оригинальные определения в содержание работы редактора. Вероятно, стоит Вам ознакомиться с точкой зрения Ионаса.
Возвращаюсь ближе к Вашей работе. <…>[29]
Хотелось бы раскрыть своего рода диалектику обязанностей редактора. В его лице совмещается как бы прокурор и адвокат. В процессе издания он является поверенным автора, отстаивает и охраняет его интересы, хотя в какой-то части выступает его «суровым обвинителем», требуя устранения недостатков и ошибочных положений рукописи. Но коль скоро найдена общая точка зрения, редактор как бы «влезает в шкуру автора» и действует от его лица. Возможно, что, как и адвокат в суде, редактор подчас даже лучше понимает, что к чему, и лучше выражает мысли и интересы автора, чем это доступно ему самому. <…>
У Вас идет речь о редакторе вообще. Следовало бы пояснить, что в каждой области редактирования нужны и специальные знания. Поэтому для редактирования произведения классиков привлекается ученый-текстолог, для беллетристики – писатель, для поэзии – поэт, для детской литературы – педагог. Но независимо от этого каждый должен обладать знаниями и навыками редактора, которые общи для всех видов редактирования.
Словом, я хочу напомнить, что специализация редакторского труда идет все дальше. Любопытно, например, что в выходных [надо: выпускных. – А.М.] данных книги адмирала В.Ф. Трибуца «Балтийцы наступают», которая лежит у меня на столе, сначала указано: «спецредактор А.Н. Петров», а затем идут уже прочие фамилии. <…>
Сопоставление редактора с критиком интересно и удачно, но не подчеркнута бóльшая ответственность редактора. Главная разница в том, что критик непосредственно адресуется к читателям, а редактор общается с читателем опосредованно – через автора. <…>
В справке из БСЭ явная путаница, вошедшая в обиход именно потому, что не учитывается сложившаяся на практике специализация редакторской работы. То, что пишет БСЭ, относится к действиям литературного редактора. Не сказано, что это далеко не все. Появился ведущий или издательский редактор (кстати, точного наименования этой должности пока нет). По-моему, следовало бы указать, что в БСЭ «шпарят» по-старому, не учитывая новых производственных отношений в издательском процессе. <…>
Разумеется, мои замечания носят сугубо личный характер и не претендуют на категоричность. Но то, что я глубоко заинтересован в доведении Вашего пособия до чеканных форм и нерушимых определений – совершенно неоспоримо. Хотя Вы и «прославляете» редакторов, но в этой области весьма заметно отставание теории от практики (да и что может быть хорошего, когда в ЛГУ курс издательского редактирования ведет такой «путный» деятель, как директор ЛО «Медицины» В.И. Марков, знакомый мне по Лениздату!) Поэтому всеми мерами необходимо укреплять теоретический фундамент. Несомненно, что этой цели послужит и Ваше пособие. Никакие затраты времени на него не пропадут даром.
Полагаю, что цитирование этого «редакторского» письма О.В. Рисса в моих «Записках» оправдано хотя бы тем, что его содержание обладает самостоятельной ценностью для суждений о редактировании и редакторе.
19 февраля 1970 года я получил письмо с разбором и оценкой главы 2 («Психологические основы и общая схема редакторского анализа»):
Начну с того, что, вероятно, покажется Вам удивительным. В последние дни у меня было весьма неважное настроение (тахикардия по ночам, «разгром» «Нового мира», хамское поведение соседей по квартире, открыто обсуждающих, как они заполучат нашу комнату, когда нас не будет, и пр.). Но когда я начал читать Вашу рукопись, меня охватили какие-то противоположные чувства, настроение поднялось, я вдруг чему-то обрадовался. Возможно, такое состояние называется радостью открытия, приятной неожиданностью. Встречей с чем-то хорошим… Думаю, во всяком случае, что это было самое настоящее «сопереживание», когда читающий увлекается предметом изложения и как бы пропускает мысль автора по извилинам своего мозга.
Короче говоря, чтение мне доставило удовольствие.
А теперь попробуем разобрать, почему это произошло.
Во-первых, пусть кошки у Вас на душе не скребут – то, что Вы написали, далеко выше уровня Полиграфического института. Во-вторых, хотя в письме Вы и оговариваете, что ничего нового не открываете, но столкновение разных пластов материала почти всегда вызывает открытие. Я бы назвал это, как когда-то писал академик Несмеянов, прорывом в какой-то верхний этаж.
Другое дело, что всякий шаг вперед сопровождается разными издержками и запинками. Простите меня, что я испещрил рукопись своими замечаниями и размышлениями, но это лишнее доказательство, сколько мыслей вызвало ее чтение. Кстати, эти заметки на полях, если они Вам пригодятся (надеюсь, что я писал достаточно разборчиво), избавляют меня от того, чтобы говорить о частностях в письме. [Как жаль, что эти страницы с замечаниями и репликами Рисса не сохранились!]
Поэтому здесь изложу свое общее впечатление (уже не эмоционально, а с деловой точки зрения) и попробую внести несколько своих предложений на Ваше усмотрение.
Я всецело приветствую Ваше стремление поднять редактирование до научного уровня. Но, по-моему, об этом надо прямо сказать, что вы на смену голой эмпирии, редакторской практике выдвигаете научно обоснованные приемы. В этих целях и обращаетесь к психологии (а почему только к ней одной?).
Однако читатели без труда заметят, что в увлеченности психологией Вы нередко пренебрегаете спецификой редакторского труда и без должной «трансформации» переносите в эту профессию приемы и эксперименты, тесно связанные, скажем, с педагогикой. В ряде мест рукописи описание психологических экспериментов (например, на стр. 49–52) становится как бы самоцелью, занимает слишком много места и отвлекает читателя от главного – вопросов редактирования.
Практическое предложение – где можно, психологию сократить, подробное описание опытов заменить кратким изложением того, что может пригодиться редактору в его работе.
Эта увлеченность психологией иногда проявляется и в смешении терминов. Так, я заметил, что на стр. 55 понятие «содержание» в психологическом смысле как бы работает против понятия «содержание» с точки зрения редактора, то есть содержания книги.
Частые ссылки на работы, проведенные психологами среди школьников и даже дошкольников, могут быть истолкованы превратно и вызвать чуть ли не обиду: вы что нас, взрослых редакторов, с дошкольниками сопоставляете!
Практическое предложение: меньше ссылаться на конкретные работы среди лиц младшего возраста, брать из этих экспериментов только то, что Вы считаете полезным для редактора, ссылки давать более «глухие», не акцентируя возраст.
Если проделать с рукописью то, что Вы сами рекомендуете, то есть составить мысленный план, определить опорные пункты, произвести микроанализ текста и пр., мне кажется, обнаружится немало повторений и не всегда бесспорная последовательность. Мне, например, показалось, что изложение часто идет по кругу, а не по спирали, автор не раз возвращается к тому, что высказал раньше. Не желая задерживать рукопись, не производил дотошный анализ, ибо излагаю главным образом общее впечатление. Но в ряде мест «поймал» явные повторения, которые просятся долой. Кроме того, абзацы с выводами сформулированы столь однообразно, что создают впечатление какого-то ненужного рефрена.
Практическое предложение: поработать не только пером, но и ножницами. По своему опыту знаю, что это весьма полезная операция. Некоторые частности отмечены в моих замечаниях.
В целом, я бы сказал, что в рукописи много «непереваренной» психологии, то есть психологические положения описаны сами по себе, а не применительно к надобностям редактора. Конечно, есть немало и удачных случаев такой контаминации, но и изложение общих психологических закономерностей занимает довольно много места.
Читая сейчас это письмо, я пытаюсь вспомнить, как я использовал добрые пожелания Олега Вадимовича, но память подводит. Это не мешает мне восхищаться той дружеской содержательной помощью, которую Олег Вадимович старался оказать мне в работе над рукописью. Как же мне повезло на такого замечательного эпистолярного друга. Не могу не написать, что многие его соображения имеют далеко не частный характер. И можно только сожалеть, что они вряд ли станут доступны читателю-редактору.
31 мая 1970 года Рисс продолжает излагать свои впечатления:
Итак, общее впечатление без изменения: мне импонирует Ваше желание поднять вопросы редактирования на теоретическую высоту, причем в главе «Анализ композиции» Вы прибегаете к заимствованиям из психологии более умеренно и тактично, чем в предыдущих главах. Но если сравнить обе главы, которые Вы мне прислали, то первая (о композиции) выглядит теоретически более насыщенной, чем вторая. В этом ее сила и слабость: она труднее для понимания, но зато солиднее и доказательнее. «Анализ рубрикации» более насыщен примерами и скорее доходит до сознания, но не производит впечатления чего-то нового по сравнению с тем, что уже печаталось.
Однако главное, как мне кажется, не в этом: не все Ваши абсолютно точные и интересные мысли выражены в четких формулировках. Хотя Вы и против того, чтобы я вдавался в детали, но тут без примеров не обойтись, что я и сделаю в следующем письме, после того как буду вторично более глубоко читать Вашу рукопись.
Но уже сейчас как будто могу утверждать, что Ваша работа будет на 100 % полезнее и ценнее, если в ней удастся достигнуть павловской или тимирязевской глубины и ясности. Редакторы ведь тоже люди, они охотнее будут читать то, что позволит повернуть к ним предмет новой стороной, но едва ли захотят долго корпеть над смыслом изложенного. Поэтому во взаимных интересах если не во всем тексте, то, по крайней мере, в «ударных местах» и выводах давать вполне четкие и выверенные формулировки.
После окончания нескольких глав дело у меня застопорилось, о чем я и сообщил Риссу, судя по его реплике в письме от 30.06.70:
А вот то, что Ваше пособие задерживается, известие не очень приятное. Кстати, сколько в нем будет глав? И что значит не клеится? Вспомните совет Толстого: «Лучше плохо сделанная работа, чем никакая». Уверяю Вас, что самый дурной черновик содержит несколько полезных мыслей и из него можно сделать приличный чистовик. Нельзя затягивать работу, которая безусловно нужна редакторам.
Поддержка и поощрение Олега Вадимовича помогли мне преодолеть сомнения и колебания, неуверенность в том, что мое пособие – действительно то, что нужно редакторам. Многое в нем мне казалось заслуживающим положительного отношения, но я отчетливо видел и слабые места. Мне казалось, что главам явно недостает цельности, что в них силен элемент случайности, что это как бы отдельные советы, которые не сцементированы общей научной основой, что каждая глава строится по-своему, исходя из наличного материала, а это признак слабости.
Рисс старался меня подбодрить:
Ваше пособие по редактированию тоже «новое слово», но тут Вы пока полный хозяин. Мне кажется, что удобство Вашего положения в том, что Вы не обязаны давать полный состав глав – что не выходит, можно отбрасывать. Главу о проверке текста с фактической стороны жду с особым интересом, ибо как раз здесь, по-моему, нащупываются какие-то объективные критерии. Собранные материалы дают возможность уйти дальше, чем есть по этому вопросу у Ланглуа и Сеньобоса и что я приводил в своей книжке (10.07.70).
Получив главу об анализе фактов, Рисс сразу же прислал свой разбор и оценку главы, строгую, но справедливую. Но перед письмом с подробным разбором главы он сначала в письме от 12.08.70 сообщил предварительные соображения по главе:
Вашу главу немедленно «проглотил», но отложил более бдительное чтение на «после “Звезды”»[30]. Меня эта глава особенно интересует, тем более что она насыщена материалом. Против использования моего примера, конечно, не возражаю. Но вот что мне хотелось бы Вам сказать даже до полного «умозаключения» по главе.
Мне кажется, что в вопросе о проверке фактического материала в рукописи надо исходить из неких юридических оснований, на которые ссылается В.Г. Камышев в книге «Издательский договор на литературные произведения». Это пункт 19 Типового положения о подготовке рукописи к изданию, обязывающий автора во втором экземпляре указывать источники всего фактического материала (что облегчает работу редактора), и пункт 6 постановления Пленума Верховного суда СССР от 19 декабря 1967 г., возлагающий на автора ответственность за искажение фактов в его произведении (в развитие статьи 511 Гражданского кодекса РСФСР). Это очень важно, чтобы не получилось так, будто редактор работает за автора, таскает за него каштаны из огня, а автор может ходить «ручки в брючки».
Американская книжка, которую Вы мне в свое время указали, идет еще дальше. Оказывается, в заокеанской издательской практике скрупулезно разработан вопрос, за что отвечает автор, какие факты и даже слова он не должен употреблять и т. д. Например, нельзя назвать человека в печати «пьяницей», нельзя назвать его «преступником» до приговора суда и пр. Как раз об этом недавно написал в «Известиях» доктор юрид. наук Б. Никифоров, критикуя одну статью.
Припоминая свою работу над рукописью, я думаю, что, продолжая работу над дальнейшими главами, мало сделал для того, чтобы исправить по замечаниям Рисса главы, написанные ранее. Вот что он писал по поводу упомянутой главы:
По материалам глава, конечно, очень насыщенная, а по значению для редакторской практики – одна из важнейших. Естественно, что в ней надеешься найти больше обобщений и рекомендаций, если не выведения «непогрешимых законов», то, по крайней мере, наметку путей, по которым стоит двигаться дальше.
Но в этой главе наметилось расхождение в пропорциях между частью иллюстративной и частью «поучительной», методологической. Очевидно, все эти примеры настолько Вас увлекли, что Вы не заметили, как нарушилось равновесие. В предыдущих главах было больше авторских мыслей, примеры не «выпирали» из текста, как здесь. Если даже просто подсчитать, как одно соотносится с другим, то пропорции в последней главе будут иные, чем в предыдущих.
Местами кажется, Вы забываете, что пишете учебник, пособие, а не «обозрение промахов» в печати. Когда на протяжении двух страниц идет пример за примером с единоначатием «Вот…», то это уже даже по форме удаляется от пособия.
Хочется предостеречь от обилия примеров из периодической печати. Если говорить вообще о разных родах ошибок, то для иллюстрации годятся всякие примеры. Но коль скоро пособие адресуется редактору книги, то примеры должны больше соответствовать практике его работы. Дело в том, что многие ошибки в газетах и журналах, пусть они по природе, по механизму возникновения сходны с ошибками в книгах, вызываются особыми специфическими условиями газетно-журнальной работы, главным образом спешкой и невозможностью все быстро и точно проверить. В некоторых же примерах проглядывают явные опечатки, которые целиком на совести наборщика, корректора и «свежей головы» в редакции, но никак не касаются редактора книги.
Это бросится в глаза будущим Вашим читателям, которые скажут: «Ну, вот врет “Вечерняя Москва”, а мне-то что до нее?» Вы же у´чите редакторов находить и предупреждать ошибки, которых могло и не быть в рукописях до их сдачи в набор, а в доброй половине примеров указываются такие ошибки, которых могло и не быть в рукописях, а появились они позднее при перепечатке и в наборе. Опытный глаз это сразу различит и докажет!
Больше всего меня беспокоило, что предыдущие главы написаны «со вкусом», с желанием что-то обосновать и утвердить на прочных теоретических посылках, а в этой главе много простого эмпиризма, нет даже попыток привлечь любезную Вам (и мне) психологию. Отдельные удачные мысли (я их кое-где отметил) пропадают в массе примеров, оттеснены на задний план и не развиты. Заметно, что к концу Вы просто устали, так как раздел о цитировании изложен скороговоркой и сводится к перечислению технических правил. Это даже по манере перечисления пунктов дает себя знать. <…>
Если та или иная глава не получается, то можно оставить ее и «на потом», писать ту главу, к которой больше лежит душа. Это известное правило!
В некоторых местах мне показалось, что Вы буквально на пороге открытия, но увы, не задержались и пошли дальше. Ужасно обидно, что нельзя посидеть, покорпеть над рукописью вместе, ибо это самый лучший метод нахождения истины!
Вот, пожалуй, главное о главе (18.08.70).
Каюсь, я прочитал эту очень верную и конструктивную критику поверхностно. Я торопился, не вдумался в то, что советовал мне Олег Вадимович, и при доработке главы лишь отчасти учел его соображения. Наверно, мне полезно было бы перечитать это письмо и при подготовке работы к третьему изданию в 2004 году, но мне хотелось скорей, скорей завершить подготовку, и, сосредоточенный на теоретических проблемах в связи с замечаниями Марка Владимировича Раца, я менее придирчиво относился к чисто методическим главам. Жаль, но в прошлое не вернешься и не поступишь иначе. Писал бы я эти записки до подготовки третьего издания «Методики», поступил бы иначе. Это только в некоторых кинофильмах персонажам предоставляется возможность изменить течение своей жизни и вернуться вспять.
Я потерял уверенность, что историю подготовки «Методики и техники редактирования текста» нужно писать так, как я это делаю. Мне кажется даже, что цитирование писем О.В. Рисса больше говорит о нем, чем обо мне и моей работе над рукописью книги. Разве только о проблемах, с которыми я сталкивался в процессе работы. Все же продолжу, раз начал.
Следующее из сохранившихся письмо Рисса посвящено ответу на мои вопросы, касавшиеся глав об анализе графической формы текста и методики правки текста:
Теперь о Ваших вопросах. По-моему, «Анализ графической формы текста» лучше и в смысле благозвучия и с семантической стороны. Глава «Методика и техника правки» займет в конце вполне законное место, если Вы предыдущими главами подготовите ее «появление». Как будто иначе и не получится.
Поскольку я читал все главы порознь, сейчас не берусь составить связное впечатление о всей книге, но Ваш план никаких возражений не вызывает. Не сомневаюсь, что Свинцов отметил главное: что впервые в литературе по редактированию высоко поднято значение логики. Но мне бы хотелось, чтобы Вы учли уровень Ваших будущих читателей. Ведь не все то, что привычно и понятно Свинцову, дастся им легко и без возражений. Поэтому я и придаю большое значение тем приемам подачи материала, которые А.А. Реформатский, «обокрав» Нимцовича, не совсем удачно назвал «защитой».
Все это не должно заставлять Вас свернуть с намеченного пути, пусть даже кое-кому он покажется трудным и необычным. Может быть, здесь и таится подлинное открытие! (03.12.70).
В письме от 03.07.71 Олег Вадимович поздравлял меня со сдачей рукописи в производство, а это значит, что случилось это в июне 1971 года. Судя по выпускным данным, в набор она поступила 12 августа 1971 года. В своем поздравительном письме Рисс ободрил меня такими строками:
…Ваш труд явится и очень важным камнем в фундамент новой науки – науковедения. Мне кажется, что разработанные Вами принципы послужат хорошим отправным пунктом не только для практиков.
Читать такое было приятно, но и тогда эти слова казались большим преувеличением.
Но кроме неофициальной внутренней рецензии О.В. Рисса были еще и официальные внутренние рецензии: на книгу в целом О. Вадеева, старшего редактора Политиздата, и на главу об анализе текста с логической стороны В. Свинцова, преподававшего логику редакторам в МПИ и написавшего книгу на эту тему.
От первой во многом зависела судьба рукописи. Вторая была нужна мне для большей уверенности в том, что я ничего не напутал в логике, в которой все-таки был дилетантом.
Олег Вадеев окончил МПИ в 1952 году, и я немножко его знал. Было известно, что он считается лучшим редактором Политиздата, что издательство командирует его на съезды КПСС для редакционной работы. Я также знал, хотя и не очень точно, что он интересуется работами о редактировании, читает их. Такой рецензент, как он, был очень подходящей кандидатурой. Поскольку я был главным редактором издательства, которое выпускало книгу, директор издательства должен был получать разрешение Госкомиздата СССР на выпуск моей книги в нашем издательстве (таковы были правила из-за случаев злоупотребления служебным положением со стороны некоторых работников издательств). По той же причине требовалось авторитетное заключение о качестве рукописи, свидетельствующее, что она заслуживает издания. С этой точки зрения старший редактор Политиздата, да еще и оцениваемый как редактор лучший, был хорошей кандидатурой. К тому же я не сомневался в его объективности. Гораздо хуже было бы, если бы мой директор с согласия Госкомиздата направил рукопись на рецензию в Московский полиграфический институт, где нашлись бы желающие вставить палки в колеса. Но директор сразу согласился с моим предложением. Я позвонил Вадееву и попросил его быть рецензентом. Он согласился. Я переправил ему рукопись. Рецензия на 13 машинописных страницах была положительной, хотя и содержала несколько существенных замечаний, способных остановить или, по крайней мере, застопорить выпуск книги, если кому-либо этого бы очень захотелось. Помимо того, Вадеев заметил некоторые смысловые неточности. Устранение их, безусловно, пошло на пользу книге.
Но не буду писать о частностях. Что же касается существенных замечаний, то они носили политический, идеологический характер.
Отметив, что в рукописи «кое-где справедливо упоминается о том, что редактор должен выступать с “позиций партийных, коммунистических, народных интересов”, хорошо знать “весь круг дисциплин, составляющих теорию марксизма-ленинизм”», Вадеев далее так упрекнул автора:
Но дальше этих констатаций дело в общем-то не идет. Иными словами, показ методики редактирования – здесь и далее – не сопровождается достаточно обстоятельным рассмотрением методологии, точнее марксистско-ленинской методологии работы редактора.
Между тем уделить этому специальное внимание – особенно учитывая характер и читательский адрес задуманной книги – было бы весьма целесообразно.
На стр. 12 главы 1 находим чудесное высказывание: «Все ради революции, ради интересов партии, трудящегося народа. Таков смысл работы редактора в рассматриваемом случае…» [это комментарий к примеру ленинской редакторской правки].
Но как досадно, что, во-первых, автор спешит ограничить значение этой формулы, очень верной и в самом широком смысле, а во-вторых, что она не стала в рукописи «отправной точкой» для того, чтобы подробно, конкретно поговорить о политической стороне редакторского дела.
Хотелось бы, чтобы автор и издательство правильно поняли это замечание. Мы совсем не за то, чтобы «украсить» текст общими фразами в стиле газетных передовиц. Мы убеждены, далее, что банальное политизирование и наборы трескучих фраз в начале известного учебника трех авторов «Теория и практика редактирования»[31] изрядно попортили эту в целом нужную книгу. Но вместе с тем мы за то, чтобы в учебном пособии серьезно, по-деловому осветить значение идейных позиций редактора (какую бы литературу он ни готовил), его партийной закалки и убежденности, его политических качеств как работника идеологического фронта. Без этого на первый план изложения неизбежно выступает техника и различные другие моменты редактирования, а суть проблемы может остаться недостаточно выявленной (и, следовательно, недостаточно уясненной читателем).
Это замечание Вадеева было справедливым. Не то что я не хотел этого сделать, но я мог лишь внешне усилить эту сторону в тексте. У меня не было опыта редактирования текстов, касающихся политических и идеологических вопросов, и соответственно убедительных примеров. Да и, честно говоря, не был я таким убежденным идеологом, как Вадеев. Мне это было чуждо.
Что же касается общих формулировок, то там, где Вадеев подсказал, где такого акцента не хватает, я их уточнил.
Например, он подверг критике главу «Общие основы редакторского анализа»:
Систематизированный здесь материал интересен и в ряде случаев просто прекрасно «подан». Но наряду с этим в тексте есть ряд положений, которые грешат неполнотой, расплывчатостью. Например: «Что нужно делать редактору, – пишет А.Э. Мильчин, – чтобы достигнуть наибольшей глубины (!) в своей работе?» И косвенно отвечает: «…заинтересован ли он (редактор. – Рец.) в силу всей предшествующей жизни в наилучшем раскрытии темы или равнодушен к ней – вот от чего зависит глубина анализа произведения…»
Фраза – довольно типичная для изложения. Не получается ли, что при такой постановке вопроса на первом плане – жизненный опыт редактора (а не его взгляды, убеждения, убежденность), глубина анализа (а не его партийность, идейность)?..
Впрочем, будем справедливы. Несколько ранее автор упоминал о том, что «от партийности, мастерства анализа зависит и общая оценка произведения и качество всех редакторских замечаний». Верное, точное положение! Но разве его достаточно? Автор как бы «боится» развить, конкретизировать (если не считать еще одной фразы на с. 33) это исключительно важное замечание. А в результате тональность главы определяется формулами вроде тех, что есть на стр. 28, 30, 72 и др.
«Работа редактора во всех случаях будет тем плодотворнее, чем выше его интеллектуальная активность» (72). Бесспорно. Но на какой мировоззренческой основе возникает и развивается эта «интеллектуальная активность»? Об этом по существу не говорится. Что определяет успешность редакторского анализа? «Это, – отвечает автор, – во-первых, содержательные, глубокие (!) мотивы редакторской деятельности» (85). Вновь и вновь – абстракция, некая «внеполитичность» определения.
Повторяем: идейно-политическое качество редакторского анализа текста – вот какой аспект темы заслуживал бы специального рассмотрения.
Замечание Вадеева звучало более чем серьезно, и другой рецензент мог бы, отталкиваясь от него, сделать выводы об аполитичности автора, о том, что в таком виде рукопись признать пригодной к изданию нельзя и т. п. Выводы же Вадеева были другими. Он писал в конце:
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть: книга А.Э. Мильчина получается весомой, убедительной и интересной по материалу, доходчивой и четкой по изложению. Она несомненно принесет пользу широкому кругу редакционных работников (и отнюдь не только молодых или начинающих). Она не дублирует ни одну из книг по редактированию, появившихся в последние годы. Более того, по ряду «позиций» (содержательность, деловитость и краткость, умелая систематизация приводимых данных, обилие практически полезных советов) работа А.Э. Мильчина выгодно отличается от них. Не все еще, повторяем, сложилось в тексте в равной мере. Есть аспекты проблемы, нуждающиеся в определенной дополнительной разработке. Кое-что надо наново продумать, улучшить, подправить. Но в рукописи есть прочная добротная основа, и это главное. Все наши замечания и пожелания сделаны во имя одной и единственной цели: помочь автору в скорейшем завершении полезной и очень нужной книги.
Рецензия О. Вадеева помогла мне исправить и много частных погрешностей, а главное, дала зеленый свет выпуску книги, за что я ему очень благодарен. Но было еще одно положительное влияние этой рецензии на меня: она убедила меня, что я действительно написал что-то стоящее. Нужно сказать, что вера в себя все время перемежалась с сомнениями в том, что написанное заслуживает хорошей оценки. Все же слабостей у рукописи было немало. А Вадеев развеял эти сомнения. Я верил в его объективность. А строгость оценки, подтверждавшаяся рядом положений рецензии, усиливала веру в то, что он прав и мне нечего опасаться за книгу.
И вот теперь, в 2005 году, эта рецензия неожиданно вышла для меня боком, стала предметом переживаний.
В 2002 году инициаторы выпуска сборника воспоминаний выпускников МПИ 40–50-х годов выбрали меня в качестве редактора этого сборника (об этом более подробно рассказано в главе «На пенсии»). Прочитав воспоминание сокурсника Олега Алексея Абрамова о том, каким другом был Вадеев, как помогал он ему с публикацией книги в Политиздате, я тут же вспомнил о рецензии Олега на мою рукопись и решил написать о том, каким замечательным редактором он был, судя по этой рецензии. Конечно, не столько потому, что он одобрил рукопись, сколько потому, что содержание рецензии свидетельствовало: Вадеев прекрасно знал литературу о редактировании, объективно оценивал ее, редактирование и работа редактора явно были предметом его размышлений. Помимо всего прочего, хотя Олега уже не было в живых, мне хотелось высказать, как я ему признателен за беспристрастную оценку моей работы. Я ведь, честно говоря, очень трусил перед публикацией, ожидая несправедливых нападок.
О рецензии Вадеева я написал небольшое воспоминание, в котором на свою голову процитировал «довесок» к рецензии на рукопись. Он был посвящен разбору и оценке главы о методике правки. Главу эту я писал позже других и послал ее Вадееву уже после того, как он прислал общую рецензию. Это дополнение к рецензии начиналось следующим абзацем (его-то я и процитировал):
Прочел главу «Методика и техника правки текста» с удовольствием. Главное: все шесть условий успешности редакторской правки изложены просто великолепно – отточенно, мудро, убедительно. Как жаль, что глава явно конспективна… Ведь если говорить в целом об авторских советах тем, кто будет штудировать пособие, то именно эта глава особенно нужна и необычайно практически полезна!
На редсовете сборника при обсуждении раздела воспоминаний выпускников 1952 года, где были помещены воспоминания, посвященные Вадееву, – А. Абрамова и мои, – две участницы заседания (Л. Прохорова и Л. Саде) квалифицировали мои воспоминания как саморекламу. Что на это сказать? Отрицать, что мне хотелось ознакомить читателей с тем, как высоко оценивал мою работу Олег, было бы глупо. Мне этого хотелось. Но я оговорил в тексте воспоминаний, что у меня не было надобности цитировать хвалебные слова о своей работе из внутренней рецензии только потому, что они хвалебные, так как книга после выхода получила одобрение в ряде печатных рецензий. Тем не менее ярлык – «самореклама» – был наклеен. Правда, далеко не все участники совещания с этим ярлыком согласились. Но на меня это произвело тяжелое впечатление, и я долго не мог прийти в себя. Это было тем более несправедливо, что в моем очерке упомянуты сделанные Вадеевым в рецензии серьезные замечания.
Короткая рецензия В.И. Свинцова на главу о логических аспектах редактирования уместилась на одной машинописной странице, напечатанной через полтора интервала. Она была в общем одобрительной:
В целом глава производит очень хорошее впечатление. Пожалуй, впервые в литературе по редактированию вместо общих деклараций о необходимости знать логику показано, что такое логический анализ текста и для чего он нужен. Показано, что без воспитания в себе соответствующих навыков не может быть квалифицированного редактора. В этом отношении очень хорошо проделано логическое «препарирование» текстов, да и сами они подобраны исключительно удачно.
Далее В.И. Свинцов сделал два замечания, которые он назвал существенными. Первое – о необходимости оговорить, что в главе рассматриваются не все логические связи, а лишь некоторые из них, наиболее часто встречающиеся. Второе касалось употребления терминологии логики. В частности, что «между суждениями с логической точки зрения нет и не может быть причинной зависимости» и что приведенные примеры (стр. 3 и др.) – это умозаключения.
Сделал В.И. Свинцов ряд частных замечаний, занявших 6 рукописных страниц. Они также касались терминологических неточностей, но уже более мелких.
В начале 1972 года книга увидела свет. Сразу же я послал экземпляр книги О.В. Риссу. Получив его, Олег Вадимович написал мне:
Книжка прибыла следом за «Книжным обозрением», в котором сообщалось о ее выходе. Больше всего радует меня, что Ваша рукопись превратилась в весьма прочную и устойчивую книгу. Я подразумеваю не столько внешний вид (вполне приличествующий такому изданию), сколько основательность содержания. Не сомневаюсь, что Вы пошли дальше того, что было сделано предшественниками. Даже листая книжку (а читать отпечатанный текст, Вы знаете, не то что машинопись), я успел заметить обилие и доказательность примеров. Во всяком случае, Вы избежали компилятивности, которая вопиет с каждой страницы учебника Н.М. Сикорского. Рассуждения авторские носят настолько убедительный (и всеобщий) характер, что я не удивился бы, если бы кто-нибудь из догадливых издателей решил перевести ее на какой-либо иностранный язык. Мне кажется, что Ваша «Методика и техника…» могла бы свидетельствовать, как далеко продвинулось у нас не просто редакторское ремесло, а именно само понимание этого дела. Осмысления профессиональных вопросов в Вашей книге, бесспорно, больше, чем у Сикорского, хотя там фигурирует слово «Теория», а у Вас скромный подзаголовок «Практическое пособие»
(14.02.72).
Отклики в печати
Неожиданно для меня книга довольно быстро удостоилась отзыва в печати, причем в таком органе печати, в котором ожидать отзыва было меньше всего оснований. В № 9 журнала «Вопросы литературы» была опубликована рецензия А. Борисова из Риги, причем рецензия положительная. Впоследствии выяснилось, что за псевдонимом А. Борисов скрылся литературовед Евгений Абрамович Тоддес.
Общий вывод рецензента:
Книга А. Мильчина учит искусству объективной оценки текста, что и определяет, на наш взгляд, ее ценность.
Это в начале рецензии. А в конце:
И в аналитической, и в справочных своих частях работа А. Мильчина проникнута стремлением повысить профессиональный и – шире – культурный уровень редактирования. Практическая и теоретическая ценность этой книги бесспорна.
К достоинствам книги рецензент отнес следующее:
В основу книги положен системный взгляд на исследуемую область мыслительной деятельности и ее объект, и этот взгляд ощутим во всех рекомендациях А. Мильчина.
Пересказывать рецензию здесь нет необходимости и смысла. Хочу отметить одно: она серьезна и рассматривает содержание книги по существу, а не поверхностно.
Рецензент отметил два недостатка книги:
1) …некоторые утверждения, касающиеся функций и границ редакторской деятельности, относятся скорее к сфере поисков, может быть, еще не завершенных. Например, очевидна задача редактора, имеющего дело с рукописью среднего уровня (или даже ниже среднего). Но если рукопись выше этого уровня или даже поднимает остро дискуссионные вопросы, или предлагает неожиданные, «боковые» решения проблемы – какова тогда миссия редактора и его «критического анализа», призванного помочь автору «в совершенствовании содержания и формы произведения»?
2) Напрашивается еще одно уточнение. В книге рассмотрено редактирование главным образом научного, делового, учебного текста; вместе с тем она претендует – и во многом обоснованно – на универсальность своих выводов для всей области профессионального редактирования. Возникает вопрос, обойденный автором, – об отношении его рекомендаций к редактированию художественной литературы. И возможные сближения, и безусловно необходимое разделение этих сфер были бы здесь в равной мере полезны.
Были и другие печатные отклики на книгу.
«Книжное обозрение» поместило 3 августа 1973 года заметку под заглавием «Пособие редактору». Подписана она была так: А. Николин. Свердловск.
История ее публикации описана в моем письме к Риссу в ответ на его отклик на эту заметку. Рисс написал мне:
С удовольствием обнаружил в последнем номере «Книжного обозрения» письмо читателя из Свердловска. Конечно, не делает чести газете, что только спустя полтора года она «заметила» Вашу книгу, но если это письмо-«самотек», то значит, Ваша работа постоянно приобретает все больше друзей, чего она и заслуживает (06.08.73).
Я не стал скрывать от Рисса горькой правды и написал ему:
На самом деле читатель этот мифический. Сочинил это письмо Яков Лазаревич Бейлинсон, зав. отделом газеты, которого я спросил, почему газета не посчитала нужным откликнуться на выпуск моей книги, которая все же не заурядное явление в литературе по редактированию. Бейлинсон же, вместо того чтобы заказать рецензию, занялся мистификацией. От этого у меня остался неприятный осадок. Лучше было никак не отмечать выход моей книги, чем отмечать таким образом (06.08.73).
Но Рисс, например, поддался на уловку. Не заподозрил выдумку (см. выше цитату из его письма по этому поводу). Так что, может быть, какой-то смысл в этой мистификации и был: о книге узнали читатели многотиражной газеты.
В 1975 году состоялась очередная конференция по книговедению. Основной доклад на ней был написан совместно Н.М. Сикорским и Е.Л. Немировским. Этот доклад в виде статьи был напечатан в сборнике «Книга. Исследования и материалы» (1975. Сб. 30). Одна фраза в этой статье по докладу касалась моей книги:
В области книгоиздательского дела и книгораспространения последние годы несомненно отмечены некоторыми успехами, защищены докторские диссертации26, подготовлены оригинальные монографии, учебники27.
В сноске 26 назывались имена А.З. Вулиса, М.Е. Тикоцкого, Н.М. Сикорского. Сноска 27 была такой:
27 См.: Редактирование отдельных видов литературы. М., 1973; Лихтенштейн Е.С., Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации. М., 1974; Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста. М., 1972; Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела. М., 1971; Накорякова К.М. Редакторское мастерство в России XVI–XIX вв. М., 1973.
Поскольку из всех названных книг только книга К.М. Накоряковой и моя не были учебниками, как все остальные, то нужно считать, что она тоже оценена как оригинальная монография, хотя монографией ее, конечно, считать никак нельзя. Но все же это было одобрение людей, стоявших тогда во главе книговедения.
В этом же году в сборнике «Издательское дело. Реферативная информация» (1975. Вып. 3) была напечатано сообщение В.Ю. Лернер (изд-во «Медицина») «Из опыта литературного редактирования в издательстве “Медицина”». В сообщении также была упомянута моя «Методика…»:
Разумеется, вносить исправления в текст можно, лишь пользуясь новейшими словарями и справочниками. Так, для литературного редактора, работающего в издательстве «Медицина», настольными пособиями являются: «Справочник по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя, «Словарь-справочник по медицинской терминологии» Я.И. Шубова, «Методика и техника редактирования текста» А.Э. Мильчина, «Лекарственные средства» М.Д. Машковского и др. (с. 21).
Конечно, я воспринял такое сообщение с большим удовлетворением и потому, что не чужд тщеславия, и потому, что это подтверждало практическую ценность книги, ее рабочий характер.
В следующем, 1976 году меня очень порадовала оценка книги редактором-практиком Н. Хайбуллиной, руководителем редакции народного хозяйства Южно-Уральского издательства. В своей статье «Право советовать», опубликованной в журнале «В мире книг» (1976. № 5), она, в частности, написала:
Вопросы к авторам, критический подход к рукописям – все это пришло потом. И немалую роль здесь сыграла книга А.Э. Мильчина «Методика и техника редактирования текста. Практическое пособие». Она раскрыла передо мной непочатый край работы, творческой, интересной, – и не только над стилем и языком, но, что не менее важно, над структурой и содержанием книги (с. 18).
Это было еще одно свидетельство того, что книга работает, помогает редакторам, т. е. что мои старания были не напрасны.
В 1976 же году появилась в печати вторая рецензия на «Методику…» в тихоходном сборнике «Книга. Исследования и материалы» (Сб. 31. С. 182–186). Написал ее Виталий Иванович Свинцов. Автор заканчивал свою рецензию так:
В сложных цепях сходящихся и расходящихся информационных потоков редактор занимает одну из ключевых позиций. Совершенствование его профессиональной культуры, воспитание необходимых свойств его интеллекта и характера – дело исключительной социальной значимости, в конечном счете определяющее уровень ежедневно, ежечасно производимой и потребляемой обществом информации.
Книга А.Э. Мильчина – серьезный вклад в решение важной задачи (с. 186).
Появление положительной рецензии в таком сборнике означало, что книга принята книговедческой верхушкой. А так как я в таком результате не был уверен, то, конечно, обрадовался. Не забыл В.И. Свинцов отметить и недостатки:
Недостатки книги, как нам кажется, чаще всего связаны со слишком вольным истолкованием некоторых понятий и использованием расплывчатых рекомендаций. Конечно, от книги, задуманной (и обозначенной в подзаголовке) как практическое пособие, читатель ждет прежде всего ответа на вопросы, как поступить в такой-то ситуации. Однако эти вопросы обязательно связаны с вопросом почему, т. е. с более или менее глубоким проникновением в сущность рассматриваемых явлений. Очень хорошо, что автор не ограничился перечнем регламентирующих указаний, но попытался теоретически осмыслить некоторые аспекты процесса редактирования при помощи таких, например, наук, как психология и логика.
И далее Свинцов обоснованно критиковал мою характеристику фактического материала. Теперь я вижу, что в этом отношении он солидарен с О. Вадеевым. И если бы я более внимательно вчитался в доводы последнего, то мог бы избежать упреков Свинцова. Посчитал он неопределенным и толкование понятия неоднородные члены, соединяемые союзом «и». Как я теперь понимаю, Свинцов имел в виду само название, термин. Нужно было мне найти более точное понятие, принятое в логике, а не изобретать свое. Неосторожной он признал и характеристику дедуктивного и индуктивного способов рассуждения.
Оговорив, что подобные огрехи немногочисленны, Свинцов объяснил их неразвитостью теории и практики редактирования как прикладной научной дисциплины.
Он завершал рецензию очень важным рассуждением о состоянии и путях развития редактирования как прикладной дисциплины:
Сейчас уже совершенно очевидно, что решение практических задач редактирования предполагает постановку комплекса вопросов, которые связаны с различными сторонами порождения и восприятия текста. Они относятся к компетенции ряда фундаментальных наук – лингвистики и лингвосоциологии, психологии и психолингвистики, логики и теории информации, педагогики и риторики. Где предел проникновения теории и практики редактирования в проблематику этих наук, использования их понятийного аппарата и терминологии? Мы не беремся отвечать на этот вопрос, однако заметим, что неизбежное и внешне безобидное применение «размытых» понятий, заимствованных из обыденного речевого обихода, таит в себе известные опасности (с. 186).
И еще:
Заметим попутно, что исследование различных сторон редактирования небезынтересно и для фундаментальных наук. Обработка текста предполагает аналитико-синтетический подход к нему, основанный на выявлении взаимодействия смысловых, языковых, психологических и многих иных свойств. В этом отношении творчество редактора представляет собой обширное поле для наблюдения над реальными процессами порождения и функционирования текста, над различными аспектами интеллектуально-речевой деятельности (там же).
Эти фрагменты рецензии Свинцова я процитировал потому, что высказанные в них мысли очень схожи с тем, что думал и я, – о взаимопомощи психологии, логики, других наук, с одной стороны, и практики редактирования, с другой. Последняя дает материал, становится для них подопытной, а они на основе исследований и экспериментов разрабатывают обоснованные советы и рекомендации, придавая практике более системный и обоснованный характер. Но это пока остается неосуществимой мечтой. Специалистов в области названных Свинцовым наук материал редактирования пока не заинтересовал. Редактирование живет само по себе, а науки сами по себе, о чем приходится только сожалеть, особенно на фоне общего принижения значимости редактирования для издательской практики.
Отклики в письмах
Вслед за выходом книги стали поступать письма с ее оценкой.
Первой в этом ряду стоит записка Виктора Григорьевича Уткова, который тогда заведовал в Союзкниге отделом, занимающимся распространением книг по издательскому делу, полиграфии и книжной торговле. Но сказать о нем только это – значит ничего не сказать. Он был очень умным и знающим человеком, опытным журналистом, написал впоследствии много книг библиофильского и краеведческого характера (преимущественно о родной Сибири). С ним у меня сложились теплые дружеские отношения вообще и на почве сотрудничества в редколлегии «Альманаха библиофила» в частности (я поначалу принимал участие в работе этой редколлегии как представитель издательства, а потом был введен в нее решением ЦП ВОК).
В записке Уткова, которая касалась разных тем, под пунктом 3 значилось:
Вы написали не только умную и полезную книгу, но написали ее еще и изящно. Удивительно. Преклоняюсь. 22.02.72.
Союзкнига получала сигнальный экземпляр практически одновременно с издательством. Поэтому по дате записки можно судить о дате поступления сигнального экземпляра из типографии. Но главное, конечно, в том, что Виктор Григорьевич так высоко оценил книгу. Честно говоря, я считал такую его оценку экзальтированно преувеличенной. Она даже смутила меня. Тем не менее мне она была очень приятна.
Следующий отзыв, датированный 2 марта 1972 года, был написан нашим автором, преподавателем основ издательского дела и оформления книги в издательском техникуме и в МПИ Семеном Филипповичем Добкиным. Он мне вообще симпатизировал. Я был спецредактором его учебника для техникумов «Основы издательского дела и книгопечатания» в издательстве «Советская Россия», выпущенного в 1961 году. Так что, каюсь, посчитал, что он хвалит мой труд просто потому, что хорошо ко мне относится. Начиналось письмо общей одобрительной оценкой книги, написанной так, как будто это проект печатной рецензии:
Ваша книга «Методика и техника редактирования текста» от начала до конца читается с неослабевающим интересом. В ней удачно сочетаются оригинальное научное исследование и весьма полезное (не только редактору, но и автору) практическое пособие.
Разработанная Вами методика редактирования в значительной мере базируется на данных современной психологии и положениях формальной логики, и это усиливает ее убедительность и научную обоснованность.
Книга хороша и по форме изложения: ее композиция последовательна и стройна, текст насыщен «проблемными ситуациями», которые активизируют мысль читателя; язык живой, свободный от штампов и канцелярита (добиться этого совсем не легко!).
Нужно отдать должное Семену Филипповичу. Он первый отметил полезность книги не только для редакторов, но и для авторов. После такого мажорного начала следовали критические замечания, «которые, – как он писал, – касаются только частностей». Из них я бы согласился далеко не со всеми. Но, например, к замечанию о трех звездочках как графическом заголовке, вероятно, следовало прислушаться, и я сожалею, что этого не сделал.
Отзыв на бланке Центрального института усовершенствования врачей почти как официальный прислал 15 апреля 1972 года вовсе незнакомый мне профессор кафедры медицинской педагогики, доктор медицинских наук И.М. Фейгенберг. Он писал:
Книга А.Э. Мильчина представляет собою оригинальный научный труд, содержащий глубокое исследование основных вопросов методики редактирования.
Предложения автора, касающиеся техники редактирования, вытекают из этого исследования и потому являются научно обоснованными.
В своем труде А.Э. Мильчин уделяет много внимания вопросам восприятия и логического анализа текста. Благодаря этому многое в его книге представляет существенный интерес и для педагогической работы. В частности, в моих лекциях по совершенствованию методов медицинского обучения я часто исхожу из методических положений автора.
Это было второе (после Добкина) признание книги полезной для авторов и даже для лекторов.
Еще один отзыв прислал отец моей сокурсницы (той самой, с чьей легкой руки я когда-то подвизался в качестве рецензента в калининской газете, о чем упоминал в начале этой главы) Григорий Семенович Гуревич, прислал по собственной инициативе. Григорий Семенович был экономистом, заместителем директора крупного объединения «Моссельмаш». Поэтому, хотя его родство с нашей (моей и жены) приятельницей и сокурсницей снижало объективность отзыва, я отнесся к нему как существенно важному для оценки книги. Вот что он писал в издательство:
Я приобрел и внимательно прочел книгу А. Мильчина «Методика и техника редактирования текста» в Вашем издании за 1972 г. Книга произвела на меня большое впечатление, и об этом я решил Вам написать.
Я не занимаюсь редакционной или литературной работой, но, работая в области финансов и экономики, мне приходится на эту тему писать статьи в журнал «Финансы» и, кроме того, я участвовал в составлении книги «Финансовая работа в промышленности», в которой помещена моя статья.
Под влиянием книги А. Мильчина я вношу сейчас значительные изменения в текст уже написанной мною статьи по моей специальности.
Как мне представляется, в книге не только раскрыта специальная сторона редакторской работы, но, что особенно важно, прекрасно показаны ее идеологические, политические и психологические основы.
Через всю книгу проведена мысль: редактор – это не только издательско-литературный работник, но также и политический деятель в той области науки, культуры и т. д., с которой связано издательство.
Как мне кажется, это относится также и ко всем людям, которые пишут книги, статьи в журналах и т. п. по любому вопросу, техническому, финансовому, экономическому и т. д.
Большой интерес представляют примеры из редакторской практики и особенно из практики В.И. Ленина как редактора.
Они наглядно показывают политику и философию этой правки, необходимость в некоторых случаях оторваться от авторского текста.
Для любого занимающегося редакционной работой все приведенные в книге примеры – прекрасный наглядный урок.
Через всю книгу проведена мысль: думай о читателе и той пользе, которую книга должна принести обществу.
В книге то или иное положение логически развертывается, и в конце отделов и даже подразделов в четкой доходчивой форме даются выводы.
Даже после напряженного умственного труда книга А. Мильчина читается и воспринимается с легкостью и неослабевающим интересом.
В общем очень хорошая и полезная книга.
Выражаю автору и издательству свою благодарность.
Москва 25/IV 1972 г.Для меня отзыв Г.С. Гуревича был ценен тем, что, во-первых, он признал полезность книги для себя как автора, а во-вторых, не отнесся к моей работе как работе мальчишки, которым я был для него. Главное, это был искренний отзыв, совсем не продиктованный знакомством с автором.
Тем же числом, что и письмо Г.С. Гуревича, помечено письмо читателя из Свердловска И.Ю. Берхина, постоянно откликавшегося на книги по издательскому делу. Он писал мне:
Мне хочется поделиться с Вами некоторыми своими соображениями по поводу пособий, выпускаемых издательством «Книга».
Начну с Вашей книги. Она исчезла с космической скоростью: во всяком случае, в Новосибирске и в Свердловске. Между тем некоторые другие издания удерживаются на полках книжных магазинов довольно прочно. Несомненно, следовало бы Вашу книгу «Методика и техника редактирования текста» переиздать. Быть может, стоило бы присоединить к ней и «Редактирование таблиц», которую (извините за неправильное согласование, которое я, однако, считаю уместным), как мне кажется, не переиздавали лет 15.
Затем довольно долго никаких писем с откликами на книгу не поступало.
Урожайным оказался лишь ноябрь.
Владимир Иосифович Глоцер, строгим мнением которого я дорожил, 4 ноября написал мне:
Никак, ну никак не могу к Вам дозвониться, застать Вас у себя, недели две по крайней мере. А хотел сказать, что читал Вашу «Методику…» с живейшим интересом, умилялся примерам, цитатам, почти невероятным (но факт!) и что готов сообщить разные мелочи, которые, может быть, пригодятся Вам для нового издания. Вот и все. Будьте здоровы.
То, что В.И. не мог застать меня по телефону, вполне понятно. Редакции тогда находились не в том здании, где был кабинет главного редактора, и мне приходилось путешествовать по Москве, чтобы общаться с редакторами. Но я побывал у Глоцера дома, и он устно сообщил мне свои замечания. Я даже записал их, но записи потом куда-то пропали, и я, к сожалению, не сумел использовать замечания Глоцера при подготовке второго издания.
Следующее письмо, датированное 5 ноября 1972 года, прибыло из Таловского района Воронежской области от старшего научного сотрудника Института имени Докучаева Ивана Ивановича Игнатова с просьбой выслать ему наложенным платежом мою «Методику…». Он писал:
…в Воронеж она вообще не поступала – в магазины, а «Журналист» ответил, что распродана (см. открытку). Как быть?
Книга мне очень нужна для работы. (Хочется и рецензию написать на нее – для журнала.)
Если у Вас ее нет, направьте мое письмо автору (его адрес сообщите, пожалуйста, мне). Книгу Мильчина стоит переиздать. Малым тиражом выпустили ее в «Книге».
Открытка из московского магазина «Журналист» с отказом была вложена в письмо. Я послал Игнатову следующее письмо:
Ваше письмо с просьбой выслать наложенным платежом книгу «Методика и техника редактирования текста» попало ко мне. Да иначе и быть не могло, так как я работаю в том самом издательстве, которое выпустило эту книгу.
Не скрою, мне приятен тот интерес к пособию, который выказан в письме, но немного удивило, что хотя, судя по письму, книга Вами еще не прочитана, Вы тем не менее считаете нужным переиздать ее. Послать наложенным платежом книгу издательство, к сожалению, не имеет возможности, так как кроме двух архивных экземпляров ничем не располагает. Я высылаю Вам собственный личный экземпляр.
Если Вы хотели написать мне что-либо помимо просьбы выслать экземпляр, то это можно сделать по адресу издательства на мое имя. Не сообщаю Вам домашний адрес только потому, что предполагаю скоро переехать.
Буду рад узнать Ваше мнение о книге.
В ответ я получил от Игнатова большое письмо, схожее больше с рецензией:
Большое спасибо Вам за книгу «Методика…»
Это серьезная вещь, нужная каждому редактору. Читая ее, я все более убеждаюсь в необходимости ее нового издания – тираж «мгновенно» ушел к читателям. И я уверен, что многие ее просто не могут приобрести. Нужны новые 15 000 экз. (книга необходима и студентам отделений журналистики, которые ежегодно пополняют университеты страны, и работникам районных газет – самого массового звена печати).
Эта книга – единственная по этой теме, наиболее полно «излагающая» с современных позиций (научных + практических) методику и технику редактирования текста.
Текст – главный предмет исследования автора, который (предмет) всесторонне анализируется, в разных связях рассматривается. Строгий анализ ведется по всем направлениям: текст анализируется с фактической и логической стороны, рассматриваются графические формы текста, язык и стиль, дается анализ композиции и рубрикации (это, пожалуй, так стройно и полно – впервые в литературе по редактированию); показываются психологические основы редакторского анализа; кратко освещается методика правки текста (следовало бы подробнее осветить этот вопрос, не «боясь» того, что об этом писали Былинский, Сикорский и др.; можно бы с новой стороны подойти к этому вопросу). Очень нужен в этой книге указатель литературы по данной теме (что следует учесть при переиздании и, если не затруднит автора, желательно снабдить ее и предметным указателем).
Главная линия автора книги – борьба редактора за точность во всем. Этим и объясняется привлечение огромного фактического материала – примеров из различных изданий (журналы, газеты).
Для автора не существует мелочей в труде редактора, в книге. На каждую деталь (от технических приемов выделения текста до техники цитирования) им обращается внимание редактора; автор учит его искусству редактирования книги, показывает сложность редакторского труда, подчеркивает его ответственность за книгу перед читателем.
Автор может говорить просто о сложных явлениях, его стиль разговорный, беседа с читателем. Он (автор) ставит перед ним вопросы (стр. 110 и др.), вместе с ним размышляет – в поисках истины. Язык текста книги прост и доступен. Книга удалась автору. И большое ему читательское спасибо.
Игнатов пытался даже опубликовать рецензию на мою книгу в «Журналисте», но из этого ничего не вышло.
На бланке Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе прислал свой отзыв из Ленинграда завлабораторией этого института, доктор физико-математических наук профессор В.Е. Голант. Отзыв был таким:
В предисловии к книге «Методика и техника редактирования текста» автор А.Э. Мильчин просит читателей дать отзыв от ней. Заинтересовавшись книгой как человек, которому в известной мере приходится заниматься научным редактированием, я охотно выполняю это пожелание автора.
Книга, о которой идет речь, – пример удачного сочетания науки и практики. Научно разработав методику и технику редактирования, обобщив соответствующий опыт, автор на этой основе дает целый ряд полезных практических рекомендаций.
Особенно интересны главы книги, посвященные исследованию психологических основ редактирования, анализу текста с композиционной, фактической и логической сторон.
Несколько общо и довольно суконно написанный отзыв, но признание книги таким ученым говорило, что она нужна авторам и научным редакторам.
Василий Федорович Сукманов, редактор из научно-исследовательского института охраны труда города Иваново, прислал в издательство план-проспект брошюры «Пособие автору научных публикаций» с большим сопроводительным письмом, датированным 14.04.73. В письме он отвел место и отзыву на мою «Методику…». Вот это место:
Еще мне хотелось бы сказать несколько слов о книгах, написанных Вами. В работе постоянно пользуюсь Вашей книгой «Редактирование таблиц», которая написана в соавторстве с М.Д. Штейнгартом. Очень интересна и полезна не только для редакторов, но и для авторов «Методика и техника редактирования текста», изданная в прошлом году. Однако хотелось бы пожелать Вам при переиздании этой книги (думаю, что такая возможность возникнет) устранить некоторые незначительные недочеты:
1) на стр. 103, строки 11 и 14 снизу, вместо «типовые ошибки» написать «типичные ошибки»;
то же сделать на стр. 104, 7-я строка снизу.
Кстати, это выражение совершенно правильно написано на других страницах: 144-й (6-я строка снизу) и 232-й (22-я строка сверху).
2) в конце книги привести список литературы, хотя бы 20–30 названий. Дело в том, что у серьезного, вдумчивого читателя непременно появится желание глубже изучить тему и ознакомиться с дополнительной литературой по этому вопросу. Правда, ссылки на литературу есть в тексте, но лучше бы оформить еще и отдельным списком в конце книги. Это удобнее для читателя.
И, наконец, пожелание, которое интересно само по себе, но я пока не представляю, как это можно осуществить на практике. Я имею в виду способы выявления ошибок в цитатах из религиозных книг: библии, евангелия и др. Ведь у редактора нет под рукой этих изданий. Как же проверять цитаты? Приходится целиком полагаться на автора, а тот частенько ошибается. Примеров можно найти много, приведу один: в книге А.А. Осипова «Катехизис без прикрас» (М.: Госполитиздат, 1963) одна и та же цитата из библии приведена на стр. 269 и 314, причем есть существенные расхождения. Редактор, видимо, этого не заметил. Возможно, он вообще не заметил, что цитата приводится вторично (разве все упомнишь?). Упомнить трудно, но, может быть, существуют какие-то приемы, позволяющие обнаружить повторы? Причем это относится не только к цитатам, но и вообще к любому тексту. Могу привести примеры повторов из литературоведческих трудов, где можно встретить сначала несколько строк на одной странице, а затем слово в слово тот же текст на другой. Однако, думаю, вряд ли здесь уместны эти примеры.
Своеобразный отзыв о книге прислал в письме мой школьный соученик, инженер, кандидат технических наук Юра Лейтес в открытке из Харькова (1978 год):
Когда нечего читать, перед сном перечитываю забавные примеры из твоей «Методики и техники…» Она мне очень нравится.
Большое недатированное письмо с четырьмя машинописными страницами частных замечаний прислал мне лингвист Мартен Давидович Феллер, автор многих книг по вопросам редактирования, впоследствии доктор филологических наук. Начинал он с общего замечания:
Существенным мне представляется лишь то, что я написал в открытке: необходимо бы специально и достаточно развернуто описать поэтапно работу редактора с автором и, может быть, затем к этому описанию отсылать, подчеркнув роль предварительного этапа, на котором собственно определяется качество будущего произведения, издания, весь редакционный процесс или цикл. Я понимаю, конечно, что анализ присутствует и при решении о конкретной правке, но для учащегося здесь важны точки над «и». Это мог бы быть параграф 5 главы 1. Иначе запутывается и вопрос об одноступенчатости редактирования.
Теперь постраничные мелочи.
Многие из этих мелочей я учел при подготовке второго издания (оно вышло в 1980 году под названием «Методика редактирования текста»).
Примечательный отзыв о книге сообщил мне книговед Евгений Львович Немировский, который сказал с ноткой большого удивления:
– Знаете, в Ленинке на вашу книгу очередь.
Он привык видеть во мне только издателя, и мое авторство, тем более успешное, оказалось для него неожиданным. Меня его сообщение не поразило, так как я уже знал из писем и устных откликов, что книгой многие интересуются, и не только редакторы, но я еще раз порадовался: книга работает.
Публичные обсуждения книги
Рецензии, письма читателей все же не давали ясного представления о том, как восприняли и оценили «Методику…» редакторские массы. Для этого нужно было обсудить книгу на собраниях (совещаниях) редакторов.
Я просил Рисса переговорить с Ленинградским отделением НТО полиграфии и издательств и Ленинградским отделением Союза журналистов об организации обсуждения редакторами ленинградских издательств. В Москве о том же просил председателя бюро секции редакционно-издательских работников Московской организации Союза журналистов СССР Владимира Семеновича Лупача. Он приветствовал такое обсуждение, и 17 апреля 1973 года оно состоялось в большом зале Центрального Дома журналиста.
Не скажу, что это обсуждение много мне дало. Ряд выступлений был заранее подготовлен, а не являлся непосредственной реакцией на книгу. Но обсуждение собрало большую аудиторию (концертный зал Дома журналиста был полон), благодаря чему многие редакторы узнали о книге, о которой до этого, возможно, и не слышали.
Некоторые частные замечания были справедливы и полезны, и я их частично учел при подготовке 2-го издания «Методики…».
Обсуждение книги в Ленинграде организовать не удалось, хотя для того, чтобы сделать это, Олег Вадимович Рисс предпринимал усилия еще до выхода книги.
В заключение разговора о «Методике и технике редактирования текста» должен сказать, что я пытался, во-первых, защитить ее в качестве кандидатской диссертации без сдачи кандидатских экзаменов; во-вторых, представить ее на премию Союза журналистов за работу о профессиональном мастерстве. Обе попытки оказались неудачными.
ВАК ответил отказом, несмотря на положительные отзывы и ходатайства правления Московской организации Союза журналистов СССР, дирекции и ученого совета Всесоюзной книжной палаты, факультета журналистики МГУ.
Последний отзыв, подписанный заведующим кафедрой книговедения и редакционно-издательского дела, профессором, доктором филологических наук А.В. Западовым, кончался таким абзацем:
Кафедра книговедения и редакционно-издательского дела факультета журналистики МГУ, обсудив на своем заседании 1 июня 1973 г. книгу «Методика и техника редактирования текста» А.Э. Мильчина, высоко оценивает ее теоретическое содержание и практическую пользу в учебном процессе и в повышении квалификации редакционных работников и считает, что автору книги, практику с многолетним богатым редакторским опытом, известному и другими печатными работами, обобщающими редакционную практику и способствующими развитию теории редактирования как научной дисциплины, можно разрешить защиту без сдачи кандидатских экзаменов написанной на базе опубликованной книги диссертации «Теоретические основы редакторского анализа» (на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности «книговедение»).
Это был объективный вывод, но ВАК, видимо «обжегшийся» на многих обманах, в ходатайстве отказал.
Переводы на другие языки
С «Методикой…» связаны также истории с попытками издания ее в переводе на немецкий, украинский и польский языки. Из них частично удалась только одна. Немецкое издательство «Фахбухферлаг» выпустило книгу о редактировании отраслевой литературы, включив в нее материалы из «Методики…» и «Справочной книги корректора и редактора» (М., 1974). Библиографическое описание этой книги таково: Nadolski D., Miltschin A. Lektorieren und Redigieren von Fachliteratur. Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1979. 208 S.
Издание это не могу не записать себе в актив. Мои мысли стали достоянием немецких редакторов и вообще любых немцев, интересующихся проблемами редактирования.
Подготовка этой книги шла долго, и я полностью доверялся своему соавтору Надольски и переводчику. Письмо главного редактора «Фахбухферлаг» д-ра Германна Вальтера с предложением перевести мою книгу поступило в наше издательство 8 апреля 1975 года. Д-р Вальтер, однако, уточнял:
При тщательном рассмотрении книги, однако, оказалось, что перевод ее должен быть связан с сильной переработкой текста, потому что многие главы и части текста написаны со специальным учетом Вашего круга читателей и условий Вашей страны. Нам хочется этим изданием обратиться не только к редактору, но и к техническому редактору и типографу. Поэтому необходимо будет дополнить книгу различными совсем новыми главами и частями текста.
Тов. д-р Надольски, доцент Института книжной торговли и издательского дела, г. Лейпциг, выразил свою готовность в этом смысле переработать и дополнить Вашу книгу. Мы с нашей стороны Вас очень попросили бы дать Ваше согласие на то, что мы можем включить в планируемую нами книгу отдельные главы и части Вашей книги. Вы, разумеется, в таком случае явились бы соавтором нашей книги.
В ожидании Вашего согласия и скорого ответа.
Когда Олег Вадимович Рисс узнал из моего письма о том, что «Фахбухферлаг» заинтересовалось моей книгой, он обрадовался так, как будто получил предложение о переводе на немецкий его собственной книги:
…Ваше письмо… произвело на меня большое впечатление.
Как хотите, но в предложении немцев я вижу перст судьбы. Она Вам явно благоприятствует и наталкивает на продолжение работы… Главное в том, что Вы выйдете на международную арену, так как литературу на немецком языке, конечно, читают шире, чем на русском (я имею в виду редактирование). Мне неизвестно, чтобы на иностранные языки переводили Сикорского или Западова, не говоря уже о каком-нибудь Богданове и Вяземском. Непонятно только то, как они хотят расширить книгу, чтобы она была адресована техническому редактору и типографу (?). Впрочем, за это будет отвечать уже д-р Надольски, набивающийся Вам в соавторы. <…> Одним словом, конечно (да и по соображениям международного сотрудничества), немцам отказывать не следует [у меня и в мыслях такого не было] и особенно их оговорками не пугать. Надеюсь, что очень-то они не напортят, но вот то, что они с их теоретическим нюхом остановились именно на Вашей работе, очень показательно.
Я ответил д-ру Вальтеру 22 апреля 1975 года согласием, но попросил ответить на ряд вопросов по поводу названия книги, ее состава и обозначения моего авторства и получил ответ на эти вопросы от заведующего отделом «Фахбухферлаг» Улеманна Гуйера в письме от 20 июня 1975 года. Гуйер перечислил главы из «Методики», а также из «Справочной книги корректора и редактора», которые Надольски хочет использовать, и сообщил, что авторство у книги предполагается двойное: Надольски/Мильчин.
Я ответил согласием (попросив уточнить в предисловии, что мои тексты включены в переработанном для условий ГДР виде) и выразил готовность оказать Надольски посильную помощь.
А затем произошло вот что: директор издательства «Фахбухферлаг» Гоффман 29 ноября 1976 года прислал письмо на мое имя, в котором пригласил меня приехать к ним в гости на 5 дней в первом квартале 1977 года. Предусмотрена встреча с д-ром Надольски и можно было бы обсудить тематику дальнейшей совместной работы наших издательств.
Я еще ни разу не выезжал за рубеж и не очень верил, что это приглашение может быть реализовано. Но ошибся. Пришедший с начала 1977 года новый директор издательства «Книга» Кравченко был сторонником как можно большего числа поездок работников «Книги» в зарубежные издательства и стал активно и настойчиво хлопотать в Госкомиздате СССР о моей командировке в Лейпциг. Д-р Гоффман также направил просьбу в Госкомиздат СССР командировать меня в Лейпциг.
Долгое время Госкомиздат СССР не принимал никакого решения, но когда перед Лейпцигской книжной ярмаркой выяснилось, что один из наших специалистов, включенный в состав делегации на ярмарку, по какой-то причине не сможет поехать, меня срочно включили в состав этой делегации, сообщив, что я смогу одновременно пообщаться с работниками «Фахбухферлаг». Так я попал в Лейпциг.
В сентябре 1978 года я получил от Моники Вернер, редактора по иностранным делам «Фахбухферлаг», перевод на русский язык предисловия к немецкой книге «Редактирование рукописи». Я в ответ сообщил, что никаких существенных замечаний по тексту предисловия у меня нет. Уточнил, что я кандидат не философских, а филологических наук, и на всякий случай высказал пожелание сообщить в книге, кто из соавторов какие главы и параграфы написал.
Заместитель директора нашего издательства Ким Львович Шехтмейстер в марте 1980 года выезжал в составе советской делегации на Лейпцигскую ярмарку и привез оттуда экземпляр книги, которая мне очень понравилась издательской культурой, оформительским решением и полиграфическим исполнением, о чем я написал и д-ру Вальтеру, и Дитеру Надольски. Он в своем ответе благодарил меня за «Словарь-справочник автора», который я послал в издательство «Фахбухферлаг» и ему лично, и просил выслать ему энциклопедический словарь «Книговедение», что я впоследствии и сделал.
Больше мы не виделись и не переписывались ни с Надольски, ни с работниками «Фахбухферлаг». С Моникой Вернер, которая на ММКВЯ представляла свое издательство, я еще несколько раз общался, находя ее у стенда на ярмарке. От встреч со всеми осталось самое приятное воспоминание.
Иначе окончилась попытка перевода «Методики…» на украинский язык, доставившая мне неприятные минуты. Затеял издание перевода преподаватель факультета журналистики Киевского государственного университета Владимир Григорьевич Иваненко. Он предложил издать книгу в своем переводе на украинский, что, конечно, меня порадовало, но и удивило, так как книга доступна украинцам на русском языке, а выпуск перевода при малом тираже явно невыгоден издательству. Но возражать, конечно, не имело смысла. Приятно было мне узнать также, что Иваненко, по его собственным словам, читает лекции по редактированию на основе моей книги.
Он прислал мне 04.06.76 письмо с перечислением тех изменений, которые планирует внести в украинский вариант моей книги. Изменений и дополнений предполагалось так много, что сам Иваненко уточнял:
Выслушав все эти замечания и соображения, кафедра стилистики меня спросила: «Что же в этой книге останется от Мильчина?»; было даже предложение: не сделать ли самостоятельного пособия? Но я категорически отказался, поскольку Вашу идею и схему пособия полностью поддерживаю и пока другого пути не вижу, нового ни создать, ни придумать не могу. <…> Предложен был кафедре прежде всего иной вариант: книга идет под Вашим авторством, а я беру на себя обязанности титульного редактора.
Описывать дальнейшие перипетии у меня нет желания: и потому, что из всего этого ничего не вышло, и потому, что история с попыткой перевода книги на украинский язык памятна мне главным образом эпизодом неэтичного поведения Иваненко. Но раз уж начал описывать историю, то нужно хоть как-то завершить ее.
По письму В.Г. Иваненко стало ясно, что речь может идти не о переводе моей книги на украинский язык, а о включении в переводе на украинский язык текстов из моей книги в украинский учебник редактирования. Это предложение, конечно, было менее интересным для меня, но я понимал, что для украинских журналистов моя книга на русском языке вполне доступна (трудности они могли испытывать разве что чисто технически – из-за недостаточного тиража). Поэтому прямой перевод был практически не очень нужен ни одному украинскому издательству, да к тому же убыточен. Так что я согласился с предложением Иваненко, хотя кое-что в нем меня покоробило, главным образом несовпадением предложенных им дополнений с основой из моей книги. Вряд ли сплав получился бы органичным.
Как и просил Иваненко, 10 июня 1976 года я написал на имя завкафедрой стилистики А.П. Коваль письмо о согласии на издание моей книги на украинском языке в переработанном виде; участие Иваненко в издании я просил обозначить на титульном листе таким образом: под редакцией и при участии В.Г. Иваненко (10.06.76).
Вскоре (25.06.76) В.Г. Иваненко сообщил мне, что по ряду организационных причин ходатайство перед Редакционно-издательским советом университета о дальнейшем продвижении рукописи решено отложить.
Прошел год, и 13.06.77 я узнал из письма В.Г. Иваненко о новых осложнениях с изданием нашего учебного пособия: университетские издательства испытывают огромные трудности с выпуском книг, не имеющих санкции Минвуза СССР, на Украине.
Тем не менее в начале сентября (04.09.77) Иваненко прислал мне составленный им план-проспект вместе с заявкой в Издательство Киевского госуниверситета, с тем чтобы издать книгу в виде справочного или учебного пособия (в зависимости от того, что будет выгодно издательству).
Я отослал ему эти бумаги обратно, забыв подписать или сделав это намеренно (у меня были замечания по плану), на что он мне пенял в следующем письме (от 18.09.77). Затем Иваненко исправил план-проспект по моим замечаниям и снова прислал его мне. 16 октября 1977 года я ответил, что теперь план-проспект приемлем, и сделал лишь несколько замечаний редакционного характера по формулировкам заголовков.
Еще до моего ответа Иваненко отнес заявку и план-проспект в издательство и сообщил в письме от 09.10.77, что ему обещали сказать что-то определенное после 10 октября. Затем, в конце ноября 1977 года, выяснилось, что книга внесена в перспективный план на 1981 год.
После этого наступил полугодовой перерыв в письмах Иваненко, и только 15.06.78 он прислал письмо с извинениями за то, что не писал, и сообщением, что вышеупомянутый перспективный план передан на утверждение в Минвуз УССР и СССР.
А еще через год (26.06.79) пришло следующее письмо от Иваненко, в котором он сообщил о публикации своих лекций в украинском журнале:
Теперь кое-что объясню Вам по проводу опубликованных конспектов моих лекций «Основы редакторского мастерства». Я ждал от Вас вопроса о них, но до сих пор не посылал Вам ни одного номера бюллетеня с тем, чтобы сделать Вам сюрприз – послать все публикации, однако сегодня это сделать пока невозможно: публикация лекций закончится в августе или сентябре.
Конспекты моих лекций представляют собой в основном изложение Вашей книги в той степени, в какой я использую ее в учебном процессе. То есть моего собственного материала теоретического, не говоря, конечно, о примерах, там почти нет. Я пошел по такому пути потому, что моим студентам очень трудно добыть Вашу книгу для постоянного пользования, особенно заочникам. Я как-то писал Вам, что в университетской библиотеке обнаружил… 13 экземпляров. Один-два экземпляра можно приобрести случайно в ином букинистическом магазине. И все. А бюллетень Союза журналистов Украины выходит тиражом около 13 тыс. экз., он имеется в редакциях районных и многотиражных газет, его выписывают большинство наших заочников. Конечно, частично это именно то, что я хотел издать вместе с Вами в нашем издательстве, но из этого пока действительно ничего не получается.
Конспекты лекций получили много положительных отзывов от практиков. Многие мои коллеги подшучивают надо мной, что я рекламирую фамилию доселе неизвестного им А.Э. Мильчина. И правда, если говорить о студентах, то из теоретиков редактирования Вы для них едва ли не самый крупный авторитет.
Сегодня я посылаю Вам несколько номеров «Журналiста Украiни», в которых опубликованы мои, вернее – наши «Основы редакторского мастерства». Я подумываю об одном варианте издания этих лекций отдельной брошюрой. Политиздат Украины печатает серию «Бiблiотечка журналiста», аналогичную всесоюзной «Библиотечке журналиста», но значительно меньшую по объему – 3–4 листа каждая книжка. Есть у меня уже и письмо секретариата Правления Союза журналистов Украины в издательство, но я пока еще не обращался туда – некогда.
Начиная с нового учебного года подумываю о том, что пора смелее отрываться от Вас, преодолевать влияние Вашей книги. Не в том смысле, что она перестала мне нравиться или я перестал разделять Ваши мысли, нет. Просто родились у меня кое-какие соображения насчет своего, оригинального курса.
Примерно через год В.Г. Иваненко прислал мне письмо, в котором поздравил меня с выходом второго издания моей «Методики…». Возможно, перед этим он получил от меня письмо, в котором я выражал удивление от формы публикации его лекций в «Журналисте Украины». Сужу об этом потому, что в письме от 30 мая 1980 года он пишет:
Вы совершенно напрасно огорчились по поводу публикаций в «Журналисте Украины», заподозрив меня в заимствовании Ваших положений. В кратком предисловии к первой статье было указано, что они представляют собой конспект лекций по курсу литературного редактирования, следовательно – изложение известных положений советских исследователей (и прежде всего – Ваших). Везде, где только мне приходилось использовать Вашу книгу, я прибегал к формулам: «А. Мильчин говорит (пишет, считает, подчеркивает и т. п.)». Но редакция «Журналиста Украины» сочла ссылки (как на Вас, так и на других авторов) ненужными. Об этом мне пришлось выдержать не совсем приятный разговор (больше всего я боялся подозрений насчет моей нечестности не столько с Вашей стороны, сколько со стороны студентов – их у меня ежегодно свыше 200), во время которого мне, в частности, было указано на то, что я слишком уж часто упоминаю Ваше имя. [Почему это недостаток, остается только догадываться. – А.М.]
Если эти мои объяснения покажутся Вам неубедительными, могу немедля прислать Вам второй экземпляр (таковые у меня сохранились) оригинала любой из десяти подготовленных для «Журналиста Украины» статей (две не были опубликованы по вине редакции).
Мне очень неудобно перед Вами, что все так случилось. Будет мне хороший урок на будущее. Извините, пожалуйста, и поверьте: я достаточно богат собственными идеями, чтобы не занимать у своих коллег.
Что же касается истории с попыткой издания Вашей книги на Украине, так тут уж я виноват только в том, что был слишком идеалистически настроен. Жаль, что Вы, лучше меня зная наш издательский бюрократизм и волокиту, подумали, будто я решил поводить Вас за нос.
Надеюсь, что все это не повлияет на наши отношения впредь. Поэтому повторяю свою просьбу к Вам: если Вы согласитесь ознакомиться с рукописью моей монографии и высказать свои замечания (мне интересно знать Ваше мнение), я незамедлительно пришлю Вам один из экземпляров рукописи. Ознакомившись с ее содержанием, полагаю, Вы сделаете должный вывод об органическом или же «искусственном приспосабливании материала под серию».
Кого цитировал Иваненко в конце письма, не знаю (может быть, и меня). Мне трудно судить, был он действительно простаком, не сознающим, что делает, или прикидывался им.
Может быть, я чересчур резко и эмоционально воспринял публикацию его лекций в журнале. Но уж слишком это напоминало простой ход мысли: не вышло с книгой, напечатаю в журнале, но уже только от своего имени. Он действительно ссылался на мою книгу в тексте этих лекций, но никакого предуведомления об опоре на советских исследователей и прежде всего на меня напечатано не было.
Хотя Иваненко каялся и просил прощения, он явно не понимал неэтичности своей публикации в журнале, и я все же посчитал нужным разъяснить ему, как выглядит его поступок со стороны. Вот что я ему написал:
Прежде всего, хотелось бы внести ясность и точность в характеристику фактов.
Во-первых, я не заподозрил Вас в заимствовании положений из моей книги, а был удивлен и раздосадован тем, что прямые переводы текстов из моей книги не были оговорены в достаточной мере. Предупреждение о том, что публикуется конспект лекций, ничего по сути не меняет, ибо в данном случае речь идет не о том, что какие-то научные положения выдаются за авторские. Публикация учебная, научно-популярная, и никто не будет рассматривать ее как оригинальную научную работу. Дело в другом. Даже лекция, даже научно-популярный очерк предполагает самостоятельную литературную разработку темы, а не буквальный пересказ других работ. Если же без него нельзя почему-либо обойтись, то это делается не так, как сделано в «Журналисте Украины». Причем упрек касается не всех статей, но некоторых особенно. Взять хотя бы статью третью – «Анализ фактического материала». Первые две страницы, как и последующие, построены на материалах книги с заменой примеров, но имени моего на этих двух страницах даже не упоминается. <…> Одно дело – читать лекции по каким-либо литературным источникам, другое дело – выступать со статьями, даже если они опираются на конспект лекций. Редакцию «Журналиста Украины» можно понять, когда она требовала исключить ссылки на мою книгу, хотя и редакции следовало бы разобраться в существе дела, а не становиться на формальную позицию. Но Вы-то должны были либо дать свою трактовку материала, либо предложить редакции статьи двух авторов, особенно в свете нашей прежней переписки. Пишу это без злобы и раздражения, а с грустью и сожалением. И коль скоро Вы просите извинения и чувствуете все же неудобство, то я не буду больше говорить на эту тему. Хочу только, чтобы Вы знали мое отношение к происшедшему и правильно оценили свои действия. Это поможет Вам в будущем. Вы поступили неверно, не вполне этично, и только точная самооценка избавит Вас в последующем от чего-либо подобного. В письме от 26.06.79 г. Вы, кстати, сами пишете о том, что в журнале «Журналист Украины» «опубликованы мои, вернее – наши “Основы редакторского мастерства”» и далее о том, что Вы подумываете об одном варианте издания этих лекций отдельной брошюрой. Поставьте себя на мое место и подумайте, какие чувства и мысли все эти пассажи могли вызвать.
Всячески приветствую самостоятельную разработку проблем редактирования, о которой Вы подумываете, но публиковать отдельной книгой конспект лекций, напечатанный в «Журналисте Украины», с учетом всего сказанного… Что же в этом хорошего, когда Вы сами пишете – наши статьи? И как прикажете к этому относиться?
Во-вторых, я вовсе не решил, что Вы раньше с предложением об издании книги хотели поводить меня за нос. Тут я полностью уверен в Вашем искреннем желании сделать это. Но издательский бюрократизм и волокита мешали это осуществить только по времени, но не вообще. Так что Ваше решение об отказе от попыток издания книги не выглядит достаточно мотивированным. Почему вдруг Вы не захотели ждать? Что изменилось? Если речь идет о том, что Вы предпочли самостоятельную разработку темы во всех отношениях, дай Вам Бог. Но, в общем, следовало бы быть более последовательным в своих решениях и действиях, а не метаться от одного решения к другому, когда это касается не только Вас. Вот Вам мое отношение ко второму вопросу.
Теперь относительно рукописи. Пожалуйста, присылайте ее, я прочитаю и выскажу замечания, если в них окажется необходимость.
Олег Вадимович Рисс, после того как я посвятил его в события этой истории, утешил меня такой сентенцией:
Во всяком случае, приятно сознавать, что было ему что у Вас «воровать».
Сейчас, заново читая переписку с В.Г. Иваненко, я вижу, что при всей правоте в оценке его поступка все же зря не отметил то обстоятельство, что он вначале выступил пропагандистом моей книги на Украине, за что надо было на прощание высказать ему благодарность, и я жалею, что не сделал этого.
Больше мы ни устно, ни письменно не общались.
Перевод книги на польский язык тоже не состоялся. На одной из ММКВЯ (кажется, 1981 года) наше издательство заключило с польским издательством Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich Wydawnictwo из Вроцлава, выпускающим книговедческую литературу, так называемый опцион на второе издание моей «Методики…». Опцион означает, что издательство берет на себя обязательство изучить книгу и за определенный срок решить, будет ли оно выпускать ее в переводе.
Польское издательство своевременно или с небольшим опозданием ответило отказом от перевода – не из-за качества самой книги (его оно оценило в общем высоко, как «компетентную и полную обработку редакционной тематики в современном понимании»), а потому, что не нашло подобающего исполнителя для подбора примеров-аналогов на польском языке из польских изданий. Причина вполне уважительная. Остается только сожалеть, что в стране, сильной своей книговедческой литературой, книга не увидела свет.
В 2005 году издательство «Логос», как я уже упоминал выше, выпустило третье издание моей «Методики». Тираж, конечно, маленький – 3000 экз., но все же новые поколения редакторов смогут с ней познакомиться (думаю, не без пользы). Хотя корректор-редактор будущего издания А.В. Полякова на мой вопрос, что она может сказать о своих впечатлениях о рукописи, ответила: «Открытием она для меня не стала». Но она издательский работник с большим стажем работы. К тому же производственная необходимость создает невольный перекос в восприятии. Тем не менее ее отзыв меня огорчил. Хотя бы потому, что я уверен: в моей книге процитировано столько умных мыслей о редактировании, сколько она не могла бы найти ни в каком другом месте. Посмотрим, как новое издание будет принято современным читателем.[32]
О том, что спрос на книгу в прежних изданиях не был удовлетворен, можно судить хотя бы по такому письму в издательство после выпуска второго издания (тираж 20 тыс. экз., немалый для такого рода изданий):
Прошу переслать данное письмо А.Э. Мильчину, автору книги «Методика редактирования текста», 1980 г.
Книга очень полезная, целесообразно ее переиздать, как только тираж будет распродан. Она полезна всем пишущим.
Уважаемый Аркадий Эммануилович!
С большим удовольствием прочитал Вашу книгу. Обращаюсь к Вам с просьбой, надеюсь, не обременительной и не неприятной. Если у Вас есть сведения, где в Москве эта книга еще есть в продаже, то сообщить их мне (открытку прилагаю).
Если нет – сообщите, на какой год намечено ее переиздание. Если никаких сведений нет – пусть открытка полежит у Вас до их появления.
Замечание: занимается ли редакторской работой автор? Лучше прямо сказать, что книга полезна авторам, всем пишущим, всем любящим язык. Кстати, аннотацию надо бы напечатать крупным шрифтом – ведь это реклама.
В случае переработки книги можно усилить роль примеров в качестве тренировочных задач для читателя.
Частная мелочь – повтор «слепо» в середине стр. 263 (см. 262).
Спасибо за хорошую книгу!
Не редактор, инженер к.т.н. Лейтес Л.В.
Приятное для автора письмо, на которое я ответил, разъяснив, что мне как главному редактору не слишком удобно настаивать на переиздании собственной книги.
Л.В. Лейтес (однофамилец моего школьного приятеля Юры, которого я цитировал выше) не поленился и прислал открытку, в которой возразил:
Когда деликатность автора-начальника идет во вред делу (отсутствие полезной книги – вред), то надо быть менее деликатным, предложить переиздание.
Деликатность свою я подавил в 2004 году, т. е. через 20 лет после переписки с Л.В. Лейтесом, а именно: в ответ на поздравление с Новым годом, которое прислал мне генеральный директор издательства «Логос» Н.Н. Пахомов (он выражал в нем удовлетворение от нашего с ним предыдущего сотрудничества), предложил ему переиздать «Методику редактирования текста» и получил его согласие на это.
Что же касается мелкого шрифта аннотации, то он таков только в макете аннотированной каталожной карточки и не может быть увеличен, так как площадь карточки ограничена ее стандартным размером (по размеру каталожных ящиков, куда после копирования макета карточки она будет поставлена в библиотеке). Это не мешает издательству поместить рекламную аннотацию на видном месте в книге – на обложке, на клапане суперобложки, на ленточке-поясе. Всего этого я Л.В. Лейтесу пояснять не стал по малости самой темы.
«Справочная книга корректора и редактора» (М., 1974)
Эту книгу нельзя считать полностью моей, хотя, наверно, больше половины ее написано мною, но в целом это коллективный труд. Главы со специальным содержанием написали приглашенные мною специалисты.
Приступил я к подготовке этой книги задолго до окончания работы над «Методикой и техникой редактирования текста» – я уже упоминал об этом в той главке, где говорил о замысле «Справочника редактора», который так и не сумел реализовать в полной мере.
В план «Книги» было включено переиздание «Справочной книги корректора» Былинского и Жилина (М., 1960). Однако оба ее автора скончались в год выпуска, и я чувствовал себя обязанным заняться подготовкой переиздания, но не был убежден, что это необходимо, и в начале 1968 года стал опрашивать на этот счет разных издательских работников. В частности, я написал в конце января О.В. Риссу:
Как по-Вашему, стоит переиздавать «Справочную книгу корректора» Былинского и Жилина? И если стоит, то с какими изменениями? Что в ней полезно, а что не нашло спросу? Пользуетесь ли Вы ею? Или больше другими справочниками?
Ответ Рисса был таким (26.01.68):
Ваше намерение о переиздании «Справочной книги корректора» решительно поддерживаю. Она очень нужна, тем более что кое-где до сих пор пользуются устаревшим справочником Служивова. Если время терпит, пришлю Вам (или редактору) подробный перечень желательных улучшений и дополнений. Но вот что следовало бы обдумать. В дореволюционные времена были такие вывески: «Трактир “Отдых лихача”. Доступно ломовым». По ассоциации мне кажется, что «Справочную книгу корректора» надо приспособить так, чтобы ее брали в руки и наборщики. Правда, к ней наборщики часто обращаются – я это вижу, но надо, чтобы эта книга пошла не только в корректорские, но и в наборные. А как раз по части набора авторы оказались слабоваты и ограничились переложением технологических инструкций, тоже весьма несовершенных. Чем шире будет адрес книги, тем больше она вызовет спрос, тем заметнее возрастет ее тираж. В Ленинграде она давно исчезла из продажи и у букинистов ее не достать.
Работа над практически новым изданием «Справочной книги корректора» и «Методикой и техникой редактирования текста» шла параллельно. Я понимал, что, выступая как титульный редактор и составитель, должен буду часть моего рабочего времени в издательстве тратить на общение с соавторами, а может быть, и на работу над собственными авторскими главами. Поэтому, чтобы исключить всякие разговоры о том, что я занимаюсь личными делами в рабочее время, я оговорил с директором издательства, что буду готовить справочную книгу на общественных началах, т. е. без оплаты, но при условии, что мне не будут препятствовать частично заниматься справочной книгой и в рабочее время в издательстве. Телепин согласился.
Начал я эту работу еще в 1968 году не в лучшем состоянии; дел у меня было столько, что к мысли о переиздании «Справочной книги корректора» я вернулся уже в практическом плане лишь в конце 1968 года. 28–29 ноября я написал Риссу:
Сегодня на занятиях слушатели обратились ко мне с вопросом:
– Когда будет переиздана «Справочная книга корректора» Былинского и Жилина?
После того как огорчил их ответом:
– Не ранее чем через полтора-два года, —
мне было сказано:
– Так все ищут…
Взял вечером книгу, чтобы решить, много ли понадобится работы для подготовки переиздания.
Около двух лет вопрос о переиздании «Справочной книги корректора» в нашей переписке как будто не затрагивался. И лишь 21 июля 1971 года Рисс написал мне:
Откровенно говоря, мне обидно, что после плодотворной творческой работы над «Методикой и техникой редактирования текста» Вы хотите взяться за составительскую работу. Вы мне и раньше об этом писали, но я не отозвался просто потому, что два с половиной года не вынимал из шкафа книгу Былинского и Жилина, хотя, наблюдая, как ею пользовались мои коллеги и слыша их отзывы, имел ряд соображений, что в ней хорошо и чего не хватает. Сейчас по памяти попытаюсь кое-что восстановить.
Действительно, теперь после выхода Розенталя и других справочников и словарей многое в «Справочнике корректора» может оказаться лишним. Но вот стилистику надо бы сократить, приблизив больше к потребностям корректуры, а не литературных и прочих редакторов. По-моему, слабость нынешних корректоров не только и не столько в том, что они не знают орфографии или синтаксиса, а главным образом незнакомы с технико-орфографическими правилами и ленятся пользоваться справочниками. Так, словарик в конце книги я бы сохранил, но построил его по образцу «Технико-орфографического словаря» Н.Н. Филиппова, который, помнится, пользовался большим успехом у корректоров типографии АН (он был в единственном экземпляре у одного старца).
Полезно было бы взять в новое издание справочника то, что годится из старых руководств. В книге Уарова, например, есть раздел об основных принципах корректуры на иностранных языках. А наши корректоры, например, не знают, почему в испанском «?» и «!» ставятся в перевернутом виде[33] и почему над буквой «ñ» нужна тильда. Полонский и Ремез в книжке 1928 года давали небольшой списочек наиболее обычных ошибок в наборе (например, «капитализм» вместо «коммунизм», что и произошло в «Правде» 28 апреля с.г.). Это сейчас особенно пригодилось бы. Из книги Крейцмана стоило бы взять перечень наиболее употребительных в научной терминологии приставок и окончаний (вроде «орто», «гипер», «ди» и пр.), в которых корректоры нередко путаются. Не лишним был бы и раздел основных методических советов вроде того, как следить за оригиналом (тоже хорошо сказано у Крейцмана). Но, пожалуй, следовало бы больше всего понудить будущих потребителей «Справочной книги корректора» пользоваться другими справочниками и пособиями, о которых большинство понятия не имеет. Поэтому, может быть, каждый раздел следовало бы сопровождать пояснением: «Если здесь Вы не найдете ответа на интересующий Вас вопрос, то смотрите там-то и там-то». Ведь мало кто в корректорских знает, что выходят «Ежегодники БСЭ», а уж об иностранных справочниках тем более никто не сведущ.
Но все это лишь беглые предварительные соображения, ибо для того, чтобы ответить на Ваши вопросы более конкретно, надо засесть за книгу Былинского и Жилина с карандашом и все выписать на бумажку. Пока меня на этот подвиг просто не хватит! Если решитесь, то месяца через два я смогу попробовать. На «зубров» же не надейтесь. Ну кто в Ленинграде остался?! Та же книга Рафаловича демонстрирует полную беспомощность корректуры. При всей ее содержательности она полна грубых редакторских промахов и опечаток. А ведь это издательство «Искусство»! Что же говорить о других? В провинции, видимо, корректура попросту разрушена. Во всяком случае, те примеры ляпсусов, которые приведены 14 июля в «Литгазете» (сразу три письма!), свидетельствуют и о низкой общей культуре вообще и о малограмотности корректоров (особенно потрясает сообщение о А. Полежаеве и обращение с титулом «Ваше превосходительство» к жандармскому ротмистру).
Благодаря Рисса за советы, я уверял его 24.07.71:
Я не собираюсь быть составителем этого справочника, но в нем большая нужда, и я хочу помочь подготовить его переиздание с дополнениями и уточнениями, с одной стороны, и с сокращением необязательного материала – с другой. Кому-то нужно это сделать. И если Вам захочется когда-нибудь полистать «Справочную книгу» и высказаться по ее поводу (только если появится желание), я обязательно воспользуюсь Вашими советами. <…>
Что же касается моих дальнейших планов творческой работы, то скорее всего я займусь «Справочной книгой редактора», или, может быть, точнее, «Справочником редактора о редактировании и книге», если быть абсолютно точным. Работа, конечно, не абсолютно творческая, но это мое амплуа в большей степени, чем что-либо другое. Систематизировать, классифицировать и совершать другие логические действия я люблю и как будто они у меня получаются.
Олег Вадимович в ответ прислал 16.12.71 следующее письмо:
…поскольку Вы взялись за переиздание «Справочной книги корректора», не считаю зазорным отправить на другой день более конкретное письмо.
В качестве преамбулы замечу, что Вы не только взвалили себе на плечи огромную ношу, но и буквально совершаете подвиг (совсем по девизу фейхтвангеровской Симоны: «Кто, если не ты, и когда, если не сегодня»). Исходя из нынешних предпосылок, трудно допустить, что через 7–8 лет найдется кто-нибудь желающий возиться с этим трудоемким делом.
Обидно, конечно, что этические соображения мешают Вам открыто выступить автором переработки. Есть такое монументальное шахматное издание «Хандбук» Бильгера, который систематически переиздается вот уже 60 или 70 лет. И хотя имя автора сохраняется из уважения к его «почину», фактическими авторами выступают те гроссмейстеры, которые вводят в книгу новые материалы. За длительный срок книга, конечно, совершенно обновилась, причем у нее уже не один, а несколько авторов, которые не стесняются выставлять свое имя и уж, ясно, получать гонорар за переработку. Так что Ваша стеснительность, по-моему, даже приходит в противоречие с Основами гражданского законодательства СССР в части авторского права.
Теперь о моих замечаниях. Мне думается, что раздел «Участие корректора в литературной обработке материала» п. 7 (о синтаксисе) сейчас вовсе не обязателен, учитывая наличие многих широко доступных справочников. Кстати, следовало бы рекомендовать их возможно полнее, вплоть до всяких сборников научно-технических терминов, о которых рядовые корректоры и понятия не имеют. По-моему, литературу надо указывать не только русскую, но и основную на иностранных языках, как делал Н.Н. Филиппов в «Книжной корректуре» (1931). И уж непременно указать книги по корректуре на украинском и белорусском языках – отдать дань дружбе народов.
Поскольку справочником будут пользоваться не только книжники, но и газетчики, целесообразно было бы в п. 43 привести и основные газетные шрифты, которых развелось так много, что даже я путаюсь в названиях.
Сохраняете ли Вы в конце орфографический словарь? Если да, то, во-первых, придется пополнять его новыми словами, в чем мало поможет книга «Новые слова и значения», во-вторых, хорошо бы дать слова с членением их на переносы, как было сделано в «Технико-орфографическом словаре» Н.Н. Филиппова 1937 или 1938 года (библиографическая редкость, очень ценится корректорами!).
Для поднятия престижа корректорской профессии, может быть, стоило бы в списке литературы дать маленький раздел «Писатели о корректорах», рекомендовав для прочтения «Корректурное бюро Студенского» В. Короленко, «Запятую» А. Глебова, «Оду корректору» В. Шкловского, «Дозорные или…?» А. Крона, а также «Вторую древнейшую профессию» Р. Сильвестра и «Торжествующую ищейку запятых» Г. Смиса (в книге «Те, кто делает газету». М., 1925). [Увы, это сделано не было: подвела память.]
Следовало бы привести не только образцы корректуры на иностранных языках, но и некоторые правила графики, переносов и пр., которые я нигде не встречал после книги М. Уарова, где этот раздел изложен наиболее удачно.
Вероятно, читатели будут благодарны, если Вы сообщите в «Справочнике» о новых множительных аппаратах типа ротапринта и др. и изложите специфические особенности корректуры оттисков с этих аппаратов. Сейчас ведь большой отряд корректоров занят в институтах и бюро, где существует безнаборный метод издания (все это голая эмпирия, я не уверен, существуют ли технологические инструкции по этим процессам).
Кое-что полезно позаимствовать из книги В. Крейцмана «Практика корректуры» (есть ли она у Вас? если хотите, вышлю свою). Даже при моем слабом знании немецкого языка (жена помогает) я восхищен подачей материала в этой книге и, когда я работал в Лениздате, часто не находил у Былинского и Жилина то, что дает Крейцман для «своих» немецких корректоров. Особенно полезны на стр. 93–98 «Важнейшие приставки и суффиксы в медицинских текстах» (с переводом латинских слов – там на немецкий, у нас – на русский) и на стр. 116–117 то же для химических текстов.
В разделе о математическом наборе на стр. 113 Крейцман вводит раздел математической логики с ее обозначениями. Это нам тоже нужно, ибо я очень мучился в типографии АН, когда читал, например, работы Л. Ландау или «Алгоритмы» А.А. Маркова. Сейчас эти символы широко вошли в математический текст, а в старых справочниках их нет.
В связи с появлением нового вида изданий типа буклетов хорошо бы целиком взять из Крейцмана (стр. 173) интересный рисунок с видами фальцовки. Очень интересно показаны у него на стр. 174–184 разные способы спуска полос.
Рабочее место корректора и основные пособия в помощь ему в этой книге приводятся не в «отдаленных» разделах, а в начале книги на стр. 15–18. Не исключаю, что книга Крейцмана тоже в чем-то устарела, так как в ГДР выходит много новых пособий по корректуре и редактированию, но все же я считаю ее, как тип, интересной и полезной и в наших условиях.
Вот, кажется, и вся утилитарно-прагматическая часть письма. А все же мне жаль, что Вы отложили «Справочник редактора»!
Я отправил Риссу составленный мною план нового издания «Справочной книги корректора». Он так оценил этот план:
Вы заботливо потрудились, чтобы ознакомить меня с содержанием будущей «Справочной книги корректора». Конечно, это будет совершенно новый труд, за который никто, кроме Вас, безусловно бы, и не взялся. Уже это должно доставлять Вам большое удовлетворение. Я считаю удачным расширение состава Приложений. В них войдет гораздо больше полезных сведений, чем в первом издании. Словарь норм управления тоже не помешает (03.06.72).
Я не помню, писал ли я Риссу, что взялся за переиздание «Справочной книги корректора» не только потому, что читатели ее очень ждали, но и потому, что надеялся ее превратить в «Справочную книгу корректора и редактора», даже в «Справочную книгу редактора и корректора», включив в нее правила редакционно-технического оформления рукописи, вычитки и корректуры. Все эти правила нужны и редакторам, и корректорам. Поэтому целесообразно объединить их в одной книге. Мне это было тем более выгодно, что я получал возможность то, что уже наработано, включить в «Справочную книгу», не дожидаясь составления «Справочника редактора», который пока маячил в очень далекой и весьма неясной перспективе.
Уверенность в правильности такого решения подкреплял успех, которым «Вычитка рукописи» А.Н. Почечуева пользовалась и у редакторов, и у корректоров.
В одном из следующих писем (12.08.72) Рисс написал:
Думаю, что Ваш Мих. Як. [тогдашний директор издательства «Книга» Михаил Яковлевич Телепин] должен от всего Вас освободить и засадить за «Справочную книгу корректора». После тех смешных опечаток, которые были недавно в «Правде» (в статье председателя Госплана) и в «Книжном обозрении» (в статье председателя Комитета по печати Литовск. ССР), по крайней мере можно ссылаться, что нет пособий по корректуре. Но что за нравы в «Книжном обозрении» и кто поверит после их стыдливой поправки, что председатель Комитета по печати Литвы не знает, что у него в республике фамилия первого секретаря ЦК не Восс, а Снечкус. Ясно, что статью писали в редакции, а так наз. автор подписал, не читая, как многие диссертанты выходят на защиту, даже поленившись прочитать, что за них написали шустрые референты и секретари!!
Рисс морально поддерживал мою работу над справочной книгой, но порой критиковал некоторые мои намерения (например, относительно названия и темы). 23 октября 1972 года он писал:
Начну с Вашей работы, которая, несомненно, очень важна для десятков тысяч издательских работников и типографских корректоров. По моему мнению, Вы не имеете не только морального, но и юридического права считать это 2-м изданием книги Былинского и Жилина. Более того, неправомерно оставлять их имена на переплете, когда книгу «делали» совсем другие люди. Разумеется, в предисловии или на обороте титула необходимо упомянуть, что в основу положена такая-то книга. Напомню, что имеется и соответственный прецедент (даже не один!). «Техническая редакция книги» вышла в 1933 году под фамилией одного А.А. Реформатского, хотя на титульном листе указано «совместно с М.М. Каушанским» и в книге даже помещен некролог покойного соавтора. Я знаю, какой Вы на редкость щепетильный человек, но в данном случае всякий «политес» пойдет в ущерб истине. Зачем «спасать» имя Былинского и Жилина, если книгу составляли, так сказать, их наследники, роль которых Вы не должны затушевывать?
Согласен и с тем, что старое название не отражает содержание книги. Об этом я, помнится, писал Вам еще довольно давно. Но назвать ее «Справочной книгой по вычитке» – по-моему, еще больше сузит ее содержание. Во-первых, вычитка это все-таки один из видов корректуры и, как понятие, менее известна, чем корректура вообще. Во-вторых, я писал Вам, что книгой Былинского и Жилина, как и старым справочником Служивова, при мне часто пользовались и наборщики, и технологи – она для них своего рода «талмуд». А если назвать «Справочная книга по вычитке», то типографские корректоры и еще многие ее не только не купят, но и в руки не возьмут.
Так что либо название должно быть двойное: «по вычитке и корректуре», либо надо искать другой формулировки. На первый взгляд, мне представляется уместным примерно (как «ключ» для поисков) такое название: «Справочная книга по работе с рукописью и печатными оттисками» (или короче: «Справочник по работе с рукописью и корректуре») или «Справочник для работников печатного слова». В общем, мне кажется, что надо расширить в названии назначение книги, а никак не сужать ее до вычитки. Если что придумаю лучше, то напишу. Кажется, в английском и немецком языках есть более точные и емкие обозначения, чем в русском. Поэтому английские и немецкие авторы находят более лаконичные названия вроде «Практика печатного слова» или «Слово (на пути) к печати» и т. д.
Когда же я сообщил Риссу о том, что расширил заглавие до «Справочной книги корректора, редактора, автора», он, отметив: «…Вы правильно расширили заглавие», – сделал оговорку: «хотя авторам он, пожалуй, слишком “гроссбухен”!)».
Я не сумел удержаться в своих письмах от жалоб на трудности, с которыми столкнулся в процессе издания «Справочной книги»:
Думаю, что Вы не сетуете на меня за то, что я все пишу о своих не совсем радостных издательских делах, а не на общие и более интересные темы. Утешаю себя только тем, что сделал полезное дело, организовав издание «Справочной книги корректора и редактора» и составив для нее значительную часть глав. Жду в августе верстку. Надеюсь, что 1-я Образцовая типография не подкачает. Все же в этой типографии и корректорская приличная, и набор значительно более высокого качества. Боюсь только, что будут меня читатели поносить за петит при формате 60 х 90/16, но иначе нельзя было втиснуть 40 изд. листов в 25, а ведь эти 40 изд. листов пришлось с большим трудом отстоять в Комитете (другой формат 1-я Образцовая не брала) (до 09.07.73).
Хотелось бы здесь пояснить, какой принцип составления нового издания я избрал. Он в корне отличался от принципа составления справочной книги Былинского и Жилина. Принцип этот заключался в том, что написать разделы о специальных видах текста были приглашены специалисты разных издательств: главу «Нотный текст» – старший редактор издательства «Музыка» Ю.М. Оленев, параграф о тексте на английском языке – редактор издательства «Прогресс» Л.Ф. Зубрилова, о тексте на испанском языке – редактор К.И. Шульруфер, о тексте на немецком языке – М.Я. Шац, о тексте на французском языке – редактор издательства «Радуга» А.Д. Лапир, о словарном тексте – заведующая редакцией словарей, тогда, кажется, входившей в Издательство Большой советской энциклопедии, И.К. Сазонова. Два приложения согласился составить Д.Э. Розенталь: «Словарь управлений» и «Литература по языку и стилю». Все это гарантировало высокое качество рекомендаций.
Главы о физических величинах и их единицах издательство просило написать стандартизатора Л.Р. Стоцкого. О приглашении Льва Романовича Стоцкого надо сказать особо.
Этому приглашению предшествовал неприятный инцидент: я и М.Е. Зархина, ведущий редактор 3-го издания «Справочника автора книги» И.Я. Данилова (М.: Книга, 1966), получили взыскание от Комитета по печати за помещенные в этом справочнике таблицы единиц физических величин. И.Я. Данилов взял их из устаревших источников и пренебрег утвержденными действующими стандартами на этот счет. Стоцкий как председатель общественного комитета Госстандарта СССР по этим вопросам не мог оставить такое кощунство без внимания и организовал письмо Госстандарта СССР в Комитет по печати, где таблицы в справочнике И.Я. Данилова оценивались как большой грех. Вместе с документом о взыскании издательство получило и письмо Госстандарта СССР, послужившее для него основанием, а также замечания, написанные Стоцким, которого мало назвать знатоком физических величин и их единиц. Он был их певцом: у него глаза горели при разговоре о них. Это был истинный энтузиаст. Из его замечаний было ясно, что он хорошо знает положение дел с физическими величинами и их единицами в современных книгах и что положение это довольно печальное из-за обилия ошибок, неточностей и несоответствий международным и отечественным стандартам.
Вывод напрашивался сам собой: надо пригласить именно Льва Романовича Стоцкого написать главы о физических величинах и их единицах в «Справочную книгу корректора и редактора». К моей радости, он охотно согласился сделать это. И благодаря ему авторы и редакторы получили главы, которые могли стать и стали руководством к действию по части употребления физических величин и их единиц. Это впоследствии благотворно сказалось на качестве издаваемой литературы. Особенно помогли эти главы редакторам научно-технических текстов, получившим гуманитарное образование, а их было и в издательствах, и в научно-информационных бюро немало. Главы Стоцкого были не только справочными, но и образовательно-просветительными, что повышало их ценность и не могло не сказаться благотворно на качестве научно-технических изданий и документов. Стоцкий порекомендовал и автора для параграфа о химических формулах – Г.Г. Мирзабекова.
Были оставлены те главы К.И. Былинского и А.Н. Жилина, которые хорошо вписывались в новое издание справочной книги. Это, во-первых, глава К.И. Былинского «Названия», над схемой систематизации которой мне пришлось много потрудиться еще при подготовке справочной книги 1960 года. В этом помогла мне бывшая в то время на практике студентка редакционно-издательского отделения факультета журналистики МГУ (к сожалению, не запомнил ее имени и фамилии). Из справочной книги 1960 года были заимствованы также главы А.Н. Жилина о стихотворном тексте и тексте драматического произведения, так как в них достаточно было внести лишь редакционные уточнения. Что же касается остальных глав А.Н. Жилина, то я считал необходимым заменить их новыми только по той причине, что он преподносил правила, рекомендации без всякого обоснования. Он писал: «Делай так», но не объяснял, почему нужно делать так, а не иначе, что при огромном многообразии случаев в издательской практике не позволяло находить нужные решения при отклонениях от тех условий, которые были предусмотрены правилом. По Жилину, корректоры, редакторы, авторы должны следовать рекомендации не раздумывая. Я же стараюсь объяснить, почему желательно такой рекомендации следовать. Это позволяет находить решение в аналогичных случаях, опираясь на общий принцип.
Из-за того, что Жилин не обосновывал свои рекомендации или требования, они нередко грешили неточностью, даже неправильностью. Например, в главе о рубрикации можно было прочитать:
Если в рукописи одна часть разделена на главы, то и другие части также следует разделить на главы и т. д.
Это чрезмерное требование без оговорок могло привести к конфликтам между авторами и издательствами, потому что бывают вполне оправданные случаи, когда из-за небольшого объема одной из частей нежелательно разбивать ее на главы, так как они в этом случае окажутся несоразмерными по объему с главами других частей. Такое требование правомерно лишь для случаев, когда одна часть разделена на главы, а другая, аналогичная ей, сразу делится, например, на параграфы.
Возможно, я пристрастно и субъективно оцениваю главы Жилина, которые решил заменить своими, но причины, которые я привел выше, были, на мой взгляд, существенными и давали мне моральное право это делать. Я сейчас подумал: «А если бы А.Н. Жилин не скончался, как бы я поступил?» И ответил сам себе: «Я бы убедил его в необходимости дополнить правила и рекомендации их обоснованиями и помог бы ему в этом».
Помимо этого, у меня в результате редакционной практики и читательских наблюдений накопились новые рекомендации, которых у Жилина не было, и поделиться ими с читателем, вставляя их в текст А.Н. Жилина, было бы не совсем корректно, да и пришлось бы каждый раз это оговаривать.
Приведу некоторые примеры.
В главе о рубрикации у Жилина не было пункта о проверке соподчиненности рубрик. Я на основе опыта и книги «Методика и техника редактирования текста» мог написать подраздел о такой проверке и написал его (с. 25–27).
Глава «Единицы измерения» устарела, так как не учитывала утвержденных действующих стандартов. Поэтому и предпочтение было отдано главе, написанной Л.Р. Стоцким.
У А.Н. Жилина не было главы о документальном материале. Да он и не мог ее написать, не располагая «Правилами издания исторических документов в СССР», которые были изданы только в 1969 году. На их основе я написал две главы для нового издания справочной книги корректора, тем более что теперь она предназначалась и редактору.
В главе, которую А.Н. Жилин назвал «Библиография», он не опирался на соответствующие нормативные документы. Я же мог написать главу «Библиографические тексты» на основе ГОСТ 7.1–69 «Описание произведений печати для библиографических и информационных изданий». А для главы «Библиографические ссылки» у меня уже имелся «задел» – статья с таким заглавием в сборнике «Редактор и книга» (М., 1965. Вып. 5), о которой я уже рассказал выше. Она была написана значительно систематичнее, чем у Жилина, и опиралась как на мой функциональный анализ сотен изданий, так и на работы библиографов о библиографических ссылках.
У Жилина и глава о выходных сведениях была написана на основе уже устаревших технических условий, замененных ко времени выпуска нового издания справочной книги ГОСТ 7.4–69. Понятно, что и эту главу пришлось писать заново.
Значительно отличались в двух изданиях и главы о примечаниях. У меня она была написана на основе функционального анализа сотен книг, и рекомендации основывались на функционально наилучших решениях издательской практики.
Мне хотелось бы продемонстрировать здесь все маленькие новшества, которые мне удалось ввести в справочную книгу и тем самым в издательскую практику, но это требует много времени и места. Ограничусь поэтому одним примером: когда нумерация примечаний в каждой главе начинается заново, на отыскание нужных примечаний, если они размещены за текстом, у читателя уходит очень много времени; задача существенно облегчается, если на страницах с такими примечаниями обозначить в колонтитулах номера соответствующих глав. Именно это я предложил и показал на примере, как это нужно делать. К сожалению, это очень полезное для читателя предложение многие авторы и редакторы не приняли во внимание и продолжали вынуждать читателей заниматься длительным поиском примечаний. Мне пришлось позднее писать об этом в своих статьях и разборах.
Об особенностях и условиях подготовки издания говорит мое письмо к директору издательства Михаилу Яковлевичу Телепину:
Уважаемый Михаил Яковлевич!
По просьбе редакции литературы по книгоиздательскому делу я как редактор 1-го издания «Справочной книги корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина взял на себя титульное редактирование 2-го издания этого справочника. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что большая часть глав нуждается в полном обновлении (настолько большие изменения произошли за 12 лет в издательском деле). В связи с этим пришлось пригласить целый ряд специалистов принять участие в подготовке нового издания справочника (тт. Оленев, Сазонова, Стоцкий и др.). С ними были заключены договоры, и они написали свои части. Но больше половины книги пришлось при редактировании полностью написать заново. Делал это я на общественных началах, стремясь помочь очень важному и нужному делу. Рукопись передавалась мною в редакцию и была частично перепечатана, но большая часть из-за перегруженности машинистки текущими рукописями редакции откладывалась и сейчас создалось угрожающее положение с ее перепечаткой, а 15 января, не позднее, она должна была поступить в производство. Прошу Вас, учитывая, что всю составительскую работу я выполнял на общественных началах, разрешить редакции за счет того гонорара, который полагалось бы выплатить автору, оплатить перепечатку рукописи. Сумма за перепечатку не превысит 50 руб. Убедительно прошу посодействовать этому в интересах издательства.
Пользуясь случаем, должен поставить Вас в известность, что выпускать справочник как второе издание книги К.И. Былинского и А.Н. Жилина не представляется возможным. Это коллективная работа, в которой будут использованы три главы этих авторов, а остальные написаны другими. Поэтому книга будет издана под новым заглавием, а фамилии коллектива авторов указаны на обороте титульного листа.
А. Мильчин. 8 декабря 1972 г.Конечно, нормальный человек не может не удивиться и моему отказу от авторского гонорара, и тому, что приходилось выпрашивать мизерную сумму для оплаты машинистки, но таковы были условия жизни советского издательства. Вдобавок я не мог не считаться с возможными инсинуациями немалого числа «доброжелателей» в издательском коллективе (о некоторых из них я рассказал в главе, посвященной моей работе в «Книге»).
Некоторое представление о том, что было сделано на пути к изданию новой справочной книги, дает мое письмо к Риссу от 25.08.73:
Что касается «Справочной книги корректора и редактора» (именно таково теперь ее название), то это уже не второе издание «Справочной книги корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина, а нечто новое. Ни словарь терминов, ни словарь орфографический в справочную книгу не вошли. Пришлось пожертвовать гораздо более ценными справочными данными, чтобы уложиться в 40 изд. листов, а ведь «Справочная книга корректора» К.И. Былинского и А.Н. Жилина занимала всего 36 изд. листов, причем словарь занимал в целом очень солидное место. В общем, посмóтрите, когда выйдет. В пятницу пришли первые шесть листов верстки. Так что в субботу и воскресенье я читаю. В этом издании ошибки особенно нетерпимы, так что стараюсь быть предельно внимательным и придирчивым. Удручает только то, что читатели будут поносить нас, издателей, за петит и нонпарель.
А как иначе мы могли бы издать большим тиражом издание такого большого объема в издательских листах? Ведь набери мы его корпусом, пришлось для 50 тыс. экз. получить бумаги на 2 млн листов-оттисков, а у нас весь план на 74 г. 17 млн листов-оттисков. Вот и повысили емкость. Я-то вижу хорошо, а каково тем, у кого зрение похуже?
Кстати, корректура поставила передо мной одну техническую проблему, которую не знаю, как разрешить. Дело в том, что по техническим правилам набора, как Вы знаете, в нумерованном тексте (разбитом на пункты) в абзацах с двузначным номером должен быть нормальный абзацный отступ, а с однозначным – увеличенный так, чтобы текст начинался от одной вертикали во всех абзацах. 1-я Образцовая пренебрегла этим правилом, и таких полос оказалось очень много, так что если настаивать на соблюдении правила, придется выполнить очень большую правку. С другой стороны, в том сложном наборе, какой представляет собой справочная книга, это нарушение менее заметно, чем то, к которому приведет соблюдение правила. А ведь оно есть в самой справочной книге, что даст основание для упреков в несоблюдении тех правил, которые сами печатаем как обязательные. Вероятно, придется сделать какое-нибудь оправдывающее замечание к самому правилу.
Рисс всячески старался меня успокоить:
Насчет «Справочной книги» Ваши опасения и тревоги, видимо, не столь серьезны, ибо Вам ли не знать, какое это сложное и коварное издание! Ну, а правка в таком деле вполне естественна, ибо это не гладкий текст, в котором все как на ладони. Думаю, что все физические и моральные затраты сполна окупятся той пользой, которую принесет книга (27.11.73).
Получив от меня в подарок «Справочную книгу корректора и редактора», Олег Вадимович прислал такое письмо (28.03.74):
Спасибо! Спасибо безмерное!! Подарок Ваш столь же замечателен, как и вложенный в него труд. Конечно, книга требует не обозрения, а изучения, но и перелистав ее, видишь, какое это приобретение для работников издательского дела. Сначала меня поразил меньший объем книги по сравнению с ее предшественницей, но затем я увидел, что по листажу она даже больше старого справочника. Правда, достигнуто это за счет экономии на шрифте, но это бог Вам простит за то новое, что Вы внесли в это капитальное издание.
Меня многое порадовало в Справочнике, начиная с предисловия, написанного на редкость внятно и разумно, и кончая весьма удобным и остро необходимым словарем управлений. Заметил я также, что и внутри привычных разделов вроде «Названия» или «Числа и знаки в тексте» есть некоторые усовершенствования. Не говорю уже о целиком введенных главах «Документальный материал» и «Документальный текст». Это крайне необходимо для всех, кто будет пользоваться справочником.
Все выглядит стройно и законченно, хотя я и пожалел, что недостало места, например, для гарнитур шрифтов, которые лучше бы видеть в справочнике, а не в других пособиях.
Очевидно, кое-где пробрались и опечатки. При беглом просмотре я заметил три-четыре, как-то Исламбад на стр. 313 (по карте и Энциклопедии все же Исламабад). Думаю, что придираться к этому никто не станет, и надеюсь, что во всяких таблицах их нет.
Одно только меня беспокоит – легко ли пользоваться справочником? Его и в самом деле надо изучать, чтобы знать, где что находится. Боковые колонтитулы – не выход из положения. Очевидно, в дальнейшем надо искать способы приближения всех этих богатых материалов к потребителю, чтобы открыл и сразу нашел то, что нужно. Выполняет ли эту задачу предметный указатель, который я еще внимательно не просматривал?
Вообще же для «лентяев», отговаривающихся, что негде посмотреть, Ваша работа – удар по больному месту. Отличный тираж делает книгу вполне повсеместной. Может быть, с ее помощью «издательские кули» научатся лучше работать? А то в день получения Вашего справочника читаю в «Литературке» большой заголовок: «Злая фея с МоЛЛукских островов». Вот до чего доводит лень и самоуверенность – нет желания даже посмотреть, как пишется это географическое название!
Мне пришла мысль попробовать написать о Справочнике в «Журналист». Причем писать расширенно, упирая на то, какую великолепную оснастку получило и получает издательское дело. У нас столько издано пособий и справочников в помощь редактирующим, что просто стыдно плохо редактировать!
Соберусь с духом, чтобы пройти все 416 страниц, и тогда набросаю рецензию для почтенного органа, который как будто пренебрегает более «низкими материями».
Интересно, когда типография выдаст тираж и когда Справочник появится в продаже. Не сомневаюсь, что расхватают моментально, особенно в Ленинграде, где Дом книги не балует покупателей.
Не принимайте мои предварительные замечания за полную оценку книги, но одно скажу с уверенностью: заметен огромный труд, вложенный в это издание, ясно, как мучительно долго приходилось все это собирать, составлять, устранять швы и стыки и т. д. Так что мои поздравления с хорошей работой будут самыми недостаточными, потому что судить надо по сравнению с предыдущими образцами и оценивать шаг вперед. Небось Телепин потом будет и на себя примерять комплименты, когда таковые последуют!
Еще раз радуюсь удачному завершению подлинно эпохального труда (промежуток в 14 лет это уже почти эпоха!) и уверен, что Вам и самому приятно, что преодолели все препятствия.
Это исполненное доброжелательности письмо во многом справедливо. Действительно, и авторы, и я сам проделали большую работу. Мне пришлось приводить тексты всех соавторов к единому знаменателю, т. е. к выбранной для справочной книги форме подачи материала. Принцип заключался в том, что текст разбивался на мелкие рубрики: каждая рубрика – ответ на возможный частный вопрос читателя. При этом каждая такая рубрика должна была начинаться с заголовка-темы. Предполагалось, что это облегчит поиск каждой мелкой рубрики. Тому же способствовала нумерация пунктов (для последующего упрощения поиска справки по предметному указателю: в адресных ссылках указателя после номера страницы в скобках приводился номер пункта на этой странице, в котором содержались сведения о предмете). Все это просто описать, но совсем не просто сделать. Правда, некоторые авторы сразу представляли свои главы, оформленные по общему принципу. Но не все, и тогда мне приходилось их переделывать.
Конечно, не обошлось без опечаток и ошибок фактического толка, которые меня очень огорчили, так как одну из них быстро заметили даже в Управлении руководящих кадров Комитета по печати. Причем виноват в этой ошибке я сам – понадеялся на свою память: якобы точно видел название в моем наградном свидетельстве и не сверил с ним. В главе «Названия» в параграфе о названиях орденов, медалей и т. п. я неправильно вписал название новой медали «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»: с запятой между двумя частями названия, хотя в официальном названии между ними стоит точка. Особенно обидная ошибка. Кстати, на самой медали никаких знаков препинания между частями названия нет вовсе.
В письме от 16.04.74 Рисс пишет и о другой очень огорчившей меня ошибке, на которую, кажется, указал кто-то из читателей: была среди названий должностей, званий, титулов в СССР приведена и такая должность – Председатель Верховного Совета СССР, на самом деле не существующая.
Вы, разумеется, уже заметили, что она перекочевала со стр. 137 издания 1960 года. В справочнике Розенталя на стр. 29 сказано точнее: Председатель Верховного Совета РСФСР, так как действительно есть такая должность в однопалатном Верховном Совете республики (председатель на сессиях) в отличие от Верховного Совета СССР, имеющего две палаты. Любопытно, что раньше никто не заметил ошибки у Былинского и Жилина (думаю, что это ошибка машинистки или наборщика), а вот в Вашей книге сразу обратили внимание. Что ж, может быть, это и хорошо, что Ваш справочник начали уже внимательно читать!
Но, право, не стоит огорчаться из-за мелких ошибок. Груз, который Вы несли, непосилен для одних плеч, а помощников у Вас явно не хватило. Есть и другие мелочишки, но разве они затемняют суть самого труда?! <…>
Я считал и считаю, что «поднять» такую книгу, как эта, со множеством цифр, определений, формулировок и т. д. – это дело чудовищного терпения и жестокого труда. Что в таком деле невозможно уберечься от опечаток, особенно сейчас – тоже бесспорно. Думаю, что «Справочную книгу» в 1960 году было выпускать гораздо легче – тогда и руки и головы были свежее, да и обстановка более воодушевляющая.
Нужно быть совершенно неблагодарной свиньей, чтобы вместо признательности за труд, который по смерти «стариков» некому было и выполнить, если бы Вы лично не взялись, – устраивать расправу и чинить пакости за мелкие упущения. <…>
Так что не нужно казнить себя упреками – хуже было бы, если бы у Вас не хватило сил и возможностей довести «Справочную книгу» до конца и она не вышла бы. Неужели издательство только ругают и никто за что-нибудь не похвалил? Наверно, есть и такие книги, которые Вас радуют, а Телепину не к чему прицепиться. Если Вы моложе его, то на Вашей стороне время.
Я, конечно, был благодарен Олегу Вадимовичу за поддержку, но это лишь немного ослабляло горечь от ошибок.
Впрочем, были и приятные минуты. Так, вскоре после подписания в печать справочной книги директору издательства Телепину позвонил председатель Госкомиздата СССР Стукалин, только что вернувшийся с совещания издательских работников Средней Азии и Казахстана. В постановлении совещания было записано требование издать справочник для редакторов. Телепин мог сказать: а он уже подготовлен и даже подписан в печать.
Посыпались и письма с вопросами. Я был им очень рад, так как они позволяли расширить и обогатить следующие издания справочной книги. На каждое такое письмо я посылал ответ с конкретными рекомендациями, хотя среди них встречались такие, которые касались, например, редакционно-технического оформления некоторых элементов технического текста (как обозначать в печатном тексте электрические сигналы, названия органов управления приборов и т. д.).
Почему я, не сомневаясь, брал на себя ответственность давать советы и рекомендации по вопросам, ответ на которые не давали нормативные документы? Потому что я руководствовался здравым смыслом и хорошо ориентировался в традициях редакционно-издательского оформления элементов текста, понимал их функциональный смысл и рационально мыслил.
Более того, после выхода на пенсию я думал даже о том, чтобы организовать консультацию, в которую могли бы обращаться при затруднениях редакционного характера издательские работники, а я бы формулировал ответы на эти вопросы, облегчая их труд. Но никто не откликнулся на такой мой почин, хотя это могло стать действенным средством повышения качества книг.
Необходимость в таких консультациях подтверждали многочисленные письма читателей. Не на все случаи справочная книга могла дать ответ, а редакционная практика порождала все новые и новые вопросы. В стране было не так уж много издательств и соответственно издательских работников в них, но почти в каждом НИИ был редакционный или редакционно-издательский отдел, подготавливавший всякого рода документацию. Кроме того, редактированием текстов занимались органы научной информации. Все они нуждались в указаниях по редакционному оформлению текстов, указаниях, которые избавили бы их от необходимости самим устанавливать правила и тратить на это время.
В моем домашнем архиве хранится более 30 писем с вопросами и замечаниями по «Справочной книге корректора и редактора» от издательских работников, сотрудников НИИ со всех концов страны. На все я отвечал, и некоторые эти ответы помогали мне дополнять рекомендации при подготовке следующего издания справочной книги.
Некоторое представление о популярности, которую завоевала справочная книга, дает воспоминание одного из редакторов, И. Рахманиной. В многократно уже упоминавшейся беседе со мной, напечатанной в журнале «Книжное дело» (1994. № 1), она сказала:
Очень хорошо помню, как лет семь назад по Москве пронесся вихрь: мильчинский справочник редактора и корректора продают, можно свободно купить, если сейчас же побежать в книжный магазин. Я сделала это на другой день – и опоздала. Потом мне справочник подарили (с. 56).
И. Рахманина говорила уже о втором издании справочной книги (М., 1985), заглавие которой я, осмелев, изменил, поменяв местами «корректора» и «редактора»: выдвинул на первое место редактора.
Были и печатные отклики на первое издание:
Сидоров А.А. Искусство и наука редактирования // В мире книг. 1974. № 8. С. 70.
Приходько П. Полезно издателям и ученым // Книжное обозрение. 1974. 20 сент. № 38. С. 7.
Рисс О. Советчик-универсал // Журналист. 1974. № 11. С. 48.
Все рецензенты хвалили книгу и, рекомендуя ее читателям, старались пересказать, что те в ней найдут. Рисс, в частности, выполнил свое намерение, о котором писал мне еще 28 марта 1974 года:
По-моему, самое важное – убедить людей пользоваться «Справочной книгой», ибо по своему долгому опыту знаю, как неохотно корректоры и редакторы обращаются ко всяким словарям и справочникам, если они даже под рукой. Меня всегда раздражало, когда наши девочки спрашивали, как пишется то или иное слово, вместо того чтобы самим раскрыть орфографический словарь.
Вот и надо начинать с того, чтобы и купленная «Справочная книга» не лежала в бездействии – показать, что она в себе таит.
Правда, был и один отзыв с частными критическими замечаниями. Написал его старший научный сотрудник ГосНИИ гражданской авиации, кандидат технических наук, полковник в отставке А.С. Кравец, очень требовательный и внимательный к деталям специалист. Он перечислил немало неточностей в обозначениях, сокращениях, ссылках на устаревшие нормативные документы.
Чтобы иметь возможность помочь в приобретении справочной книги тем, кто будет просить меня об этом, я договорился с директором магазина № 33, в котором был отдел книг по издательскому делу и полиграфии; она заказала для меня пятьсот экземпляров справочника и продавала книги из этой партии только по моей просьбе. Директору Галине (отчество забыл) я помогал при защите дипломной работы в институте, согласился быть ее руководителем. К тому же у нас сложились дружеские отношения благодаря общности задач.
В моем архиве сохранился талон к почтовому переводу на 2 р. 50 к. (книга стоила 2 р. 26 к.) от Павла Ивановича Цивы из города Сухуми, которому я выслал книгу за свой счет. В нем он писал:
…Очень благодарен за помощь в приобретении «Справочной книги корректора и редактора». Высылаю названную Вами сумму денег. Еще раз большое спасибо! 17.12.74.
Письма читателей в основном были хвалебные, но встречались и такие, в которых содержались замечания, пожелания и предложения.
Особенно активным был Василий Адамович Крат из г. Ровно. Он прислал несколько конструктивных писем. Так, он указал на необходимость включить в книгу материал о ссылках на патентные источники и сообщил хороший источник для этого – статью Б.И. Беленького «Об унификации ссылок на патентные источники в научно-технической литературе» // Вопр. изобретательства. 1975. № 8. С. 49–53 (в письме от 16.06.81). В этом письме любопытны строки:
Писать мне замечания, советовать сейчас уже нет резона. Суть в том, что впечатлений много. Среди них, вероятно, найдется несколько здравых мыслей, но в письме это излагать долго, а встретиться не так и легко. Расстояние немалое. Да и сами мысли – детали…
Единственное желание мое – удачи Вам на своем поприще. Вы талант в своей отрасли, и от Вас я лично ожидаю хорошо подготовленной книги, а точнее переиздания «Справочной книги корректора и редактора». В паре с «Методикой редактирования текста» это хорошее подспорье для автора, а уж потом для редактора. Я, подобно некоторым коллегам, стараюсь писать так, чтобы редактору было практически нечего править. Пока это статьи. Этого Вы и хотите.
В моем архиве хранится несколько писем Василия Адамовича Крата. По ним можно сделать вывод, что он оригинальный человек, мыслящий по-своему. И переписываться с ним было не только полезно, но и увлекательно. Но он сам переписку прекратил.
Пожалуй, на этом пора закончить историю подготовки и издания «Справочной книги корректора и редактора». Конечно, корректоры в ней были несколько отодвинуты на задний план, хотя в заглавии они шли первыми. Справочных сведений по собственно корректуре книга содержала мало. Но я считал, что все предопределяется оригиналом, и главное – хорошо подготовить именно его. Главная же задача корректора – добиться точной передачи оригинала в наборе. А таблица корректурных знаков (их начертаний, назначения и применения) приводилась в приложениях и концентрировала в себе все самое важное для грамотной корректуры.
Вскоре после выхода книги начались размышления о подготовке ее 2-го издания. Уже 31.07.77 я писал О.В. Риссу:
…Предстоит серьезная работа по подготовке для выпуска в 1980 году нового издания «Справочной книги корректора и редактора». Каким его сделать? Как его сократить по объему? Тысяча вопросов и проблем. Жду Ваших советов и помощи. Вы всегда были добрым другом и советчиком и оказывали серьезную поддержку в трудные минуты.
Рисс откликнулся впрямую лишь через несколько лет, когда план переиздания в 1980 году уже рухнул:
Как Вы знаете, я всецело за сжатость и лаконичность. Поэтому присоединяюсь к Вашей идее сократить объем нового издания «Справочной книги». Лучше отослать к тому или другому пособию, чем воспроизводить сведения из него. За счет сокращения объема полезно увеличить тираж. Я же видел, как расхватывается мое неудачное третье издание – не потому, что это «бестселлер», а потому, что в нем даны необходимые корректурные знаки, и потому, что научных работников в СССР больше миллиона[34]. Дали бы тираж 100 тысяч – и то бы раскупили. Поэтому и Ваша будущая справочная книга пойдет в руки не только коллективов и редакторов, но и попросту всех пишущих.
Построить изложение более наглядно, как Вы предлагаете, вполне разумно. Вообще, чем больше «зрительных примеров», тем вернее успех. Мне кажется, что в издательской практике уже было нечто подобное, кажется в детской литературе. Помнится, в давние времена выпускались портативные технические справочники Hütze, которые пользовались большим успехом у инженеров и были интересно сделаны в издательском отношении.
Мне кажется, что и форма справочной книги должна быть не стандартной, а более применимой к условиям работы.
Вспоминаю, что знаменитый словарь Хомутова (он выручает меня до сих пор) особенно полюбился мне потому, что я мог носить его в кармане пальто – приходил с ним на работу и уходил (07.02.81).
После выхода справочной книги в предвидении ее нового издания я постарался организовать ее обсуждение среди редакционно-издательских работников в Москве и Ленинграде. Выступления и вопросы утвердили меня в мысли о том, что редакторы нуждаются в руководстве, которое избавило бы их от поисков ответов на многие частные вопросы редакционного оформления, и что справочная книга очень нужна.
Второе издание этой книги (под названием «Справочная книга редактора и корректора») вышло в 1985 году, а впоследствии на ее основе я составил «Справочник издателя и автора», который вышел тремя изданиями: в 1999, 2003 и 2009 годах, – но об этом я уже рассказал в главе «На пенсии».
Приложение
Э.Р. Сукиасян[35] «У меня возник вопрос…»
Этими словами начинались в последние годы многие письма удивительно близкого человека. Они значили: новая книга в работе! Мы с женой немедленно начинали готовить ответ, хорошо понимая, что задерживать работу нельзя.
50 лет отделяет меня от того времени, когда я случайно познакомился с Аркадием Эммануиловичем. В первый же день мы стали друзьями, больше того – близкими людьми. И остались вместе навсегда. Как это случилось? Мне предстоит это объяснить.
В конце 1963 года, сразу же после увольнения со срочной службы (три года в армии после окончания института), я приехал в Москву и узнал от своего руководителя Захария Николаевича Амбарцумяна, что прием в аспирантуру завершен. «Все еще впереди, – поддержал он меня, – вам всего 26. Поступите через год. Лучше подготовитесь к вступительным экзаменам. Сложнее всего – английский, вам придется серьезно поработать». Я знал, какие книги мне нужны. «Англо-русский словарь книговедческих терминов» Т.П. Елизаренковой (М.: Советская Россия, 1962. 510 с.) купил уже в Москве. Но изданный раньше Всесоюзной книжной палатой «Англо-русский библиотечно-библиографический словарь» М.Х. Сарингуляна (М., 1958. 286 с.) нигде обнаружить не удалось. «Сходите на улицу Неждановой, туда на склад нового издательства “Книга” свезли много книг из остатков, я вам сейчас нарисую». С этими словами З.Н. Амбарцумян передал мне листочек из тетради в клеточку. Как и было указано, я дважды свернул с улицы Горького налево, войдя в подъезд, обнаружил склад. «Такая книга по списку у нас есть, – сказала мне сотрудница. – Вот она, синяя, на полу лежит, под книгами. Будете брать – доставайте сами». Через минут десять, когда я поднимался с колен, прижимая к груди ценнейшую книгу, раздался голос откуда-то сверху: «Кто это и что он у нас тут делает?» Сначала Аркадий Эммануилович повел меня мыть руки. А потом мы сели у него и проговорили, наверное, часа два. Входили и выходили какие-то сотрудники, подписывались бумаги… А я рассматривал вещи на столе, увидел толстую книгу в желтом переплете, взял ее и долго не выпускал из рук. «Очень хороша. Ее еще можно купить, посмотрите в магазине на Садовом кольце – в квартале от Красных ворот». Так – можно сказать, от Аркадия Эммануиловича – в нашей домашней библиотеке оказалась удивительная «Справочная книга корректора» К.И. Былинского и А.И. Жилина (М.: Искусство, 1960. 544 с.).
В доме на Неждановой я стал бывать часто. Иногда, ожидая Аркадия Эммануиловича, сидел во дворе перед подъездом. Мимо проходили известные люди, большей частью – из мира искусства. Молодая мама Наталья Селезнева гуляла во дворе с коляской, в которой лежал всегда улыбавшийся Егор. Быстрым шагом выходил из подъезда Арам Ильич Хачатурян. Здание, как оказалось, было домом композиторов. А для меня оно было домом «Книги». Здесь можно было поговорить с А.Э. Мильчиным, узнать новости книжного мира.
Благодаря Аркадию Эммануиловичу я близко познакомился со многими хорошими людьми. Он позвонил однажды – и я побежал во Всесоюзную книжную палату, где заместитель директора Александр Иванович Серебренников после дружеской «чайной церемонии» сам отвел меня сначала в Книговедческую библиотеку, а потом в Архив, распорядился «о допуске без ограничений». Сергей Ерофеевич Поливановский, директор Москниги, обрадовался, увидев, как он сказал, «живого классификатора», и попросил помочь с пропагандой недавно утвержденной «Единой схемы». Начали разговор, через минут сорок в его кабинете я познакомился с Александром Тарасовичем Каменецким, директором крупнейшего магазина «Книга – почтой». Родилась идея справочного пособия для работников книжной торговли. Меня «назначили» редактором, началась работа (Алфавитно-предметный указатель к «Единой схеме классификации литературы в книготорговой сети»: справ. пособие для книготорговых работников / С.Е. Поливановский, А.Т. Каменецкий; науч. ред. Э.Р. Сукиасян. М.: Книга, 1968. 367 с.). Удивительно: все эти люди потом оставались в моей жизни, становились друзьями на многие годы, десятилетия. В кабинете А.Э. Мильчина мы встретились с Владимиром Осиповичем Осиповым, доцентом Полиграфического института. Он вовлек меня в число научных руководителей дипломных работ в тех сложных случаях, когда никто из профессоров и преподавателей МПИ не хотел брать на себя ответственность за дипломы, которые писали дети крупных чиновников госаппарата (они, как правило, писали отличные работы – с ними просто боялись разговаривать).
Когда работа над диссертацией была практически закончена, выяснилось, что официального оппонента для меня в редакционно-издательской сфере найти очень трудно. Помог Аркадий Эммануилович: назвал имя Николая Михайловича Сикорского, который сразу дал согласие. Так я познакомился со своим будущим директором…
Невозможно забыть, как Аркадий Эммануилович всегда заботился о нашей семье. Он знал, что моя жена – Тамара Александровна Бахтурина – начала после института работать во Всесоюзной книжной палате. Но на некоторое время (после рождения сына) осталась без работы. «Мы сделаем так, – придумал Аркадий Эммануилович, – на вас оформлю трудовое соглашение, а работать будете вместе – в издательстве всегда есть подходящие рукописи, наши женщины ходить по библиотекам не любят». Одну за другой я получал папки с рукописями. Задача ставилась такая: ничему не доверять, все цитаты, даты, фактические сведения должны быть выверены по авторитетным источникам. Сначала казалось: смысла никакого нет! Как может ошибиться автор? Все авторы были для нас авторитетами! Приходилось не обращать внимания на имена. Не сразу, но через некоторое время стало понятно, что зря деньги на такой работе не платят… В выходных сведениях в изданиях начала появляться строка «Редактор издательства Э.Р. Сукиасян» (такие работы мы не учитывали в списках своих публикаций, поэтому не все помним). С трудом работалось с учебным пособием Б.Ю. Эйдельмана «Библиотечная классификация и систематический каталог» (книга вышла в свет в 1977 году). А следом мне поручили готовить учебник К.Л. Воронько «Организация библиотечных фондов и каталогов». Автор ко второму изданию вдвое увеличила объем. Структура вызвала у меня много вопросов. Аркадий Эммануилович предложил встретиться и переговорить с Кирой Леонардовной. С предложенной структурой она согласилась, работали у нас дома – и остались друзьями навсегда. Книга вышла в свет в 1981 году и получила немало хороших отзывов.
Вскоре и у меня стали появляться книги: раз в пять лет я привозил в издательство новое практическое пособие, примерно в 10–12 листов. Рукопись всегда просматривали заведующие редакциями (Р.А. Кошелева, потом ее сменила Н.А. Захарова), а к редактированию подключались многие редакторы. Мне посчастливилось работать с Г.И. Куйбышевой, Р.К. Таболиной, Т.А. Павелко, И. Харитоновой. Многие годы с издательством работала и жена: в 1986–1993 годах выходили в свет «Правила составления библиографического описания» (6 частей, отдельно – «Краткие правила»). Это издание требовало исключительного внимания: сложнейший текстовой набор, масса деталей, возникающих при редактировании.
Хорошо помню 80-е годы, когда главным художником «Книги» работал А.Т. Троянкер. К очередной книжной выставке-ярмарке заблаговременно шла подготовка, продумывались планы книжной экспозиции. С каждым годом они становились изобретательнее. Готовились проспекты, буклеты – всегда необыкновенные, оригинальные по форме и подаче информации. К стенду выстраивалась очередь. Несколько раз меня просили поработать на стенде – это были дни трудные, но счастливые.
А.Э. Мильчин многие годы – с конца 50-х и до 2006 года – практически постоянно занимался преподавательской работой: читал лекции о методике редактирования, сначала во Всесоюзном институте повышения квалификации работников печати. Были и перерывы. Директор издательства (в 1979–1987 годах) Владимир Федорович Кравченко попросил «не отвлекаться, а целиком сосредоточиться на работе в издательстве». Через несколько лет А.Э. Мильчин снова начал читать лекции на курсах повышения квалификации, а в конце 1990-х – начале 2000-х годов вел курс основ редактирования в Институте лингвистики РГГУ.
Лекции послужили основой для первого издания книги «Методика и техника редактирования текста» (М., 1972). По предложению Н.М. Сикорского (он был председателем Специализированного совета по защите диссертаций в Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина) Аркадий Эммануилович подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Редакторский анализ текста. Теоретико-методологические основы». Соискатель привлек огромный научный материал, опирался на исследования психологов, психолингвистов, филологов. В диссертации анализировался колоссальный практический материал. Совет проголосовал единогласно. В решении было записано: подготовить на основе исследования монографию. Мне рассказывал ученый секретарь Совета Р.Г. Абдуллин, что соискатель категорически отказался писать монографию, заявив: «Редактирование не наука, а практическая деятельность!» Через несколько лет вышло в свет второе издание «Методики редактирования текста» (М., 1980).
В 60 лет Аркадий Эммануилович оказался пенсионером, уволенным из «Книги» по достижении пенсионного возраста «по собственному желанию». Вот тогда и началась колоссальная творческая жизнь: за четверть века им было подготовлено и опубликовано множество разных и всегда полезных справочных изданий, таких, которыми пользуется сегодня вся наша страна.
Конечно, с годами обострились болезни. Иногда (если не сказать часто) приходилось лечиться в стационаре. Выходить из дома порой было трудно. Только однажды Аркадий Эммануилович пожаловался на жизнь: нужны книги, иногда малотиражные, сборники статей, старые газеты. Он ведь учил нас и поэтому не мог позволить себе дать цитату без полной и абсолютно верной ссылки на источник. Весной 2004 года эту проблему удалось разрешить: А.Э. Мильчину восстановили права персонального абонента Ленинки. В его распоряжении были телефоны отдела газет, диссертаций, других подразделений Библиотеки. Все библиографы были готовы помочь (молодые сначала спрашивали у меня: «А это кто?», а потом, поглядев книги, удивлялись). Мы с Тамарой Александровной помогали «в границах компетентности», отвечая на вопросы о новых стандартах, правилах каталогизации, изменениях в классификационных системах, требованиях к централизованной каталогизации. Иногда Аркадий Эммануилович присылал главы, страницы своих будущих книг на проверку. И никогда не забывал вспоминать в книгах: эти строки благодарности с нашими именами всегда воспринимались как самые почетные награды…
Полка А.Э. Мильчина есть в нашей домашней библиотеке. Это самые ценные, часто используемые в работе книги. Мы ведь редакторы – Тамара Александровна отвечает за Российские правила каталогизации, а я даже по должности – главный редактор Библиотечно-библиографической классификации. Нас «вывел в люди» в этом качестве необыкновенный Аркадий Эммануилович.
М.В. Рац[36] Из нашей переписки с А.Э. Мильчиным
Мы познакомились с Аркадием Эммануиловичем в конце 1970-х годов в связи с подготовкой к изданию в очередном «Альманахе библиофила» моей статьи о С.А. Абрамове и его издательской деятельности. Но это знакомство носило мимолетный характер, А.Э. этот эпизод впоследствии и вспомнить не мог. Зато хорошо запомнилась нам эпопея с изданием в те же годы каталога выставки издательства «Academia»: для меня это была заметная веха в истории моей библиофильской деятельности, а А.Э. в своих воспоминаниях представил этот эпизод как один из характерных примеров издательских безобразий советского времени. [37]
В последующие годы мы встречались время от времени по разным книжным поводам[38], но дружеские отношения сложились у нас много позже, парадоксальным образом уже после моего переезда в Израиль в 2000 году.
В 2002 году «Новое литературное обозрение» выпустило мою книгу «О собирательстве: заметки библиофила», которую я послал А.Э., полагая, что ему это будет интересно. Ответ не заставил себя ждать и сверх ожиданий содержал подробный разбор особенностей издания[39]. Естественно, завязалась переписка, которая дополнялась теперь уже ежегодными встречами при каждом моем приезде в Москву. Визиты на Большую Переяславскую улицу, где жил А.Э., приобрели даже характер некоего ритуала: в последующие годы мы не пропустили ни одной возможности повидаться. Для полноты картины должен добавить, что А.Э. перевалил в это время на девятый десяток.
Не сразу, но довольно быстро я сообразил сохранять нашу переписку в памяти компьютера, так что теперь там хранятся наши письма общим объемом порядка 20–25 а.л. Наиболее интенсивной переписка была в первые годы (2003–2005), когда шло обсуждение моей работы над «Книгой в системе общения» (СПб., 2005; М., 2006) и работы А.Э. по подготовке третьего издания его «Методики редактирования текста» (М., 2005). Потом в 2008 году мы обменивались впечатлениями по поводу готовившихся к отдельному изданию заметок А.Э. об аппарате книги[40]. В остальном это был обмен текущими размышлениями, иногда связанными с теми или иными событиями в книжном мире, новыми изданиями, публикациями и т. п.
Обстоятельства сложились так, что фактически А.Э. стал первым читателем и редактором моей «Книги в системе общения» (далее для краткости КСО). Поскольку общались мы посредством переписки, это оказался тот случай, когда работа редактора зафиксирована, что называется, от А до Я: от обсуждения замысла еще не существующей книги до редактирования указателей в верстке. Я думаю, что именно опыт моей работы с А.Э. как редактором и его попутные замечания о редактировании и на смежные темы представляют наибольший интерес для читателей.
В связи с этим три обстоятельства заслуживают, мне кажется, того, чтобы быть специально отмеченными. Во-первых, это общий стиль работы А.Э как редактора. Я опубликовал, наверное, больше трех сотен работ довольно разнообразной тематики, в том числе дюжину книг и брошюр, регулярно печатался в «Независимой газете», в разных журналах, работал с десятками редакторов. Многие из них правили тексты, что не всегда делало эти тексты лучше. И только двое – Мильчин и Молок – копали в глубину, заставляя автора развивать собственные мысли. В общении с ними рождались новые идеи.
Ключевое слово здесь – общение: собственно, работа А.Э. как редактора состояла не только и не столько в пресловутой «редакторской правке» текста, сколько в диалоге с автором по поводу написанного. Работать с ним было нелегко, хотя он никогда ничего не навязывал, ничего не требовал: все в полувопросительной форме. Вот его формула: «Возможно, я не прав, но постарайтесь убедить меня в этом». Далеко не всегда это было просто: иногда такое предложение ставило меня в тупик. Но чаще приходилось что-то переосмысливать заново, переделывать, менять, потому что Аркадий Эммануилович умел задавать вопросы, которые выявляли проблему или заставляли увидеть ее там, где ты сам ее не заметил.
Второе обстоятельство объясняет особую близость наших с А.Э. интересов, связанных не только с книгой вообще – это чересчур обширная тема, но с особенностями ее создания и употребления. Я имею в виду связь работы «редактора-издателя» (как это называлось сто лет назад), создающего книгу как особый артефакт, с деятельностью библиофилов, именно в этом качестве ее употребляющих.
Писатели не пишут книг: они пишут свои произведения, материализуемые и публикуемые в виде книг. Читатели читают не книги, а эти самые произведения, и лишь немногие из них, обретая интерес к книге как таковой, настолько совершенствуются в своих отношениях с книгой, что начинают воспринимать ее как некую целостность, тот самый артефакт, который создает не писатель, а «редактор-издатель».
За сто лет немало воды утекло, и понятие «редактор-издатель» вышло из употребления. Непрерывное разделение труда берет свое, и, как показал еще М.Н. Куфаев, говорить следует о коллективном авторе книги. Вопрос о том, кто в этом коллективе, включающем наряду с автором публикуемого в книге произведения издателя, редактора, дизайнера, типографа, выполняет организационно-управленческие функции, решается ситуативно. Но за назначение и функциональную структуру будущего издания ответственен редактор, и это дает ему контрольный пакет акций в решении большинства других вопросов книгоделания. Отношение к книге как к целому – вот что при всем их различии объединяет позиции редактора и библиофила.
Наконец, третье – по части наших взглядов на работу редактора. Хочу для начала обратить внимание читателя на саму эту формулировку: она, по-моему, важна для характеристики А.Э. как человека. Действительно, так ли уж часто опытнейший профессионал, посвятивший всю жизнь любимому делу, признанный авторитет в своей области станет обсуждать это свое дело на равных с дилетантом[41]? По-моему, это случай едва ли не уникальный: Мильчину было важно не кто говорит, а что говорится; он относился к мысли, к содержанию сказанного оппонентом. В результате в отличие от обычного «театрального» обмена репликами возникал подлинный диалог, как его понимал Бахтин, диалог, в котором перестраивались и уточнялись наши позиции.
А если уж зашел разговор о человеческих качествах А.Э., то я бы особо выделил его редкостную способность к рефлексии и критической самооценке. Вот характерная для него реплика: отмечая, что я неверно его понял, он спешит добавить «не по Вашей, а по моей вине». Это в наше-то время, когда любое непонимание, как правило, пусть и в неявной форме, влечет за собой обвинение в глупости собеседника, а инакомыслие трактуется не иначе как зловредность. Способность к критической самооценке А.Э. вместе с обязательностью и корректностью, тоже не слишком часто ныне встречающимися, напоминали мне о давно ушедшем поколении наших родителей, чья молодость пришлась еще на годы Серебряного века.
Что касается существа спора о работе редактора, то итоги нашей дискуссии со своей точки зрения А.Э. подвел в третьем издании «Методики редактирования текста» (М., 2005), и я могу гордиться выраженной мне там благодарностью. Свою позицию я сформулировал в статье «Созидательная работа редактора», написанной по ходу нашего разговора (КСО, с. 289–328). А.Э. писал мне 14.03.04: «…окончательный вариант статьи “Созидательная работа редактора” буду изучать, раздваиваясь на редактора сборника и на автора иной концепции редактирования и реагируя как тот и как другой». Споры наши не завершились, да, собственно, и не должны были завершиться. Думаю, что лучшей памятью об А.Э. было бы продолжение дискуссий на эту тему в развитие концепции профессионализма редактора, основы которой он заложил.
Если попытаться схематично выразить суть наших споров, я бы сказал, что речь шла о принципах организации авторского коллектива книги вообще и роли редактора в особенности. А.Э. настаивал на общности задач автора, издателя, редактора, художника, объединяемых общим делом, я же, напротив, на том, что каждый участник имеет/должен иметь собственную профессиональную позицию, причем позиции эти часто приходят в противоречие друг с другом. Поэтому организация коллективной работы каждый раз представляет собой проблему, ответственность за решание которой, по идее, может и должен взять на себя редактор. Редактор защищает в книгоиздании интересы читателя – настаивал А.Э. Редактор призван представлять и отстаивать интересы культуры – говорил я. (Вопрос о миссии редактора так и остался у нас до конца не проясненным: во всяком случае, в своей «Методике…» А.Э. его не артикулировал.)
Конечно, таковы две стороны одной медали, но, как известно, это не снимает остроты споров, за которыми стоит не истина, а проблема. Тем более что каждая позиция предполагает развертывание соответствующей системы понятий и представлений, методов и средств работы. К тому же на практике почти все разумные идеи превращаются в свою противоположность. Чтобы этого не происходило, как раз и нужно постоянное столкновение разных позиций.
Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приведу фрагменты нашей переписки.
Итак, поначалу речь идет о рукописи будущей КСО, над которой я еще только работал. На первом этапе казалось, что основное место в сборнике займет критика и обсуждение «Заметок библиофила»: третья, авторская часть сборника разрасталась по ходу работы.
Далее я привожу по большей части фрагменты писем, представляющие, на мой взгляд, интерес с учетом сказанного выше, опуская для краткости слова приветствия и прощания. Там, где для удобства понимания приходится привести и фрагменты моих писем, я обозначаю их инициалами «МР» после даты, но стараюсь обойтись краткими пояснениями к письмам А.Э.
В качестве эпиграфа к нашей переписке я поставил бы слова К. Поппера, процитированные в одном из писем: «…победа в споре – ничто, в то время как малейшее прояснение какой-либо проблемы или ничтожнейшее продвижение к более ясному пониманию своей или чужой позиции – величайший успех».
16.09.03. АМ. Развернутое предисловие к сборнику [ «КСО»] действительно необходимо хотя бы потому, что это единственное в своем роде издание. Может быть, нужны даже два предисловия. Одно – от председателя Московского клуба библиофилов как инициатора собрания, обсуждавшего книгу, и понявшего, что материалы этого обсуждения важно и нужно сообщить библиофильскому сообществу. Другое – от автора, который бы объяснил читателю, почему такое дополнение он посчитал полезным и необходимым и какие задачи он перед собою ставил, составляя сборник. [42]
Теперь о теоретической книговедческой статье[43]. Я еще раз хочу повторить, что она плохо вписывается в систему сборника и выглядит как измена библиофильству и вообще не имеет отношения к собирательству. <…> Может быть, я ошибаюсь, но тогда переубедите меня. <…>
В любом случае писать эту статью, не погрузившись в содержание аналогичных теоретических статей, опубликованных в сборнике «Книга. Исследование и материалы», не стоит. <…>
Скажу Вам откровенно, что, хотя умом понимаю необходимость всех этих статей, не могу избавиться от ощущения их выморочности и наукообразной слововерти. В то же время они засасывают и заставляют сознание крутиться в установленном ими кругу. Так что читайте, но не поддавайтесь, отталкивайтесь от себя, а не от них, хотя не иметь в виду, что они написаны, тоже нельзя. [44]
17.09.03. АМ. Не терзайтесь, пожалуйста, по поводу моей редакторской работы. Оказалось, что я просто по ней соскучился, и поэтому делаю ее с удовольствием. Тем более что редактировать надо книгу о книге, ибо в данном случае «библиофильство» и «книга» – для меня синонимы, а это ведь то, чем я так или иначе занимался всю жизнь. Да и новая технически форма редактирования весьма привлекательна[45]. Кстати, моя система поправок удобна для Вас? Если лучше что-то модернизировать, сообщите.
<…> Что касается уточнения задачи сборника, то я вот что подумал. Обсуждение Вашей книги и отклики на нее, которые надо понимать как письменное продолжение устного обсуждения, в силу того что в них высказываются возбужденные Вами взгляды на библиофильство, именно этим самым важны для библиофильского сообщества. Значит, собрать их под одной обложкой и дать возможность познакомиться с ними многим библиофилам очень и очень полезно для российского библиофильского движения, и не только для него.
Почему я так зациклился на формулировании задачи? Это должна быть основа для редакторского подхода ко всему в этой книге, и мне важно согласовать эту основу с Вами как автором обсуждаемой книги и составителем сборника.
1.10.03. АМ.…Теперь в заключение о моем редакторстве сборника «Книга в системе общения: вокруг “Заметок библиофила”». Что если нам договориться о таком варианте сотрудничества. Я редактирую сборник, но не значусь в нем как редактор, а Вы где-то пишете, что благодарите меня за то, что я взял на себя труд прочитать рукопись сборника перед сдачей в печать, и за полезные советы, которые помогли улучшить сборник. Это еще и потому лучший вариант, что в тексте Вашем немало похвальных слов (в том числе и чрезмерных) по моему адресу и как официальный редактор я должен был бы настоять на том, чтобы их не было. Для начала Вы могли бы прислать мне развернутое полное содержание сборника. По нему я мог бы судить о компоновке материала.
2.10.03. АМ. Прочитал в расширенной сноске аргументированную критику Немировского и Беловицкой <…> в ней есть одно слабое место[46]. Вы пишете, что их замечания можно списать на требования времени, но затем оговариваете, что, мол, когда они печатались, то это было не так уж обязательно. Это неточно. Книга Беловицкой вышла в 1987 году, а значит, писалась еще раньше. Да и выход книги Мигоня в 1991 году не означает, что она писалась в том же году[47]. Обычно интервал между годом написания и годом опубликования весьма значителен. Хотел я проверить также, точно ли книга Мигоня вышла в 1991 году, но не сумел. У меня этой книги в библиотеке, увы, нет. Перепроверьте, пожалуйста, чтобы не оплошать здесь. Полемика тем и опасна, что требует высочайшей точности в критике.
7.10.03. АМ. Никакого злоупотребления с Вашей стороны моим вниманием я не ощущаю. Мне нравится Ваш замысел, и потому я хочу содействовать его воплощению в жизнь. Ваша рефлексия по поводу библиофильства меня занимает. Не потому, что касается библиофильства (я ведь не библиофил, а лишь сочувствующий), а потому, что я сам склонен к рефлексии. Она касается совсем другой материи – редактирования и работы редактора, что понятно, если учесть мое образование – литературно-редакторское отделение редакционно-издательского факультета Московского полиграфического института – и распространенное отрицательное отношение к редактору как зловредной фигуре почти всех, кто с ним сталкивался.
8.10.03. АМ.…Ваша прикидка в предисловии о моей роли в сборнике меня почти устраивает. На титульное редактирование я согласиться не могу. Титульный редактор – это человек, который идейно руководит всем авторским коллективом, человек, которому принадлежит замысел издания. А я таким человеком не являюсь. Составитель и вдохновитель издания Вы, отчасти, может быть, Московский клуб библиофилов, и не нужно свои заслуги приписывать другому. А вот то, что в тексте Вашей прикидки меня устроить не может. Я не помогал Вам сделать из собранного материала книгу. Я помогал Вам своими замечаниями устранить и смысловые и стилистические неточности. И не благодаря своему редакторскому таланту, а благодаря своему редакторскому умению и опыту. Вот так будет правильно. Вы, может быть, удивитесь моей щепетильности, но таким уж я создан. Мне, конечно, приятно читать о себе хорошие слова, но не хочется преувеличенно хороших.
9.10.03. МР. Должен сказать, что Вы – один из немногих моих корреспондентов, в общении с которыми вспоминается то значение переписки, которое она имела во времена наших дедов и прадедов. А что касается работы редактора, то, на мой взгляд, это очень интересная тема, проработка которой может оказаться существенной для гуманитарной мысли.
Если не ошибаюсь, по опыту работы с Молоком и с Вами работу редактора надо понимать как создание условий и предварительную организацию диалога автора с читателем. <…> Это ведь очень специфический диалог, отличающийся от разговора и переписки тем, что его структура не симметрична. Язык-то, как известно, умнее нас: с одной стороны, есть собеседники, корреспонденты, а с другой – автор и читатель.
23.10.03. МР. Возвращаясь к Вашему письму от 8.10, когда я пишу о таланте редактора, то это не комплимент, а тезис. <…> А именно, я говорю о работе редактора как об особом типе мыследеятельности (надеюсь, Вы уже привыкли к этому неологизму? Он довольно неуклюж эстетически, но лучшего пока никто не предложил), к которому применимо обычное мое деление на редактирование-2 («творчество») и -1 (исполнение своих функций согласно должностной инструкции)[48]. Второй случай (1) отличается выпадением мыслительной составляющей: остается голая деятельность, воспроизводимая по норме. Тогда можно говорить о профессионализме, мастерстве, но о таланте – вряд ли. В Вашем же отношении к тексту всегда чувствуется мысль. (Помните, Вы мне писали недавно, что последнюю мою статью дочитывали механически, и это Вас явно не удовлетворяло.) Поэтому мне так хорошо с Вами работается.
1.11.03. АМ.…порой мне в голову лезла крамольная мысль. Коль скоро я упрекал Вас в некоторой усложненности какой-то из статей, то вправе ли я был это делать, не попытавшись литературной правкой упростить изложение, сделать его более доступным не привыкшему к научным текстам читателю, не показав Вам на примерах, как это можно было бы сделать. «Не облегчаю ли я себе редакторскую жизнь и работу?» – задавал я сам себе вопрос. Тем более что моя сила и слабость как редактора состоит как раз в том, что я очень легко проникаюсь мыслями и стилем автора, быстро становлюсь его единомышленником, и это снижает мою критичность, из-за чего не все нуждающееся в поправках оказывается исправленным. Можно сказать, что я соглашатель. Не раз моя жена, тоже редактор, читая за мной тексты, которые я редактировал, указывала на не замеченные мною погрешности. Это повергало меня в уныние, но ничего не изменяло в дальнейшей редакторской работе. Натура сильнее разума.
8.11.03. АМ.…Что касается Вашего вопроса, стоит или не стоит «бросить такой хулиганский тезис» о том, что гуманитарные науки не науки, а нечто иное, то уверенности в том, что это ляжет в книгу уместно и гармонично, не испытываю, хотя мне лично эти Ваши соображения очень дороги и интересны. И вот почему. Когда я начал задумываться о том, что такое редактирование как предмет, учебная дисциплина, мне это нужно было, чтобы осмыслить собственную работу и точнее определить, чему и как я должен учить слушателей курсов и факультета повышения квалификации. Тем более что в Полиграфическом институте эта дисциплина странно называлась «Теория и практика редактирования», хотя в учебнике с таким же названием трудно было обнаружить и то, и другое. Я в конце концов посчитал, что предмет «редактирование» – предмет чисто практический, методика деятельности. Но, с другой стороны, не мог не понимать, что без каких-то теоретических основ этой работы ничего руководящего слушателям дать не сможешь. Как искусство редактирование почти целиком зависит от исполнителя. И все же что-то вроде руководящей звезды ему необходимо, чтобы меньше совершать ошибок и лучше творить свое искусство, поскольку научить искусству, вообще-то говоря, нельзя.
Но т. н. теорию и практику редактирования всерьез считали одной из наук, входящих в книговедение. А я еще и собрался диссертацию писать и защищать, выбрав темой «Теоретико-методические основы редакторского анализа». Но я что-то расписался. Кандидатскую я защитил в 1977 г., но думать иначе не стал, хотя и в ней своим мыслям не изменил. Так вот такая «наука», как редактирование, хорошо вписывается в Вашу концепцию, хотя Вы больше оперируете серьезными гуманитарными науками, а может быть, точнее, дисциплинами. Сначала я очень удивился, когда Вы вывели методологию за пределы наук. А теперь Вы и философию отправляете туда же. Впрочем, это последовательно: ведь методологию, вероятно, следует отнести к комплексу философских дисциплин. Или я ошибаюсь?
<…> Вы спрашиваете, есть ли хорошие книги о редактировании. Это ставит меня в неловкое положение. Хороших нет. Но я был бы рад, если бы познакомились с моей книгой «Методика редактирования текста» (2-е изд. М., 1980), в 1-м издании «Методика и техника редактирования текста» (М., 1972). Не потому, что я считаю ее хорошей. Как раз у меня очень много к ней претензий. Во многом, когда я ее писал, я пошел по пути компромиссов. Основная претензия у меня к ней, что ее главы, которые рассматривают анализ и оценку разных сторон редактируемого произведения, не растут из одной точки, а построены по-разному, исходя из собранного мною материала, а не из какой-то ясной концепции. Т. е. я строил материал, а не подбирал материал под идею. Это свидетельствует о том, что я не нашел единого корня для развития представлений о работе редактора над различными сторонами произведения.
Еще одна претензия – налет идеологического, т. н. классового подхода, без чего ее нечего было пытаться издать, хоть он и невелик, но все же присутствует. Да и рецензент, редактор Политиздата, заострил на этом внимание, посчитал, что я недостаточно развил ленинский, партийный подход, но, слава Богу, Госкомиздат, который должен был дать издательству разрешение на выпуск книги ее работника, да еще главного редактора, отнесся к этому формально и ни на чем не стал настаивать. Тем более что общий вывод рецензента был весьма положительным.
Как раз в научной стороне этой книги, в ее методологии, я совсем не уверен, а практическая ее польза несомненна и проверена временем. Читатели (среди них медики, экономисты и другие сочинители деловых текстов) писали мне благодарственные письма по той причине, что моя книга помогала им писать статьи и книги лучше, чем они это делали ранее. То, что должны были анализировать и оценивать редакторы, одновременно было тем, что полезно знать пишущим. Ведь этому действительно никто не учит. А я к тому же старался быть очень прагматичным. Тем не менее получается, что я считаю возможным рекомендовать Вам свою книгу, когда Вы просите порекомендовать хорошую книгу о редактировании, а я считаю ее такой лишь частично.
<…> Недавно вышел учебник для вузов С.Г. Антоновой и других «Редактирование: общий курс» (М., 1999). Это настоящая профанация дисциплины. Фурсенко [49] просил меня написать на нее рецензию. Я когда познакомился с нею, сказал, что рецензия моя не может быть положительной. Он посоветовался с директором Книжной палаты Ленским (он же гл. редактор «Книги»), и тот сказал, что он не против публикации под грифом «В порядке обсуждения». Я написал, и она была опубликована в сопровождении положительной рецензии ленинградского преподавателя Н.П. Лаврова, которая должна была нивелировать плохое впечатление читателей от моей рецензии. Не думаю, что это получится на практике, потому что Лавров не опровергает ни одного из моих замечаний, а рассуждает абстрактно о том, что такие учебники нужны. Беда в том, что если учебник таков, то, значит, и уровень преподавания такой же.
Однако не следует думать, что мы с А.Э. обсуждали только такие общие вопросы. Редакторская работа над текстом (по мере его написания) шла своим ходом. Для А.Э. не было мелочей. Вот, например, как он отреагировал на мою квалификацию слова «издательство» как отглагольного существительного.
4.01.04. АМ. Является ли слово издательство отглагольным существительным? Если судить по «Словарю-справочнику лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой (2-е изд. М., 1976), то и да, и нет. Цитирую определения:
Общее: «Слова разных частей речи, образованные от глагольной основы».
Определение отглагольных существительных: «Существительные, образованные от глагольных основ и обозначающие опредмеченное действие (состояние, процесс), т. е. представляющие его в отвлеченном смысле». Далее следует перечень способов образования отглагольных существительных:
«а) безаффиксным способом словообразования: ввоз, вывоз, заплыв и т. д.;
б) суффиксальным способом словообразования: с суффиксами —ани-е, – ени-е: барахтанье, бурение и т. д. (слова издание в перечне примеров нет, но оно сюда подходит); с суффиксами – ти-е (ть-е): бритье, вздутие, взятие и т. д.; с суффиксом – к-а: варка, вклейка, возка и т. д.; с суффиксом – ёж-: грабеж, платеж и т. д.; с суффиксом – ёжк-а: бомбежка, кормежка, зубрежка и т. д.; с суффиксом – б-а: молотьба, пальба, резьба и т. д.» (с. 260, 261).
Вот и судите. По общему определению у Вас все правильно. Но определение отглагольных существительных вселяет сомнение: а) способа образования с таким суффиксом нет; б) считать, что слово издательство обозначает опредмеченное действие, трудновато. Пытался вспомнить аналогичным образом образованные слова (с суффиксом – ство от глагола, но что-то не сумел подобрать, хотя, наверно, это можно сделать; например: глушительство – от глушить, издевательство – от издеваться), но на уровне моего ощущения примеры далеки не аналогичны. Что-то мешает мне воспринимать слово издательство как обозначающее опредмеченное действие: Он занялся издательством (не изданием).
Так что решайте сами. Если Вам очень нужна именно такая, грамматическая характеристика слова издательство, то оставьте все, как у Вас было. Если можно без этой характеристики обойтись, снимите ее. Сокращение многие редакторы считают лучшим способом устранить сомнение и неуверенность. Выбросил, и вопрос снимается.
А вот еще, кстати, показательное обсуждение слова «обеспечить».
30.01.04. АМ. О злоупотреблении словом «обеспечивается» поговорю особо. Санкции никакой Вам дать не могу по следующим причинам. Конечно, глагол «обеспечивает» в своем полном значении не хуже других, но беда в том, что в деловых текстах (особенно в научно-технической литературе, канцелярских документах и др.) он превратился в полузнаменательный глагол-связку, к которому прибегают при расщеплении сказуемого, которое свойственно канцелярскому стилю речи и лишь без нужды усложняет текст. Во многих случаях глагол этот засоряет текст, а без него текст ничего не теряет, только приобретает простоту и бо`льшую ясность.
Вот характерный пример из технической статьи:
«Для получения требуемого качества записи печатных форм необходимо обеспечить точную фокусировку лазерного луча в точке его падения на поверхность формной пластины».
Убираю лишние слова «получения» и «обеспечить»:
«Для требуемого качества записи печатных форм необходима точная фокусировка лазерного луча в точке его падения на поверхность формной пластины».
Разве текст от этого не стал короче и проще?
В рецензии на учебник «Редактирование: Общий курс» (опубликован в сб. «Книга. Исслед. и материалы» [2000, сб. 79]) я привел ряд примеров злоупотребления глаголом «обеспечивает», что недопустимо для тех, кто обучает редакторов <…>
Не буду продолжать, хотя у меня выписаны еще несколько таких же или еще худших пассажей с глаголом «обеспечивается».
Надеюсь, что мои примеры и доводы поколеблют Ваше пристрастие к этому глаголу, и Вы будете более осмотрительно прибегать к нему.
31.01.04. МР. По поводу «обеспечения» Ваши резоны я понимаю и принимаю. Примеры бессмысленного употребления слова обеспечение достаточно убедительны. Но, если идти таким путем, придется выкинуть из русского языка половину его лексики. Слово-то прекрасное: о-бес-печить: я так понимаю, что оградить от печали. И спрашиваю, каким словом воспользоваться, если мне надо не просто «добиваться», а «добиваться заранее, постоянно и с полной ответственностью», и уж тем более не «создавать условия», как Вы пишете в другом месте, а «создавать и поддерживать не только условия, но и все остальное (например, источники ресурсов), что необходимо для…»?
Кстати, альтернативный «выбрасыванию» слов из языка метод предлагал в свое время Шкловский: остранить затасканное и замызганное слово. Можно, например, написать его с дефисами, намекая на этимологию (как выше).
20.01.04. АМ.…Вы написали сложнейшую статью[50], сложнейшую и по материалу, и по восприятию для читателя. Не могу сказать, что Вам статья не удалась. Но она плохо вписывается в сборник. Не по теме, а по сложности материала, рассчитанного на другого читателя, чем основной читатель сборника. Впрочем, Вам теперь, может быть, удастся переложить все написанное в расчете на понимание и на интерес именно читателя-библиофила. Все же большинство читателей этой категории не интеллектуалы, привыкшие к чтению философской и подобной литературы. Вы в своей статье беседуете как раз с интеллектуалами о близких материях. Сдается мне, что при переложении надо подумать и о композиции статьи. План ее читателю нужно все время видеть, а этого, пожалуй, не происходит. Привязка к библиофильским проблемам пока слабая, а это ведь вещь для сборника обязательная. Не так ли?
Задним умом я все же чувствую некоторую неловкость, так как, спеша познакомиться с Вашей статьей, читал ее только один раз и на экране монитора, а это не лучшие условия для точной оценки. Тут возможны ошибки. Во всяком случае, первые впечатления мои таковы. И Вы уж сами решайте, как к ним отнестись.
За отсутствием места здесь невозможно даже фрагментарно воспроизвести всю нашу переписку, посвященную работе редактора. Вот несколько характерных отрывков. Работа над текстом моей статьи о «Созидательной работе редактора» непосредственно перетекла в обсуждение текста самого А.Э., готовившегося для третьего издания его «Методики редактирования текста» (М., 2005).
13.02.04. МР. Признаться, Ваше последнее письмо меня расстроило. Я не рассматривал нашу переписку как «производственные отношения» автора и редактора, но, может быть, бессознательно, придав делу такой поворот, Вы заставляете меня снова рефлектировать. <…> Говоря о производственных отношениях, я имею в виду, что они (по понятию) суть отношения кооперативные; отношения, если вспомнить Фромма, по принципу обладания, а не бытия[51]. В случае автора и редактора они соответственно строятся как обмен монологами.
Но наша переписка мне кажется многослойной и диалогической. Многослойной в том смысле, что под слоем отношений автор – редактор, который, конечно, же присутствует, лежит для меня совсем другой слой, – отношений скорее соавторов (так или иначе, равноправных корреспондентов). «Соавторство» здесь, конечно, необычное, но ситуация диалога вполне типичная: у каждого из нас свои цели – Вы готовите переиздание «Методики…», я пишу статьи для «КСО», – но при этом у нас есть общий интерес: выстроить свои представления о профессии редактора. Именно наличие общих интересов (общей рамки) при различии целей – это в моем понимании идеальные условия диалога. Но я вижу в нашей переписке еще и третий слой – человеческих, дружеских, если позволите, отношений, который мне важен сам по себе, безотносительно к содержанию обсуждения.
<…> Рассматривать такие отношения как производственные, на мой взгляд, трудно. Производственные отношения в принципе не могут быть диалогичными. Если не бояться высоких слов, я бы сказал, что у нас это творческий союз, в рамках (и посредством) которого не просто воспроизводится – по известным схемам и нормам – кооперация автора с редактором, а развивается «коллективная мыследеятельность» (есть в методологии такой термин). Ее продуктами и будут наши публикации. И если мы при этом в чем-то разойдемся – тоже неплохо: читателям придется самим разбираться.
Если теперь вернуться к содержанию нашего обсуждения, то для меня вопрос будет ставиться примерно так: каким образом следует представлять себе отношения автора с редактором (а, насколько это возможно, обобщенно – участников издательского процесса), чтобы создать условия для развертывания коллективной мыследеятельности? При этом еще надо учитывать сильное ограничение: если и пока таковая не возникает (а это, как Вы понимаете, как раз и есть массовый случай), предлагаемое представление должно обеспечивать «нормальную» работу коллектива, т. е. издательский процесс должен воспроизводиться и идти по нормам пусть и не творческой, но культурной производственной деятельности. Туда бы он у нас и пошел, если бы я согласился выступать в роли автора, предоставив Вам быть только редактором.
Я стараюсь сформировать представления о профессии редактора, удовлетворяющие изложенным требованиям. И, обратите внимание, без Вас даже не взялся бы за такую работу. И если бы не было Ваших ранее написанных и изданных книг, то вряд ли бы мы добрались теперь до того места в развертывании темы, где мы находимся. При этом я еще понимаю, что работа такого рода в принципе бесконечна. Т. е. Вы уже свой вклад внесли раньше, а теперь ситуация изменилась, и мы с Вами, если повезет, можем внести в нее свой вклад, сообразный текущей социокультурной ситуации. Но ситуация «уйдет», а история-то будет идти своим ходом дальше. Другие люди продолжат эту работу, может, и про нас вспомнят…
Вот, облегчил душу и надеюсь, что Вам тоже настроение не испортил.
14.02.04. АМ. Теперь моя очередь выражать огорчение тем, что огорчил Вас, потому что, как и Вы ко мне, так и я к Вам испытываю самые дружеские чувства. Как и Вы, так и я считаю большой удачей для себя наше сотрудничество и особенно Ваш интерес к кровным для меня проблемам редактирования. <…> Вы заставили меня искать дополнительные аргументы в защиту моих представлений о редактировании, помогли увидеть некоторые слабости, т. е. оказали большую помощь, независимо от того, готовил ли бы я новое издание «Методики…» или нет. А наша переписка сегодня для меня – источник интеллектуального удовольствия. Да и, не буду скрывать, все мои эпистолярные друзья прошлых лет ушли в мир иной, и мне не с кем сегодня делиться своими мыслями и соображениями профессионального характера. Так что, пожалуйста, продолжим наш диалог на пользу обоих и забудем огорчения.
Я был не прав, предложив закончить обсуждение наших разных представлений о редактировании. Сделал я это лишь потому, что мне показалось, что мы начинаем повторяться. И еще один нюанс. Как редактор Вашей статьи о редактировании я считал необходимым ограничить себя в ее критике, так как это не должно входить в мою задачу. Я не должен доказывать Вам, что Вы в чем-то ошибаетесь, только потому, что придерживаюсь другой точки зрения. Я могу и обязан по-дружески только обозначить некоторые слабости Вашей позиции, если могу их разглядеть, чтобы Вы могли эти слабости устранить. Не более того. Вот мне и показалось, что я начал выходить за дозволенные мне рамки.
Еще никто до Вас не читал мою «Методику…» так вдумчиво, серьезно и с внутренним интересом. А как это дорого для автора, Вы, как автор, должны хорошо понимать. На этом, пожалуй, кончу. И жду продолжения нашего диалога о старых и новых темах.
28.07.04. АМ. Перечитывая текст своих «теоретических» глав, чтобы устранить те оплошности, на которые Вы мне указали, я все более убеждаюсь, что моя «теория» редактирования и редакторского анализа – это выдумка, а не серьезно выверенное аналитическое построение. В ней что-то все же есть, но она слабость моей книги и при всех поправках ею останется. Сила моей книги, а в ней сила есть (без лишней скромности это признаю) – в практической направленности, в прагматике. Это оправдывает то, что я занимаюсь ее подготовкой к переизданию, и даже Вас приобщил к этому делу, хотя и не по моему почину, а из-за Вашего методологического интереса к редактированию как деятельности. Что же касается теоретической части, то, может быть, она побудит к размышлению будущих теоретиков редактирования, послужит для них платформой и, отвергая ее, они предложат нечто более вразумительное.
28.07.04. МР. Вы напрасно так уничижительно отзываетесь о первых главах своей «Методики». Мне кажется, что если не упоминать слова теория, то все становится на свои места, а текст Ваш вполне содержателен. Зачем ему быть теорией, когда теория здесь, в сущности, не нужна или даже невозможна. У любой деятельности есть собственное содержание, которое требует экспликации, но сама деятельность при этом не может стать предметом теории естественно-научного типа. Другой же тип теории пока только разрабатывается и еще не стал достоянием культуры.
31.07.04. АМ. Я уже стал полным сторонником Вашей точки зрения на миссию редактора, т. е. что автор создает произведение, а книжный редактор – книгу, что его миссия защищать культуру книги и все в ней. Но дьявол тут же задал мне каверзный вопрос: А каковы побудительные силы для такого поведения и такой работы редактора? Почему он будет это делать? Не проще ли ему быть воплощенной функцией а ля Слуцкий? Что его заставит сегодня? По размышлении я пришел к выводу, что если не общественные идеалы, то, может быть, любовь к книге как элементу современной культуры. Я приписывал необходимость высоких общественных мотивов для успеха в редактировании текста потому, что сам видел, как углубляет мое зрение именно та сверхзадача, которую я ставил перед собой – снабдить нужными для работы книгами издательских работников вообще и редакторов в частности. Тут было удачное совпадение тематической области и личных интересов. На такой основе и общий интерес к тому, чтобы книга не только содержанием, но и всем остальным удовлетворяла читателя, углублялся, заставлял изучать книжный организм. Нужно сказать, что к тому же я был подвержен сильному влиянию советской коммунистической пропаганды и всерьез воспринимал внешний антураж значимости общественных интересов, и они были для меня очень важным стимулом для работы. Сегодня всё иначе, но что-то должно вдохновлять редактора и двигать им, чтобы он сделал все для создания прекрасной книги. Что Вы думаете по этому поводу?
И еще когда-то в одном письме на мой вопрос о диалоге как заботе редактора Вы написали, что ответите, но позже. Если у Вас найдется для этого время, то покажите это на самом элементарном примере. У меня есть смутные догадки, но они очень смутные, а так как мыслитель я никакой, то Ваша подсказка помогла бы мне обогатить текст «Методики редактирования текста».
<…> Если культура книги снова и снова выносится на обсуждение, то, значит, организаторы семинаров, круглых столов и конференций озабочены ее состоянием, но улучшить его нельзя разговорами и стенаниями, для этого нужно что-то делать. Предложения мои были изложены в тезисах для книговедческой конференции, но одного не было. Надоумили на него меня Вы. А именно, что для роста профессионалов среди книжных редакторов нужно создать их лигу или ассоциацию. Она по сути своего предназначения будет среди прочего заниматься и тем, что необходимо делать для развития и подъема культуры книги и издания.
1.08.04. МР. Что же заставляет людей (в т. ч. и редакторов) работать не за страх, а за совесть? Индивидуально – все, что угодно: одного любовь и интерес к делу, другого – честолюбие, третьего жена подзуживает. В плане же общественно (и культурно) значимом Вы сами отвечаете на этот вопрос в другой части письма и в другом контексте: для роста профессионалов среди книжных редакторов нужно создать их лигу или ассоциацию. Она по сути своего предназначения будет среди прочего заниматься и тем, что необходимо делать для развития и подъема культуры книги и издания. Или, добавил бы я, сохранения здоровья людей и подъема медицины, если речь идет о врачах, но, что более важно, так же для развития профессии – в нашем случае – редактора, сохранения и обогащения профессиональной редакторской культуры. Во всем этом, т. е. в несении ответственности за качество продуктов своего труда, профессиональную культуру и миссию, и состоит назначение любого профессионального сообщества (в отличие от профсоюза).
<…> По поводу диалога сегодня я бы отвечал так. <…> Для книги характерно ее употребление не как источника информации и т. п., а как «инструмента для производства собственных мыслей» (У. Эко). Но таким образом книга может употребляться только в режиме диалога, который приходится понимать не как обмен репликами, а как сложную «двух-трехэтажную» систему коллективной мыследеятельности (см. «Коммуникация, общение, диалог»). В этом контексте чтение предстает необычным образом: оно выступает как коллективное занятие, в котором задействованы не только автор (произведения) и читатель, но еще целый ряд других позиций, связанных с созданием книги, с одной стороны, и с референтной группой читателя – с другой. (На будущее: здесь, наверное, уместно говорить об авторской и читательской группах.) В связи с этим, а так же потому, что книги часто читаются совсем не там и не тогда, где и когда пишутся (и даже издаются), возникает проблема понимания (совершенно, заметьте, не характерная для СМИ). Это очень интересный тематический узел, где сходятся вместе вопросы герменевтики, «речезнания» [в отличие от языкознания], «теорий» чтения и книговедения, каким мы его с Вами обсуждаем, т. е. не науки, а области мысли, посвященной книге.
Вот в этом интеллектуальном бульоне и сформировалась профессия редактора. Но «бульон» этот не отрефлектирован и не структурирован, здесь пока господствуют «превращенные формы» наподобие разных наук и теорий, совершенно здесь неуместных.
<…> Ключевая мысль всего сказанного видится мне в тезисе о принципиальной коллективности чтения как особого рода практики. Давно утерянная традиция старого семейного чтения была, возможно, порождающей для феномена русской интеллигенции.
Спасибо за Ваши вопросы и извините за невнятность ответов. Я постараюсь исправиться.
В.Т. Кабанов[52] Из прошлого
Издательство «Книга» находилось в непосредственном ведении Госкомиздата по двум обстоятельствам: во-первых, оно издавало «ведомственную литературу», то есть всяческие серийные брошюрки по вопросам издательского дела, полиграфии и книжной торговли, а во-вторых, выпускало все информационные издания, подготовленные Всесоюзной книжной палатой, включая каталожные карточки для библиотек. Такое было скромное рабочее издательство. Но это изначально. Пока не стал директором Владимир Федорович Кравченко. Он прибыл на эту должность из Молдавии и со всею бешеной энергией провинциала стал превращать рабочее издательство в элитное-столичное. Создал редакцию миниатюрных и малоформатных изданий, редакцию искусства книги, редакцию факсимильных изданий… Он как бы расширял и расцвечивал ведомственные рамки, а на самом деле всем новым редакциям отдавал приоритеты, обрекая старые, «рабочие», на третьестепенность и в тайне мечтая вообще от них уж как-нибудь избавиться.
Каждая вновь возникшая редакция самим своим существованием все глубже задвигала в тень ведомственные. Изящные малоформатные издания легко затмевали полезные брошюрки, а редакция художественной литературы с ее серией «Писатели о писателях» более всего прославила издательство «Книга» и постоянно занимала первое место в соцсоревновании, что отражалось на размере квартальных премий.
Владимир Федорович безудержно расширял репертуарные рамки своего издательства, сам подчеркнуто оставаясь в рамках служителя интересов Госкомиздата. Он хорошо знал правила и строго их соблюдал. Характерный штрих: узнав о том, что у меня есть рукопись книги моей об Алексее Константиновиче Толстом, Кравченко сказал:
– Это прекрасно. Но, к сожалению, Вячеслав Трофимович не член Союза писателей, а значит, не подходит для серии «Писатели о писателях». Алексей Толстой, конечно, писатель, а Вячеслав Трофимович – нет.
Когда меня приговорили к издательству «Книга»[53], я ничего этого еще не знал и не подозревал, куда меня закинула судьба. Да ведь и те, кто меня сюда закинул, тоже ни о чем таком не подозревали. Они все думали, что это ихнее ведомство и что они у руля, а между тем хитроумный Кравченко потихонечку прибирал к своим натруженным рукам эту министерскую структуру и кропотливо делал из нее лучшее в мире издательство.
Все внешние его сношения снизу вверх легко, изящно и красиво решались с помощью великолепных и по тогдашним меркам очень дорогих образцов его продукции – миниатюрных и малоформатных книжечек.
Ему, конечно, чрезвычайно повезло в двух обстоятельствах: главным редактором издательства был Аркадий Эммануилович Мильчин, а главным художником – Аркадий Троянкер. Кравченко очень не любил и того и другого, чуя их интеллектуальное и профессиональное превосходство, но как человек практический обоих не только терпел, но берег, зная, что эта пара гнедых пока что тянет его телегу в светлое завтра.
Да, Аркадий Эммануилович поистине явился мне как бог книгоиздания! Он знал про книгу все, что можно знать об этом предмете, разнообразном и непостижимом, как Вселенная. Он знал, что даже прекрасно написанная книга в процессе небрежной подготовки ее к печати (или пущенная в печать вообще без подготовки) готова утерять, утратить или сделать труднодоступными для читателя многие свои смыслы. Аркадий Эммануилович – искуснейший настройщик книги, этого изумительного инструмента, без верной настройки которого ни автору не дано сыграть все тонкости своей мелодии, ни читателю их уловить.
Лучшие книговеды Москвы (и не только Москвы), историки книги, литературоведы, историки литературы, прозаики и даже поэты приходили к Мильчину в кабинет, хорошо уже зная, что разговор с главным редактором будет с его стороны доброжелательным, но и требовательным и всегда с полным пониманием всех профессиональных тонкостей обсуждаемой темы. В самом же издательстве редакторы говорили с Аркадием Эммануиловичем на родном редакторском языке, полиграфисты – на полиграфическом, экономисты – на экономическом, а корректоры – на своем, художники – на своем. Лишь администраторский язык был Мильчину в тягость. Язык же книги – во всех его аспектах – был для Аркадия Эммануиловича язык природный.
Главный редактор сразу понял, что практикой издательского дела я, конечно, не владею, вообще ее не знаю, но это его не смущало. Он почувствовал, что я не пропащий. Я приглашался к нему в кабинет, как только кто-то приходил с какой-либо проблемой, слушал, внимал и получал необходимые растолкования и пояснения. И стало мне понятно, что я – вне конкурса и без экзаменов – поступил по случаю в самую высшую школу книгоиздательского дела при очень к тому же приличной не стипендии, а зарплате.
Но мне по разным обстоятельствам необходимо было кинуться в отпуск, я уехал в Геленджик, а когда вернулся и радостно влетел в кабинет своего главного редактора, Аркадий Эммануилович, стараясь удержать на ровной ноте голос, произнес ужасную фразу:
– А я сегодня работаю последний день. Меня отправляют на пенсию…
А.С. Красникова[54] Глубокоуважаемый и дорогой
* * *
Моим первым местом работы, связанным с редактированием, была компания, которая делала сайты и придумывала рекламу. И в первый же день мне там выдали книгу – увесистый черный кирпич – с такими примерно словами: «Вот тебе библия редактора». Это, конечно, был «Справочник издателя и автора», и называли его все, конечно, никаким на справочником, а просто «мильчиным»: «Загляни в мильчина, что он говорит? Одолжи мне мильчина, своего не могу найти».
Так я, как и многие редакторы, впервые познакомилась с Аркадием Эммануиловичем Мильчиным, точнее, с его самой известной книгой. Его справочник и сейчас остается наиболее авторитетным в издательско-редакторской области, последнее его издание вышло в 2014 году, вскоре после смерти А.Э.
Еще об Аркадии Эммануиловиче говорили так: «Мильчин – патриарх редактирования». Он виделся нам – мне и моим коллегам (все мы, филологи, лингвисты, историки, занялись редактированием, не получив профессионального редакторского образования) – главным и чуть ли не единственным авторитетом, этаким Монбланом на почти равнинной местности. Интересно, что А.Э., размышляя о своей роли в истории книгоиздания и редактирования, тоже использовал метафору, связанную с рельефом, но совсем другую: «Таких [как я] немало. Это не более холмика на ровном месте» (с. 534 наст. изд.).
* * *
Я работала, продолжая учиться в университете, на факультете теоретической и прикладной лингвистики (ТиПЛ) в РГГУ. И вот очередной осенью (кажется, это был 2000 или 2001 год) обнаружилось, что великий Мильчин будет вести у нас небольшой спецкурс. Его пригласил заведующий кафедрой ТиПЛ Сергей Иосифович Гиндин.
А.Э. и на вид был Главным Редактором. Приходил на занятия с толстым потрепанным портфелем, из которого доставал старые желтые листы с конспектами, записями и выписками, какие-то газетные вырезки. Говорил он размеренно, книжно – будто читал. В своей тщательности, дотошности и стремлении ничего не упустить А.Э. часто проговаривал то, что более «быстрые» лекторы могли бы и проглотить. Он казался человеком-книгой, человеком на пьедестале. При этом каждый раз, когда ты задавал ему вопрос, оказывалось, что никакого пьедестала нет: А.Э. всегда тебя слышал, понимал суть вопроса и отвечал подробно и искренне. Было интересно.
Однажды А.Э. пришел с третьим изданием своей «Методики редактирования текста» и сказал, что раз вышел учебник, он не станет тратить время в аудитории на теорию: читать мы можем и дома, а на уроках будем заниматься практикой.
Студентов к нему на лекции и семинары обычно ходило не очень много. Думаю, многие лингвисты просто не понимали, что у них есть возможность поучиться у звезды такого масштаба. Кто-то совсем не собирался заниматься редактированием, а кто-то выбирал спецкурс, исходя из того, что проще сдавать. Считалось, что А.Э. сдавать очень трудно, потому что он все оценивает предельно честно, и те, кто получал у него пятерку, страшно гордились. Потом, через несколько лет, А.Э. рассказал мне, что на экзамене всем делал поблажки и, на его взгляд, раздавал студентам хорошие оценки чуть ли не за просто так.
Через несколько лет А.Э., видимо, устал от преподавания и ушел из РГГУ. Вскоре после его ухода меня попросили вести вместо него тот самый курс редактирования – он назывался «Лингвистические основы редактирования текстов». С тех пор я уже около десяти лет веду курсы по теории и практике редактирования, видела много разных учебников и учебных пособий, а «Методику» Мильчина перечитала раз двадцать. И, на мой взгляд, она до сих пор остается лучшим, что выходило у нас на эту тему, одним из немногих учебников, которыми можно пользоваться осмысленно.
* * *
Новый виток нашего знакомства начался через несколько лет после того, как А.Э. перестал преподавать. В 2009 году я разговаривала с Катериной Андреевой, которая работала в Студии Лебедева – дизайнерском бюро, незадолго до нашей встречи выпустившем новое издание «Справочника». Тогда я и узнала, что у А.Э. есть огромная коллекция вырезок и выписок о редактировании и Студия Лебедева собирается сделать сайт, на который выложат эту коллекцию целиком. Я тогда работала в издательстве «Новое литературное обозрение» и сразу захотела сделать из этой коллекции книгу. И написала А.Э. письмо по электронной почте.
А.Э. в то время было за 80, ящик на gmail.com он завел себе незадолго до начала нашей переписки, но уже вовсю пользовался электронной почтой. Помню, сначала меня очень удивило, что пожилой человек так хорошо и быстро освоил компьютер. А вскоре стало очевидно, что А.Э. вообще обладает потрясающе деятельной натурой и живым неленивым умом: он ничего не делал для галочки, всегда готов был подумать, вникнуть во все детали и освоить новое, если нужно для дела.
На мое предложение сделать книгу А.Э. откликнулся не сразу: некоторое время он сомневался, получится ли сократить огромную коллекцию до объема одного, пусть толстого тома, а потом все-таки согласился.
Так мы начали вместе работать. Сначала над антологией «О редактировании и редакторах», для которой А.Э. выбрал лучшее из своего собрания. Это была непростая работа, которая заняла почти два года, но в результате, на мой взгляд, вышла отличная книга – она получила премию «Книга года 2011». На моем экземпляре А.Э. сделал такую дарственную надпись:
Дорогая Анна Сергеевна! Без Вас эта книга никогда бы не состоялась.
Бесконечно благодарный Вам составитель, желающий Вам всяческих успехов и удач и на редакторской стезе, и на преподавательском поприще.
Последней книгой, которую выпустил А.Э., стал сборник его статей и заметок «Как надо и как не надо делать книги», над которой я тоже работала как редактор (Новое литературное обозрение, 2013).
* * *
Мне кажется, что за время нашей работы, с 2009 по 2014 год, мы с А.Э. подружились. Переписываться мы начинали с формального «глубокоуважаемый», потом перешли на нейтральное «уважаемый», а потом на «дорогой». И все это время меня снова и снова поражали в А.Э. несколько качеств. Во-первых, его работоспособность: А.Э. был человек невероятно энергичный, свои тексты, например, он переделывал с такой скоростью, что я не успевала редактировать все версии. Во-вторых, простота и скромность: патриарх редактирования, А.Э. никогда не возвышался над собеседником, часто спрашивал его мнения, да и вообще не стремился утвердить свою точку зрения, просто искал хорошее решение в каждом конкретном случае. И в-третьих, доброта и щедрость: А.Э. всегда был очень открытым в общении, очень честным, без тени лукавства. Он искренне любил свое дело и был готов поделиться всем, что знал (а знал он все), объяснить свой ход мысли.
Вот это удивительное сочетание огромной, важной работы и больших идей с невероятной простотой, добротой и открытостью делало Аркадия Эммануиловича для меня, да и для многих вокруг, ориентиром не только в профессии, но и в жизни. Знать его было большим счастьем, он подарил и продолжает дарить мне очень многое.
Фотографии
С дедушкой с материнской стороны, родителями и старшим братом
Мама Мария Львовна с сестрами Евгенией Львовной (слева) и Анной Львовной (справа)
С женой Ниной
Со школьными друзьями Владимиром Семеновичем Браиловским и Юрием Самойловичем Лейтесом
Сотрудник издательства «Искусство»
На демонстрации с коллегами из «Искусства»
На отдыхе
В издательстве «Книга»
В «Книге» с Т.В. Громовой
В «Книге» на праздновании своего 60-летия (1984)
На праздновании 60-летия; слева сидит В.Ф. Кравченко, справа стоит Ю.А. Молок
На праздновании 60-летия; юбиляра поздравляет В.А. Маркус
На пенсии; дома с женой, дочерью и внуком
На пенсии; дома с кошкой Пусей
Дома в 2011 году
Дома с «дипломом» тюменских студентов-редакторов «Спасибо Вам за наше счастливое редакторское детство!»
Примечания
1
По этим письмам был составлен многостраничный труд, который папа назвал: «Жизнь обыкновенного необыкновенного человека Олега Вадимовича Рисса, воссозданная по его письмам и воспоминаниям А. Мильчиным»; благодаря редактору Студии Артемия Лебедева Катерине Андреевой, которой я искренне признательна за помощь, этот труд теперь можно прочесть в интернете по адресу: -riss.ru. (Здесь и далее все пояснения курсивом в тексте и в примечаниях принадлежат мне. – В.М.)
(обратно)2
Лечебно-санитарное управление.
(обратно)3
В другом месте папа уточняет, какой именно спектакль Мейерхольда он видел в Запорожье: это было «Горе уму», и особенно его поразило, что спектакль шел одновременно на двух этажах.
(обратно)4
Хозяева дома, где семья снимала квартиру в первое время после переезда в Запорожье.
(обратно)5
Владимир Семенович Браиловский (1925–1995) – папин соученик и близкий друг, школьный учитель физики; они общались до самой кончины В.С. – сначала во время папиных летних приездов в Запорожье, а в последние годы в основном эпистолярно.
(обратно)6
УДП расшифровывалось как «усиленное дополнительное питание». Сердечно благодарю за эту подсказку О.Л. Семченко, корректора этой книги.
(обратно)7
Дело происходило до денежной реформы 1961 года, когда все суммы уменьшились в десять раз, и 550 рублей превратились в 55.
(обратно)8
От франц. l'homme (человек, мужчина) и la femme (женщина, жена).
(обратно)9
Апрош – расстояние между соседними буквами или другими текстовыми знаками.
(обратно)10
Жизнеописание О.В. Рисса опубликовано на сайте-riss.ru.
(обратно)11
Рассказ об издании этой книги был опубликован в «Новом литературном обозрении» (2001. № 48. С. 238–244) под заглавием «“Писатель и книга” Б.В. Томашевского: История выпуска 2-го издания (М., 1959)», но я предпочитаю все же не отсылать к этой публикации, а перепечатать ее здесь с небольшими изменениями и дополнениями. (Примеч. автора.)
(обратно)12
Здесь я частично повторяю свой мемуарный текст, напечатанный в журнале «Октябрь» (Мильчин А. «В лаборатории редактора» Лидии Чуковской // 2001. № 8), но дополняю его материалами, которые стали мне доступны позднее. Именно они послужили главной причиной того, что я не стал просто отсылать к журнальной публикации, так как печатать здесь только дополнения было бы нелепо. С другой стороны, обобщающая часть тех воспоминаний не вписывается в автобиографические записки. (Примеч. автора.)
(обратно)13
См.:magazines.russ.ru/october/2001/8/mil.html.
(обратно)14
Я имел в виду отрывок из воспоминаний Чуковской о Габбе, кончавшийся такими словами Тамары Григорьевны (Туси): «Я бы не писала длинную книгу [о редактировании], а попыталась бы кратко и точно сформулировать, какая именно задача стояла передо мною относительно каждой книги и каждого автора. Я бы не повествовала, не описывала, а отыскивала бы определение, точную математическую формулу каждой работы» (Чуковская Л.К. Соч.: В 2 т. М.: Арт-Флекс, 2001. Т. 2. С. 325–326). (Примеч. автора.)
(обратно)15
Натычка – способ ручного исправления небольших, но существенных ошибок в отпечатанном издании; при этом букву или знак на непропечатанное место оттискивают вручную.
(обратно)16
Центральный дом работников искусств.
(обратно)17
Курсивом выделяем наши позднейшие пояснения. (Примеч. М. Чудаковой.)
(обратно)18
Начальник управления по контролю общественно-политической и художественной литературы в Главлите.
(обратно)19
О публикации обзора архива Булгакова см. ниже, с.389–396.
(обратно)20
От франц. bêtise – глупость.
(обратно)21
Джиго А.А. – библиограф, соавтор К.М. Сухорукова, главного редактора журнала «Библиография».
(обратно)22
Жданов – разумеется, не одиозный партийный руководитель, а литературный критик Владимир Викторович Жданов (1911–1981), один из инициаторов и создателей «Краткой литературной энциклопедии».
(обратно)23
А.В. Мезьер (1869–1935) – библиограф, историк книги; по-видимому, имеется в виду ее «Словарный указатель по книговедению» (Л., 1924 и 1931). «Книга» этого факсимильного издания в конечном счете не выпустила.
(обратно)24
Об издании «Звездочки» см. выше в посвященной этому главке; на самом деле в Публичной библиотеке сохранился не один, а два экземпляра альманаха.
(обратно)25
Эти строки написаны в 2011 или 2012 году.
(обратно)26
Папа успел внести некоторые изменения в четвертое издание «Справочника издателя и автора», которое было издано Студией Артемия Лебедева уже после его смерти.
(обратно)27
Эти воспоминания использованы в записках, в главе «Московский полиграфический институт (МПИ) и поиски работы».
(обратно)28
Современный анализ этого вопроса см. в недавней работе: Макеев М. Литература для народа: протекция против спекуляции (к истории некрасовских «красных книжек») // Новое литературное обозрение. 2013. № 124. С. 130–147.
(обратно)29
В письме Рисса выпущены постраничные частные замечания.
(обратно)30
Рисс служил корректором в редакции журнала «Звезда».
(обратно)31
Упомянутая выше книга Лихтенштейна, Сикорского и Урнова.
(обратно)32
Новое издание было принято хорошо; во всяком случае, в 2015 году оказалось, что тираж распродан, и «Логос» согласился выпустить очередное, четвертое издание «Методики редактирования текста»; оно должно выйти в конце 2015 года.
(обратно)33
В испанском языке знаки вопроса и восклицания ставятся в начале и в конце предложения, причем в начале – в перевернутом виде.
(обратно)34
Речь идет о третьем издании пособия Рисса «Что нужно знать о корректуре», которое вышло в «Книге» в 1980 году. Рисс называет это издание неудачным, потому что по вине типографии в нем оказалось так много опечаток, что пришлось вклеивать специальный их перечень, но и он не оказался исчерпывающим.
(обратно)35
Эдуард Рубенович Сукиасян – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий сектором Российской государственной библиотеки, главный редактор Библиотечно-библиографической классификации, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
(обратно)36
Марк Владимирович Рац – профессор, доктор геолого-минералогических наук, основатель и первый председатель (1990–2000) Московского клуба библиофилов.
(обратно)37
Речь идет о каталоге: «Academia» 1922–1937. Выставка изданий и книжной графики. М.: Книга, 1980. История этого многострадального издания описана в воспоминаниях А. Мильчина (Из жизни одного издательства // Знамя. 2000. № 2; наст. изд., с. 396–400) и М. Раца (О собирательстве: заметки библиофила. М.: Новое литературное обозрение, 2002).
(обратно)38
Напоминанием об этих встречах служит надпись на книге А.Э. «Культура книги» (М., 1994): «Дорогому Марку Владимировичу Рацу, знакомство с которым доставляет неизменное удовольствие и радость, от автора. Мильчин 13.03.94 г.».
(обратно)39
С согласия автора я впоследствии опубликовал его: Рац М. Книга в системе общения: вокруг «Заметок библиофила». М., 2006. С. 60–66.
(обратно)40
Мильчин А.Э. Подготовка и редактирование аппарата книги: Как сделать книгу удобной для читателя. М., 2011.
(обратно)41
Осознание того, что я выступал как специалист по теории деятельности (другой вопрос, насколько удачно), пришло много позже.
(обратно)42
Первоначально КСО мыслилась как дополнение к моей книге «О собирательстве: заметки библиофила».
(обратно)43
Речь идет о черновом наброске статьи, посвященной М. Куфаеву и его «Книге в процессе общения».
(обратно)44
Этот совет А.Э. я старался неукоснительно выполнять во все последующие годы.
(обратно)45
Имеется в виду редактирование по электронной переписке.
(обратно)46
Речь идет о развернутом примечании к статье о «Книге в процессе общения» М. Куфаева на с. 222–223 КСО, где я возражаю против идеологически мотивированных передержек в критике взглядов Куфаева советского времени. В письме от 25.09.03 на ту же тему А.Э. предупреждал меня, что такие выпады в адрес ведущих книговедов не останутся без ответа, но здесь он ошибся. Полное молчание в ответ на «аргументированную критику» как нельзя лучше подтверждает его оценку состояния книговедения в приведенном выше письме от 16.09.03.
(обратно)47
Беловицкая А.А. Общее книговедение. М., 1987; Е.Л. Немировский. Предисловие // Мигонь К. Наука о книге. М., 1991.
(обратно)48
См. об этом: Рац М. О собирательстве. С. 51, 59, 231–232.
(обратно)49
Леонид Иванович Фурсенко – известный библиограф и книговед. – Прим. ред.
(обратно)50
Речь идет о первой редакции статьи «О контексте вообще и в частности» (КСО, с. 329–363). Я потом много над ней работал, хотя и понимал, что библиофилы читать ее не будут. Вовремя не сообразил, что все три статьи, составившие раздел «Контекст» (наряду с названной это «Коммуникация, общение, диалог» и «Наука и методология»), в готовившемся сборнике, в сущности, неуместны. На что и указывал А.Э. Если помахать кулаками после драки, то теперь я бы вообще разделил КСО на две книги, имеющие разных адресатов.
(обратно)51
См.: Фромм Э. Иметь или быть? М., 1991.
(обратно)52
Вячеслав Трофимович Кабанов – писатель и мемуарист, в прошлом заместитель главного редактора «Книги», а затем главный редактор издательства «Книжная палата».
(обратно)53
Вячеслав Трофимович был назначен на должность заместителя главного редактора «Книги» вместо более высоких и престижных должностей из-за «страшного» прегрешения: сестра его жены эмигрировала в Израиль. – Прим. ред.
(обратно)54
Анна Сергеевна Красникова – ученица А.Э. Мильчина, редактор (в частности, трех книг А.Э., включая эту), преподаватель теории и практики редактирования, лингвист.
(обратно)



![Горесть неизреченная [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/529201/primary-medium.jpg)
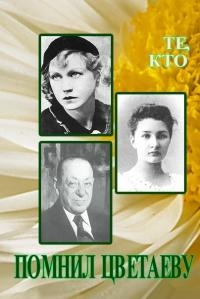



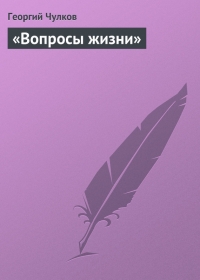
Комментарии к книге «Человек книги. Записки главного редактора», Аркадий Эммануилович Мильчин
Всего 0 комментариев