Николай Муравьев-Карсский Собственные записки. 1811–1816
Публикуется по изданию: Русский архив. 1885. Вып. 9. С. 5–84; Вып. 10. С. 225–262; Вып. 11. С. 337–408; Вып. 12. С. 451–497; 1886. Вып. 1. С. 7–54; Вып. 2. С. 69–146
© Валькович А. М., вступ. ст., 2015
© ООО «Кучково поле», 2015
Предисловие
Среди воспоминаний русских офицеров о грандиозной эпохе Отечественной войны 1812 года «Собственные записки» Н. Н. Муравьева-Карсского (1794–1866), выдающегося военачальника, в годы Крымской войны прославившегося взятием турецкой крепости Карс, занимают особое место. В отличие от многих других произведений мемуарного жанра, посвященных тому героическому времени, эти воспоминания написаны с редкой правдивостью и впечатляющей подробностью. В них содержатся масштабные и яркие картины незабываемых кампаний русской армии против Наполеона в 1812–1814 годах, представленные с позиции просвещенного офицера, с честью выдержавшего все испытания той военной поры. Несомненным достоинством «Собственных записок» Н. Н. Муравьева-Карсского является и то обстоятельство, что созданы они вскоре после описываемых событий, пока в памяти молодого офицера еще свежи были впечатления от всего им испытанного и увиденного в те годы.
Николай Николаевич Муравьев родился в Петербурге в семье морского лейтенанта, отважно сражавшегося в войне со шведами. Его отец Николай Николаевич Муравьев (1768–1840) получил отличное домашнее образование и завершил курс наук в Страсбургском университете. По заключении Верельского мира он женился на дочери инженер-генерала Александре Михайловне Мордвиновой (1770–1809), чья внешность, по отзыву сына, «соответствовала ее прелестным качествам души». Счастливые супруги, как и большинство дворян того времени, были многодетны: у них были пять сыновей и одна дочь. Это позволяло родственникам большое и дружное семейство Муравьевых шутливо называть «Муравейником». Николай был вторым ребенком в семье. Родители, несмотря на скромное состояние, постарались дать своим детям прекрасное домашнее образование. Николай проявил большие способности в постижении «математических наук», в совершенстве знал, помимо необходимого в свете французского, также немецкий и английский языки. Его младший брат Михаил, будучи студентом Московского университета, в 1810 году основал «Московское общество математиков» в целях распространения математических знаний посредством бесплатного преподавания и перевода лучших иностранных математических трудов. Муравьев-старший был избран президентом и принял самое живое участие в работе общества, где состояли и его сыновья.
В следующем году Николай, успешно выдержав в феврале экзамен, поступил на военную службу колонновожатым Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, где призвана была служить элита русской армии, и куда поступили на службу и его братья: Александр и Михаил. Николаю шел семнадцатый год. Отличные знания его в математике обратили на себя внимание князя П. М. Волконского, управляющего квартирмейстерской частью. Юный колонновожатый преподает геометрию в математических классах при чертежной канцелярии квартирмейстерской части, затем его назначают смотрителем вновь открывшегося в Петербурге училища колонновожатых, и одновременно он заведует библиотекой училища.
13/25 апреля 1811 года Николай Муравьев получил производство в первый офицерский чин. В молодые лета он терпел «много нужды» и был вынужден жить на небольшое офицерской жалованье. С юности он увлекался идеями Ж. Ж. Руссо и вместе с братьями и некоторыми сослуживцами был основателем преддекабристского общества «Юношеское собрание» или «Чока». Молодые люди намеревались отправиться на остров Сахалин, где собирались основать коммунистическую республику. Однако надвигавшаяся военная гроза заставила их отказаться от этих утопических мечтаний. В открывшейся кампании 1812 года прапорщик Муравьев, получивший для отличия от братьев № 2, состоял при гвардейском корпусе великого князя Константина Павловича, а после отъезда цесаревича из армии поступил в Главную квартиру 1-й Западной армии под начальство генерал-квартирмейстера К. Ф. Толя. Вместе с братьями он участвовал в сражении при Бородино, где, согласно наградному списку, Муравьевы, «находясь в сражении, посыланы были в опасные места, проводили войска по назначению с расторопностию и неустрашимостию».[1] В награду Николай получил свой первый боевой орден – Св. Анны 3-й степени. После оставления Москвы он состоял «в авангардной кавалерии, с коей был в сражениях: под Красной Пахрой, под Чириковым, и с генерал-адъютантом Корфом под Гремячевым; потом командирован в авангард под команду генерала от инфантерии графа Милорадовича и был в сражениях: октября 6 под Тарутиным, 22 под Вязьмой и при преследовании неприятельских войск до Вильны…»[2] В конце похода свитский офицер перемогался от болезни, но продолжал нести свою нелегкую службу. Описывая то время, он вспоминал: «Служба наша не была видная, но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не послали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от беспрерывной езды и от недостатка в корме. Михайла начал слабеть в силах и здоровье, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, «к счастию, был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды». У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег».[3] В армию Н. Н. Муравьев вернулся в апреле 1813 года и принял участие в главных сражениях кампаний в Германии и Франции. Боевые отличия принесли ему дважды повышения в чине и новые ордена, а в августе 1814 года он в числе лучших свитских офицеров был переведен поручиком во вновь учрежденный Гвардейский генеральный штаб. В 1816 году Н. Н. Муравьев в чине штабс-капитана состоял при посольстве генерала А. П. Ермолова в Персии, а по успешному завершению дипломатической миссии остался продолжать службу на Кавказе. Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни и деятельности автора мемуаров, поскольку продолжение последует во втором томе публикаций его дневников и воспоминаний за последующее время.
В послевоенные годы Н. Н. Муравьев начал писать свои воспоминания, составившие шесть частей и охватывающие период его военной жизни с 1811 по 1816 год, где главное место занимали события героической и драматической эпохи 1812 года. Последнюю часть, написанную в Тифлисе в декабре 1818 года, он заключил следующими знаменательными словами: «Тружусь и стараюсь усовершенствовать себя; вижу свои недостатки, испытываю себя. Таким образом провел я уже более двух лет».[4] Над этими воспоминаниями работал он и в последние годы своей жизни, добавляя примечания и тщательно вымарывая некоторые фрагменты из текста «Записок», а иногда удаляя и целые листы, наверное, отличающиеся излишней смелостью суждений, поскольку автор был человеком независимых убеждений, полностью разделяющим передовые взгляды своего века. Н. Н. Муравьев представил запоминающуюся правдивую картину событий эпохи 1812 года. Его мемуары написаны живым литературным слогом и очень занимательны. Здесь истории трагические нередко соседствуют с комическими. Немало в них и сатиры. По богатству сведений о военно-походном быте русской армии, по впечатляющим описаниям сражений, по ярким характеристикам генералов и офицеров, с которыми ему довелось служить, «Записки» Н. Н. Муравьева по праву занимают одно из главных мест в русской мемуарной литературе, посвященной эпохе 1812 года.
После смерти генерала его мемуары были представлены в редакцию журнала «Русский архив» одной из дочерей Н. Н. Муравьева – Александрой Николаевной Соколовой. Их опубликовали по оригинальной рукописи с цензурными купюрами под названием «Записки Николая Николаевича Муравьева» в нескольких номерах журнала в 1885–1886 годах.[5] Вскоре после публикации виднейший российский историк А. Н. Пыпин оценил эти воспоминания как «наиболее любопытные свидетельства, какие оставили современники об этой великой эпохе».[6]
Обнародованный более 100 лет назад этот уникальный источник впоследствии был почти забыт. Предпринимаемое настоящее издание позволяет вернуть нашим современникам возможность познакомиться с интереснейшими мемуарами и существенно пополнить наше представление о том столь далеком, но по-прежнему притягательном периоде русской истории, названным А. С. Пушкиным «временем славы и восторга». Текст воспоминаний приведен в современной орфографии с сохранением своеобразия русского языка первой четверти XIX века, исправлены опечатки первого издания и в ряде случаев восстановлены пропущенные слова и предложения. В именном указателе содержатся биографические данные об упоминаемых в мемуарах лицах, число которых превышает шестьсот человек. Сведения о гвардейских и армейских офицерах основаны на материалах полковых историй и архивных дел.
Пользуясь случаем, сердечно благодарим признанных знатоков французской и прусской армии наполеоновской эпохи А. А. Васильева и С. Ю. Люлина, любезно предоставивших биографические данные о некоторых французских генералах и офицерах прусской гвардии.
А. М. ВальковичЧасть первая Со времени определения в службу до выступления в поход. 1811–1815 (Писано в Петербурге в 1816 году)
Родился я 14 июля 1794 г., воспитывался и учился в родительском доме. В феврале месяце 1811 г. отец привез меня в Петербург для определения в военную службу.
Я не имел опытности в обращении с людьми, обладал порядочными сведениями в математике, не имел понятия о службе и желал вступить в нее. Уже четыре года был я влюблен. Сначала я бывал только у своих родственников, т. е. у братьев и двоюродного брата Александра Мордвинова. С сим последним и со старшим братом детские ссоры довольно часто расстраивали наше согласие; в детстве ссоры эти вызывали между нами драки, в описываемое время кончались упреками, иногда горькими; теперь же спором и смехом.
Брат Александр был годом меня старее в службе. В день приезда моего в Петербург он возвратился из Волыни, куда был командирован для съемки. Увидев его в офицерском мундире, я сердечно порадовался при мысли, что скоро сам его надену. Дня три после его приезда отец повез меня рекомендовать к капитану Сулиме, а сей последний к генерал-адъютанту князю Петру Михайловичу Волконскому, который, исправляя тогда должность генерал-квартирмейстера, исключительно занимался преобразованием Генерального штаба, называвшегося тогда свитой Его Величества. Наступил страшный день, назначенный для экзамена. Полковник Хатов и подполковник Шефлер, которые меня экзаменовали, первый в фортификации, а второй в математике, знали менее моего; я хорошо выдержал экзамен, они остались довольны и донесли о том князю, который поздравил меня колонновожатым и приказал мне немедленно явиться в Семеновский полк к полковому адъютанту Сипягину для обмундирования. Я прибежал домой, запыхавшись, и обрадовал отца, который с нетерпением ожидал решения (подагра его удерживала в постели). То было в пятницу. Мне не терпелось надеть братнин кивер и саблю, и, поехав в Семеновский полк, я заказал себе мундир, который надел в воскресенье поутру.
Первое происшествие, сопровождавшее вступление мое в свет и на службу, ознаменовалось пощечиной, не у места, но правильно данной. Не похвалюсь сим поступком, но полагаю горячность свою извинительной в уважение молодости моей и неопытности; ибо я не воображал себе, что неблагопристойно было в хорошем обществе дать заслуженную пощечину. Конечно, пощечина дается только в той крайности, когда противник другой обиды почувствовать не умеет; иначе давший ее подвержен получить подобную же; но в настоящем случае последствия показали, что пострадавший мало огорчился. Приступим к делу.
Надев мундир, мне следовало идти к присяге и явиться к князю Волконскому. Но, рассудив, что в воскресенье никого дома не застанешь, я отложил явку свою до понедельника. В тот же день у адмирала Н. С. Мордвинова были бал и маскарад. Я увижу Н. Н., она меня увидит в мундире; что могло быть увлекательнее! Батюшка страдал подагрой и остался дома, а меня ввечеру отправил с братом к Николаю Семеновичу. Променял ли бы я турецкий или испанский костюм на колонновожатский мундир? Я приехал с кивером в руках, не снимал сабли и стучал шпорами, часто спотыкаясь. Поляки, турки, гусары, рыцари – все казались мне ниже меня. Переодетая Н. Н. явилась с двумя рыцарями. Семен Николаевич Корсаков и брат ее Сашенька обнажили мечи и делали пример боя; один из рыцарей упал, а другой увел ее танцевать. Я стал в углу и завистливыми глазами глядел на счастливого Корсакова. Вблизи меня в первой паре стоял Михайлов, переодетый в гусарское платье штабс-ротмистра Фигнера,[7] одетого туркой и танцевавшего во второй паре со своею невестой, сестрой Михайлова. Михайлов, подойдя ко мне, насмешливо сказал:
– А унтер-офицер танцевать не смеет, – и, не дав мне времени отвечать, поспешил к своей даме, с которой удалился.
Кровь во мне закипела. По окончании экосеза я подошел к Михайлову и, напомнив ему сказанные слова, хладнокровно, учтивым образом, просил у него объяснения. Он замешался; на то время подбежал Александр Мордвинов и, узнав в чем дело, шуткой сказал Михайлову:
– Что вы армейские! Знаете ли, что всякий колонновожатый достоин большего уважения, чем ваш поручик?
– Согласен, – отвечал мне Михайлов, – что ваш корпус почетный, но и я также выдерживал строгие экзамены. – Затем он стал распространяться в названиях наук, ему известных. Похвалив знания его, я возразил ему, что нимало в том не сомневаюсь, но прошу объяснения первых его речей.
– Что же, – отвечал Михайлов, – я ведь знаю ваших офицеров, потому что служил с ними в Молдавии; я сам свидетель того, как одному полковнику вашего корпуса однажды приказали выстроить мост, и так как он сего не умел сделать, то принуждены были командировать к постройке моста пехотного поручика; посудите сами, если у вас полковники такие ослы, то почему колонновожатым не быть хуже?
Пощечиной отвечал я Михайлову при всех. Не выражу того, что я в эту минуту чувствовал. Я был уверен в правоте своего дела, но взволнован и находился в таком необоронительном положении, что Михайлов мог меня тут же ударить. Сужу теперь, что при всякой ссоре надобно иметь левую руку более в готовности, чем правую.
– Что вы сделали? – вскрикнул центра тяжести лишенный Михайлов, схватив меня за руку.
– Свой долг, – отвечал я ему, – и готов сейчас дать вам удовлетворение, какое вам будет угодно. Пойдемте!
– Знаете ли вы, что я сделаю? – сказал Михайлов. – Я сейчас пожалуюсь Николаю Семеновичу. Вы были свидетелем, господин Гамалей; благоволите утвердить, а вы господин Муравьев щенок!
– Ах, – вскричал я, – подлец, тебе и этого мало; так постой же!
Я вздрогнул от бешенства и побежал в другую комнату искать по углам какой-нибудь трости, чтоб порядком прибить Михайлова. Пока я метался, Михайлов, в сопровождении Гамалея, сам рассказал дамам свое несчастие, ссылаясь на свидетеля. К счастью, Николай Семенович в то время сидел в кабинете, откуда он вышел в гостиную тогда, как меня уже не было в доме. Суматоха сделалась страшная: гости стали разъезжаться прежде времени. Фигнер сидел в углу со своею невестой, когда бесчестие брата ее до него дошло. Он прибежал ко мне и, схватив меня за руку, просил скорее удалиться. На то время подошел брат Александр, который, увидев меня в жарком разговоре, успокоил нас и вместе с Фигнером уговорил меня уехать. На крыльце сопровождали меня выражения удовольствия слуг, которым Михайлов сам уже успел рассказать свое приключение. Они не любили его и радовались случившемуся с ним.
Смущенный возвратился я домой и рассказал отцу о случившемся. Он встревожился, побранил меня за запальчивость, но сказал, что я должен непременно драться, на что я охотно согласился. На другой день приехал Корсаков и объявил о намерении Фигнера вступиться за честь Михайлова. Я на все был согласен; но батюшка, опасаясь, чтобы я чрез поединок не пострадал по службе, пригласил письмом Фигнера к нему приехать. Поговорив с ним наедине, он позвал меня и сказал:
– Николай, ты должен извиниться, я этого требую. Николай Самойлович будет посредником.
Нехотя принужден был я повиноваться, и меня повезли к Михайлову.
– Александр Михайлович, – сказал я ему, – сожалею, что слишком погорячился третьего дня; но сознайтесь, что вы первые были неправы.
– Конечно, я был неправ, – отвечал он, – но и вы не должны были… Неугодно ли чаю?
– Благодарю вас, – сказал я, – сейчас пил дома, прощайте, – вышел от него и уехал.
Фигнер, провожая меня, уверял в чувствах своего уважения ко мне, а я довольным возвратился домой. Бедный Михайлов, который за несколько дней перед своей бедой только что приехал в Петербург, чтобы повеселиться, принужден был возвратиться в деревню. Я же был осужден не бывать больше в доме Николая Семеновича, что продолжалось более месяца. Старик был непреклонен к просьбам моих родственников; наконец, по ходатайству тетки Катерины Сергеевны, был я снова им принят.
– Mon cher ami, – сказал он, обнимая меня, – quand on veut faire la paix, il ne faut plus parler du passé, que tout soit oublié.[8]
Так все и кончилось. Впоследствии товарищи, узнав о случившемся, неоднократно благодарили меня за то, что я вступился за доброе имя корпуса, в коем они служили.
Вскоре по определении меня на службу батюшка уехал обратно в Москву. Князь Волконский дал мне занятие в своей канцелярии, и, спустя месяц, назначен был мне экзамен для производства в офицеры. Мною остались очень довольны и поставили в списке к производству вторым; но, к несчастию моему, за два дня перед тем учредили у нас прапорщиков, и так вместо подпоручиков вышли мы прапорщиками. Впрочем, радость надеть офицерский мундир изгладила сию небольшую досаду. Я был произведен 1811 года апреля 14-го дня, в день рождения брата Сергея.
Однажды, как я сидел за работой, князь подошел ко мне.
– Муравьев, – сказал он, – Бетанкур уверяет, что в его корпусе последний юнкер загоняет в математике лучшего из наших новопроизведенных. Тебе заступиться за честь вашу; я тебе завтра пришлю билет, а послезавтра поедем на экзамен в корпус инженеров путей сообщения. Постарайся загонять их хорошенько, там и наши будут.
В угождение князю я занялся эти два дня, затвердил самые сбивчивые задачи и, приготовив себя таким образом, я прибыл на экзамен. Меня приняли приветливо, но ученики смотрели на меня как на злодея, явившегося, чтоб воспрепятствовать их производству в офицеры. Начали с самых слабых. Условленные между профессорами и учениками вопросы и ответы спасли их от неудачи. Явились и сильные. Бетанкур, привстав, пригласил меня экзаменовать. Я сделал несколько вопросов, но удачные ответы сокрушали меня. Князь Волконский мне глазами мигал и морщился; наконец, в удовольствие ему, я задал следующее: извлечь . Этой пустой задачей мне наконец удалось сбить бедного кандидата, который смешался. Сам Висковатов, удивленный замешательством ученика своего, встал и не умел сего решить. Князь восторжествовал. Предвидя скорое решение задачи моей, я поспешил сам указать решение и тем не дал времени раздосадованным противникам затруднить меня усложненными формулами; пользуясь своим званием экзаменатора, я не переставал вопрошать и таким образом избавился от заготовленной мне грозы, ибо, в сущности, инженеры более нашего смыслили в математике. Князь, Бетанкур и все свидетели поздравили меня с успехом, а я, похвалив учеников, более меня сведущих, не остался лишнего времени и поспешил домой.
С тех пор дух соперничества поселился между нашими офицерами и инженерами путей сообщения, и они получили от нас название болотников. Я не сомневаюсь, однако же, что они превзошли нас в знании математики.
В то время чертежная наша и канцелярия помещались в Михайловском дворце, где также завелись математические классы. Подполковник Шефлер преподавал колонновожатым геометрию. Он ее твердо знал и хорошо преподавал; но видно, что занятием этим тяготился, ибо он с моего согласия просил князя поручить мне сей класс, что и сбылось. Отобрав восемь из лучших колонновожатых, я, с согласия Шефлера, пригласил их ходить каждый день учиться ко мне на дом. Я жил тогда под Смольным монастырем на квартире дяди Мордвинова, который лето проводил в деревне. Двое из учащихся у меня колонновожатых подлинно успели в математике. Уроки сии занимали меня.
В то время как я преподавал, заводилась у нас другая школа. Князь Волконский, при всем властолюбии своем и благонамеренности, начал подчиняться влиянию приверженцев, коих достоинства он не всегда умел различить или оценить. Капитан свиты Его Величества и, как говорят, самозванец, граф Фалькланд, беглый из французской службы, получил тогда доверие князя по части преподавания математики. Трудно разобрать этого человека. Нельзя было ему отказать в больших сведениях по математике, при том он говорил ясно; но страсть его была учить, – и чему в особенности? Нумерации! Полагаю, что разум его был несколько помрачен от усиленных занятий; страдая сильной чахоткой, он не переставал кричать и толковать начала арифметики по самый конец своей жизни. Сначала он меня полюбил и, чувствуя приближающуюся смерть, хотел сделать меня наследником своих бумаг и сочинений; но впоследствии я не мог не видеть оскорбления подчиненных мне колонновожатых, которых обязали также ходить к Фалькланду. Я поссорился с ним и чрез то избежал труда разбирать стопы бумаги, измаранной математическими формулами, до коих, в сущности, я небольшой охотник.
Фалькланд уверил князя, что никто из новопроизведенных офицеров не постигает тайны нумерации. Князь тщетно старался также нас в том уверить; но как голос его был сильнее истины, то и стали мы по приказанию его ходить каждый день после обеда к графу-самозванцу, где в течение двух месяцев практиковались в счете и четырех правилах арифметики по шестеричной, восьмеричной и другим системам нумераций. Однажды вздумалось нам побунтовать. По общему согласию, на лекции, Дурново прочитал Фалькланду речь от имени всех товарищей. Все встали со своих мест и сообща старались внушить Фалькланду, что, дорожа своим временем, мы не находим нужным тратить его понапрасну на такие пустяки, как изучение нумерации, и, наконец, что офицерский чин избавляет нас от несносной скуки к нему на лекции ходить; но увы! Фалькланд был хитрее нас: прокашлявши с четверть часа и выслушав нас с улыбкой, он согласился в правоте нашего суждения, но ссылался на волю князя, которую обязан был исполнить. Впрочем, он, вопреки обыкновению своему, долго любезничал с нами; отпуская же нас, каждому пожал руку и расстался с нами по-приятельски. Мы после узнали, что он в это время ожидал к себе князя, который, однако, не приезжал. На другой день князь нас к себе собрал и разразился грозой на несчастного Дурново. Щербинин и я стали было говорить, но нам велели молчать, и мы замолкли. Приказали нам снова ходить учиться, и мы ходили, пока совершенно расстроенное здоровье Фалькланда не позволило ему больше преподавать таблицу умножения. Признаюсь, мы очень опасались его выздоровления, и каждый день имели верные сведения о состоянии его здоровья. Он вскоре и умер от чахотки.
Я жил близ Смольного монастыря, в так называемой Подгорной, на квартире у дяди Мордвинова. Связи и знакомства мои не были обширны. Особенной дружбы ни с кем не имел, в приятельском же кругу бывали у меня сослуживцы Колычев и Михайла Александрович Ермолов; часто видался я также с Матвеем Муравьевым-Апостолом, служившим тогда юнкером в Семеновском полку. Колычев принадлежал к числу тех молодых людей, которых называют отчаянными головами; ему было 23 года, он имел сведения и был верный товарищ. Он сначала имел неудовольствия по службе, потому что поссорился с начальником; впоследствии, в кампании 1812 г., он пристал к партизанам и по отличию достиг чина ротмистра в Александрийском гусарском полку. Ермолов был мне ровесник. Он был хорошо воспитан, скромен и с познаниями. Товарищи любили его. Он перешел от нас в гвардейский Егерский полк, где также приобрел себе общее расположение сослуживцев и начальников. В 1813 г. Ермолов отличился храбростью в сражении под Кульмом, где был жестоко ранен. Матвея Муравьева-Апостола я очень любил. Он благородный малый и прекрасного нрава; жаль только, что он мало учился, через что природные дарования его остаются втуне; хотя он характера легкого и склонен следовать примеру других, он может заблуждаться, но правила чести его безукоризненны. Он приходил ко мне делить свое горе, ибо имел неудовольствие от своего отца, который не умел ценить счастливого нрава Матвея. С братом его Сергеем я не был так близок, как с ним.
Я жил вместе с братом Александром и двоюродным братом Мордвиновым. Случалось нам ссориться, но доброе согласие от того не расстраивалось. Мы получали от отца по 1000 рублей ассигнациями в год. Соображаясь с сими средствами, мы не могли роскошно жить. Было даже одно время, что я, во избежание долга, в течение двух недель питался только подожженным на жирной сковороде картофелем. Матвей часто приходил разделять мою трапезу, нимало не гнушаясь ее скудостью. Помню, как я в это голодное время пошел однажды на охоту на Охту и застрелил дикую утку, которую принес домой и съел с особенным наслаждением. Изредка навещал нас по вечерам бывший экзаменатор мой, добрый Шефлер. По воскресеньям бывал я на вечерах у Н. С. Мордвинова, где танцевали. Страсть моя к дочери его возрастала; я навестил адмирала однажды и на мызе, в Парголове, где он проводил часть лета с семейством. Более я ни у кого не бывал и проводил время дома. Вне служебных занятий вел я жизнь праздную, вовлекшую меня в школьные шалости, которые, может быть, несколько и повредили мне.
Первая попавшаяся мне книга была Compere Mathieu.[9] Несколько раз прочитал я этот роман, который мне очень понравился, но разрушил все мои религиозные понятия и чувства; однако книга сия не заменила разрушенного новыми правилами, и потому она только спутала понятия мои, не возродив ничего нового. Мне тогда было 16 лет. За этой книгой попалась мне в руки «Новая Елоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогала мое сердце, по природе впечатлительное. Разметанные первым чтением мысли мои начали приходить в порядок. Несколько раз прочитал я с большим вниманием «Новую Елоизу», и страсть моя к Н. Н. усилилась. Думаю, что начало это способствовало к развитию во мне нелюдимости, к которой я от природы склонен. Я тогда уже находил удовольствие в уединении, ходил по вечерам задумываться на Быки,[10] где просиживал до глубокой ночи, ходил на охоту и наслаждался своим одиночеством, когда лежал среди леса, растянувшись на траве вдали от свидетелей, коих, казалось, избегали и мысли мои. Предаваясь воображению, я сравнивал положение свое с положеньем независимого человека. Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того, чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке. Я и теперь ленив, но не для того, однако же, сознаюсь в том, чтобы таким признанием пред собою скрыть множество других недостатков, ибо в лености всего легче сознаться.
Мне очень желалось видеться с отцом и показаться в Москве в мундире. Получив отпуск на 28 дней, я отправился и был хорошо принят в родительском доме, где прежние знакомые, обращавшиеся со мною когда-то как с ребенком или учащимся, ныне с любопытством расспрашивали меня о Петербурге и службе. Мне особенно льстила встреча со старыми учителями, и не верилось, что я не обязан им более повиновением. Мне странно казалось и то, что власть родительская тяготела на офицере как бы слабее, чем на ученике. Но вместе с тем я узнал, что родительский гнев в некотором возрасте чувствительнее, нежели в малолетстве. Гнев этот, возбужденный вмешательством моим в дела, не подлежавшие моему суждению, был, однако же, непродолжительный и остался без неприятных последствий. Доброе согласие между нами не нарушилось.
В то время как отец возил меня для определения на службу в Петербург, брат мой Михайло, оставшийся в Москве и сделавший уже замечательные успехи в математике, пригласил учителей своих, или, вернее сказать, соучащихся с ним, университетских профессоров, составить математическое общество, коего он назвал себя директором. Цель общества состояла в усовершенствовании науки. По возвращении батюшки в Москву предложили ему быть президентом. Сочинивши устав, просили князя Волконского принять звание члена общества, в которое были приняты и другие лица, в том числе и мы, два старших брата. Общество сие, постепенно развиваясь, превратилось в училище. Несколько московских молодых людей, познакомившись с батюшкой, просили его преподавать военные науки, на что он согласился. Брат Михайло занялся преподаванием математики, профессора же каждый по своей части. Когда я приехал в Москву, то застал уже человек десять учеников. Батюшке пожалован был государем перстень с изображением вензеля Его Величества. В числе учившихся были двое Колошиных, Михайло и Петр (третий брат их Павел был еще ребенком). Старшему было двадцать лет. Скромность его и приличие в обращении привлекали меня к нему; мне казалось, что его тревожила скрытая грусть и что он искал друга, которому мог бы поручить свои думы. Также и я надеялся получить его доверенность. Мы взаимно объяснились в сердечных наших тайнах, после чего подружились с тем теплым увлечением души, какое дано нам ощущать только в молодых летах.
* * *
(Писано в Тифлисе, в октябре 1817 года)
Мне оставалось только три дня жить в Москве до истечения отпуска, и я собирался уже выехать в Петербург; но у батюшки готовился экзамен, и ему хотелось, чтобы я был свидетелем, дабы мог лично доложить князю Волконскому об успехах его учеников, почему и поручил мне все устроить к вечеру. Экзамен состоялся в присутствии многих профессоров университета и был удачен. М. Колошин в особенности отличился своими познаниями. На другой день экзамена я выехал из Москвы; батюшка провожал меня за четырнадцать верст от города и, по-видимому, старался ласками своими изгладить впечатление от небольшой размолвки, между нами случившейся.
По возвращении в Петербург я застал уже Главный штаб переведенным из Михайловского замка в Кушелева дом, где изготовлялось помещение для колонновожатых, их классов и несколько квартир для офицеров.
По приведении всего этого в окончательное устройство переселили туда 24 человека колонновожатых. Директором сего нового училища был назначен полковник Хатов, помощником его подполковник Шефлер, а дежурными надзирателями: поручик Окунев, подпоручик Дьяконов и я. Я переехал на новую свою квартиру и вступил в должность, которая состояла в том, чтобы смотреть за поведением колонновожатых, живущих в доме, ежедневно осматривать одежду у всех собиравшихся на лекции 60 колонновожатых прежде и после классов, в классах блюсти за порядком и тишиной; колонновожатых, живущих в доме, водить вместе к обеду в общую застольную, увольнять по билетам со двора, ввечеру подавать рапорт о происшедшем помощнику, ночью делать рунды по комнатам, поверять дневальных и делать три раза в день перекличку. Кроме того, должно было колонновожатых водить на все парады, где они выстраивались по ранжиру.
Между колонновожатыми находилось много таких, которые уже пять лет в службе числились, иным было уже под тридцать лет от роду. Неминуемо было, что многие из них на меня дулись, ибо мне было только семнадцать лет и несколько месяцев службы. Я был строг в исполнении своих обязанностей и не пропускал ни одной вины без замечания. Поэтому не полагаю, чтобы все колонновожатые меня полюбили; но повиновение сохранилось.
Кроме сей должности мне еще поручили экзаменовать в математике колонновожатых и вновь определявшихся к нам на службу; на мое попечение возложили также библиотеку, которую только что начинали устраивать: собрано было пожертвований около 2000 книг, которые надобно было привести в порядок и сделать им каталог. Мне тоже было поручено преподавание математики в 1-м классе, состоявшем из 32 колонновожатых, в числе коих некоторые более меня знали, другие же ленились.
Князь требовал порядка и тишины в классе. Из осторожности я мало касался в классе сильнейших меня в науке, дабы они не могли заметить своего преимущества надо мною; старикам же, которые ничего не знали и, по-видимому, никогда ничему бы не научились, я снисходил. Уважение, которое я им при других колонновожатых оказывал, расположило их ко мне, и они соблюдали должное повиновение; таким образом, сохранился между всеми постоянный порядок. Но порядок нарушался в дежурство других двух офицеров, при коих колонновожатые делали большие шалости и смеялись над ними.
Некоторые из колонновожатых пожелали учиться у меня на квартире. Первым назвался Мейндорф 2-й, прозванный Рыжим; он у меня учился фортификации, которую я с ним прошел от начала до конца по Noizet de St. Paul. Этот Мейндорф был весьма сведущ во всех частях и человек благовоспитанный; я с ним коротко познакомился. Не видавшись с ним после того несколько лет, я встретился с ним недавно в Петербурге, по случаю перевода его в Гвардейский генеральный штаб уже штабс-капитаном. Но как он изменился! Старое близкое знакомство наше не возобновилось, связи и служба развели нас в разные концы империи, и мы редко когда после того встречались.
Многие из колонновожатых ходили учиться к Хатову и Шефлеру. Последний брал по 5 рублей за урок, но старался и на экзаменах был беспристрастен; первый же до такого совершенства довел этот порядок, что колонновожатые приносили ему вперед за тридцать уроков деньги 300 рублей и не заходили к нему более четырех раз поучиться, на пятый же являлись к экзамену, где он им писал самые лучшие аттестации. Порядок этот до сей поры еще существует на посрамление чести нашего корпуса. Хатов человек семейный и бедный, и сим способом единственно живет; князь же, допускавший сие, не знает о вошедших в обычай злоупотреблениях. Когда узнали, что мнение мое влиятельно на экзаменах и что я давал частные уроки, некоторые из колонновожатых пожелали и у меня учиться. Первый явился какой-то Harbouer, длинный, высокий; он был племянник нашего лекаря и желал определиться в службу. Снисходя его просьбе, я назначил ему прийти на другой день и дал ему первый урок; но как я удивился, когда он, вынув из кармана билет, положил его на стол! Я схватил билет, изорвал его и просил подателя более ко мне на глаза не казаться. После этого приходил еще колонновожатый Бибиков, с коим родственник мой Муромцев просил меня заняться; но как я видел, что он ленился, то я ему после нескольких уроков отказал. Двое из колонновожатых, Пейкер и Брадке, у меня часто бывали, я с ними также занимался; они были весьма молоды.
Служба моя была трудная: я вставал в 6 часов утра, всякий день проводил утро в классе до трех часов, а после обеда занимался до вечера в библиотеке. В третий день доставалось мне дежурство, и тогда уже целый день не оставлял я шарфа и по ночам ходил рундом. Случилось однажды, что адъютант князя заболел, и я тогда целую неделю отправлял его должность, т. е. ходил за приказанием в комендантскую канцелярию; таким образом, я был целый день занят. Князь Волконский полюбил меня и оказывал мне доверие.
Чахоточный граф Фалькланд, о коем прежде говорено, стал поправляться в своем здоровье. Князь к нему езжал и принял от него убеждение, что должно преподавать нумерацию и в наших классах. В ожидании совершенного выздоровления Фалькланда мне велено было пройти теорию логарифмов и поверить логарифмические таблицы с учащимися. Прискорбно было прервать начальный курс, чтобы заняться таким скучным и бесполезным делом, но я должен был повиноваться.
Так как злосчастный для нас Фалькланд стал снова хворать, то я каждый день ожидал известия о его смерти, но, к удивлению моему, однажды, как я поверял в классе таблицы, он внезапно показался в дверях залы, напоминая появлением своим и видом мертвеца Жуковского в балладе «Людмила». Вздрогнули сердца учителя и учеников! Фалькланд сел подле меня и просил продолжать урок; когда же я его кончил, он начал толковать нумерацию по-французски. Большая часть слушателей, не зная языка, не понимала его, другая смеялась. Фалькланд задыхался, все встали со своих мест и окружили его при доске; ближайшие прикидывались внимательными, но задние резвились. Всячески старался я удержать тишину, но без успеха; внутренне же я радовался беспорядку, произведенному появлением нового учителя в моем классе. Многие из колонновожатых надеялись, что подобные сцены будут ежедневно возобновляться в классах, но ошиблись. Фалькланд вынул из кармана бумагу, на которой у него были заготовлены задачи, состоящие в извлечениях корней из многоциферных чисел, написанных по разным: семеричным, восьмеричным и прочим счетам, при условленном количестве знаков. Он роздал задачи сии колонновожатым по рукам, приказав им принести их разрешенными к следующему дню. Некоторые решили их, другие же смеялись и не хотели ими заняться.
На другой день Фалькланд опять явился в класс и, отобрав тех, которые решили задачи, посадил их на первые места. Он хотел продолжать урок, накануне данный, но почти никто из слушателей по-французски не знал; некоторые стали уходить. Если бы в эту минуту вошел князь, то, конечно, я остался бы виноватым из-за беспорядков, Фалькланд же остался бы правым. Видя, что ему нечего делать, он начал рассказывать разные приключения своей жизни, много смеялся и занял всех до трех часов. Все хохотали, лазили по скамейкам.
Помощник директора Шефлер преподавал в то время во втором классе и, услышав шум, пришел, чтобы унять его; все стихло, когда он взошел; но Фалькланд, встав мертвецом и подойдя тихим шагом к Шефлеру, со свойственной французу дерзостью стал рукою гладить его по лысине, называя его mon petit caporal.[11] Бедный Шефлер потерялся от такого нахальства и не нашел ничего лучшего, как понюхать табаку; потом, пожав Фалькланду руку, пожелал ему доброго утра в самых учтивых выражениях, пока француз продолжал гладить его по плеши, насмешливо оглядываясь на присутствующих. Я был раздосадован и вышел. Шефлер последовал за мною, бранясь про себя на Фалькланда, который оставался в классе еще с полчаса, толковал и, наконец, ушел.
Он на другой же день опять занемог. В начале 1812 года зимой Фалькланд умер. Брат Александр был наряжен на похороны его с 20 колонновожатыми. Все были рады убедиться в том, что Фалькланда не стало и что он больше не будет нас мучить. Я опять начал преподавать по-старому и кончил уже тригонометрию, когда явилось новое лицо.
Кто не знал Преображенского полка капитана Рахманова, издателя Военного журнала и убитого под Лейпцигом уже в чине полковника? Он был умен, остер в речах и обладал большими сведениями, особенно в математике, но вместе с тем имел многие странности. Ему не нравилась фронтовая служба, а, кажется, хотелось сделаться начальником нового училища. Зная недостаток князя Волконского в образовании, между тем и стремление его к усовершенствованию Генерального штаба, Рахманов воспользовался слабостью князя, коротко познакомился с ним и стал с ним ездить в классы. Он уверил князя, что надобно преподавать в 1-м классе дифференциальное исчисление, а не тригонометрию. Князь слышал, что дифференциалы прекрасная вещь, но не знал, какая это наука. Согласившись с предположениями Рахманова, он дал ему право выбрать из моего класса лучших учеников и преподавать им дифференциальное исчисление, что для меня было крайне обидно: одного прислали учить нумерацию, а теперь другого – дифференциалам, отбивая у меня лучших учеников; но я должен был повиноваться, и Рахманов, проэкзаменовав и отобрав себе семерых любимцев моих, начал им преподавать, но безответственно за беспорядки, могущие случиться в классе. Рахманов приходил учить без определенного времени, а лишь когда ему вздумается, отчего классы и часы переметались, завелись шалости, и я не мог более продолжать начатый мною курс с успехом. Однажды, будучи дежурным, я записал на доске имя колонновожатого Козлова, который стал слишком забываться. Рахманову не понравилось, что я управлялся во время его преподавания, и он стер с доски имя Козлова, говоря, что ему места мало для писания формулы. Я записал имя виновного на другой доске, но Рахманов опять стер его, сказав, чтобы я более не делал сего. Я в третий раз записал Козлова, сказав Рахманову, что он не имеет права мешаться в мою должность; но он в третий раз стер имя Козлова. Тогда, сказав, что после того ему останется отвечать пред князем за беспорядок, я вышел из класса и передал все дело, как случилось, полковнику Хатову. Хатов расхрабрился.
– Вот я его, – вскрикнул он, прибежал в класс; но при виде грозного, устремленного на него взгляда Рахманова он сначала не смел прервать его занятий, наконец, решился заметить Рахманову неприличность в его поступках, но был разбит в пух и преследуем. Хатов пожаловался князю, и с тех пор Рахманову поставили особую черную доску в библиотеке, где он весьма лениво занимался со своими учениками; мне же возвратили мой 1-й класс, в котором оставалось еще 25 учеников.
Вскоре Шефлер отказался от 2-го класса и сдал его старшему моему брату Александру, который им занимался и между тем дежурил с нами поочередно.
У меня отличались поведением и науками колонновожатые Мейндорф 1-й, Мейндорф 2-й, Глазов, Даненберг, Фаленберг, Цветков, Лукаш, Брадке,[12] Дитмар, Бутовский, граф Апраксин и еще некоторые другие. Первый из них теперь служит в Конной гвардии,[13] о втором я выше упоминал. Глазов служил капитаном в Гвардейском генеральном штабе, но стал пить и переведен тем же чином в пехоту; Даненберг, Фаленберг, Цветков и Дитмар поступили к нам по экзамену из Лесного департамента; первый из них впоследствии служил со мной при великом князе Константине Павловиче и обогнал меня чином.[14] Все четверо существовали одним жалованьем. Они терпели нужду, но всегда были исправны. Лукаш человек хороший и добрый, в настоящее время штабс-капитан в Гвардейском генеральном штабе.[15] Граф Апраксин в 1812 году служил с Мейндорфом 1-м при князе Голицыне, и оба перешли от нас в Конную гвардию. Бывший родственник и друг Апраксина, граф Строганов, также был у меня колонновожатым: малый добрый, но простой, служил при генерале Ланском и убит в сражении при Краоне.
Между ленивыми колонновожатыми отличались у меня Берг и Кирьяков. Первый был сыном одного генерала по квартирмейстерской части, который, войдя однажды в класс, напал на меня за то, что я сына его посадил ниже других, и говорил, что не в знании логарифмов заключается достоинство хорошего офицера. Я защищался сколько мог, но, наконец, вынужден был объяснить генералу, что, по обязанности быть беспристрастным, не могу пересадить сына его выше прилежных учеников, и старый Берг успокоился. Кирьяков – малороссиянин; определился в службу летом, тогда как я уже был экзаменатором, но жил еще близ Смольного монастыря.
Отец Кирьякова, которого имени я прежде никогда не слышал, привез ко мне сына своего с товарищем его Бутовским, прося меня о принятии обоих в службу. Проэкзаменовав их в присутствии его, я нашел в них хорошие способности и некоторые познания, почему сказал старику, что с удовольствием дам им несколько уроков, дабы приготовить их к настоящему экзамену. Не знаю, как он понял мои слова, только на другой день вместо учеников получил я благодарственное письмо, в котором он просил меня представить молодых людей князю Волконскому. Но как я удивился, когда, поворотив лист, нашел в письме 200 рублей. В сердцах написал я ему грозное письмо с возвращением денег и запрещением когда-либо переступать ногой за порог моей квартиры; заключил же письмо изложением мнения моего, что лета не придали ему опытности в распознавании людей, с которыми ему доводилось иметь дело. С тех пор я не слышал более ни слова о старике Кирьякове. Однако же сын его и Бутовский были приняты на службу. Первый из них был часто замечаем в шалостях, за которые я с него нередко взыскивал. Впоследствии он был переведен в какой-то драгунский полк.
Еще было у меня два колонновожатых, замечательных по сведениям их в математике: князья Андрей и Михаил Голицыны. Воспитывались и учились они в Париже, отчего в обращении своем были более похожи на французов, чем на русских. Один из них служит теперь поручиком, а другой штабс-капитаном; первый был жестоко ранен под Бородиным, а другой легко под Люценом.
В то время терпел я много нужды в жизни, ибо тогдашнее жалованье мое было очень малое. Все имение батюшки состояло тогда из 140 душ, а нас было шестеро: пять сыновей и одна дочь.
До 1801 года мы жили в Петербурге; но отчим отца моего, князь Александр Васильевич Урусов, лишившись дочери своей, которая была за бароном Строгановым, и желая переселиться в Москву, пригласил к себе батюшку с семейством; нас тогда было только три сына, из коих старшему Александру 8 лет. Князю Урусову было 70 лет; близких к нему никого не оставалось; присоединением к себе семейства нашего он, по-видимому, заботился о призрении своем в старости. В отце же моем он приобрел хорошего себе помощника для управления своими имением и делами. Родители мои не имели достаточно средств, чтобы дать нам должное воспитание, почему и согласились принять предлагаемую им обузу и поступить в истинную кабалу к князю Урусову. Итак, мы перебрались в Москву, где жили в доме у князя, летом же ездили с ним в деревню его Александровское (иначе Долголядье). Сим только способом родители мои могли употребить свои доходы, состоявшие из 5000 рублей, на наше воспитание, крайне умеряя себя во всех своих издержках; но и при такой умеренности они не могли избежать долгов, от чего доход их уменьшился до 4000 рублей.
Матушка скончалась в 1809 году. Князь, которому она заменяла покойную дочь, любил ее и был ее смертью очень огорчен. Он сделался до крайности упрямым, вспыльчивым и даже грубым и часто сердился на отца моего, но, чувствуя нужду в нем, удерживался; батюшка же не умел с ним обойтись, как бывало матушка, и потому несколько раз думал оставить его. Князь Урусов родился в бедности, составил все свое состояние картами и нажил несколько тысяч душ (говорят, однако же, что он честно играл). Он служил в военной службе и вышел в отставку в генерал-майорском чине. У него было много родственников, по большей части люди бедные и почти все без особенного образования. Родственники князя навещали его и надоедали ему. Он часто бранил их и даже ругал при всех, ибо видел, с каким они нетерпением ожидали смерти его, чтобы завладеть имением, и потому он их не любил, а они нас также не любили. Сказывали, что наш князь Урусов, однажды поссорившись с братом своим Петром, 30 лет с ним не виделся, хотя оба жили в одном городе. Счастье избаловало старика, и он часто бывал несносен.
Так как имение князя было благоприобретенное, то он имел право располагать им по произволу. Князь Урусов был очень скуп, но при этом иногда помогал большими суммами своим родственникам, наперед побранив их порядочно: нам же он никогда ничего не давал. Родители мои, хотя и нуждались, но никогда не просили у него денег. Однажды случилось, что батюшка занял у него 2000 рублей, и он не имел покоя от старика, пока не возвратил их, что принужден был сделать через пять дней после займа. При жизни еще матушки князь сделал свое духовное завещание, в котором назначил нам часть своего имения. Надеясь на сие, отец мой сделал после смерти матушки небольшие долги, что его еще больше расстроило; посему для него было очень тягостно давать каждому из нас по тысяче рублей в год.
Таким средствам соответствовал и род жизни моей. Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугой стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянной ложкой, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду.
Обращаюсь к событиям старого времени, когда бывший начальник Черноморского флота, в третьем колене матушке родственник, адмирал Мордвинов в 1807 году приехал со своим семейством из Крыма в Москву. В то время, по случаю войны с Францией, формировалось земское войско, и Мордвинов был избран в начальники ополчения Московской губернии. Батюшка, отставной подполковник, был назначен к нему старшим адъютантом. Как адмирал немного разумел в военном управлении, то всем делом у него распоряжался мой отец. На лето адмирал поместился с семейством и своей главной квартирой в селе Волнителе или Полуектове, принадлежащем князю Барятинскому и находящемся в 20 верстах от села Александровского князя Урусова, где мы жили. Мы ездили тогда к адмиралу, и он бывал у нас в деревне. 14 июля, в день моего рождения, он приехал к нам с семейством, и мне понравилась меньшая дочь его, Наталья Николаевна, мне ровесница.[16] Мне тогда был 14-й год; я тосковал, но не смел никому поверить своей тоски, ходил по ночам в саду один и писал имя ее на деревьях. Один из сих памятников должен еще теперь существовать. Имя ее вырезано на березе на одном из островов, что на большом пруду перед домом. Однажды тайком отправился я ввечеру на остров, вопреки запрещению, кататься на плотах по пруду; я вступил в бой с сердитыми лебедями, которые тогда яйца высиживали, и согнал их своим шестом, невзирая на поднятый ими крик. Вырезав имя ее на дереве и переправившись на противоположный берег пруда под прикрытием острова, я пришел домой другой дорогой, дабы никому не дать подозрения в моем тайном заявлении. Зиму мы проводили в Москве, и каждое воскресенье нас возили танцевать к Николаю Семеновичу, где страсть моя усиливалась, что было замечено братьями, которые стали смеяться надо мною; я краснел, скрывался, но не смел возражать им, дабы не увеличить подозрения.
В 1810 году Николай Семенович уехал в Петербург с семейством; в 1811 году я определился в службу и опять увидел Наталью Николаевну. Я был очень робок, и каждое слово мое более и более обнаруживало мои думы. Старики заметили сие, заметила и она; но трудно было узнать ее тогдашнее расположение; однако же, мне казалось, что она была не совсем равнодушна.
Дед мой Николай Ерофеевич Муравьев был генерал-инспектор во времена Екатерины. Он был человек умный и ученый, женился на Анне Андреевне Волковой, коей сестра была за Александром Александровичем Саблуковым, умер в чужих краях, где в зрелом возрасте продолжал свое образование. Он был также военным губернатором в Риге и получил от тамошнего дворянства диплом на рыцарство меченосцев. Отец мой родился в Риге. По смерти Николая Ерофеевича бабка моя вышла замуж за князя Александра Васильевича Урусова, который давно ее любил; но оба они были вспыльчивого нрава и с первого же дня поссорились, после чего жили врознь, когда же встречались, то продолжали ссориться. Бабка моя скончалась, помнится мне, в 1806 году. Она была женщина умная, но строптивого нрава, находилась в тесной связи с вдовой фельдмаршала графа Захара Григорьевича Чернышова Анной Родионовной, известной своей бойкостью и причудливостью.
Отец мой был некогда записан в Измайловском полку и на 16-м году от рождения поехал учиться в Страсбургский университет, где отличался своими успехами. Пробыв четыре года в чужих краях, он возвратился в Россию и вступил в морскую службу, был в 1788 году адъютантом у принца Нассау, участвовал в нескольких морских сражениях со шведами, и когда порученная в командование его галера, избитая ядрами, пошла ко дну, он, по спасении своего экипажа, последний бросился в воду с несколькими матросами. Будучи ловким плавателем, он, при небольшой на ноге ране, полученной им от корабельного осколка, надеялся достичь одного из наших судов, но был вытащен из воды шведами, взят в плен и отвезен в Стокгольм, где оставался около года. По размене пленных его назначили капитаном фрегата. В то время он женился на матери моей, Александре Михайловне Мордвиновой, дочери генерал-инженера Михаила Ивановича Мордвинова. В царствование Павла Петровича отец мой был неожиданно переведен в Елисаветградский гусарский полк майором и находился с полком в походе в Молдавии, откуда скоро возвратился в Петербург и вышел в отставку подполковником.
Матушка скончалась в 1809 году апреля 21-го дня, на 39-м году от роду. Наружность ее соответствовала прелестным качествам души. Причиной кончины ее было то, что она хотела, вопреки совету врачей, сама кормить брата Сергея, дабы не обидеть его против старших пятерых детей своих, которых сама вскормила. Кончины ее были еще причиной заботы и труды, перенесенные, почти на исходе беременности, при постели старшего брата моего Александра, находившегося при смерти от постигшей его сильной горячки. Матушка похоронена в Москве в Девичьем монастыре; над могилой, по желанию ее, посадили любимое ею дерево акацию, которую окружили железной решеткой – памятник, отличающийся простотой среди окружающих его камней и мраморов.
До женитьбы своей отец мой имел порядочное состояние, но не сохранил оного, так что у него оставалась только Петербургская отчина сельцо Сырец, состоящее из 90 душ, в том числе и приданое матушки. Впоследствии отец жил очень скромно и, как выше сказано, издерживая доходы свои единственно на наше воспитание, сам лично занимался образованием нашим. Теперь ему от роду 50 лет, день рождения его празднуем 15 сентября. По учреждению известного корпуса колонновожатых, батюшка ныне посвящает время и труды свои на образование собравшихся около него молодых людей, которых он готовит для службы, чем заслужил общую любовь и уважение. Перед отъездом моим из Москвы он был зачислен в квартирмейстерскую часть генерал-майором. Брат мой Михайла и Петр Колошин, состоящие при нем на службе, занимают места ближайших его помощников.
Старший брат мой Александр был коротко знаком с капитаном Сулимой, который принадлежал к масонской ложе и уговорил его вступить в ложу, где он в скором времени был возведен на степень великого мастера. Поводом к такому почету был его характер и увлекательное обхождение, которое в течение всей его жизни доставляло ему доброе расположение знакомых; но при ограниченных денежных средствах он в кругу нового своего братства тратил скудные остатки своих денег за оказываемый ему почет. Не знаю, в какую именно ложу он ездил; собрание у них были по средам, и Сулима всякий раз возвращался домой порядочно навеселе. Брат получал из ложи книги, в которых объяснялись условные масонские знаки, и он читал эти книги, когда ложился спать. Кровати наши стояли головами вместе одна против другой. Таясь от меня, он принимался за книгу, когда полагал, что я уснул, и тогда начинал читать, лежа на спине, но я не спал и, потихоньку перевернувшись на живот, смотрел к нему в книгу через изголовья кроватей. Таким образом, я вскоре выучился условным знакам масонов и удивлял брата и Сулиму знанием великой тайны их. Меня они стали приглашать в ложу, но я отказывался; между тем брат, который был еще новичком, хвалясь лестным для него доверием ребячливого братства и тайнами, в которые его посвятили, рассказывал мне отрывками об испытаниях, через которые он прошел, когда его принимали.
В числе частным образом у меня учившихся были двое дальних родственников наших Муравьевых, Артамон и Александр, которые вступили тоже в колонновожатые. Отец их Захар Матвеевич, прозванный нами сахар-медович, в самом деле сладко стлал в речах своих и постоянно рассказывал об осаде Очакова, в которой он участвовал, причем без милосердия лгал; впрочем, он был человек добрый. Артамон и Александр учились прежде в Москве, в обществе у моего отца, но оказались ленивыми, за что были прозваны у товарищей деревяшками. Оба они были склонны к шалостям и мало подавали мне надежды на успехи. Однако же впоследствии старший из них сделался внимательнее и подвинулся более меньшего в изучении математики. Он после перешел штабс-ротмистром в Кавалергардский полк и был адъютантом у графа Воронцова. Второй числился тем же чином в том же полку и служит адъютантом у фельдмаршала Барклая де Толли, с которым мать их, немка, Лизавета Карловна, находилась в родстве. Сестра их вышла замуж за генерал-интенданта армии Канкрина.
Мы часто бывали вместе, и к нам присоединился еще Матвей Муравьев-Апостол, о котором я выше упоминал. Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и я, не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением Contrat Social[17] Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться чрез пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумагу законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия, которые тогда определились колонновожатыми; в собрании их я прочитал законы, которые им понравились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правой рукой за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово «чока». Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю; но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства; но и тут ни у кого денег не оказалось, посему собирались к одному из нас в мундирных сюртуках. На собраниях читались записки, составляемые каждым из членов для усовершенствования законов товарищества, которые по обсуждении утверждались всеми. Между прочим постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею – столяром. Вступивший к нам юнкер Конной гвардии Синявин должен был заняться флотом. Мы еще положили всем носить на шее тесемку с пятью узлами, из коих развязывать ежегодно по одному. В день первого собрания, при развязывании последнего узла, мы должны были ехать на остров Чоку, лежащий подле Японии,[18] рекомендованный нам Синявиным и Перовским-старшим.
В то время проект наш никому не казался диким, и все занимались им как бы делом, в коем, однако же, условные знаки и одеяния всего более обращали на себя внимание. Не так быстро подвигалось составление общими силами устава общества, которого набралось не более трех писаных листов. Всем членам назначены были печати с изображением звания и ремесла каждого; но опять ни у кого денег недоставало, чтобы вырезать сии печати, на собраниях же каждый назывался своим именем, читанным наоборот с конца. Я надеялся еще включить в общество Михайлу Колошина, брата моего Михайлу и сына покойного Михаила Никитича Муравьева Никиту. Каждый из нас также представлял своих кандидатов, и Артамон Муравьев привел однажды колонновожатого Рамбурга, приличного молодого человека, служащего теперь поручиком в Гвардейском генеральном штабе; но Рамбург принадлежал уже к другому обществу, и потому он не решался вступить к нам без предварительного совещания со своим братством. Членами его общества были также офицеры Дурново, Александр Щербинин, Вильдеман, Деллингсгаузен и еще некоторые молодые офицеры наши; хотя я слышал о существовании сего общества, но не знал в точности цели оного, ибо члены, собираясь у Дурново, таились от других товарищей своих. По сей причине и Рамбургу не была вполне объявлена наша цель. Однажды, навестив меня, он обнаружил желание соединить вместе оба общества и выразил надежду, что можно будет согласовать обоюдные виды наши, о чем и говорил уже сочленам своим; но так как из числа их Вильдеман отъехал тогда в Ригу, то находил нужным обождать ответа его на посланное к нему о том письмо. Случившийся около того времени поход 1812 года расстроил все наши проекты, погрузившиеся в полное забвение.
Ребяческий бред, меня тогда занимавший, не имел никаких последствий для нас по службе, но он превратился в шутку, неприятную для моего старшего брата. Сознаваясь в том виновным, я впоследствии просил у Александра извинения в причиненном ему оскорблении. Замечая, что мы между собою перешептывались, Александр старался нас подслушать. Забравшись однажды в наше собрание, он смеялся над нами и выведывал о том, что у нас делалось. Показав товарищам своим заученные мною масонские знаки, я выделал их пред братом; ему было объявлено, что мы члены обширного общества, давно учрежденного для истребления масонов; мы пересылались между собою двусмысленными записками, написанными кровью, и перепускали их, будто по неосторожности, к Александру в руки. Старик Алексей Иванович Корсаков, дальний родственник и давнишний приятель отца моего и дяди Николая Михайловича Мордвинова, принял участие в нашей шутке. Он был некогда великим человеком между масонами, но, давно уже устранившись от ложи, передал мне оставшиеся у него масонские книги и тетради с разными знаками. Брат изумился, когда увидел драгоценности сии в наших руках. Тем более встревожился он, когда мы ему рассказали, что собираемся на Выборгской стороне в каком-то погребе, где ходим раздетыми наголо и клянемся истребить всех масонов до последнего. В газетах было известие о смерти в Вене какого-то графа Лихтенштейна (Lichtenstein), и я уверил брата, что граф этот был зарезан членами нашего общества, потому что хотел открыть нашу тайну. Кажется, что брат объявил о сем в своей ложе. Конечно, я заслуживаю всякого порицания за то, что имел жестокость воспользоваться легковерием брата и выставить его на посмеяние среди наших родных.
Едва не поссорился я однажды с Матвеем Муравьевым, которого в особенности любил. Сестра его была замужем за графом Ожаровским, управлявшим тогда в Царском Селе, с которым мы не были знакомы. Матвей, не предварив его, пригласил нас к нему ехать. Ожаровский удивился внезапному появлению у себя в доме общества незнакомых ему молодых людей, принял нас очень холодно, или, лучше сказать, никак не принял, и только что не предложил нам назад ехать. Мы провели у него с полчаса в Царском Селе, не знали, что делать, и возвратились в Петербург. Дорогой я посмеялся необдуманному поступку Матвея, за что он на меня рассердился и перестал было ходить ко мне; но вскоре мы помирились…
В начале 1812 года батюшка привез в Петербург брата Михайлу для определения его на службу. Михайла имел уже отличные познания в математике, в коей был сведущее своих экзаменаторов. Его немедленно взяли в колонновожатые с поручением преподавать науку в одном из классов. По прошествии двух недель после определения на службу его назначили экзаменатором и самого произвели по экзамену в офицеры. Из числа произведенных тогда 18 человек в офицеры брат был поставлен в списке старшим, Артамон Муравьев последним; вместе с ними были произведены Апраксин, граф Строганов, Лукаш, Глазов, оба Мейндорфы, Даненберг, Фаленберг, Цветков, Дитмар, Рамбург и пр. Из не выдержавших экзамены большая часть осталась колонновожатыми; двое: Бибиков и брат Артамона, Александр Муравьев поступили в инженеры, четверо в пионеры (в том числе некий Гарт) и двое в армию. Мне поручили отвести трех названных в инженерный департамент, где их экзаменовали в присутствии генерала Опермана и удостоили офицерского чина. Как всех польстило то, что колонновожатые, признанные неспособными для служения в нашем корпусе, найдены годными для офицерского звания в инженерах и пионерах; колонновожатые же Парис и Шрам, люди пожилые, были назначены для поступления офицерами в армию; но их предварительно отдали на несколько месяцев в кадетский корпус для обучения фронтовой службе, почему и остригли их под гребенку. Парис был добрый малый; он ничего не знал, но был уверен, что лучше всех знает. Ему казалось, на взгляд, под сорок лет. Он был очень дурен собою и без зубов, но постоянно любезничал и полагал, что все женщины в него влюбляются. Его произвели в прапорщики в 11-й егерский полк, откуда, как было слышно, он поступил в адъютанты к графу Паскевичу. Он находился в каком-то родстве с директоршей госпожой Брейткопф. Парис теперь вышел в отставку и намеревается поступить на службу в Голландию, откуда он называет себя уроженцем. Шрамов было у нас двое; их называли der junge und der alte kleine Schramm;[19] оба были глупые и добрые немцы и уже по пяти лет служили колонновожатыми.
Хотя старшего из них, как сказано, тогда перевели в армию, но полковник Толь не выдал своего земляка и впоследствии перевел его офицером в квартирмейстерскую часть. У нас до князя Волконского вообще считался достойным офицером тот, который хорошо рисовал планы; Шрамы же в сем искусстве отличались от своих товарищей, но, кроме того, не имели никакого образования. Люди они были смирные, но очень плохие.
На другой день производства брата Михайлы в офицеры его назначили дежурным смотрителем над колонновожатыми и учителем математики, и он занял мое место; хотя ему тогда было только 15 лет от роду, но он пользовался уважением своих начальников и товарищей. Дежурные смотрители водили колонновожатых учиться фронтовой службе в экзерциргауз, где их ставили во фронт для командования взводами. Это делалось по окончании экзаменов до объявления высочайшим приказом производства в офицеры. Однажды, когда была моя очередь вести колонновожатых на ученье, был приведен в экзерциргауз Семеновского полка баталион, в котором находился прапорщик Чичерин, прекрасный собою и образованный молодой человек. Это случилось зимой, когда в камине экзерциргауза разводят огонь, около которого офицеры греются до начала учения. На то время огня не было. Семеновские офицеры подошли к камину, и Чичерин (с которым я немного был уже знаком), разговаривая со мною, сказал при всех, что если колонновожатых водят на ученье, то надобно бы, по крайней мере, заставить их таскать дрова в камин. Услышав сию насмешку, я смешался и не нашелся отвечать Чичерину, но по возвращении домой написал ему письмо, в котором напомнил дерзкие слова его и просил удовлетворения, с предоставлением ему выбрать к следующему дню оружие и место для поединка. Между тем я пошел к некоторым из представленных в офицеры колонновожатым и, рассказав им о случившемся, предложил, чтобы они, в случае смерти моей, по очереди дрались бы после меня с Чичериным, пока его не убьют. Товарищи благодарили меня и с удовольствием приняли мое предложение. Но вскоре я получил от Чичерина ответ, которым он извинялся на трех страницах в сказанных им словах, сознаваясь, что он необдуманно произнес их, и прося меня показать письмо его товарищам моим, перед коими он также извинялся, что я исполнил и вновь принял от товарищей выражение признательности за то, что вступился за их честь. После сего я иногда видался с Чичериным во время похода и короче познакомился с ним. Он умер в Праге от раны, полученной в сражении под Кульмом.
В феврале месяце 1812 года приехали в Петербург Колошины для поступления в службу. Они очень успешно учились в Москве у моего отца, отлично выдержали экзамен и были приняты колонновожатыми. Колошины остановились у нас и жили с нами до выступления в поход. Мать их, Мария Николаевна, упросила князя Волконского, чтобы командировали второго сына ее, Петра, на съемку в Финляндию, куда он и отправился, через что он много потерял по службе, ибо не участвовал в военных действиях 1812 года. Петр Колошин в Москве еще подружился с братом моим Михайлой. Он хорошо учился, нрав его тихий, скромный, застенчивый и романтический. Он в особенности любит литературные занятия и, будучи душой поэт, легко пишет стихи. Пребывание в Финляндии успокоило в нем первый порыв к военной службе, и он, по совету брата моего Михайлы, принял должность помощника в училище отца моего, где с успехом преподает колонновожатым математические науки, в которых он имеет обширные сведения, и пользуется общим расположением своих сослуживцев и знакомых.
Французские войска были уже на границах наших. Молодые офицеры мечтали о предстоявшей им бивачной жизни и о кочевом странствовании вне пределов столицы, помимо часто досадливых требований гарнизонной службы. Они увлекались мыслью, что в бою с неприятелем уподобятся героям древности, когда каждый мог ознаменовать себя личной храбростью. Повествования о подвигах древних рыцарей и примеры воинской доблести, почерпаемой при чтении жизни героев, действительно служат к пробуждению воинского духа между молодыми людьми. Я слышал от А. П. Ермолова, что накануне Бородинского сражения он читал с графом Кутайсовым, убитым в сем сражении, песни Фингала.[20] Понятия о святости обязанностей, конечно, обеспечивают исполнение оной, но примеры отличных подвигов украшают сию обязанность.
Гвардейские полки выступили в поход, помнится мне, в феврале месяце; многие из офицеров наших были расписаны по войскам и выехали из Петербурга. Нас трех братьев и старшего Колошина, Михайлу (который был еще колонновожатым), командировали в Вильну, в главную квартиру под начальство квартирмейстера 1-й западной армии генерал-майора Мухина. Оттуда Колошин назначался к легкой гвардейской кавалерийской дивизии, при которой был обер-квартирмейстером капитан Теннер, и коей командовал генерал-адъютант Уваров. Нам позволили прожить несколько дней в Петербурге, дабы экипироваться к походу; но многого нам не было нужно. Не имея больших денег, мы не могли иметь и порядочной обмундировки: сшили себе по шинели, по двое рейтуз, купили по седлу, по паре пистолетов и просили князя Волконского позволить нам скорее отправиться. Князь несколько дней еще задержал нас, наконец, обняв, отпустил. Мы выехали из Петербурга, помнится мне, 30 марта в среду.
Батюшка прислал нам на экипировку годовое положение вперед с небольшой прибавкой. Меня экипировал в поход расчетливый дядя мой Николай Михайлович Мордвинов. Денег потратил он немного, но зато все купил дешевое и негодное, кроме седла. Дядя называл себя знатоком по части снабжения в поход, ссылаясь на свой поход под Очаков, в который он отправлялся с двумя колясками и удивлялся, что в нынешние времена не позволяли иметь телег. Он также находил, что ныне все стало дороже, и купил нам несколько вещей совершенно ненужных, утверждая, что они его спасали во время похода. Безуспешны были наши советы не делать сих покупок, ибо деньги были присланы ему от батюшки для раздачи нам; но дядя настоял на своем и между прочими вещами купил нам чайный погребец. Показывая ларец, он рассказывал нам все выгоды его.
– Племяннички, – говорил он, – захотите вы чай пить? Вот вам чашки (синеватого цвета, кривые и величиной несколько поболее рюмки). В походе вам водки захочется, вот штоф, налейте в него эссенции; вот тут для держания чая есть и жестянка, вот и стакан; смотрите, все есть, целое хозяйство, а ящик-то весь железом обит, так что он никогда не разобьется; всему же цена только восемь рублей, а вы бы двадцать заплатили.
– Дядюшка, нам его некуда девать на вьюках.
– Молчите, племяннички; скажете мне спасибо, вспомните слова мои, вы еще в походах не бывали.
Мы благодарили дядю, взяли ящик и отправили его, с другими лишними вещами, в Сырецкую деревню, заменив его медным чайником и стаканами. У нас были в услужении молодые, наших лет, люди, подготовленные батюшкой, столь же малоопытные, как и мы, но усердные и верные: у брата Александра – Владимир; мой слуга назывался Николай Воронин, половчее и несколько постарее прочих; у брата же Михайлы был Петр Дамаскин, почти еще мальчик, но грамотный.
Часть вторая Со времени первого выезда из Петербурга до второго в 1813 году Первая кампания (Писано в Тифлисе 16 ноября 1817 г.)
Отправляясь в Вильну, мы избрали себе старшиной на время дороги брата Александра как личность опытнее других в путешествиях. Ему предоставлено было назначать ночлеги, обеды, отдыхи, и мы обязывались исполнять его приказания. По предложению Александра всем были розданы должности: мне поручено было платить за всех прогоны, брату Михайле носить подорожные к смотрителям и хлопотать о лошадях, а Колошину заказывать и платить за обеды и чаи. Между слугами завели очередных, которые должны были смотреть, чтобы ямщики по ночам не дремали. Все это нас много забавляло; да иначе и быть не могло: первый еще раз на свободе, и где же? На большой дороге, где нет ни начальства, ни полиции. Не обошлось и без некоторого буйства: сворачивали в снег встречающие экипажи, били ямщиков, шумели с почтмейстерами и проч.
Приехали в город Лугу, откуда поворотили влево проселком, чтобы побывать в отцовской родовой вотчине Сырце. Мы двое старших очень обрадовались увидеть сие место, где провели ребяческий возраст: я до седьмого года от рождения, брат же до девятого. Все еще оставалось у меня в памяти после десятилетнего отсутствия, где какие картины висели, расположение мебели, часы с кукушкой и проч. Первое движение наше было рассыпаться по всем комнатам, все осмотреть, избегать лестницы и даже чердак, как будто чего-нибудь искали. Старые слуги отца обрадовались молодым господам; некоторых нашли мы поседевшими, иные представляли нам детей своих, которых мы прежде не видели, и скоро около нас собрались всякого возраста и роста мальчики, которые набивали нам трубки и дрались между собою за честь услужить барину. Старые мужики и бабы также сбежались, принося в дар кур, яйца и овощи. Сыскался между дворовыми какой-то повар, и поспел обед, состоявший из множества блюд, все куриных и яичных.
С мундиром приобретается у молодых людей как будто право своевольничать, и сундуки были отперты. Александр премудро разговаривал то с земским, то с ключником, то со старостой и слушал со вниманием рассказы их о посеве и жалобы, не понимая ничего. Ему, как старшему, и следовало принять на себя важный вид, дабы нас не сочли за детей. Между тем он с нами вместе осматривал сундуки, и мы смело друг друга уверяли, что батюшка за то не может сердиться, потому что мы в поход отправлялись. Михайла достал какой-то двухаршинный кусок красного кумача, который он долго с собою возил и, наконец, употребил, кажется, на подкладку. Я добыл себе отцовскую старую гусарскую лядунку, которая у меня весь поход в чемодане везлась; после же носил ее слуга мой, Артемий Морозов (которого я взял с собою в поход 1813 года и одел донским казаком). Александр приобрел какую-то шведскую саблю, которая от ржавчины не вынималась из ножен. Кроме того, мы еще пополнили свою походную посуду кое-какими чайниками и стаканами. Затем старый земский Спиридон Морозов, опасаясь ответственности, принес нам реестр вещам, оставленным батюшкой в деревне, прося нас сделать на нем отметки. Глядя друг на друга, мы вымарали из реестра взятые вещи и подписали его. Батюшка впоследствии несколько погневался за наше самоуправство, но тем и кончилось.
Мы поместились в отцовском кабинете, приказали принести большой запас дров и во все время пребывания нашего в деревне содержали неугасаемое пламя в камине, у коего поставили двух мальчиков для наблюдения за тем, чтобы огонь не погас. К вечеру перепилась почти вся старая дворня, причем не обошлось без драк и скандалезных происшествий, в коих нам доводилось судить ссорившихся и успокаивать шумливых убедительными речами. Иные хотели с нами отправляться на войну, и мы сами не рады были возбудившемуся появлением нашим буйному духу.
Обрадованный или испуганный внезапным приездом нашим, приказчик Артемий прискакал из села Мроктина, где он обыкновенно пребывает и уже 15 лет как постоянно находится под каплею,[21] от чего, может быть, и сделался заикой. Желая показать первенство свое над другими, он выступил вперед и собирался сказать нам речь, но язык его не зашевелился; он наклонился под углом 45 градусов к нам, выставил одну ногу вперед, дабы не упасть, и оказался в таком положении, что если б ему один только золотник на голову положить, то, перевесившись, он лежал бы у нас в ногах. Левой рукой держался он за кушак, правой же делал различные знаки, желая что-то сказать, но судорожное молчание его только изредка прерывалось отрывистыми восклицаниями: «Батюшка Александр Николаевич! Батюшка Николай Николаевич! Батюшка Михайло Николаевич! А вас (указывая на Колошина), виноват, не знаю, как зовут; того, того, того. Хлеб, сударь того, того, десяточек яиц! Шесть курочек того, того, урожай, того, того, того, сударь, оброк. Отцы родные! Соколики!» – и пр. Мы его уговорили уйти и заснуть; он послушался, но на другой день, встав до солнца, опять пришел и простоял в углу занимаемой нами комнаты в том же нравственном расположении, как накануне.
Хотелось мне объехать старых соседей. Я помнил, что была какая-то пожилая соседка Парасковья Федоровна, которая жила в двух верстах от нас, помнил даже дорогу к ней. Приказав оседлать лошадь, я навестил ее и нашел ту же старушку. В доме ее находилось все в том же положении, как я за 12 лет видел: на стене висел в круглой черной рамке тот же барельефом сделанный монумент Петра Великого, по окнам висели те же клетки с канарейками, те же кошки с котятами, которые меня царапали и с которыми мне играть запрещали – разумеется, потомки прежних канареек и котят. Я заметил только, что у Парасковьи Федоровны выросли седые, редкие, но довольно длинные усы, чего у нее прежде не было. Проведя у нее около часа, я возвратился к нашему пылающему камину.
Я навестил также безрукого и безногого соседа, барона Роткирха, которого видел в моем ребячестве. Он тогда жил с женатым братом своим в другом селе; дом и садик у них были хорошенькие. Ныне же, после развода брата его с женой, он остался одинокий. При разделе, в коем его, может быть, и обидели, ему досталась изба с небольшим участком земли, несколько дворов крестьян и слуга. Этот барон Роткирх родился без рук и без ног; на месте ног у него две маленькие лапки длиной вершков в шесть с пальцами. Туловище и голова его очень большие. Он получил некоторое образование и около 50 уже лет сидит неподвижно на своих лапках, занимаясь чтением. Листы лежащей пред ним на пюпитре книги переворачивает он языком и зубами. Выражение лица его приятное и умное, разговор занимательный; он хорошо пишет своими лапками, даже рисует и вырезает из бумаги разные игрушки для детей. Он езжал к нам на дрожках, сидя на кожаной подушке, с которой его вносили на ремнях в комнату; слуга кормил его, стоя за стулом, и давал ему даже табак нюхать. Когда Роткирх жил в своем семействе с матерью, которую очень любил, он не думал о своей будущности; круг соседей их был многолюден, и они находили удовольствие в беседе с человеком, довольно начитанным. Я навестил несчастного вечером, уже в сумерках. Он сидел на стуле один без свечки: слуга его часто отлучался, оставляя его одного на целые сутки, иногда с отпертыми настежь дверьми. Слова его ни к чему не служили, и ему приходилось терпеть холод, ибо никто его не посещает. В избе заметна бедность, но беспомощный страдалец с терпением и в молчании переносит свою горькую участь.
– Антон Антонович, – сказал я ему, – сочувствую вашему несчастию и желал бы посещением своим, хотя на минуту, утешить вас.
– Благодарю вас, Николай Николаевич, – отвечал он. – И батюшка ваш не оставлял меня. Вы видите, мое положение не то, что прежде было. В течение пятидесятилетней жизни моей я привык к терпению, и что же больше делать? Вот уже почти десять лет, как я заброшен, забыт и десять лет молчу. Теперь уже недолго ждать конца: Бог милостив и прекратит мою жизнь.
Я возвратился к камину грустный и застал дома другого соседа. Опишу его и виденное у него в доме как картину быта мелкого помещика и деревенской его жизни.
То был Петр Семенович Муравьев, дальний родственник наш, человек лет 50-ти, когда-то записанный сержантом в Измайловском полку, откуда он был выпущен, как при Екатерине водилось, капитанским чином по армии; вышел в отставку, никогда не служивши, и поселился на житье в своем сельце Радгуси, отстоящем в пяти верстах от нашего Сырца. Тут он построил себе порядочный дом, копит деньги и ездит каждые пять или шесть лет на лошадях своих крестьян в Москву; иногда бывает в Петербурге, где останавливается в Ямской слободе у знакомых ямщиков, откуда справляет в зеленой тележке визиты к своим родственникам, засиживаясь у них по целым дням; если же не с ними, то пьянствует с их дворовыми людьми. Хотя человек этот без всякого воспитания, но он по носимой им фамилии ласково принимаем моим отцом, к которому имеет большое уважение. Обыкновенное общество Петра Семеновича в деревне состоит из попов и приказчиков околотка, с которыми он пьет и нередко дерется, причем случалось, что его обкрадывали и пьяного привозили на телеге домой без часов или других вещей, при нем находившихся. Петр Семенович известен также в околотке своими раскрашенными дугами и коренными лошадьми, на которых он иногда тратит деньги. Он жестоко обходится со своими крестьянами и дворовыми людьми, насильственно бесчестит девок и в пьянстве своем палками наказывает баб, раздев их прежде наголо и привязав к кресту, на сей предмет сделанному. Такая, по крайней мере, неслась о нем дурная слава. Вместе с этим он большой хлебосол. С ним в доме живут баба-наложница, староста и кучер Фомка; при нем же находилась и побочная дочь его, хорошенькая девочка, лет 18-ти, которую он часто бивал по праву родительскому; говорили, что и она вела жизнь не совсем скромную. Едва ли проходил год, в который не бежал бы от него кто-либо из его дворовых людей, с уворованием денег из накопляемой им казны, которая хранится в амбаре, в окованном сундуке за несколькими замками, из коих первый у него самого всегда в руке. Некоторые из сих беглых людей были пойманы и зарезались. Затем из дворовой прислуги оставался при Петре Семеновиче только один десятилетний мальчик, который за ним безотлучно носил табакерку и платок в те дни, когда к нему приезжали гости. Мальчика этого называл он Шер и постоянно драл его за уши.
Услышав о приезде нашем, Петр Семенович крайне обрадовался, прискакал к нам и, приказав вытопить у себя баню, звал нас на другой день к себе обедать. На другой день мы отправились к Петру Семеновичу; обед был хороший. Хозяин всячески старался угождать нам, и, хотя то было во время Великого поста, он велел созвать всех деревенских баб и девок, поставил их в комнату около стен и приказал им песни петь. Между тем сам он не переставал пить и нас хотел к тому же склонить; но мы были осторожны и выливали вино под стол на пол. Хозяин начал было плясать, но не будучи более в состоянии ходить, он приказал себя по комнатам водить, только приплясывал и кланялся нам в ноги с поддержкой, разумеется, старосты и Фомки-кучера. Перед ним шел наименованный Шер с платком и табакеркой барина, не перестававшего твердить нам:
– Батюшка ваш, братец мой Николай Николаевич, которого я много люблю и почитаю, сказал мне: Петр Семенович в тебе ума палата! Ах, не будь я Муравьев, дай башмаки к царю пойду.
Пьяный надел он милиционную шляпу свою с зеленым султаном, препоясался саблею, и в таком виде волокли его по комнатам. Когда ввечеру мы в бане мылись, то Фомка и староста привели его под руки к нам пьяного и еще наголо раздетого.
Было поздно. Мы хотели возвратиться домой, но кучера наши были пьяны, а Петр Семенович не велел саней закладывать. Александр остался с ним, мы же разошлись по другим комнатам и легли на полу как были в мундирах, подложив шинели в голову. Только что мы начали засыпать, как Петр Семенович пришел к нам с бабами и приказал им петь; мы вскочили и хотели уйти, но он громко приказал певицам молчать, и все замолчали. Тогда, став впереди их, он провел рукою по воздуху и возгласил им, при самых наглых выражениях, что он их барин.
– Так ли? – заревел им барин.
– Так, батюшка Петр Семенович, – отвечали они, кланяясь со страху.
– Так пойте же громко и хорошо, а не то я вас! Греметь! – и все загремело. Комнаты наполнились певицами, от коих некуда было деваться. Колошин шепнул на ухо Михайле, что надобно собираться домой, хотя бы то было пешком. Петр Семенович, услышав это, напал на Колошина:
– Что ты по-французски-то толкуешь, калмык, башкирец и пр., вон отсюда!
Колошин, опасаясь толчка от сумасброда, готовился было предупредить его, но был задержан братом. После того сосед наш, рассердившись, отпустил нас, и мы возвратились домой очень поздно.
На следующий день мы получили от Петра Семеновича записку, в которой он просил нас опять к себе, чтобы извиниться перед нами. Не желая оскорбить соседа, мы поехали и застали его на крыльце, окруженным всем своим вечерним штатом: тот же староста с кучером Фомкой держали его под руки. Увидев нас издали, он, как блудный сын, пал ниц на ступенях крыльца и вопил: «Виноват!», не будучи в лучшем состоянии, как накануне. Опасаясь возобновления прошедшего, мы провели у него с полчаса и поспешили возвратиться домой; он же, по обычаю своему, продолжал гулять таким образом, не выпуская день и ночь баб из своих хором.
– Такое у меня сердце! – говорил Петр Семенович.
После пятидневного пребывания в Сырце, мы поехали обратно в Лугу, откуда продолжали свой путь далее.
Перегонов пять за Псковом была почтовая станция Синская, на берегу реки Великой, через которую нам доводилось переправиться для перемены наших уставших от долгого перехода обывательских лошадей. Мы тащились ночью почти всю станцию пешком и, наконец, увидели впереди огонек на почтовом дворе за рекой Великой, на которой лед уже было тронулся, но остановился и снова примерз от бывшего в последние две ночи мороза. На реке оставался только след старого пути, которого извозчики наши не знали и потому поехали прямо. Первые сани провалились сквозь лед недалеко от берега, где еще не было глубоко, и их скоро вытащили.
Ночь была темная, холодная, река широкая и глубокая, опасно было ее переехать без проводника; но, видя огонек, я решился и, приказав саням дожидаться на берегу, пустился пешком ощупью по льду, который подо мною трещал. В надежде привести с почты проводника я продолжал путь свой, но отошедши сажень двадцать, когда я был на самой середине реки, лед подо мною вдруг обрушился, и я провалился. На мне был тулуп и сабля, которые меня на дно тащили. Едва успел я руками опереться о края проруби, как ноги стало вверх под лед подымать и волочить по течению. Я упирался, сколько сил было, руками об лед, чтобы вылезть; но лед ломался под руками, и прорубь становилась обширнее. Теряя надежду вылезть, я кричал братьям:
– Прорубь, прорубь!
Но они, не зная, что я в нее провалился, отвечали:
– Прорубь, так обойди!
Тогда я в отчаянии закричал им:
– Братья, помогите, тону! – и, говорят, таким диким голосом, что они испугались.
Они все бросились искать меня по реке. Александр прежде всех нашел меня по голосу и, прибежав к проруби, не видя меня в темноте и полагая, что я уже под водой, с поспешностью бросился в прорубь, чтобы меня вытащить, и ощупал меня. Мы держались друг за друга одной рукой, другой же цеплялись за лед, чтобы вылезть, но лед все ломился. Тут подбежал Петр, слуга брата Михайлы, который был тогда еще небольшим мальчиком; лед выдержал его, и он нам помог вылезть. Между тем Колошин и брат Михайла, которые бежали ко мне на помощь в другую сторону, тоже провалились вместе; их вытащил мой слуга.
Возвратившись на берег, мы собрались, перекликаясь, и пошли в сторону отыскивать какой-нибудь ночлег, чтобы осушиться и обогреться. С версту тащились мы без дороги, по глубокому снегу; все на нас обледенело, и мы, наконец, добрались до небольшой деревушки, где забрались на печь и оттаяли. Тут и ночевали. На другой день, приехав к реке, увидели стежку, по которой можно было ехать, и переехали благополучно. Но прежде сего брат Михайла отыскал проводников, которые на время ростепели назначаются к сему месту от земской полиции, с приказанием сменяться на берегу день и ночь, и которых накануне не было. Он, объяснив им виновность их, приговорил к наказанию и приказал при себе же наказать, после чего внушал им словами, как всякий человек должен исполнять свою обязанность, и отпустил их.
В избе, где мы ночевали, был небольшой мальчик, коего черты и выражение лица разительно напоминали мне Наталью Николаевну Мордвинову. Набросав лик его карандашом на лоскуте бумаги, я не расставался с сим изображением во все время похода. В 1815 году с помощью сего очерка мне удалось с памяти нарисовать портрет ее в миниатюре…
Предыдущий случай на реке Великой не придал нам, однако, благоразумия. Несколько станций не доезжая города Видры, извозчики предложили нам ехать кратчайшей верст на 8 дорогой по льду чрез Браславское озеро, и мы пустились тоже ночью. Извозчики заблудились на озере, потому что метель совершенно занесла дорогу. Мы кружили по всему озеру, перебираясь чрез трещины; небо закрылось облаками, и не было видно звезд; караван наш вдруг остановился. Коренная лошадь в передовых санях провалилась, мы соскочили, а извозчик бежал. Лошадь его действительно сидела задними ногами и брюхом в проруби, и лед кругом трещал. Долго мы на этом месте бились, лошадей вытащили; но мы еще с час после того шли пешком по озеру, наконец, прибыли к какому-то селению на берегу и закаялись ночью по льду более не пускаться. Мы переночевали в селении, куда и беглый извозчик наш явился. Он уверял, что три раза обежал все озеро, и лежал у нас в ногах. Его простили.
К следующей ночи прибыли мы на станцию, расположенную в лесу. Смотритель был какой-то польский шляхтич по имени Адамович. Он не хотел нам дать ни лошадей, ни жалобной книги. Мужик он был рослый, сильный и грубый. Однако мы собирались с ним расправиться, и ему бы плохо пришлось, если б не догадался уйти до лясу, куда увел с собою всех лошадей и извозчиков, оставив нас на станции одних. Мы поставили свой караул у дверей, чтобы захватить первого, кто явится; показался староста, его схватили и угрозами заставили привести лошадей. Мы отправились далее. Адамович, как я после узнал, вступил во французскую службу, где был гусаром.
Мы поехали весьма медленно, потому что проезжих в армию было очень много, выставлены же были на станциях обывательские изнуренные лошади, отчего часто встречались остановки.
Из города Видры Александр поехал вперед для приготовления нам в Вильне общей квартиры. Трех станций не доезжая Вильны, есть почтовый двор в лесу, помнится мне, Березово, где смотритель был также шляхтич и большой плут. Он хотел взять с нас двойные прогоны и для достижения своей цели услал почтовых лошадей в лес, за что был нами побит, но без пользы. Дело происходило под вечер. Видя, что нас тут бы долго задержали, мы отправили брата Михайлу с Кузьмой, слугой Колошина, верхом на собственных лошадях смотрителя в сторону, искать какого-либо места или селения, чтобы добыть там каких-нибудь лошадей. К утру брат возвратился в польской бричке, а перед ним Кузьма гнал табун лошадей с крестьянами. Выбрав из них лучших, остальных мы отпустили; почтмейстера же еще побили и отправились в путь.
Вот каким образом брат Михайла разжился лошадьми. Со станции поехал он лесом по стежке, не зная сам куда. Проехав версты четыре, он прибыл на фольварк и пошел прямо к пану, выдавая себя за полковника, Кузьму же в мундире денщика за своего адъютанта. Пан потчевал их и представил им своих детей; когда же дело дошло до требования, то пан стал ломаться, и брат не иначе, как угрозами, мог вызвать к себе старосту, которому приказал привести лошадей, а сам уснул. Поутру староста привел четырех лошадей; но брат, не будучи тем доволен, пошел сам с нареченным адъютантом своим по деревне, начав с крайнего двора. Они стали выгонять хозяев из домов, и по мере того, как они оставляли свои избы, Кузьма забирал со двора лошадей, брат же расправлялся нагайкой с собравшейся на улице толпой, не допуская возвращения крестьян к своим дворам. Некоторые из них стали, однако, противиться и, схватив палки, подошли к Михайле с угрозами. Тогда он выхватил пистолет и, приложившись на них, закричал, что убьет первого из них, кто приблизится. Крестьяне испугались и по приказанию брата нарядили извозчиков к согнанным лошадям, с которыми он явился к нам на станцию.[22]
Подъезжая к станции Боярели, мы увидели в поле учение стоявших тут двух егерских баталионов и на короткое время остановились посмотреть различные построения войска. Мысли наши обращались к предстоявшим военным действиям, коих желали скорее увидеть начало. В Боярелях смотритель был какой-то старый важный пан; он имел двух хорошеньких дочерей, за которыми волочились пришедшие после ученья егерские офицеры.
Наконец прибыли мы к вечеру в местечко Неменчино, откуда оставалось только 30 верст до Вильны. Мы остановились ночевать, дабы приехать в Вильну днем. Хозяин корчмы, где мы остановились, был жид. Он имел двух прекрасных дочерей, из коих старшая называлась Белла. Брат Михайла весь вечер ухаживал за нею с Колошиным. Прелестная еврейка приобрела знаменитость после поцелуя, данного ей государем в проезд его через Неменчино. Впоследствии она переехала в Вильну, где сделалась известной в высшем кругу военной знати главной квартиры.
Мы надеялись на другой день рано приехать в Вильну; но лошади попались такие слабые, что мы дотащились только ночью. Мы нашли у заставы записку от брата Александра, а вскоре и его самого спящим в квартире свиты Его Величества капитана Сазонова. Усталые, мы сами тут же подремали, а на другой день получили квартиру у пана Стаховского в Рудницкой улице.[23] К нам присоединился, чтобы вместе жить, по производству в офицеры, прежний товарищ мой, а тогда адъютант князя П. М. Волконского, прапорщик Дурново.[24]
Мы явились к генерал-квартирмейстеру Мухину. Занятий было мало, и потому он приказал нам только дежурить при нем. Помню, что в мое дежурство приехал в Вильну государь и что я просидел во дворце до 2-го или 3-го часа утра (по полуночи). Мухин был человек пустой и, говорят, довольно упрямый, бестолковый; образование он не имел, наружностью же был похож на состарившегося кантониста. При нем находился сын его колонновожатый, умненькой мальчик; адъютантами при нем состояли свиты Его Величества поручик Озерской, человек очень простой, и прапорщик Десезар, офицер 4-го, помнится мне, егерского полка.
Колошин явился к своему начальнику капитану Теннеру, обер-квартирмейстеру легкой гвардейской кавалерийской дивизии, коей командовал генерал-адъютант Уваров.
Скоро начались увеселения в Вильне, балы, театры; но мы не могли в них участвовать по нашему малому достатку. Когда мы купили лошадей, то перестали даже одно время чай пить. Мы жили артелью и кое-как продовольствовались. У нас было несколько книг, мы занимались чтением. Из товарищей мы знались со Щербининым, Лукашем, Глазовым, Колычевым, ходили и к Михаилу Федоровичу Орлову, который тогда состоял адъютантом при князе П. М. Волконском. Тяжко было таким образом перебиваться пополам с нуждой. Новых знакомых мы не заводили и более дома сидели. Такое существование неминуемо должно иметь влияние и на успехи по службе. Однако же брат Александр с трудом переносил такой род жизни. Он пустился в свет и ухаживал за дочерью полицеймейстера Вейса. Она после вышла замуж за генерал-адъютанта князя Трубецкого. Мы познакомились с братом ее, который служит ныне в лейб-гвардии Уланском полку. Александр волочился еще за панной Удинцувой, пленившей красотой своею всех офицеров главной квартиры. Дурново был в особенности занят этой знаменитостью лучшей публики тогдашней Вильны. При всем этом нужда заставляла и брата Александра умеряться в своем образе жизни. Мы были умерены и в честолюбивых видах своих. Однажды, в разговоре между собою, каждый из нас излагал, какой бы почести желал достичь по окончании войны, и я объявил, что останусь доволен одним Владимирским крестом в петлицу.
Надобно было покупать лошадей, по одной вьючной и по одной верховой каждому. Брат Михайла был обманут на первой лошади цыганом, а на другой шталмейстером какого-то меклен-, или ольденбургского принца. Он ходил о последнем жаловаться самому принцу; но немец объявил ему, что никогда не водится возвращать по таким причинам лошадей и что у него на то были глаза. Брату был 16-й год, он никогда не покупал лошадей и не вообразил себе, чтобы принц и генерал мог обмануть бедного офицера; но делать было нечего. Итак, деньги его почти все пропали на приобретение двух разбитых ногами лошадей, помочь же сему было нечем.
Покупая для себя лошадей, я прежде добыл доброго мерина под вьюк; под верх же нашел на конюшне у какого-то польского пана двух лошадей, которых не продавали врознь. Мы их купили с Колошиным. За свою (гнедой шерсти) заплатил я 650 рублей, за другую же, серую, Колошин заплатил только 600 рублей. При сем произошла между нами небольшая размолвка, кончившаяся примирением и тем, что моя лошадь была названа Кастор, а его Поллукс, в знак неувядаемой между нами дружбы.
В Вильне, за замковыми воротами, находится отдельная крутая гора с остатками древнего замка литовских князей, от которой городские ворота получили название замковых. Среди сих романтических развалин была любимая прогулка моя. Часто ходил я туда и просиживал на камне, под сводами древнего здания иногда до поздней ночи. Тут в беспредельном воображении моем предавался я мечтам о будущей своей жизни, к чему действительно способствовала очаровательная местность. Среди ночного мрака, сквозь провалившийся свод виднелось небо, усыпанное звездами; между тем восходившая из-за гор луна освещала струи речки Вилейки, протекающей у подошвы горы. В городе по домам засвечивались огни, часовые начинали перекликаться, городовой колокол бил ночные часы. Конечно, не могли быть порядочны мысли, в то время меня занимавшие; но я считал себя как бы одним во всей природе, и ничто не препятствовало моему созерцательному расположению духа. Помышляя о своей страсти, мне приходило в голову броситься со скалы в каменистую речку; и я чертил имя ее на камне среди развалин. Теперь нашел бы еще сии очерки. Колошин хотел знать причины моей тоски, и я повел его на таинственную замковую гору, куда мы с ним приходили беседовать. Скоро замковая гора сделалась ежедневной прогулкой всего нашего товарищеского круга, и мы приходили туда любоваться видом окрестностей. Во время одиноких посещений замковой горы я написал «Две ночи на развалинах». Мутные послания сии выражают тогдашнее состояние души моей и мыслей.
С замковой горы видны были на обширном пространстве два форштадта города с частью их окрестностей. Так как у нас не было занятий по службе, то в прогулках на гору пришла нам мысль снять на план окрестность Вильны; но у нас не было инструмента, и потому надобно было его с проката нанять. Нашли какую-то старую мензулу которая, хотя и отдавалась поденно за небольшую плату, но и то, по тогдашним карманным обстоятельствам, было для нас несколько накладно, почему мы пустились на хитрости.
С нами жил Дурново, человек с достатком; о съемке планов он не имел понятия. Мы убедили его в пользе, которую подобное занятие принесло бы ему на службе, и склонили его быть участником в нашем предприятии, к чему, впрочем, его более всего завлекло то, что пройдет слух о его прилежании к науке и к занятиям офицера квартирмейстерской части. И так он принял на себя часть расходов. Вехи, колья и инструменты носили за нами жиды-факторы, которые показывали особое уважение к Дурново, за которым и мы всячески ухаживали, дабы он, соскучившись, не раздумал бы участвовать в съемке. Когда жиды приставали к нам за деньгами, то их направляли к Дурново, который их щедро награждал, почему мы даже называли его дядюшкой, в шутку. Нам надобно было иметь частое сообщение через реку Вилию, потому что я стоял с инструментом на замковой горе, а брат Михайла с вехой забирал точки на другом берегу реки. Дурново был прикомандирован к брату и платил за перевозы через реку. Таким образом, помогал он нам в съемке плана.
Со всем этим Дурново ничему не научился; он подходил иногда к инструменту, ничего не понимая, и более забавлялся киданием камушков в воду; случалось ему по неосторожности толкнуть инструмент и двинуть его с места, что очень неприятно; но как было не потерпеть от такого щедрого товарища?
Через два дня стало везде известно, что мы занимаемся съемкой окрестностей Вильны, ибо Дурново не замедлил похвалиться своим участием в этом деле. Но дорогой дядюшка скоро отстал от нас, когда ему довелось ходить по болотам и лазить по крутизнам и когда ему негде было присесть. Дурново простился с нами, но мы еще продолжали съемку без него. Жиды тоже стали отставать от нас. Скоро мы были вынуждены оставить начатую нами съемку по причинам, которые будут ниже объяснены.
В то время был прислан от Наполеона к государю генерал Нарбонн, который привез мирные предложения, но такого рода, что на них нельзя было согласиться. Мера сия со стороны французского правительства имела, как слышно было, целью только оправдать себя в начатии предстоявшей войны, и предложения Нарбонна были отвергнуты. Государь, желая показать ему состояние нашего войска, сделал в присутствии его смотр гренадерской дивизии графа Строганова, которая выстроилась в одну линии за городом, на обширном лугу по дороге к Веркам.
Утро было прекрасное, и мы с замковой горы любовались посредством зрительных труб величественным зрелищем, перед нами развивавшимся. Был и другой смотр на Погулянке сводной гренадерской дивизии, где я также был зрителем. Все с нетерпением ожидали открытия военных действий.
Однажды, будучи на съемке, я возвратился на замковую гору для поверки некоторых пунктов, оказавшихся не совсем верными. Брат Михайла находился с вехой на другом берегу реки Вилии. Государь в то время прогуливался верхом и, увидев квартирмейстерского офицера с флагом, спросил у него имя и что он делает? Брат отвечал государю, что мы занимаемся съемкой окрестностей Вильны, и указал на меня вдали. Государь посмотрел на гору и, увидев меня с инструментом, спросил у брата, по чьему приказанию мы это делаем. Михайла отвечал, что, не имея занятий по службе, мы не нашли ничего лучшего, как упражняться в деле, касающемся нашей прямой должности, и что, по окончании нашей работы, мы представим ее начальству. Государь похвалил брата и ускакал.
Я видел с горы все происходившее за рекой, и когда государь уехал, я подал брату знак, чтобы он ко мне пришел. Пока он мне передавал разговор свой с государем, я заметил какого-то штаб-офицера, приехавшего из города к подошве горы; он слез с дрожек и махал мне шляпой, чтобы я к нему вниз сошел. Мог ли я думать, что государь уже успел кого-либо прислать к нам для пояснения слышанного им от брата? Напротив того, я думал, что нам предстоит какая-нибудь неприятность, и потому с досады уперся и стал махать приехавшему, чтобы он сам на гору взошел.
Думал я про себя: «Кто бы то ни был, не я же его ищу, а он меня; пускай же сам потрудится на гору взлезть, если я ему нужен; я же делом занят, от которого не вижу надобности отрываться». Правилом моим было: ни с кем знакомства не искать; но если кто бы сделал шаг, чтоб познакомиться со мною, то отвечать ему десятью шагами. С таким правилом, конечно, немного выиграешь по службе. Я продолжал перемахиваться с штаб-офицером, и мы друг друга манили к себе. Наконец, видя, что я непреклонен и хочу воротиться к инструменту, от которого несколько отошел, приезжий начал подыматься на гору. Увидев сие, я стал к нему спускаться; и мы сошлись на половине горы. То был Кикин, флигель-адъютант и дежурный генерал. Я его видел несколько раз, когда носил ему бумаги от Мухина, но не был с ним знаком; он же меня не помнил. Кикина вообще хвалили, как человека хорошего.
– Что вы здесь делаете? – спросил он у меня.
– Снимаю план.
– Кто вам приказал?
– Никто.
– Для чего вы это делаете?
– Для своего удовольствия.
– Куда этот план поступит?
– К начальству.
– Я приехал от имени государя благодарить вас за то, что вы службой своей занимаетесь. Государю приятно было видеть ваше прилежание, передайте слова эти товарищам вашим. Государь желает, чтобы вы продолжали вашу съемку, а позвольте посмотреть работу вашу.
Я привел его на гору и, показав ему начатое на бумаге предместье города, рассказал, на каких основаниях намеревался расположить съемку по роду предстоявшей местности.
Возвращаясь домой, мы сделались смелее, и как у нас был недостаток в длинных вехах, то приступили к дому одного мещанина, у которого насильно унесли со двора несколько шестов. Нападение же было произведено нашими людьми с помощью расхрабревших факторов-жидов. Могли произойти жалобы и для нас неудовольствия, против чего мы не имели другого оправдания, как сослаться на необходимость вооружиться шестами для защиты себя от злых собак, бросавшихся на нас из двора сего мещанина; но дело так обошлось и не пошло далее ссоры людей наших с хозяином дома, шесты же остались за нами.
На другой день князь Волконский позвал нас к себе и, похвалив наше предприятие, повторил от имени Государя то, что накануне нам Кикин сказал. Для продолжения же начатой работы приказал нам дать какие-то тяжелые казенные планшеты изобретения Рейсига (инструментального мастера в Главном штабе), но мы не успели испытать их. В тот же вечер известие о происшедшем дошло до нашего генерал-квартирмейстера Мухина, который, призвав нас, намылил нам голову за то, что не предупредили его о намерении нашем произвести съемку окрестностей Вильны, присовокупив, что занятие это отвлекает нас от настоящей службы (которой, впрочем, никакой не было) и что съемка сия не может быть хороша, потому что никто из старых офицеров ею не руководствует. Затем он приказал нам бросить начатое дело. Собственные слова Мухина были следующие:
– Я вас по службе замараю, господа, и никогда ни к чему не представлю.
Лучше было молчать, чем сказать ему, что князь Волконский нас поощряет к съемке; ибо в таких случаях младшие всегда остаются виновными. Мы возвратились домой и решились не обнаруживать поступка Мухина, пока князь сам не спросит нас, зачем мы съемку прекратили, и тогда Мухину порядочно бы досталось; но дня через два нас начали раскомандировывать, и мы возвратили выданные нам по приказанию князя инструменты.
Колошин ездил посетить больного двоюродного брата своего фон Менгдена, служившего полковником в лейб-гвардии Финляндском полку, который стоял в Михалишках, в 30 верстах от Вильны. Я тогда не знал фон Менгдена, познакомился же с ним в Москве уже в 1815 году. Служба его шла довольно несчастливо, ибо горячка не оставляла его во время похода. Оставаясь больным, в Москве он был захвачен в плен и отослан с прочими во Францию. Он много пострадал дорогой от дурного обращения с ним французов. После войны фон Менгден в Петербурге часто к нам ходил, и мы с ним тогда ближе познакомились; человек он был простой и хороший.
Так как Мухин занимал нас иногда назначением дислокации войск на карте, то я имел случай узнать кое-что о наших силах. Войска были разделены на две армии. Главная из них стояла в Литве и называлась 1-ю Западной; при ней находилась главная квартира императора. Сею армией командовал генерал от инфантерии Барклай де Толли. Она состояла из корпусов: 1-го – графа Витгенштейна, 2-го – Багговута, 3-го (гренадерского) – Тучкова, 4-го – Шувалова, впоследствии графа Остермана-Толстого; 5-го (гвардейского) – великого князя Константина Павловича и 6-го – Дохтурова. Конницы было несколько дивизий армейских драгун, гусар и улан. Гвардейская легкая конница составляла одну дивизию под командой Уварова. Одна дивизия кирасир, состоявшая из пяти полков, принадлежала к гвардейскому корпусу и поэтому была под начальством великого князя; ею командовал генерал Депрерадович; гвардейской пехотой начальствовал генерал-майор Ермолов, нынешний начальник мой. Начальником Главного штаба был Бенингсен,[25] генерал-квартирмейстером Мухин, а дежурным генералом Кикин. Хотя главная квартира и содержала довольное число праздных людей, но она тогда не была еще слишком многочисленна.
Полки 1-й армии были разбросаны по кантонир-квартирам на большом пространстве, так что неприятелю было легко, пользуясь внутренней линией, перейти через Неман в больших силах, не давая нам времени собраться, отрезать несколько частей армии и разбить их поодиночке. Неприятель так и действовал, и если б он имел дело с австрийцами, а не с русскими, то война кончилась бы в несколько дней. В сей 1-й Западной армии считалось под ружьем около 95 000 регулярного войска, артиллерии много; казаков же при ней было только два полка Бугских.
2-я Западная армия формировалась в Житомире под командой князя Багратиона, которого главная квартира, при открытии военных действий, находилась в Слониме. Армия его состояла из 7-го корпуса Раевского и 8-го Бороздина; при ней находились 2-я кирасирская дивизия и несколько легкой конницы; казаков при сей армии было довольное количество. Всего регулярного войска считалось у Багратиона до 45 тысяч.
3-я армия, Тормасова, стояла близ Брест-Литовского, где она наблюдала за движениями австрийских войск; армия сия состояла из корпусов 9-го – Маркова и 10-го – графа Каменского.
Была еще 4-я армия, поступившая впоследствии под команду адмирала Чичагова, которая расположена была в Молдавии; в то время командовал ею еще Кутузов.
Отдельные корпуса были: Казачий – графа Платова, который, кажется, стоял на Немане. Казаков в нем считалось более 15 000. Эртеля, состоявшей из 12 000, который стоял в Мозыре и не принимал прямого участия в военных действиях. Эссена, в Риге, небольшой корпус, который действовал против пруссаков около Митавы и сжег без достаточной причины предместья города Риги. Сим корпусом впоследствии командовал маркиз Паулучи. Штенгеля в Финляндии; корпус сей был высажен около Риги и соединился с графом Витгенштейном под Полоцком.
Полки в сих армиях состояли только из первых и третьих баталионов; вторые же числились в резерве, были в большом некомплекте и находились внутри России. Но и баталионы, состоявшие налицо, были также неполны. По сей причине, при большом количестве корпусов и полков, боевые силы наши в действительности были очень умеренные. Были заготовлены большие хлебные запасы, но их много истребили при отступлении.
Французская армия, расположенная на границе, была гораздо сильнее нашей. Войска их были старые и привыкшие к победам. Конницы множество и хорошей, артиллерии также много.
Во все время 1812 года переправлено было через Неман французских и союзных войск 640 000 человек. Французские генералы были опытные в военном деле; начальником же их был сам Наполеон.
С нашей стороны распоряжался государь; но на войне знание и опытность берут верх над домашними добродетелями. Начальник 1-й Западной армии, Барклай де Толли, без сомнения, был человек верный и храбрый, но которого по одному имени солдаты не терпели, единогласно называя его немцем и изменником. Последнего наименования он, конечно, не заслуживал; но мысль сия неминуемо придет на ум солдату, когда его без видимой причины постоянно ведут назад форсированными маршами. Все войско наше желало сразиться и с досадой каждый день уступало неприятелю землю, по которой оно двигалось. Что же касается до названия немца, произносимого со злобой на Барклая, то оно более потому случалось, что он окружил себя земляками, которых поддерживал, по обыкновению своих соотечественников. Барклай де Толли мог быть предан лично государю за получаемые от него милости, но не мог иметь теплой привязанности к неродному для него отечеству нашему. Так разумели его тогда русские, коих доверием он не пользовался, и он скоро получил кличку: Болтай да и только.
Армия наша, как выше сказано, была разбросана и неосторожно расположена на границах, по распоряжениям Барклая де Толли. Доказательством справедливости сего суждения служит то, что французы, переправившись через Неман, отрезали несколько корпусов, которые не успели даже получить приказание от главнокомандующего к отступлению.
Главным и доверенным советником государя в военных действиях был генерал Фуль, родом пруссак, безобразное существо, вызванное к нам на службу в 1810 году или в 1811-м и слывшее за великого стратега. Его план кампании состоял в том, чтобы отступать до Двины, где остановиться в укрепленном лагере под Дриссой, имея реку в тылу. Согласно с предположением его держаться на Двине, начато было строение Динабургской крепости, для коей место было избрано, кажется, полковником Гекелем, – крепости, которую никогда не окончат, потому что она строится из сыпучего песка. К 1812 году был готов только тет-де-понт на левом берегу реки, где земля тверже, и хотя окрест лежащие высоты командуют сим укреплением, однако оно удержалось против корпуса генерала Удино. Динабургская крепость по сю пору стоит государству миллионы и до 5000 молодых солдат, которые около нее погибли на работах от болезней и трудов. Другая крепость была заложена около города Бобруйска.
В 1811 году были посланы квартирмейстерский полковник Эйхен 2-й и флигель-адъютант Вольцоген для обозрения военной линии на Двине. Из них последний построил Дриссенский лагерь на 120 000 войска. В 1812 же году, до прибытия нашего в Дриссу, полковник Нейдгарт построил в сем лагере еще много батарей, не имеющих взаимной обороны. А. П. Ермолов недавно говорил мне, что Эйхен с прискорбием показывал ему все нелепости построек в сем лагере. Фуля в армии ненавидели и называли изменником. После 1812 года о нем не стало более слышно. Когда французов выгнали из России, то разнесся слух, будто отступление наше и сдача Москвы давно уже были предположены; превозносили меру сию и изобретателя ее, одобряя сожжение столицы и разорение нескольких губерний, как бедствия неизбежные для достижения успеха. По сему надобно уже допустить и то, что фланговый марш наш около Москвы был предположен еще в 1811 году, и даже то, что все движения неприятельской армии были предвидены. На таком основании и сожжение нами огромных магазинов, заготовленных на границе с большими издержками, должно уже назвать военной хитростью; также и устроение Дриссенского лагеря. Явно, что подобное нелепое сказание могли изобрести только с целью оправдать неумение наше или оплошность.
В 1815 году адмирал Мордвинов передал мне с большой тайной тетради [записки], писанные в 1811 году каким-то французским эмигрантом, которого он мне не назвал. В сих записках заключался проект кампании 1812 года, и все предположения, помещенные в сем проекте, согласовались с действиями наших армий в прошедшую войну. Предположена была и сдача Москвы. Николай Семенович уверял меня, что записка эта, поднесенная ему французом, была тем же французом лично представлена государю, который, не рассмотрев ее, приказал передать Барклаю де Толли, что он и сделал. На тетради сей было написано, но другим почерком и в углу: 1811 год. Помнится мне даже и число, в которое она была сообщена главнокомандующему Барклаю, бывшему тогда военным министром; но Николай Семенович не военный человек, и он явно ошибался, приняв, как мне казалось, позже составленный проект французского шарлатана за действительный план кампании.[26] Вышеозначенные доводы ясно показывают, что действия наших армий не могли быть столь заблаговременно предусмотрены и предположены.
Старались склонить государя, чтобы он сам начал военные действия, перейдя за Неман, и чтобы в таком случае армия Багратиона действовала в тылу неприятеля. О том действительно была речь; но государь, по-видимому, не хотел быть зачинщиком и надеялся еще сохранить мир. Судя по расположению наших войск и по первоначальным движениям их, скорее казалось бы, что настоящего плана кампании не было никакого. Инерция и нерешимость руководствовали нами, когда Наполеон 11 июня[27] неожиданно перешел Неман в Ковне с большими силами.
В доказательство справедливости сего суждения может служить то, что, незадолго до вторжения в наши границы французов думали еще дать сражение впереди Вильны. Так как неприятель мог прийти в Вильну двумя путями, а именно через Лиду и через Ковно, то заботились об избрании позиции, которая бы защищала обе сии дороги, соединяющиеся верстах в 9 или 12 от Вильны. Для того назначен был квартирмейстерской части полковник Мишо; меня же послали к нему в помощь. Мишо был родом сардинец, человек добрый и офицер опытный, с Георгиевским крестом, полученным им в Молдавии; не менее того, так как он по-русски ни слова не знал, то думается мне, что служба его была бы полезнее в иностранных армиях, чем в нашей; впрочем, он был человек верный и теперь числится генерал-адъютантом.
Мы с ним отправились в сопровождении четверых казаков, на обывательской тележке по дороге на Ковну, чрез Новые Троки, и приехали в одно селение, лежащее направо от дороги. Не помню, пан ли сего селения назывался Яблоновский или самое селение Яблоново; недалеко от сего места соединялись обе дороги. Мы сели на казачьих лошадей и поехали осматривать позицию, которая действительно оказалась очень удобной для обороны. Прикрывая обе дороги, центр оной выдавался вперед до высокого бугра, командующего неприятельскими и нашими линиями, почему место сие следовало сильно укрепить, ибо на сей пункт обратились бы главные усилия неприятеля. Правый фланг защищен был рекой Вилией, а левый лесом, который должно было сильно занять пехотой. Если б неприятелю удалось занять возвышение на центре, то армия наша была бы разбита, потому что неприятельские орудия могли бы действовать во фланги изломанных линий наших. Верстах в двух назад от сего места находилась другая позиция, но не столь выгодная, как первая. Однако ни та, ни другая позиции не послужили нам, по случаю внезапного отступления. По осмотре позиций мы к вечеру возвратились в селение, где я сделал черновой план по местоположению, и на другое же утро мы отправились обратно в Вильну. Полковник прежде меня поехал верхом, а казак шел за ним пешком. При выезде из Вильны я на всякий случай достал себе какой-то ранец, в который уложил несколько белья, ибо не знал настоящим образом, куда и надолго ли еду. В обратный путь я надел ранец на плечи и пришел домой пешком.
Я переделал в квартире у Мишо набело план, который был представлен государю; на плане были назначены войска в том порядке, как их предположено было расположить. Мишо остался очень доволен и полюбил меня; я к нему иногда ходил. Его часто посещал одноземец его и старинный друг граф Местр, который служил тогда также полковником по квартирмейстерской части. Местр был уже немолодой человек и лысый, но влюблен в какую-то Загряжскую, сказывали, тоже пожилую женщину. Старые друзья любили вспоминать между собою о прошедших годах своих и волокитстве. Граф Местр теперь генерал-майор по армии и женился на Загряжской. Сын его от первой жены служил в Кавалергардском полку и был некоторое время адъютантом у Депрерадовича.[28] Старик Местр иногда певал с Мишо дрожащим своим голосом элегию, сочиненную им в молодости на смерть любовницы его в Швейцарии.
Adieu, ma paisible demeure, Mon pauvre chien et mon troupeau; Adieu, faut que je meure: Ma pauvre Lise est au tombeau. Je vois sans plaisir la lumière Briller au lever du soleil. Cet astre en ouvrant sa carrière Ne voit plus Lise a son réveil. Reines des fleurs, charmantes roses, Vous qui lui serviez d’ornement, Maintenant vous n’êtes éclosés Que pour orner son monument.[29]Брат Александр выучил сей романс, который слышался иногда и в нашем товарищеском кругу.
В мае месяце мы все разъехались. Меня командировали с братом Михайлой в 5-й гвардейский корпус к великому князю Константину Павловичу. Колошину поручено было объехать кантонир-квартиры легкой гвардейской кавалерийской дивизии, при которой он находился, Александр же оставался в главной квартире.
Мы отправились из Вильны в ночь с лошадьми и всем имуществом своим; товарищи провожали нас до предместья Антоколя. На другое утро приехали мы в Неменчино, где отдохнув поехали далее. Великий князь стоял в городе Видзах среди квартир конницы; Конная гвардия в самом городе; кавалергарды в селении Опсе, в 19 верстах за городом; лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк[30] и кирасирские полки Ее Величества и Астраханский были расположены по деревням в окружности города Видзы.
Командующий гвардейской пехотой генерал Ермолов стоял в м. Большие Даугилишки, войска же его были расположены в г. Свенцияны и в окрест лежащих селениях. Большие Даугилишки – первая почтовая станция по дороге от Видзы к Вильне, в расстоянии 29 верст от первого места. Въезжая в местечко Большие Даугилишки, мы встретили троюродного брата нашего Матвея Матвеевича Муромцева, который был тогда поручиком лейб-гвардии Измайловского полка и адъютантом при генерале Ермолове. Мы были еще с детства знакомы с Муромцевым и обрадовались таковой встрече среди людей, нам вовсе чуждых. В сражении под Валутиной горой Муромцев был ранен, а в сражении под Люценом получил сильную контузию; по окончании войны он женился на Бибиковой и, дослужившись до полковничьего чина, вышел в отставку. Алексей Петрович любил Муромцева, который представил ему нас обоих, что случилось в то время, как он садился на лошадь, чтобы прогуляться.
Я тогда в первый раз видел Ермолова. У него на голове был кивер, что мне показалось странным при генеральских эполетах. Смотрел он настоящим Геркулесом; рост его, благородная осанка, умное выражение лица, широкие плечи и приветливый и веселый прием вселяли к нему особое уважение. Он принял меня очень ласково и, поговорив несколько, уехал. Тогда уже пользовался он хорошей славой в армии и уважением старших генералов. Служа в артиллерии, он сделался известным в Прусскую кампанию 1807 года, будучи только в чине полковника. Ермолов – старый служивый; он был на штурме в Праге и 18-ти лет получил Георгиевский крест, ходил и за Кавказ с экспедицией, посланной Екатериной против Аги-Магомет-хана; в то время был он уже капитаном артиллерии. В царствование Павла I Алексей Петрович попал в немилость императора и был сослан в Кострому, где проживал также в ссылке граф М. И. Платов. Тут они друг с другом познакомились и с тех пор остались в хороших между собою отношениях. Алексей Петрович с пользой употребил время пребывания в ссылке, занимаясь усовершенствованием своим в науках, примерно учился и в царствование Александра поступил опять на службу. Ермолов нужен государю, который, хотя и не жалует его, но поверяет ему самые важные дела в государстве.
Поздно приехали мы в Видзы и остановились ночевать на почте. На другой день пошли к разводу и явились к начальнику штаба, воспитателю великого князя и любимцу его, квартирмейстерской части полковнику Дмитрию Дмитриевичу Куруте, который представил нас Константину Павловичу, причем великий князь спрашивал нас, не родственники ли мы Михайле Никитичу Муравьеву, который был кавалером при государе, когда он был еще цесаревичем.
После развода пошли мы с конногвардейскими офицерами к Его Высочеству; он разговаривал с нами с полчаса и потом ушел в свою комнату, что почти ежедневно повторялось. На сих собраниях говорил он иногда очень рассудительно, иногда же, оборотясь к офицерам задом, и шутил в неприличных выражениях, что производило одобрительный хохот между присутствующими.
Как изобразить тогдашнее положение наше? До тех пор мы постоянно жили в кругу братьев и близких товарищей, не зная почти никого из посторонних людей, а теперь очутились в совершенно чуждом для нас обществе, и еще каком! Все полковники, генералы, и сам цесаревич! В первые дни были мы отуманены и в большом замешательстве, впоследствии же несколько обошлись. Круг, в коем мы находились, состоял вообще из людей малообразованных, и хотя обращение их было простодушное, но мы, несмотря на приветливость их, избегали короткого с ними знакомства; ибо обычная праздная жизнь их не соответствовала нашим понятиям об обязанности и трудолюбии, в коем были воспитаны. Общество их было в высокой степени mauvais genre.[31] Константин Павлович умен и образован, сердце его доброе; но в нем сильно развито чувство самоуправства. Ему часто случается в минуту запальчивости забываться против офицеров; но он от природы незлобен и, успокоившись, извиняется перед обиженными.
Кавалергардские офицеры не любят Константина Павловича, и, наоборот, он их также не жалует, тогда как он в Конной гвардии души не знает. Причиной сему то, что общество офицеров Кавалергардского полка по образованию своему и приличию было выше офицеров Конной гвардии, среди коих постоянно находился шеф их Константин Павлович, тогда как кавалергардские всегда обегали его.
Великий князь держал тогда при себе в Видзах г-жу Фридерикс. Она родом француженка и жена одного фельдъегеря, который, как говорят, женился на ней по приказанию Его Высочества, не прикоснувшись ее девственности, за что он в награду получил мызу верстах в десяти от Петербурга на Стрельненской дороге. Великий князь имеет от нее сына, которому лет 10 от роду и который считается теперь в Конногвардейском полку поручиком с фамилией Александров. Говорят, что она умная, любезная и добрая женщина и недурна собой, хотя ей было уже за 30 лет. Невзирая на привязанность великого князя, она не вмешивалась в дела, до нее не касавшиеся, разве только для того, чтобы кому-либо пособить. Она часто останавливала Константина Павловича в его горячности и способствовала к укрощению его пылкого нрава.
Квартирмейстерской части полковник Д. Д. Курута, родом грек, человек со сведениями, тонкий и умный, но нисколько не военный. Он поступил сперва в кадетский корпус, после воспитывался с великим князем и, наконец, поступил к нему в учители греческого языка. Это было в то время, когда Екатерина замышляла о восстановлении Восточной империи и готовила Константина на греческий престол. Курута занимает при великом князе место начальника штаба, гофмаршала и дядьки, причем совершенно всем у него управляет. Константин Павлович его часто называет учителем своим, иногда даже целует у него при всех руку, спрашивает у него совета и слушает его; иногда же схватит старика и, в шутку, как медведь, начнет ломать его, пока тот острой шуткой не пристыдит своего воспитанника. Оба друг друга любят и боятся. Когда цесаревич сердит, тогда один Курута имеет доступ до него; когда же он, забывшись, закричит на своего дядьку, тогда последний струсит и спрячется; в веселую же минуту греческий человек уязвит его словами в шутливых намеках. Цесаревич его всегда называет Дмитрий Дмитриевич, а тот постоянно называет повелительного воспитанника своего с греческим своим наречием «васе висоцество». Они часто говорят между собою по-гречески.
Дмитрий Дмитриевич роста малого и с брюшком – структура шарика; голова у него большая, нос длинный, лицо смуглое, совершенный грек в карикатуре; волосы его короткие и кудрявые, как бывает у негров, ножки у него коротенькие и кривые, голос тихий; по утрам он жужжит, как жук, а под вечер пищит. Ездок он весьма плохой и даже боится лошадей. Курута большой хлопотун и до мелочи аккуратен; например, какой бы поспешности ни требовало отправление подписанной им бумаги, он никак не отпустит ее от себя, не обрезав сперва ножницами листа кругом, так чтобы бумага имела совершенно правильную фигуру. Он часто поверяет спросы свои, посылает наведываться об одном и том же предмете и, наконец, сам поедет, чтобы удостовериться в том, что какая-нибудь безделица, его занимавшая, в точности исполнена. Поход ли на другой день, он с вечера призовет к себе офицеров и держит их ночью у себя, разговаривая с ними впросонках о пустяках; когда же ему крепко спать захочется, то отпускает их, прося у них извинения за то, что задержал их напрасно. Лишь только выйдут от него, как он вслед за ними посылает казака и опять держит их у себя в ожидании чего-то, без всякого дела. Он когда-то служил с отцом моим во флоте и вспоминал мне в Видзах о знакомстве своем с батюшкой. С нами обходился он всегда приветливо.
Адъютантами при Константине Павловиче были: полковник Конной гвардии, Николай Дмитриевич Олсуфьев, человек шутливый, веселый, но, кажется, не деловой; его великий князь в особенности любил, они в молодых летах вместе дурачились, и ныне случалось тоже им ходить обнявшись, произнося неприличные речи. По производстве любимца сего в генерал-майоры он все находился при Его Высочестве без должности, увеселяя только начальника своего рассказами.
Лейб-гвардии Уланского полка полковник Алексей Николаевич Потапов, человек деловой и сочинитель кавалерийского устава, считался в армии в разряде первых кавалерийских офицеров. Со званием адъютанта соединял он должность дежурного штаб-офицера и потому управлял всеми делами по корпусу.
Лейб-гвардии Уланского полка полковник Александр Сергеевич Шульгин, человек простой и грубый, но исправный и проворный, хотя без дальних соображений; он постоянно был употребляем в должности полицеймейстера, к которой он имел особое призвание. Большой крикун, хлопотун, любит иногда своеручно поколотить, пожары тушить и рассказывать о своих подвигах в таком роде. Шульгин был произведен в генерал-майоры по армии; теперь обер-полицеймейстером в Москве.
Лейб-гвардии Конного полка полковник князь Кудашев. Этот был всех их пообстоятельнее, человек молодой, опытный, расторопный и умный. Я его, впрочем, мало знал, и говорю о нем по тому, что слышал. Князь Кудашев был женат на дочери Кутузова-Смоленского; ему давали разные поручения, и он командовал отдельными партиями. Умер в генерал-майорском чине от раны, полученной в одной из кавалерийских стычек, происходивших за два дня до Лейпцигского сражения.
Гвардейского экипажа капитан-лейтенант Павел Андреевич Колзаков, человек добрый и очень простой. Он всех был прилежнее в исполнении адъютантской должности, и потому его часто совали во все стороны, откуда он возвращался с жалобами на то, что адъютантская должность вся лежит на нем одном.
Лейб-гвардии Конного полка ротмистр Палицын Владимир Иванович, человек совсем простой и столько же безвредный для кого-либо, сколько бесполезный для службы; впоследствии он был произведен в полковники.
Лейб-гвардии Конного полка полковник Жандр. Его тогда не было при великом князе. Он, кажется, приезжал однажды в Свенцияны, когда великий князь туда ездил и, пробыв короткое время, скоро опять уехал, после чего его я только раза два видел. Жандра более употребляли для формирования резервных эскадронов, и говорили, что он при том порядочно набил себе карманы; впоследствии произвели его в генерал-майоры.[32]
Лейб-гвардии Конного полка полковник Шперберг, который также большей частью находился в отсутствии.
Лейб-гвардии Драгунского полка полковник Сталь постоянно находился в командировках для осмотра полков. Я познакомился с ним только в Германии; человек с воспитанием и приятный, чего не замечалось ни в ком из окружавших великого князя. Теперь Сталь служит генерал-майором и командует кирасирской бригадой.
Из гражданских чиновников находились при великом князе: правитель канцелярии Александр Иванович Кривцов. Француз из Эльзаса Зигнер (Sugner) для иностранных переписок, дерзкий и грубый человек, которого никто не мог терпеть, при том же плут, ибо попался однажды в воровстве у товарища моего; но он был ловок, почему Константин Павлович и держал его при себе. Старый немецкий доктор, которого я имя забыл. Еще была одна личность во фраке, а именно князь И. А. Голицын, который был Павлом выключен из службы за неблагопристойную его наружность. Он постоянно ездил по гостям из одного штаба в другой, не будучи в службе, узнавал вести и привозил их к цесаревичу. Человек этот принадлежал к разряду чувствительных и причудливых; он часто плакал, и с ним делались истерические припадки. Иные утверждали, что он гермафродит; но, может быть, слух о том был пущен в насмешку. Как бы то ни было, князь И. А. Голицын, не будучи в службе и без всяких заслуг, получил Владимирский крест в петлицу чрез великого князя. Его в публике знают под названием: Jean de Paris. Квартирмейстерская часть состояла из следующих лиц: полковник Курута, который выше описан. Капитан Брозин 1-й, Павел Иванович, находился некогда с посольством в Испании, чрез что воображал себе, что он весь свет видел. Бывают на свете лгуны, но подобных Брозину едва ли где сыщется; например, он утверждал, что в Пиренейских горах проскакал во весь дух, в одну ночь, 80 верст верхом, и между тем дорогой спал крепким сном; возможность сего относил он к породе тамошних лошадей, обученных покойной походке. Он часто отпускал такие рассказы. Душа его была подлая и боязливая; несколько раз он подвергался поруганиям от своих товарищей за то, что отказывался от поединка, на который его вызывали, чему причиной было его несносное обращение; но Брозин был терпелив в таких случаях и ограничивался принесением начальству жалоб. Брозин однако же сделал себе дорогу, потому что, будучи сведущ в письменных делах, всегда служил в канцеляриях. В 1813 году он был сделан флигель-адъютантом, вскоре произведен в полковники и послан опять в Испанию, где и теперь находится.
Брат его, штабс-капитан Брозин 2-й, короткое время находился при великом князе; я не имел случая знать его. Его хвалили; он был тяжело ранен в сражении под Бородиным и, кажется, вышел в отставку.
Потом были я и, наконец, брат Михайла.
Вот весь тогдашний состав штаба и двора Его Высочества.
Я имел рекомендательное письмо от Михайлы Федоровича Орлова к брату его Алексею, который служил тогда ротмистром в Конной гвардии. Я вручил ему письмо; но он принял меня довольно сухо, и с тех пор я перестал к нему ходить.
Сначала великий князь долгое время не любил Алексея Орлова, но после взял его к себе в адъютанты. Алексей Орлов, будучи уже полковником, вышел по неудовольствию в отставку. В 1816 году он опять вступил в службу и явился в Петербурге на разводе в общем кавалерийском мундире. Государь, увидев его, взял его на другой день в флигель-адъютанты; недавно же произведен он в генерал-майоры. Алексей Орлов не имеет большего образования, но человек с проницательным умом, молодец собою и силач.
Отвели нам квартиру на берегу речки, разделяющей город на две части, у трактирщика Зинкевича, в особенном доме на площади. Мы сделали договор с хозяином, чтобы он кормил нас и людей наших, что нам стоило около 30 копеек серебром за каждого в день. В издержках своих соображались мы со средствами. Получив незадолго перед тем по 118 рублей третного жалованья, каждый из нас в состоянии был проедать со слугой по 60 копеек в сутки.
Я мало занимался, брат же Михайла целый день трудился. Будучи еще в Петербурге, он задумал об устройстве в простом виде инструмента для измерения расстояний не сходя с места. Тогда еще мало известны были зрительные трубы с удвояющим кристаллом или с перетянутыми в них накрест волосками, при коих известная уже высота должна служить основанием треугольника, коего вершина в самом глазе. Старания брата к достижению цели в таких молодых летах без сомнения свидетельствовали о его дарованиях. Когда мы находились в Вильне, он придумал все устройство сего инструмента и даже составил заблаговременно таблицы для избежания вычислений при самом действии. В Видзах брат хотел на практике испытать свои изобретения; но, не имея довольно денег, чтобы заказать инструмент из меди, он заказал его из яблонева дерева обыкновенному столяру, который в несколько дней сработал его под близким надзором изобретателя. После того брат разделил круг на градусы, означая их рейсфедером и, наконец, сделал первый опыт. На расстоянии ста с лишком саженей оказалась ошибка только в двух аршинах, чему причиной могла быть неверность деревянного инструмента и делений. Брат доложил о своем изобретении Куруте и при нем сделал опыт, который также оказался довольно верным. Курута похвалил его и довел до сведения великого князя, который также словами поощрил брата к занятиям.
В 1814 году князь П. М. Волконский, которому сей инструмент был поднесен, приказал сделать его из меди механической палате Генерального штаба в Петербурге, начальнику сего заведения Рейссигу под надзором брата, который при этом усовершенствовал еще свой инструмент, применив к оному способ определения, как астролябией, горизонтальных углов. Вопреки князю, Рейссиг, по неблагонамеренности своей, долго ломался, всячески уклоняясь от выделки сего инструмента; но брат настоял и принудил его к исполнению заказанной ему работы. Образец сей сохранился в Петербурге в инструментальном депо квартирмейстерской части. В нынешнем, усовершенствованном виде своем инструмент сей может служить с пользой для военных съемок; ибо, при горизонтальном положении им измеряются углы, при вертикальном же – расстояния. Итак, установив инструмент и послав человека с вехой известной длины, можно, не сходя с места и без употребления цепи, снять план окрестного местоположения на всем пространстве, доступном для зрения, продолжая таким же образом съемку со вновь определяемых точек.
В Видзах брат иногда проводил время с приятелем своим Синявиным. Алексей Григорьевич Синявин учился в Москве в университете, где довольно коротко познакомился с братом. Постоянное желание его было, по примеру родителя своего, поступить во флот, но неожиданным образом он попал в Конную гвардию, где служил тогда юнкером. Он имеет хорошие способности и сведения и любит занятия. Синявин вдвоем с братом затеяли было какое-то общество, которого я не знал цели; изобрели также свою азбуку и часто перешептывались между собою, но с открытием войны общество сие рушилось и с тех пор не возобновлялось.
На одной площади с нами была квартира поручика князя Андрея Борисовича Голицына. У него собирались члены масонской ложи Конной гвардии под названием l’ordre militaire.[33] Великий князь был также членом сей ложи, в которую иногда собирались по вечерам, заперев наперед все двери, окошки и ставни. Когда я познакомился с князем Голицыным, то он звал меня в ложу, но я отказался; впоследствии же слышал от настоящих масонов, что ложа эта была шутовская. Vénérable[34] у них был огромный Сарачинский.
Однажды под вечер сидели мы с братом на пороге своей квартиры, размышляя об одиночном и как бы забытом положении нашем, не представлявшем ничего отрадного в будущем и в службе. В деньгах мы нуждались, писем давно уже ниоткуда не получали. У нас не было ни связей, ни близких знакомых в шумном кругу, среди коего мы находились, и нам трудно было свыкнуться с тем, что нас как бы знать не хотели, тогда как видели между окружающими Константина Павловича много пустых людей, пользующихся его расположением. В это время неожиданно подошел к нам поручик князь Андрей Борисович Голицын.[35]
– Bonsoir, messieurs! Il y a longtemps que je cherche à faire votre connaissance, je suis le prince André Galitzine.[36]
Не мы искали знакомства, а он искал нас; и потому, согласно с нашими правилами, мы приняли ласково его. Голицын с первого раза рассказал нам все свои шалости, сколько он тысяч проиграл, как за него отец долги платил, и проч. Такое обхождение было для нас совсем новое, но разговор его казался нам довольно любопытным. Однако знакомство сие скоро надоело нам, ибо он стал засиживаться у нас по целым суткам, повесничал и мешал заниматься. Князь А. Б. Голицын впоследствии служил все по особым поручениям при генералах и сделал себе хорошую дорогу в службе, вернее сказать, никак не служа. Он довольно прост и нагл; впрочем, казался добрым малым, как про многих говорят. Голицын приглашал нас от общества конногвардейских офицеров на обед, который они давали Константину Павловичу в день рождения его 27 апреля. Мы были приняты с приветствованием и познакомились со многими офицерами. На дворе и на площади были расставлены столы, за которыми обедали нижние чины Конной гвардии; ввечеру же сожжен был большой фейерверк. В числе гостей было много поляков и, между прочим, граф Манучи, тогдашний маршалок, или предводитель дворянства.
Граф Манучи был один из богатейших помещиков уезда. Помнится мне, что государь заезжал к нему в деревню Бельмонт, находящуюся в 40 верстах от Видз. За обедом познакомились мы с Сарачинским, Солданом, Труксесом, Андреевским, Арсеньевым, Леонтьевым, многими князьями Голицыными и с другими конногвардейскими штаб– и обер-офицерами. Первый из названных теперь старшим полковником в полку; второй командует Малороссийским кирасирским полком, третий продолжает службу в том же полку, четвертый в отставке генералом, пятый генерал-майор и командир Конной гвардии, шестой (Леонтьев) впоследствии командовал Глуховским кирасирским полком. Обед этот сблизил нас с начальствующими лицами, и вскоре прислали нам одного кирасира Федора Кучугурного для присмотра за нашими верховыми лошадьми; унтер-офицеру же Титаренке поручено было их объезжать. (Первый из них, находясь в строю, был убит в сражении.) Стали исправнее выдавать нам фураж на лошадей, причем лейб-гвардии Казачьего полка урядник Дербенцов стал менее умничать с нашими людьми при отпуске овса. Но льготы и порядки сии рушились с выступлением в поход.
Князь Андрей Голицын продал тогда брату гнедую донскую лошадь за дешевую цену и тем оказал ему большую услугу. Лошадь отлично ему служила и была убита под ним в Бородинском сражении.
В это время кирасир одели в кирасы. Помню первого явившегося к великому князю Кавалергардского полка поручика или штабс-ротмистра Киселева.
Дядя мой Владимир Михайлович Мордвинов, проживавший в Псковской деревне своей, был в Видзах проездом в Вильну. Казалось, что он хотел опять в службу вступить, однако же не вступил. Он заезжал к нам и рекомендовал нас генерал-майору Николаю Михайловичу Бороздину, командиру Астраханского кирасирского полка, но мы никогда не пользовались сим знакомством.
Командиры кирасирских полков в то время были: Кавалергардского – Депрерадович; в лейб-гвардии Конном шефом числился великий князь, Его Величества лейб-гвардии кирасирским командовал полковник Будберг, Ее Величества кирасирским – полковник Розен, Астраханским кирасирским – генерал-майор Бороздин.
Первый из них родом серб, малообразованная личность, теперь генерал-лейтенант и начальник 1-й кирасирской дивизии. Третий аккуратный и глухой немец, содержащий полк свой в отличном порядке и любимый офицерами. Четвертый ласковый с чужими, зол со своими, дурно обходится с офицерами, которые его не терпят; слышно было, что он наживается от полка, который в дурном состоянии; к тому же не пользуется доброй славой в деле. Будберг и Розен теперь генерал-майорами. Пятый был известен по его вспыльчивости.
Брат Михайла не проводил в Видзах совершенно монашеской жизни. На площади нашей стоял порядочный деревянный домик в два этажа. Из второго этажа часто выглядывала молодая женщина, недурная собой, а за нею и другая. Молодая эта женщина целый день сидела под окном, а по вечерам играла на гитаре и пела по-русски всякие нежные песенки. Математик мой был тронут ее голосом; он разведал, что певица была панна стряпчина или жена городового стряпчего; сама она была полька, а муж русский, толстый, немолодой человек и кривой на левый глаз. Было также узнано, что другие девицы были приятельницы певицы, которая живет одна наверху, а муж внизу и с окнами, обращенными в другую сторону. Предположено было во что бы то ни стало познакомиться. Ввечеру я с братом и князем Голицыным пришли стучаться к дверям.
– Кто тут стучится? – закричал из-за дверей шипучим голосом хозяин.
– Отворите.
– Зачем, что вам надобно?
– Отворите же, мы пришли с вами познакомиться.
Испуганный стряпчий (Лежанов его фамилия) отворил дверь, мы вошли в его комнату, у него был накрыт стол.
– Здравствуйте, господин Лежанов, – приветствовали мы хозяина.
– Здравствуйте, господа, прошу садиться; не угодно ли с нами отужинать?
Жены его тут не было, а потому, посидев немного, мы ушли, чему он, конечно, был очень рад. Но принятая нами мера сия была не самая рассудительная для знакомства и ни к чему не повела. На другой вечер мы на площади объезжали и обстреливали своих верховых лошадей. Панна стряпчина, сидя у окна, любовалась всадниками. Скоро она исчезла и, сойдя вниз, заперла наружную дверь. Мы советовались, как бы с ней познакомиться; тогда князь Андрей Голицын подъехал к дому и, сняв с головы свою белую фуражку, бросил ее в отпертое окно.
– Как быть, господа, я без фуражки, – сказал он нам, – пойдемте ее выручать.
– Пойдем.
Оставив лошадей, мы пошли стучаться к дверям. Стряпчего не было дома, панна же стряпчина была внизу. Она подошла к дверям, сперва отперла их и потом с улыбкой спросила, что нам надобно?
– Сегодня поутру забыл я у вас свою фуражку, – отвечал князь Голицын.
– Вы никогда у меня не бывали.
– Полноте, панна, вы шутите, – и вместе с этим мы все трое вошли насильно.
– Где ваша фуражка? – спросила она.
– У вас наверху.
– Не может быть, князь.
– Точно, правда, я вас уверяю.
Стряпчина поняла шутку, рада была случаю и повела нас вверх, вошла в свою комнату; мы за ней, и фуражка нашлась у нее на постели. Тут и она, и мы начали смеяться. Она уверяла, что таким образом знакомиться неблагопристойно, не менее того просила нас посидеть, взяла гитару, играла и пела. Мы получили от панны Бригиты позволение навещать ее; вскоре явились и приятельницы ее панна Иоанна и панна Доминика. Проведя у нее около часа, мы раскланялись и ушли. С тех пор я был у нее раза два; брат же частехонько ходил, но мне о том ни слова не говорил. Года через два я от него же узнал, что он находился с панной Бригитой в Видзах в самых близких сношениях.
Вскоре я стал встречать ее на гулянии с Фридрихсшей. Не знаю, каким она образом с нею познакомилась, только они вместе уехали в Видзы и теперь еще живут вместе в Варшаве. Панну стряпчину случалось мне несколько раз видеть во время похода, когда Фридрихсша проезжала в Германии к великому князю; она очень постарела и подурнела. Когда брат лечился от раны в Петербурге, то он по ночам часто к ней ездил в Мраморный дворец.
Синявин, играя с товарищами в городки, получил сильный ушиб, отчего слег и долго лечился в госпитале, где ему делали несколько операций. Госпиталь был почти за городом, по дороге к Вильне и далеко от моей квартиры, но я навещал приятеля довольно часто и познакомился там с выздоравливающим юнкером Ивановым, служащим ныне в лейб-гвардии Драгунском полку и адъютантом у генерала Чичерина. Выходя однажды из госпиталя, Иванов зашел в соседний дом, куда и я за ним последовал. В доме было только две комнаты, но опрятно убранные. В углу сидел седой старик в польском кафтане и плел корзины, в другом углу сидела с письмом в руке дочь его лет 17-ти, прекрасная собою, одетая просто, но чисто. Она имела трех воздыхателей: Иванова, гардемарина Прокофьева и камер-лакея Пономарева.
Великий князь взял с собою из Петербурга четырех хорошо учившихся гардемаринов для съемки планов; но когда открылись военные действия, их отправили обратно в Петербург. Впоследствии я познакомился с Пономаревым и не стыдился сим знакомством. Он был честный человек и с добрыми правилами. Когда мы были в службе, то он всячески помогал нам и деньгами (которые он взаймы давал без процентов), и посильными услугами, никогда не забывая различия наших званий.
Старик (по имени, помнится мне, Заборский) приветливо принял меня; дочь же села подле меня и ловко занимала своим разговором. Он сказывал, что некогда имел достаток, но был разорен во время завоевания Польши, после чего сделался бедным шляхтичем и жил своими трудами. Дочь его имела переписку с одним офицером, который обещал на ней жениться. На лице ее выражалась скорбь, вызванная стесненным их положением. Они совершенно одни жили. Я часто ходил к ним, просиживал вечера, проводя время с дочерью, которая оказывала мне особое внимание. Уважая беззащитность сих бедных людей, я в сношениях с дочерью не выходил из границ приличия, тем более что она сама сохраняла в нищете свое достоинство. Положительно знаю, что дочь его не сдалась никому из тогдашних воздыхателей; но когда французы стали подходить к Видзам, то ее увез какой-то комиссионер в Друю. Не знаю, вышла ли она замуж. По миновании кампании старика в доме более не было, и хижина их стояла пустая.
По распоряжению князя П. М. Волконского приказано было снять город Видзы с окрестностями. Съемку сию поручили сделать старику Брозину, нас же двух прикомандировали к нему в помощь. Так как не имелось порядочных инструментов, то брат Михайла предложил новый самый простой инструмент своего изобретения в уподобление мензулы, для чего он употребил обыкновенный столик, две простые линейки и имевшийся у нас компас. Такой способ съемки, во всяком случае, был лучше глазомерного. Совету его последовали, и в скором времени мы порядочным образом сняли город с окрестностями на пять верст радиуса.
Однажды, как мы занимались съемкой за городом, часовой, стоявший у магазина, приняв нас за неприятельских шпионов, объявил о том своим начальникам, которые довели о том до сведения цесаревича. На другой день Шульгин был послан с казачьим конвоем за город, чтобы переловить шпионов, и расскакался на нас, но вскоре узнал, в чем дело состояло.
Затем новые хлопоты выпали на долю Шульгина. Известно, что в 1811 и 1812 годах во всей России были пожары, и пойманы были поджигатели. Однажды Шульгин, прогуливаясь вечером по городу, заглянул в какую-то избушку, которой хозяева были в отсутствии и в которой по полу виден был огненный свет. Он нашел рассыпанный фосфор и серу. Немедленно был приставлен к избе караул, и о происшествии донесено великому князю, который выбежал на улицу в своем белом халате. С ним были некоторые из его адъютантов, которых он разослал по всему городу и приказал занять казакам все выезды из города. Но как нельзя было довольно скоро собрать всех казаков, то офицеры Конной гвардии, оседлав лошадей, поскакали во все концы. Мы уже сбирались ложиться спать, когда князь Андрей Голицын вбежал к нам:
– Господа, – вскричал он, – пожар, город зажигают, седлайте лошадей, надобно поджигателей переловить, – и убежал.
Мы оседлали своих лошадей и пустились скакать, не зная сами куда. В городе была большая суматоха. Ночью мелькали скачущие во все стороны всадники, и всюду отзывался громкий голос Шульгина. Я скакал на своем большом белом коне мимо квартиры великого князя, который стоял на крыльце.
– Кто идет? – вскричал он своим хриплым голосом.
– Муравьев, ваше высочество.
– Куда ты, на форпосты, что ли, с кирасирским-то конем?
– На форпосты, ваше высочество.
– От заставы поезжай по большой дороге в корчму и там остановись; всю обшарь и, если сыщешь кого-нибудь, то тащи ко мне.
– Слушаю, ваше высочество, – и поскакал.
В корчме я никого не нашел; когда же я возвратился домой, то тишина уже водворилась в городе, я лег и уснул. Были разосланы офицеры в корчмы по другим дорогам, но никого не нашли. Причиной всему был Шульг ин, которому хлопоты такого рода были в охоту. На другой день он выпорол шестерых жидов без причины, а только для примера другим, как он говорил.
Константин Павлович также рад был случаю потешиться, потревожив всех от сна. Случай этот, однако же, остался необъясненным; можно его, конечно, приписать нечаянности, и едва ли тут был чей-либо злой умысел; но странно найти фосфор и серу в бедной избе, из которой хозяева на то время удалились.
Я получил в Видзах письмо от двоюродного брата моего Мордвинова, которого, отъезжая из Петербурга, просил сообщать занимательные для меня известия. Мордвинов передавал разговор, который он имел обо мне с Натальей Николаевной; письмо это у меня в сохранности. Я получил также письмо от Михайлы Колошина из Вильны. Он писал, что объехал кантонир-квартиры своей дивизии и, проехав чрез Неменчино, был так занят мыслию о Нелединской, что забыл заехать в корчму, чтобы поцеловать прелестную израильтянку Беллу.
Около 12-го или 13-го числа июня месяца мы были командированы по приказаниям, полученным из главной квартиры, вероятно в одно время с известием о переходе неприятеля 11 июня чрез Неман. Курута, однако же, скрыл это от нас, ибо оно вначале содержалось в тайне. Гвардейскому корпусу дано было приказание собраться под Свенциянами, где стать лагерем. Выезжая из Видз по своей командировке, я видел конногвардейский полк выступающим в поход по дороге к Свенциянам; но тогда, кроме великого князя, Куруты и нескольких других лиц, никто не знал, зачем и куда выступают.
Кажется, что главнокомандующий намеревался отступить на м. Козачизна, лежащее в 30 или 40 верстах на запад от Видз, или послать по сей дороге отдельный корпус; ибо мне приказали ехать в Козачизну, поправляя проселочную дорогу, расширить ее, выровнить и сделать удобной для артиллерии, для чего построить по всем речкам и топким местам мосты и гати; окончив же все сие по большей мере в два дня, возвратиться, не сказав куда и не указав даже Свенциян. Никогда не доводилось мне еще иметь подобного поручения, но я был доволен случаю испытать и показать себя. Брата же Михайлу послали в местечко Тверич для построения моста. Каждому из нас дали в помощь по одному дворянскому депутату и по одному кирасиру; но как в обывательских тележках не было места, то мы отослали кирасир. Из двух слуг наших оставался только мальчик Петр брата Михайлы; мой же заболел, был отдан в полковой лазарет и отправлен с лазаретом в Псков. Итак, у Петра были на руках четыре лошади и наши вьюки; не постигаю, как он один мог с ними управиться, обовьючивать их и поспеть в поход за Конной гвардией; знаю только, что мы его нашли в Свенциянах расположившимся в каком-то саду, в голубятнике, близ квартиры великого князя, на мызе у помещика Мостовского, под самым почти городом.
Отправляясь, таким образом, из Видз уже в настоящий поход, у меня всего-навсего было денег только 10 рублей ассигнациями, и я не надеялся что-либо получить прежде сентябрьской трети.
Не в лучшем положении были денежные дела и брата Михайлы. Курута так внезапно послал нас и требовал такой поспешности, что мы едва успели зайти к себе на квартиру, чтобы взять на дорогу кусок хлеба, ибо телеги стояли уже запряженными под окнами Куруты, и в них уже сидели польские паны, депутаты и кирасиры. Так как я не рано выехал, то в этот день успел отъехать только 15 верст и остановился на ночлег уже после полуночи. Земской полиции дано было приказание чинить дорогу, и от капитана-исправника Жилинского было уже приказано всем крестьянам выйти на дорогу; но выходить было некому, и я в одном только месте видел на дороге человек десять дворовых людей с лопатами. В другом селении, русском, я нашел много крестьян (филипонов), строивших мостик. С такими-то средствами приходилось мне сообразоваться для исполнения возложенного на меня поручения.
Все селения были вконец разорены от притеснений панов, и везде был голод оттого, что в предшествовавшем 1811 году был там повсеместный неурожай хлеба; в 1812 году стоял на поле обильный хлеб, но некому было его снимать: большая часть крестьян была угнана в подводчики. Нигде почти живой души не встречалось. В корчме, куда я на первый день приехал, с осторожностью разведал я у хозяина жида о его рабочем инструменте и узнал, что у него имелось несколько топоров и лопат; после чего отправился в ближайшую деревню, чтобы собрать крестьян, но обошел все дворы (их было 8 или 9) и нашел только в двух или трех по старику и несколько больных людей, которые лежали; когда же я к ним входил, то они просили у меня хлеба и говорили, что часть селения их вымерла от голода, а другая разошлась по миру за милостыней; наконец, что они, не имея сил подняться на ноги, ожидают себе голодной смерти в домах своих. Несчастные крайне жаловались на своих помещиков, которые в таком даже положении приходили их обирать. Проезжая однажды по лугу, я видел несколько крестьян с детьми, питавшихся собираемым щавелем. Богатый урожай 1812 года был весь вытоптан нашими лагерями и истреблен войсками. Итак, в этой деревне рабочих не нашлось.
Возвращаясь к корчме, я встретил какого-то помещичьего приказчика, которого захватил и насильно привел в корчму, где приказал ему забрать у жида инструмент. Присоединив к нему двух жидов из корчмы, я погнал сборную команду свою по дороге и прибыл к русскому селению, где строили мостик. В польских губерниях есть много богатых селений, составленных из беглых русских старообрядцев (филипонов). Поставив к сему мосту своего депутата и жидов, которых отдал под начальство крестьян, я уехал оттуда, когда видел, что мостик приходил уже к окончанию. Русские крестьяне были очень рады мне, потому что их притесняли земские чиновники при исправлении дорог. Я созвал старшин в селении, взял хорошую тройку лошадей и человек 30 работников, которых повел вперед. Отъехав несколько, я нашел земского чиновника, который с 60 человеками работал на дороге. Расспросив его о состоянии работ, я объяснил ему то, что требовалось, и распределил крестьян по всей дороге до моего ночлега, куда мой пан-депутат приехал по совершенном окончании моста. Тогда только я отпустил его домой в Видзы, потому что у него заболел глаз.
Было уже поздно, когда я приехал на фольварк к какому-то пану Заневскому, где в доме уже спали; но я всех перебудил и приказал помещику нарядить к рассвету подводы, работников, телегу для меня и проводника. Работники были с вечера заготовлены, но, узнав о моем приезде, разбежались ночью. Это было причиной тому, что я не мог рано выехать. Пока пан бегал по деревне, собирая крестьян, я сидел с его сыном и дочерью Ниной. Пришли также в гости пан коморжий и пан подкоморжий (землемеры) с женами, с которыми, кстати, я позавтракал, ибо накануне утомился до такой степени, что ночью не мог уснуть, а только подремал сидя на стуле.
Когда все было готово, я взял молодого Заневского к себе в помощники за депутата и погнал работников на дорогу, где распределил их по местам, требующим исправления, с назначением в каждой артели одного из них начальником и с возложением на него ответственности за успех. Прибыв таким образом к лесу, лежащему уже под м. Козачизна, я нашел, что бывшая чрез оный прежде узкая дорога была уже вырублена на три сажени ширины и уровнена. В лесу встретил я человек 40 работников под присмотром одного приказчика. Показав ему, что делать, я поехал далее и прибыл в Козачизну, где остановился у какого-то пана Каминского. Когда я стал требовать работников, то Каминский указал мне на одного артиллерийского офицера, для которого он не мог добыть подводы, потому что из его селения весь народ был выслан на работу в лес; в соседственных же селениях крестьяне взбунтовались и не повиновались ни земской полиции, ни помещичьим приказчикам. Так как у меня был открытый лист, по которому я вправе был требовать всякого вспоможения от воинских команд, то я его показал артиллерийскому офицеру (Каменскому), который мне дал одного из находившихся с ним артиллеристов, и я отправился в селение, лежащее верстах в трех от Козачизны, где уже носился слух о переходе французов через Неман. Но я не верил сему слуху и, созвав старшин, погрозил им наказанием, после чего получил человек 40 работников, которых привел в лес и отдал их под присмотр надзирателю, приказав, чтобы, в случае неповиновения, наказать зачинщиков. После такого внушения работа пошла с успехом, и дорога подходила уже к концу, когда я оттуда уехал.
В неповиновавшемся селении нашел я одного полкового священника, который нагонял свой полк, стоявший на Немане. Услышав о переправе французов через Неман, он хотел возвратиться; но я не верил сему слуху и уговорил его смело продолжать свой путь к полку. Может быть, и попался он с моего совета в руки неприятеля, потому что полки наши быстро отступали от Немана, не зная даже настоящей дороги, по которой идти.
Из леса поехал я назад по старой дороге до русского селения, нашел все конченным, похвалил крестьян и приказчиков, взял добрую тройку и отправился другой дорогой в Видзы, куда приехал ночью. Город был уже совершенно пуст. Я вошел в свою старую квартиру и переночевал на скамейке; поутру хозяин удивился, найдя меня у себя в доме. Как только рассвело, я поспешил к капитану-исправнику Жилинскому и узнал от него, что великий князь с гвардейским корпусом в Свенциянах. Итак, вытребовав себе подводу, я приехал в Свенцияны в глубокую полночь. Подъезжая к городу, видно было множество огней в лагере гвардейского корпуса. Новое для меня зрелище бивуаков казалось диковинным и вместе радовало меня.
Великий князь квартировал, как выше сказано, на мызе у Мостовского. Курута и адъютанты поместились в двух больших комнатах, смежных с покоями Константина Павловича. Иные уже спали, когда я вошел; другие дремали, сидя у камина; иные в углу перешептывались о политических делах; а Дмитрий Дмитриевич расхаживал по зале на цыпочках, курил и что-то про себя жужжал. При появлении моем со всех сторон послышалось шушуканье. На столе свечи догорали, и в камине одно поленце то вспыхивало, то загасало; изредка кто-нибудь кашлянет. Казалось, как бы я вступил в какой-то таинственный храм, в котором черный Курута с черным на голове колпаком изображал жреца. Подойдя к нему, я шепотом рассказал действия мои. Он похвалил меня и сказал, что также очень доволен братом Михайлом.
– Где брат мой? – спросил я Куруту.
– А вот он спит в углу; не будите его: он, бедный, очень устал.
Брат действительно лежал на трех стульях, приставленных к стене.
– Да и мне пора спать ложиться, – сказал Курута, – прощайте Николай Николаевич, отдохните и вы. – Он лег и уснул.
Но я, перенесясь воображением своим в предстоявшие военные действия, не мог спать, достал свои пистолеты и начал их чистить, вышел, достал кирпич, растолок его и расположился за работой у камина. Шульгин, которому и во сне все снились заговоры, встал и, увидев меня сидевшим в шинели у огня, подошел и выразил свое удивление моему занятию. Я отвечал сухо, что не имею для того слуг и не стыжусь сам заняться этим делом, что считаю за лучшее не иметь пистолетов и бросить их, чем держать заржавленными, и что во всяком случае, если в них нужды не будет против неприятеля, то они мне пригодятся для обстреливания лошадей. Шульгин отстал, одобряя мой взгляд и суждение. Таким образом, в 1812 году некоторые, видя наше стесненное положение, пытались иногда посмеяться или показать свое преимущество над нами, но встречали отзыв или возражение, которое их отталкивало от нас, отчего и были мы мало знакомы с людьми, более нас достаточными или выше нас чином.
Две ночи уже прошло, как я почти вовсе не спал. Сон меня склонил, и, сидя на стуле у огня, я крепко заснул и только поутру проснулся. Сцена совсем переменилась: изо всех углов слышались зевота и потягивания; один слугу бранил, другой сердился за то, что шумят, третий кричал «кофию!». Я видел, что мне тут не место было, разбудил брата, который мне обрадовался, и мы отправились вместе отыскивать нашего слугу и лошадей. Брат мне рассказал свои похождения. Приехав в Тверич, он увидел реку шириной сажень в 20 и на средине ее остров. Материалы к строению моста были отчасти уже заготовлены. Брат отыскал какую-то старую помещицу и собрал ее крестьян. Оставалось привезти вырубленный лес и начать постройку моста. Он нашел бабу для вколачивания свай, велел в ту же ночь возить лес и поутру начал строить мост, направляя его через остров. Мост выстроился на сваях в одни сутки и несколько часов; но так как его могло паводком сорвать, то брат послал своего депутата пана Филипа по всем корчмам и помещикам собирать бочки и веревки, дабы, в случае неудачи или несчастия, иметь в готовности другой плавучий мост, и, довершив эту работу, он приехал в Свенцияны незадолго до меня.
Мы нашли своего Петра сидящим в решетчатой голубятне, на которую взбирались по приставленной лестнице. Лошади наши стояли привязанными к дереву. Петрушка плакал и боялся подойти к братниной вьючной лошади Воронку, которая играла и не подпускала к себе мальчика. Ему в самом деле трудно было управиться с четырьмя лошадьми, двумя вьючными, и еще нам служить. В похвалу вышеназванного камер-лакея Пономарева скажу, что он в трудных случаях постоянно помогал нашему Петру.
Погода была дождливая, и мы влезли в сквозную голубятню, где расположили свою квартиру. Гвардейский лагерь был в близком расстоянии от нас. Отпросившись у Куруты, чтобы посмотреть его, мы пошли отыскивать знакомых. Первый и единый, которого мы нашли, был Матвей Муравьев-Апостол, служивший тогда юнкером в Семеновском полку. Нас обрадовала эта встреча, и мы пошли к нему в шалаш. Матвей стоял с капитаном князем Голицыным, прозванным Рыжим. Тут мы с ним познакомились, как и с другими семеновскими офицерами, которые собрались около нас, чтобы узнать новости; но мы ничего не знали и потому ничего не могли им передать, а порядочно отобедали у них и с удовольствием, потому что несколько уже дней питались чем попало и были голодны. Во все время похода пища наша большей частью состояла из одного хлеба с водой; лакомились же картофелем и редькой, которые удавалось отрывать на огородах, иногда вареной курицей, привозимой с фуражировки. У великого князя был адъютантский стол, которым и мы могли бы пользоваться, тем более что Курута приглашал нас обедать за общим столом и даже приказывал отпускать нам с кухни кушанье; но ни тем, ни другим не могли мы воспользоваться, во-первых, потому, что мы почти целый день бывали в разъезде, а во-вторых, потому, что когда мы слугу посылали с судками за кушаньем, то повара, озабоченные своим делом, бранили его, и он возвращался с пустой посудой. По сей причине мы предпочли довольствоваться одним хлебом, не подвергая ни себя, ни слугу своего оскорблениям.
Мы возвратились ввечеру к своему голубятнику, где застали большую тревогу. Под голубятней был подвал, в котором висели копченые окорока ветчины. Кто-то из офицерских слуг увидел их в щелку, собрал товарищей, разбил дверь и приступил к очищению подвала. Когда мы подходили к ночлегу, то слышали только восклицания:
– Каковы! Изменники! Повесил бы всех поляков! Шельмы нам ничего не дают, только говорят «добродзей, пане», а для французов магазины заготовляют; смотри, что они для Бонапарта припасли! На целую его армию достанет ветчины!
Видя, что дело уже начато и ничем нельзя было помочь, мы пустили в подвал нашего Петра, который вытащил пару окороков, служивших нам долго и с большой пользой.
Государь прибыл с главной квартирой из Вильны в Свенцияны, где остановился в большом деревянном доме с колоннами. С главной квартирой приехал и брат Александр, который, отыскав нас на мызе у Мостовского, рассказывал нам виленские происшествия. Адъютанты великого князя, увидев нового приезжего, обступили его и расспрашивали, как водится, о каждой безделице. Александр сказал нам, что Вильна уже в руках неприятеля и что он был свидетелем маленькой стычки, случившейся за городом между нашими гусарами и французскими. С каким вниманием мы его слушали, завидуя между тем, что ему удалось уже слышать неприятельские выстрелы! При вступлении французов в Вильну некоторые из жителей выехали из города, другие же и вообще народ приняли неприятеля с радостными восклицаниями. В числе выехавших была известная красавица Удинцувна с ее старым дедом. Брат Александр, в числе многих обожателей ее, проводил ее из города.
Французы внезапной переправой через Неман отрезали 6-й корпус Дохтурова и летучий казачий Платова. Легкая гвардейская дивизия Уварова, не получив никакого приказания от Барклая де Толли, едва успела отступить и форсированными маршами соединиться с 1-й армией. Дохтуров соединился с 1-й армией уже около Дриссы; Платов же с казаками присоединился ко 2-й армии князя Багратиона.
Оставляя Вильну, предположено было отступить до Видз, где дать генеральное сражение, почему 5-й гвардейский корпус получил приказание собраться.
Государь хотел видеть пехоту на походе, при вступлении ее в город Свенцияны. Дождь шел проливной, но государь оставался во все время смотра в одном мундире. Несчастная пехота тащилась в полном смысле слова в грязи почти по колено. По дороге было много топких мест, чрез которые сделаны были плохие мостики, развалившиеся от движения тяжестей. После гвардейского корпуса должны были еще идти по этой дороге армейские корпуса.
Курута послал меня к князю Волконскому для получения от него приказаний; князь же приказал мне в ту же минуту починить дорогу и мостики, но как и кем не сказал. Я доложил о том Куруте, который велел прислать ко мне для работы восемь человек астраханских кирасир с топорами. Но что можно было сделать с сими восемью человеками тяжелых кирасир? Я повел их в город на площадь, где застал собравшуюся из любопытства толпу жидов. Захватив из них человек 20, я погнался за разбежавшимися и переловил еще несколько человек, несмотря на их крик, вопли и плач. Я пригнал их к мостикам и, разделив на части, начал работу; кирасиров же приставил смотрителями. Жиды сперва ничего делать не хотели, да недоставало и инструментов; когда же их стали понуждать побоями, то они принялись за работу: кто грязь руками таскал, кто хворост собирал, и таким образом чрез несколько часов мостики были кое-как, хотя для вида, поправлены, за что Курута очень благодарил меня. Как же иначе было исполнить такое безрассудное приказание!
Между тем дождь шел проливной, я весь промок и хотел переодеться, когда Курута меня опять позвал и сказал, что великий князь приказал ему сделать дислокацию для 1-й кирасирской дивизии, которая уже выступает в поход, и что поэтому мне надобно с ним ехать в с. Большие Даугилишки. Я не имел еще понятия о дислокациях, и потому это был для меня первый опыт в поручении такого рода. Вышеназванный камер-лакей Пономарев достал на мызе какую-то тележку и пару лошадей, запряг ее, сел кучером и повез меня с Курутой. Странный порядок! Начальник штаба не имел, стало быть, другого способа ехать для исполнения возложенного на него великим князем поручения. Импровизированный экипаж этот остался в вечном и потомственном владении Пономарева. Мы приехали, таким образом, в селение Большие Даугилишки и, следуя далее еще версты две, остановились по приказанию Куруты в поле. Тут он сошел с телеги и сказал:
– Вы должны сделать дислокацию для расположения по деревням полков первой кирасирской дивизии; вот селения направо и налево, видите вы их? Узнайте о числе дворов каждого и расположите полки так, чтобы, обратясь к Вильне лицом, налево от дороги стоял бы в селениях сперва Ее Величества полк, а за ним Кавалергардский; направо же от дороги сперва Его Величества полк, а за ним лейб-гвардии Конный. Для квартиры Его Высочества назначьте особую деревню, но ближе к Конной гвардии. Теперь вы знаете, как это сделать, итак, прощайте. – Сел в телегу и уехал назад, присовокупив, что чрез три часа великий князь сам прибудет с четырьмя полками.
Астраханский кирасирский полк был в то время послан в какой-то отряд, с ним и брат Михайла. Итак, я остался один на большой дороге с порученьем довольно трудным и без всякой помощи. По приемам Куруты можно предполагать, что он сам не был практиком в деле такого рода и что, получив от великого князя поручение, едва возможное по краткости времени к исполнению, сложил дело на молодого, но ревностного офицера, на которого и ляжет, в случае неудачи, вся ответственность. Как бы то ни было, долго думать времени не было. Обратясь лицом назад, я повернул влево и пошел в сторону полем, увязая в распустившейся от дождей земле и раздвигая пред собою густую рожь, от мокрых колосьев коей я до костей промок. В надежде добраться до селения, я шел почти бегом и очень устал. Встретив на пути своем крестьянскую лошадь, я сел на нее верхом и попал в какую-то деревню, коей записал карандашом название и число дворов; взяв проводника, я поехал верхом на той же лошади и пустился по другим селениям, из которых крестьяне, завидев меня, уходили.
Приехав в одну деревню, населенную русскими (филипонами), которое, помнится называлось Михалишки или Михайловское, я слез с лошади, и крестьянин, проводник мой, бежал с нею. Итак, я снова остался пеший и один. Перебежав на другую сторону дороги, я опять пошел по ржи, нашел еще несколько небольших деревень и пришел на какую-то мызу, которую назначил для квартиры Его Высочества. Но три часа уже прошло, и я издали услышал звук труб полков, проходящих чрез Даугилишки. Надобно было спешить навстречу полкам, и потому, расспросив на мызе об окрестных селениях, я заготовил записки для полков с названиями деревень, для них назначавшихся, и выбежал на большую дорогу. Великий князь ехал верхом со своим штабом впереди колонны. Увидев меня, он остановил полки и расспросил о дислокации и о своей квартире. Я ему все рассказал, и он, казалось, был доволен. К этому времени слуга наш Петр догадался привести мне лошадь, и я сел верхом.
Адъютанты, уставшие от перехода и промокшие от дождя, обступили меня, расспрашивая о своих квартирах; я им показал селение с мызой и отправился к полковым командирам для раздачи им записок. Хитрый грек Курута, предвидевший, что тут непременно случится что-нибудь неладное, к этому времени исчез и ехал тайком, скрываясь за полками. Я роздал записки в Конную гвардию, кавалергардам и другим полкам, после чего они свернули с дороги, направляясь к своим селениям.
До сих пор шло как нельзя лучше; но когда Константину Павловичу пришлось свернуть с дороги, чтобы приехать на назначенную для него мызу, то ни он, ни адъютанты его не нашли дороги.
– Муравьева! – раздался его хриплый голос.
Все опрометью бросились за мной и привели к нему.
– Где моя квартира? Куда ты уехал, ты должен меня вести, – закричал он.
– Ваше высочество, по вашему приказанию я раздавал полкам записки об их квартирах.
– Роздал ли?
– Роздал.
– Я не хочу стоять на мызе, до нее далеко ехать (всего было не более полутора версты). Хочу остановиться вот в этой деревне, как ее зовут?
– Михалишки, она назначена для кавалергардов.
– Выгнать их. – И он сам туда поскакал.
Только что я поехал назад, чтобы переменить дислокацию и отдать несколько деревень полка Ее Величества кавалергардам, а полку Его Величества деревню с мызой, назначенную для великого князя, как вдруг раздался снова крик:
– Муравьева! – И вслед за тем прискакавшие за мною адъютанты Потапов и Колзаков предупредили меня, дабы я остерегался, говоря, что он недоволен тем, что, приехав в Михалишки, нашел уже в деревне кавалергардов, чему я нисколько не был виноват, потому что не мог успеть вывести кавалергардов.
Я прискакал к великому князю, который остановился на большой дороге под дождем. Увидев меня, он стал кричать:
– И по милости вашей, сударь, вы видите меня на дожде! Прекрасный офицер! Вы не могли для меня квартиры занять? Михалишки заняты, и я, великий князь, по вашей расторопности ночую на большой дороге!
– Ваше высочество, – отвечал я, – для вас была отведена мыза; но вам не угодно было ее занять, а из Михалишек я не мог успеть вывести кавалергардов.
– Как, сударь, вы еще оправдываетесь? Я вас представлю за неисправность, я вас арестую, вы солдатом будете. Ведите меня сейчас на мызу.
– Слушаю, ваше высочество, – и повел его.
Но что мы с ним увидали! Кирасирский Его Величества полк уже вступал на мызу, которую я этому полку назначил, после перемены сделанной великим князем.
– Это что такое? – опять закричал он.
– Они проходят мимо вашей мызы на свои квартиры, – отвечал я и поскакал вперед. Константин Павлович пустился меня нагонять, а я от него.
– Арестовать Муравьева! – кричал он во все горло, остановив свою лошадь.
Я оглянулся и увидел, что адъютанты его меня преследуют. Думал я про себя: если вернусь, то худо мне будет; если же поеду далее, то уже не будет хуже, а может быть и лучше. Однако же адъютанты нагнали меня и смеялись. Прискакав к полковому командиру Будбергу, я объявил ему, что на мызе будет стоять великий князь, а что ему отведутся другие деревни.
– Знаете ли вы, милостивый государь, – говорил мне Будберг, – что полк уже пять дней как на дожде биваками стоит и что я, а не вы будете отвечать за неисправность лошадей? Как вы хотите, я отсюда не выеду и пожалуюсь на вас Его Высочеству: как можно три раза переменять квартиры?
Видя, что с ним трудно было уладить дело, я начал упрашивать его, чтобы он за мною следовал, обещаясь показать ему богатое селение, где ему будет раздолье стоять, причем объяснил в коротких словах, что не я виноват случившемуся беспорядку, а сам великий князь. Он подумал и пошел за мною со своим полком, коего Константин Павлович застал в деревне только хвост, и расположился на мызе.
Стало смеркаться, а я еще вел Будберга, сам не зная, по какой дороге.
– Далеко ли селение, господин Муравьев? – спросил он.
– Близко, – отвечал я.
– Как оно зовется?
– На что вам знать это, – говорил я шутя, – вы увидите, какой у вас будет славный ночлег.
– Но ведь ночь уже на дворе.
– Сейчас придем. – Не зная, куда веду Будберга, я опасался, что до первого селения могло быть и двадцать верст, а между тем ночь могла застигнуть нас на дороге; но как я обрадовался, когда вдруг открылась колокольня и большой помещичий дом.
– Видите, – сказал я Будбергу, – какое место, какой дом; тут найдете вы конюшен на целый полк, и будет вам славный ночлег.
Поскакав вперед, я спросил название селения и, возвратившись к полку, сказал Будбергу:
– Рекомендую вам, Карл Васильевич, местечко Малые Даугилишки с огромной мызой и славным хозяином. – Будберг был доволен и благодарил меня.
Я возвратился на мызу к великому князю, где нашел брата Михайлу, прибывшего из отряда. Я донес Куруте о происшедшем со мною; он улыбнулся и порадовался счастливому исходу, одобряя находчивость, с которой я вышел из такого затруднительного положения. Когда в добрую минуту Курута объяснил все дело великому князю, то он сознался виноватым и сожалел, что погонял меня напрасно. Всего более опасался я, чтобы он, забывшись, не наговорил мне дерзостей; но, к счастию, этого не случилось.
На следующий день мы продолжали марш свой к Видзам. Слух носился, что войска на половине дороги остановятся на позиции для генерального сражения. Не доезжая десяти верст до Видз, стояла пустая корчма, где мне приказано было с братом дожидаться Куруты и 1-й кирасирской дивизии. Тут уже стояла лагерем часть гвардейской пехоты. В корчме застали мы гвардейской артиллерии поручика Афанасия Столыпина, который командовал двумя орудиями, выдвинутыми на небольшую высоту. Познакомившись, он сводил меня в лагерь гвардейского Егерского полка и познакомил с офицерами Крыловым, Делагардом, князем Грузинским и проч.
Тут я еще познакомился с офицерами гвардейской артиллерии Гордановым, Коробьиным, Норовым[37] и Васмутом. (Они все были ранены в сражении под Бородином.) Курута по приезде взял меня с собою в Видзы.
На другой день войска пришли в Видзы. Не прекращался слух, что они станут на позицию верстах в двух за городом, чтобы принять генеральное сражение. Курута передал мне, каким образом должно было расположить гвардейскую пехоту, и приказал дожидаться ее у заставы. Я провел пехоту на лагерное место, и колонна шла за мною, вытаптывая ржаное поле богатого урожая. В первый раз мне было совестно истреблять таким образом труды и надежды земледельцев; но впоследствии времени я свыкся с таким порядком вещей. Поле все было вытоптано, из ржи поделали шалаши.
Государь приехал в Видзы, и все были уверены, что тут непременно дадут сражение. Ротмистр Орлов (Михайла) был еще из Свенциян послан к Наполеону для переговоров. Он привез известие, что французская армия претерпевает нужду, особливо конница. И сказывал, что по дороге видел множество палых лошадей. По возвращении Орлова в Видзы государь пожаловал его во флигель-адъютанты.
В одной из стычек, происшедших около Вильны, казаки взяли в плен Сегюра, адъютанта Наполеона.
Помнится мне, что мы дневали в Видзах. Оттуда мы пошли на Дриссу, открыв неприятелю дорогу на Петербург. Первый переход наш был в 48 верст. Мы шли через Угорье и пришли к Замостью. День был весьма жаркий, дорога же вся песчаная, так что к лагерю пришла едва половина людей. Многие из оставшихся по дороге в усталых не прежде, как к полуночи, присоединились к своим полкам. Несколько солдат на переходе падали и умирали на месте. Когда мы пришли к ночлегу, то было уже очень поздно. Неприятель сильно преследовал наш ариергард, которым командовал, кажется, Коновницын. В Угорьях есть болотистая речка с плохим мостиком. Переправа в этом месте была затруднительная, неприятель напирал, и тут произошло сильное ариергардное дело, в котором из знакомых моих были ранены капитан Рахманов и ротмистр Мариупольского гусарского полка, Фигнер, с которым я имел дело в начале 1811 года в Петербурге. Он поехал лечиться в Псков, куда приехала к нему жена. Они там оба занемогли и умерли.
Гул орудий был у нас слышен. Издали гул этот наводит уныние. Вечер был прекрасный, в лагере пели песни, везде блистали огни.
На другой день был также сильный и тяжелый переход; войска крайне утомились и на место пришли уже ночью. Мне поручено было поставить гвардейскую пехоту лагерем. В ожидании оной я остановился в лесу, слез с лошади, лег отдыхать, привязав лошадь к своему шарфу. Скоро услыхал я песни приближающихся полков и привел их к месту. Затруднительно было ночью назначать линии, но я начинал уже привыкать к своей должности; однако поутру увидел, что линии были криво поставлены. Окончив дело свое, ночью же отправился с братом отыскивать квартиру великого князя и нашел ее в селении Иказне. Брат подошел к великому князю, который сидел в корчме, опершись локтями на стол.
– Кто тут? – вскричал он.
– Муравьев, ваше высочество.
– Что скажешь?
– Корпус пришел и расположился уже лагерем.
– Хорошо; тебе надобно сейчас ехать; устал?
– Не устал, ваше высочество.
– Ты никогда не устаешь; молодец, ступай же да отдохни.
Но отдыха нам немного было, ибо до рассвета мы опять поехали на следующий переход.
С выезда нашего из Видз мы почти все были на коне и очень мало спали; питались же кое-чем и ни одного разу не раздавались. Курута употреблял нас иногда и вместо адъютантов великого князя, которые ленились ездить и просили его кого-нибудь послать вместо их самих. Денег мы не имели, и потому положение наше было незавидное; но мы друг другу даже не жаловались, не воображая себе, чтобы в походе могло быть лучше. Лошадей своих мы часто сами убирали и ложились подле них в сараях, на открытом же воздухе, около коновязи.
В ариергардном деле, случившемся под Свенциянами, наш польский уланский полк был отрезан. Подхода к Свенциянам, он увидел огни французов и, бросившись в атаку, пробился сквозь французские линии, причем ранено у нас несколько офицеров и рядовых. Полк этот был составлен из поляков; многие из них бежали, но те, которые остались, служили верно.
В Отечественную войну все полки соревновались друг перед другом, как и каждый солдат перед своим товарищем; усиленные переходы совершали с терпением, и дух в войске никогда не упадал. Ходили по 40 и по 50 верст в сутки с песнями. Все нетерпеливо ожидали боя с неприятелем. Мы скоро достигли укрепленного лагеря под Дриссой, где стали на приготовленной позиции. Двина у нас была в тылу, и за рекой на правом берегу ее город Дрисса; через реку наведено было три понтонных моста. Полевых укреплений настроено было много, но без большого толка. Позиция была рассчитана на 120 000 человек; у нас же их более 30 000 недоставало, даже тогда, когда отрезанный корпус Дохтурова к нам присоединился. Он прибыл в Дриссу на другой день после нас, отступая усиленными переходами, но почти ничего не потерял на походе. В Дриссе только соединилась вся 1-я Западная армия.
Квартира великого князя расположилась в селении на правом берегу реки. Великий князь занимал избу; адъютанты же его – сарай, в котором мы двое имели ночлег, а днем оставались под открытым небом. Главная квартира после нас пришла в это же селение, с нею же и брат Александр. Он тотчас же послал слугу своего отыскать нас и к себе звать, потому что сам был болен. Брат Александр лежал на улице перед окнами квартиры своего начальника генерал-квартирмейстера Мухина. Он с трудом мог говорить. Голова опухла, язык и десны покрылись язвами.
Вместе с братом Михайлой пошел я к Куруте просить, чтобы Александра перевели в гвардейский корпус, хоть на время, для того чтобы мы могли за ним ходить. Курута тотчас же пошел к Константину Павловичу, который на то согласился, и через два часа Александр был прикомандирован к гвардейскому корпусу. Не знаю, через кого великий князь узнал о нужде, в которой мы находились; думаю, что в этом участвовал адъютант его Олсуфьев; только приказано было выдать нам из собственной, говорили, казны Его Высочества по 100 рублей бумажками на каждого. Хотя мы были без гроша денег, но посоветовались между собою, принимать ли эти деньги или нет? Рассудили, что, так как нельзя было великому князю отказать в приеме от него дара и что не было стыда ему обязываться, то деньги принять, и потому приняли их. Давно уже у нас не было такой суммы: 300 рублей у троих вместе. Мы сделали себе небольшой запас водки и колбасы и начали жить пороскошнее прежнего.
Мы положили Александра в общий сарай; но, видя, что адъютантам великого князя неприятно было лежать с больным, мы перенесли его на край деревни, в квартиру адъютантов генерала Ермолова, между коими Муромцов и Фон Визин нам были знакомы; с ними стоял и Петр Николаевич Ермолов. Добрые сослуживцы приняли брата ласково, дали ему лучший угол, ходили за ним, и через два дня он начал уже говорить и стал на ноги. Но я заразился от него через трубку, которую он мне дал курить; не более как час спустя после того показался у меня на языке пупырышек, а на другой вся внутренность покрылась сыпью и язвами, так что, при выступлении нашем из Полоцка, я уже был без языка и так болен, что не мог ехать верхом. Я не мог ничем питаться, кроме молока, и эта самая пища послужила мне лекарством. При выступлении нашем из Витебска я уже был опять на службе. Болезнь эта была, по-видимому, цинготная, и хотя я тогда от сего первого припадка поправился, но вскоре после того следы сей болезни обнаружились язвами на ногах, от которых я долго страдал, но, перемогаясь, не отставал от исполнения своих обязанностей.
Александр по выздоровлении своем оставался еще некоторое время при штабе великого князя, состоя при гвардейской пехоте, которой командовал генерал-лейтенант Лавров. Ермолов был назначен начальником Главного штаба при Барклае де Толли. Генерал-квартирмейстер Мухин был отправлен в Петербург, а на его место поступил квартирмейстерской части полковник Толь, офицер храбрый, решительный и опытный в военном деле. Он был известен по своим способностям, но не имел особенного ученого образования. Толь держался во все время войны на этом месте и, будучи полковником, распоряжался тогда действиями всей армии. Зная, сколько русские не любили немцев, он часто порицал медленность последних; но не менее того поддерживал и выводил в люди своих родственников и земляков. Толь хорошо знает по-русски, по-немецки же говорит только там, где нужно. Речь его всегда смелая и дельная. Однако же офицеры за его грубое обращение не любили его; он горд, вспыльчив, бывает даже и зол; впрочем, не слышно было, чтобы он кого-либо погубил по службе; напротив того, многих из служивших при нем он вывел в чины. Мало спит, деятелен и в огне особенно неутомим. Толь происхождения незнатного. Отец его живет в Нарве и, говорят, в бедности. Средства к жизни Толь сам приобрел трудами и службой.
Неприятель не приходил к нашему Дриссинскому лагерю, а пошел левым берегом Двины на Витебск. Движение сие заставило нас поспешно бросить лагерь и идти форсированными маршами правым берегом Двины чрез Полоцк. 4-й корпус графа Остермана-Толстого, прикрывая Витебск, отступал по левому берегу и задерживал движение неприятеля. Мы шли так быстро, что прибыли в Витебск прежде французов, оставив 1-й корпус графа Витгенштейна в Полоцке для защиты Петербургской дороги. В Дриссе мы сожгли огромные хлебные магазины, заготовлявшиеся там с 1811 года. При выступлении из Дриссинского лагеря я был командирован с полковником Мишо для рекогносцировок дорог; а брат Михайла послан по такому же поручению с артиллерийским полковником Дмитрием Столыпиным; но полученная в Дриссе болезнь обессилила меня на третьем переходе до такой степени, что меня повезли на телеге, на той самой, в которой я ехал с Курутой, когда мы с ним выезжали из Свенциян.
Помнится, что государь оставил армию еще в Дриссе, откуда он поехал в Москву. Московское дворянство подозревало Барклая де Толли в измене, ибо всем прискорбно было видеть отступление армии, и еще под начальством немца. Нет сомнения, что Барклай не был изменником: он более одного раза проливал кровь свою в сражениях; но он был человек нерешительный и едва ли когда показал искусство в военном деле.
По приезде в Москву государь, созвав дворянство, предложил собрать ополчение, что было единодушно всеми принято, и ополчение начали собирать по всей империи. Те губернии, которые не ставили ополчения, обязаны были доставить продовольствие в армию. Говорили, что одна Московская губерния должна была выставить более 40 000 ратников. Народ был отборный; но когда военные действия коснулись их родины, то многие из них разбежались по своим селениям. Только 12 000 ратников пришли под Бородино, где охотников назначили для уборки раненых во время сражения, что они усердно исполняли и с участием к страдальцам. Когда французы начали отступать из Москвы, то Московское ополчение собрали в Волоколамске, откуда оно было распущено по домам, за исключением части, которую расписали по полкам и коей большая половина погибла от болезней. Кроме того, формировался еще в Москве иждивением Мамонова казачий полк. В состав сего полка прежде всего явились офицеры, и многие из них состояли в штабах и при генералах, когда не было еще солдат. Набиралась всякая сволочь. Наконец, полк сей сформировался, когда мы были уже в Германии или незадолго до того, и едва ли он принимал участие в делах. Впоследствии людей сих зачислили в Иркутский гусарский полк, когда последний формировался из драгунского. Сформировали также в Малороссии четыре казачьих полка, названные Украинскими. Эти четыре полка не были распущены; они были в делах против неприятеля и вели себя хорошо. После же войны их переформировали в уланские.
По приходе 14 июля в Витебск, мы услышали сильную канонаду Остермана, защищавшего в 18 верстах от города дорогу, ведущую из Сенно. Корпус его много потерял, но удержал место. Сражение это, за исключением стычек, было первое со времени открытия военных действий. Каждого раненого, приходившего с боя, окружали и расспрашивали о ходе дела. На помощь к Остерману послали легкую гвардейскую кавалерийскую дивизию, которая вела себя отлично, но не могла удержаться против превосходных сил. Лейб-гусары после нескольких славных атак потеряли много людей и уступили; другие полки, поддерживавшие их отступление, также понесли большую потерю. Ночь прекратила сражение, в коем войска наши держались против двойных или тройных сил.
Александр поехал из любопытства в дело и, возвратившись к нам, рассказывал о виденном. Рассказ его так возбудил меня, что, хотя я еще не был совершенно здоров, но на другой день встал и явился к Куруте на службу.
Так как мне не дали никакого поручения, то я вышел на большую дорогу и, сев на камень, смотрел на раненых и многих расспрашивал. Вели также довольное число пленных, с которыми я разговаривал, также расспрашивая их о деле; но ответы тех и других не могли удовлетворить моего любопытства. Помню, что между прочими случился небольшой рекрутик Кегсгольмского полка, который гнал перед собою огромного поляка в красной шапке. Штык у пехотинца был согнут. Я его остановил.
– Вот, ваше благородие, – сказал рекрут, – я его в лесу застал, да и посадил ему штык в грудь; только кость у него такая здоровая, что штык, смотрите, как согнулся.
Поляк был весь в крови и очень ослаб; он сел в канавку, чтоб отдохнуть, но рекрут поднял его прикладом и погнал далее. Торжество выражалось на лице молодого солдата, который утверждал, что победа осталась за нами, причем рассказал по-своему весь ход сражения: и нашу потерю, и неприятельскую. Если мальчик этот в живых, то он должен быть теперь славный солдат.
Раненым доводилось 8 верст тащиться до Витебска, и многие из них падали от изнеможения и умирали на дороге; других же, достигших города, французы захватили, когда заняли Витебск, потому что мы небольшое только число пленных успели увезти с собою при дальнейшем отступлении.
От главнокомандующего получено было приказание послать 2-ю кирасирскую бригаду на подкрепление Остерману. Курута сам повел ее и взял нас с собою. Мы отошли уже верст 8 от Витебска, когда пришло другое приказание – остановить бригаду, которой в самом деле нечего было делать, потому что сражение происходило в лесистой местности; дрались на полянах и большей частью пехотой; кирасир же перебили бы стрелки без всякой пользы. Бригаду свернули с дороги влево и расположили в колоннах на полянке, окруженной лесом.
Барклай намеревался дать общее сражение пред Витебском на позиции, в двух верстах впереди города. 5-й гвардейский корпус составлял резерв. Курута поехал назад для принятия лагерного места. Мне приказано было поставить 1-ю кирасирскую дивизию, коей 2-я бригада должна была возвратиться. Брозину же поручено было расположить пехоту. Я дожидался своих полков, которые долго не приходили. Между тем Брозин, которому для проведения линии по лесу приходилось прорубить несколько кустарников, требовал, чтобы я ему помогал. В надежде, что конница могла скоро вступить в дело, я не послушался Брозина, которому нисколько я не обязан был повиноваться. Он грозил пожаловаться на меня начальству, чем вызвал только неприятные для него ответы с моей стороны. Послушался же я его тогда только, когда он передал мне от имени Куруты приказание помогать ему. Взяв тогда квартирьеров гвардейской пехоты, я велел им вырубать тесаками в кустарнике линию, сам помогая им своей саблей. Работа была скоро кончена, после чего я разбранил в глаза нетерпимого никем Брозина и ушел от него, ибо знал, что Курута ему ничего не приказывал касательно меня.
Стало смеркаться. Из кирасирской дивизии пришла только одна Конная гвардия; 2-я же бригада осталась на своем месте впереди, а Кавалергардский полк послали еще далее вперед. Выстрелы становились к нам все ближе и ближе. Я поехал на свое место к Кавалергардскому полку; 2-я бригада несколько отступила, и три полка сии были поставлены уже ночью, верстах в пяти впереди Витебска, не слезая с коней. Неприятель был уже вблизи и пустил несколько ядер, которые перелетали чрез головы.
Когда я явился к начальнику дивизии, генералу Депрерадовичу, то им получено уже было приказание отступить с кирасирами в лагерь. Ночь была темная. Лишь только мы тронулись, как французы, услышав шум палашей наших кирасир, сделали по нас с авангардов залп ружей из тридцати; но расстояние было велико, и ни один выстрел не попал. Я только видел огонь и слышал выстрелы. Говорили, что выстрелы эти были действительно французские, и я остался доволен, что хотя нечто увидел из военных действий.
Остерман получил также приказание отступить и занять свое место на позиции. Войска его 4-го корпуса отступали, баталионы были весьма ослаблены, но люди были бодры и пели песни. В сущности, нас не разбили; напротив того, мы удержали место против превосходных сил. Потеря наша была очень велика, но неприятель не менее нашего потерял. Раненых было множество; иные, лишившись одной руки, в другой несли ружье. Такое отступление вселяло в нас надежду одержать на другой день победу; но сражения на следующий день не было.
Главнокомандующий, узнав, что неприятель оставил против нас небольшой корпус, потянулся со всеми силами к Смоленску и в ту же ночь отдал армии приказание выступить с рассветом и следовать к Смоленску, чтобы предупредить французов у сего города.
Мы пошли к Смоленску форсированными маршами, а французы заняли Витебск. На первом переходе Курута выговаривал мне обхождение мое с Брозиным; я хотел объяснить ему все дело, как оно случилось, но он мне времени не дал и ласковым образом дал мне почувствовать, что он повод к нашей ссоре понимает. В сущности, и я не был совершенно прав.
Из Витебска в Смоленск поспели мы в три дня; я находился при кирасирской дивизии, в коей познакомился со многими офицерами, особливо в Кавалергардском полку с Луниным, Давыдовым, Уваровым и другими.
При вступлении в Смоленскую губернию мы увидели, что все помещики выезжали из своих деревень, крестьяне же уходили с семействами и скотом в леса. Во время похода нашего к Смоленску все вообще знали, что неприятель хотел нас предупредить в Смоленске, и от того разносились пустые слухи, что несколько неприятельских ядер упали на нашу дорогу; иные говорили даже, что видели неприятельскую армию, тянущуюся к Смоленску. Слухи сии сначала произвели несколько беспокойства, но вскоре оказалась их нелепость. Однако же мы шли с большой неосторожностью. Конница и артиллерия проходили лесами без пехотного прикрытия. Легко могло случиться, что отряд французской пехоты остановил бы нас в лесах. Цель французов была не допустить соединения нашей армии с Багратионовой, что им, однако же, не удалось.
Не доходя одним переходом до Смоленска, мы на пути завтракали у помещика Волка, у которого были две прекрасные дочери лет двадцати. Слышалось впоследствии, что девицы эти увезены были французами и обруганы. Подобными неистовствами, часто повторявшимися, французы озлобили против себя народ.
Придя к Смоленску, мы стали лагерем, в двух верстах не доходя города. Квартира великого князя была на мызе. Так как мне и брату не было никаких занятий, то мы отпросились на несколько времени посетить знакомых. Брат Михайла отправился в Семеновский полк, где его любили, а я в Кавалергардский к Лунину, и мы таким образом провели дня три. Александр находился при генерале Лаврове, командовавшем тогда гвардейской пехотой.
Служба наша не была видная, но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не послали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от беспрерывной езды и от недостатка в корме. Михайла начал слабеть в силах и здоровье, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, «к счастию, был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды». У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег.
Я жил в Кавалергардском полку у Лунина в шалаше. Хотя он был рад принять меня, но я совестился продовольствоваться на его счет и потому, поехав однажды в Смоленск, купил на последние деньги свои несколько бутылок цимлянского вина, которые мигом были выпиты с товарищами, не подозревавшими моего стесненного положения. Положение мое все хуже становилось: слуги у меня не было, лошадь заболела мытом, а на покупку другой денег не было. Я решился занять у Куруты 125 рублей, которые он мне дал. Долг этот я чрез год уплатил. Оставив из этих денег 25 рублей для своего собственного расхода, остальные я назначил для покупки лошади и пошел отыскивать ее. Найдя в какой-то роще кошмы, или вьюки донских казаков, я купил у них молодую лошадь. Я ее назвал Казаком, и она у меня долго и очень хорошо служила, больную же отдал в конногвардейский конный лазарет.
Курута мало беспокоился о нашем положении, а только был ласков и с приветствиями беспрестанно посылал нас по разным поручениям. Брат Михайла сказывал мне, что, возвратившись однажды очень поздно на ночлег и чувствуя лихорадку, он залез в шалаш, построенный для Куруты, пока тот где-то ужинал. Шел сильный дождь, и брат, продрогший от озноба, уснул. Курута скоро пришел и, разбудив его, стал выговаривать ему, что он забылся и не должен был в его шалаше ложиться. Брат молчал; когда же Дмитрий Дмитриевич перестал говорить, то Михайла лег больной на дожде. Тогда Куруте сделалось совестно; он призвал брата и сказал ему:
– Вы дурно сделали, что вошли в мой шалаш, а я еще хуже, что выгнал вас, – и затем лег спокойно, не пригласив к себе брата, который охотнее согласился бы умереть на дожде, чем проситься под крышу к человеку, который счел бы сие за величайшую милость, и потому он, не жалуясь на болезнь, провел ночь на дожде.
Брат Михайла обладает необыкновенной твердостью духа, которая являлась у него еще в ребячестве. Константин Павлович, видя нас всегда ночующими на дворе у огня и в полной одежде, т. е. в прожженных толстых шинелях и худых сапогах, называл нас в шутку тептерями;[38] но мы не переставали исправлять при себе должность слуги и убирать своих лошадей, потому что никого не имели для прислуги. Впрочем, данная нам кличка тептерей не сопрягалась с понятием о неблагонадежных офицерах; напротив того, мы постоянно слышали похвалы от своего начальства, и службу нашу всегда одобряли.
В то время был еще прикомандирован к великому князю для занятий по квартирмейстерской части лейб-гвардии Литовского полка прапорщик Габбе, молодой человек с немецкой спесью. Он ничем не занимался, имел, однако же, при себе в услугах казаков, которых нам не давали, и был в милости у великого князя оттого, что на глаза ему всегда совался, знался с его адъютантами, ел и спал вдоволь. Мы с ним никогда не хотели сближаться.[39]
Лунин нам дальний родственник: мать его была сестра Михайлы Никитича Муравьева. Лунин умен, но нрава сварливого (bretteur). В Петербурге не было поединка, в котором бы он не участвовал, и сам несколько раз стрелялся. Другом его был Кавалергардского же полка ротмистр Уваров, который, однако же, сам имел знаки от поединка с Луниным, а впоследствии женился на его сестре. Уваров человек неприятного обхождения, отчего вообще не был любим. К кругу их принадлежал еще Давыдов, которого находили приятным в обществе; но он мне не нравился, как и Уваров. Был еще в Кавалергардском полку Петрищев, который мне всех более нравился. Лунин в 1815 году был отставлен от службы за поединок с Белавиным, в котором он сам был ранен. Он постоянно что-то писал и однажды прочел мне заготовленное им к главнокомандующему письмо, в котором, изъявляя желание принести себя на жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он даже показал мне кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин точно бы сделал это, если б его послали; но думаю не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность. Мы скоро с места тронулись, и намерение его осталось без последствий.
Общество кавалергардских офицеров мне вообще не нравилось; не знаю, по каким причинам оно так прославилось в Петербурге. Ничего святого у них не было: пересуживали всех генералов, любовь к отечеству было чувство для них чуждое, и каждый из них считал себя в состоянии начальствовать армией. У них сочинялись насмешливые песни на счет начальников и военных действий; между прочими явилась одна на известный голос: Les ennemis s’avancent à grands pas. Стихи эти огласились во всей армии.
Les ennemis s’avancent à grands pas Adieu Smolensk et la Russie! Barclay toujours évite les combats Et tourne ses pas en Russie. N’en doutez pas, car de son grand talent, Amis, vous ne voyez que les prémices. Il veut, dit-on, changer dans un instant Tous ses soldats en écrevisses. Ses aide-de-camps, trottant à ses cotes, Jaloux de le suivre en vitesse, Il leur disait: Oh, mes amis, Ayez pitié de ma vieillesse.[40]Во всей армии солдаты и офицеры желали генерального сражения, обвиняли Барклая и нещадно бранили его. Сражение в самом деле предполагалось дать, и никто не полагал, чтобы Смоленск уступили без боя.
Получено было известие, что граф Платов соединился с армией после блистательного дела, которое он имел под Рудней, где он с казаками опрокинул несколько полков французских кирасир.[41] Ожидали еще соединения с князем Багратионом, и тогда, по сбору всех сил, думали дать отпор французской армии. С великой радостью мы наконец оставили лагерь под Смоленском и подвинулись на целый переход вперед к стороне неприятеля, в надежде встретить его, но, к удивлению нашему, никого не нашли. Между тем Наполеон бросился со всеми силами на Багратиона, чтобы отрезать его от нас, и послал в Поречье небольшой отряд в 6000 человек, чтобы отвлечь наше внимание.
Посланные партизаны уведомили, что вся французская армия находится в Поречье, почему мы поспешно выступили в ночь из своего нового лагеря опять назад. Сперва отошли несколько по Смоленской большой дороге, и потом от селения Шаломца поворотили проселком влево, вышли на дорогу, ведущую из Поречья в Смоленск, и расположились лагерем в 10 верстах от Смоленска лицом к Поречью.
Переход этот был очень трудный, дорога узкая, во многих местах болотистая и вся лесистая. Шли ночью, проводников достать было очень трудно, потому что почти все жители разбежались. Брату Александру поручено было вести гвардейскую колонну, Михайле – корпус Коновницына, а мне собрать проводников. Я атаковал одно селение ночью с двумя кирасирами и, забрав несколько крестьян, сдал их Куруте. Поручение, данное братьям моим, было весьма затруднительное и сопряжено с большой ответственностью. При всеобщей суете начальники оторопели и сваливали все свои промахи, как в таких случаях водится, на офицеров Генерального штаба. Брат Александр должен был вести гвардейскую колонну, в голове которой шла 1-я кирасирская дивизия, Кавалергардский полк впереди, а пред ним генерал Депрерадович.
Брату дана была пионерная рота капитана Геча[42] для исправления дороги, и рота сия выступила в одно время с полками. Сделалась темная ночь. Несколько верст за селением Шаломцем встретился в болотистой местности плохой мостик, который надобно было поправить, ибо он много затруднял движение войск. Брат тотчас начал работу с пионерами, но для сего колонна остановилась. Брат нисколько не был виноват в сем замедлении; но Депре радович, человек недальний, не рассудил дела и напал на брата за эту остановку. Сколько брат ни оправдывался, Депрерадович ничего слушать не хотел, грозил, что заставит его идти пешком весь переход, арестует и начальству о нем представит. Брат огрызался, сколько мог; но видя, наконец, что ему делать нечего, он по окончании моста сел на коня, дал шпоры и поскакал вперед.
– Куда ты скачешь, куда ты скачешь? – кричал ему Депрерадович вслед.
– В деревню за проводником, – отвечал Александр, продолжая скакать.
– Да где же дорога?
– А вот она, – отвечал брат уже издали и скрылся.
Депрерадович послал за ним в погоню; но его не нагнали; он благополучно ускакал и, отъехав несколько верст, повернул в сторону, в лес, закурил трубку и лег отдыхать. Брат, конечно, не был прав, ибо колонна могла сбиться с дороги, которую он, впрочем, сам знал не лучше других; но как же было ему терпеть грубости тогда, как он свое дело делал и был совершенно прав? Несчастному пионерному капитану Гечу жестоко досталось от Депрерадовича и всех кавалергардских офицеров.
Мы шли не в порядке и с большой неосторожностью по едва проходимым проселочным дорогам; конница пробиралась лесами и болотами во многих местах по одному человеку, артиллерия увязала в грязи, и в прикрытии ее вовсе не было пехоты. Ночь темная, дороги не было видно, и к тому носился еще слух, что французы будут атаковать нас на походе.
Теперь скажу, что в эту несчастную ночь со мною случилось. Собрав и сдав пойманных проводников, мне никакого дела на время перехода более не предстояло, и я ехал несколько времени с Курутой, после чего он уехал вперед, а мне приказал оставаться с колонной, но ничего не поручил. И так я поехал с Луниным, который находился при своем эскадроне, не зная о том, что в голове колонны происходило. Когда брат Александр ускакал от Депрерадовича и войска остановились, что продолжалось довольно долго, то офицеры, соскучившись, слезли с коней и легли на траву. Пошел дождь, и я также лег на землю, накрывшись буркой. Растерявшийся Депрерадович ездил взад и вперед и вопил плачевным голосом:
– Ах, боже мой, что мне делать, куда этот Муравьев поехал, что он проводника не ведет!
Депрерадович мимо меня ехал, но я молчал и едва дух переводил, чтобы он меня не позвал. Так прошло в первый раз, но во второй лошадь его в тесноте едва не наступила на меня. Он остановился, долго смотрел на мою бурку и, наконец, вскрикнул:
– Ах, боже мой, кто это тут в бурке лежит?
Все вскочили и сказали ему, что Муравьев.
– Ах, так это ты, братец! Куда ты от меня уехал? Так-то ты за проводниками ездишь? Ты должен Кавалергардский полк вести, а ты здесь изволишь отдыхать? Изволь-ка вести меня, сударь.
– Не я, ваше превосходительство, должен вас вести.
– Да какой же Муравьев меня вел? Все равно изволь вести.
– Я дороги не знаю, не знаю и куда вас вести: мне Дмитрий Дмитриевич Курута ничего не приказывал.
– Веди же! – закричал он.
Видя, что с ним нельзя было сговориться, я сел верхом и, проведя несколько шагов колонну, сказал ему, что поеду в ближайшую деревню за проводником, и поскакал. Я уже был верстах в пяти от колонны, как, услышав лай собак, поворотил в сторону, откуда слышался лай, и въехал в какие-то огороды. Ночь была очень темная, я спрятался в яму, в надежде, что по отдалению от дороги меня не найдут, и намеревался в этой позиции пропустить полки, а там примкнуть к хвосту колонны. Сидел я таким образом более часа, когда услышал опять стук кирасирских палашей и увидел мерцание огня в курившихся трубках. Я притаился, надеясь, что вся эта буря мимо меня пройдет; но как удивился я, когда опять услышал подле себя гробовой голос Депрерадовича. Лошадь моя заржала.
– Кто тут? Ах, боже мой! – вскричал мудрый Николай Иванович.
Я вскочил на лошадь и, не говоря ни слова, спешил укрыться. Лошадь моя в темноте спотыкалась по ямам и грядам, но я решился уйти, хотя с риском себе голову разбить, и кое-как выбрался из огородов, преследуемый воплями Депрерадовича:
– Муравьев! Ах, боже мой!
Наконец я пробрался кустами назад и примкнул к хвосту полка. Однако для вящей безопасности решился совсем уехать и, отыскав Куруту, рассказать ему о случившемся, для чего пустил лошадь свою во весь карьер и обогнал в тесноте весь Кавалергардский полк с самим Депрерадовичем, так что и лошадь его в испуге дрогнула от сего неожиданного маневра. Депрерадович, однако, догадался, что это должен быть я, и опять начал звать меня. Видя, что я не возвращаюсь, он послал адъютанта своего Бутурлина меня нагонять. Стало рассветать, когда я услышал топот скачущей за мною лошади. Я шпорил свою, но она устала. Оглянувшись, я увидел Бутурлина, который, нагнав меня, уговаривал остановиться.
– Очень рад вас видеть, – сказал я ему, – только назад не пойду, а если хотите, то пойдемте вместе.
– В самом деле, – отвечал Бутурлин, – генерал так сердит, что я сам уже намеревался ускакать от него, пойдемте шагом.
– Согласен. – И мы поехали вместе шагом.
Подъезжая к квартире великого князя, я увидел брата Александра выезжающим из леса, где он скрывался. Мы обменялись рассказами о своих ночных происшествиях, посмеялись и приехали в селение Покарново, где великий князь уже расположился на квартире. Депрерадович стал с дивизией в пяти верстах впереди нашего селения. Вскоре прибыл и брат Михайла, который передал нам, что он вел корпус Коновницына, который остался очень доволен им. Я рассказал все случившееся со мною Куруте, который посмеялся. Депрерадович хотел жаловаться на меня, однако не пожаловался.
В штабе 1-й кирасирской дивизии, куда я был накануне по делу послан, я имел случай познакомиться с Павлом Ивановичем Корсаковым, поручиком Кавалергардского полка.[43] Он был необыкновенного роста и сильного сложения, к сему присоединял еще благородную душу (убит в сражении под Бородином). Там же встретил я еще старого колонновожатого Бурнашева, который в 1811 году у меня в классе учился математике, но безуспешно. Когда мы стояли в Покарнове, проездом зашел к нам Егор Мейндорф, еще добрый петербургский товарищ, которого мы всегда любили. Он был в ариергарде и уже участвовал в одном деле, где французов разбили и где он отличился. Он погнался за раненым неприятельским знаменщиком и отбил у него значок, который нам показывал; на половине было написано: «Nox soli cedet».[44] Мейндорф был человек благородный, и хотя он не без опасности добыл сей трофей, но говорил, что, если б у здорового отнял значок, то с удовольствием надел бы крест, но как знамя взято у раненого, то он не будет домогаться другой награды, как только позволения полотном этим обтянуть себе дома кресла. Мы едва уговорили его показать полотно великому князю, который много похвалял Мейндорфа. Думали, что у него отберут значок, но он взял его назад, положил в карман и уехал.
Под Смоленском в первый раз начали расстреливать по приговорам уголовного полевого суда: говорили, что расстреляли семерых солдат за грабеж.
Вскоре пришло известие из Поречья, что французы снова показались на дороге, ведущей из Витебска в Смоленск, почему, простояв четыре дня около Покарнова, мы бросились на старую свою дорогу, ведущую в Витебск. Лагерь наш расположен был в 40 верстах от Смоленска, помнится мне, при деревне Гаврикове, где находили, что позиция была очень сильная; но неприятель доказал нам, что позиционная война не представляла ожидаемых от нее выгод, потому что можно всякую позицию обойти. Французы нас не атаковали, мы их тут и не видали, но вдруг услышали гул их артиллерии позади себя под стенами Смоленска.
В бывшем лагере при Гаврикове Толь зачем-то послал Александра Щербинина к Коновницыну. Щербинин, выйдя на крыльцо и не зная, в правую или в левую дверь ему идти, спросил Муромцова, тут случившегося, и получил от Муромцова грубый ответ. Возвратившись к себе, Щербинин послал за мной и просил меня быть секундантом в предстоящем ему поединке. Муромцов мне был родственник, а Щербинин старый приятель. Я не отказался, единственно в намерении их примирить. Отыскав Муромцова, я убедил его в неправоте. Он действительно не помнил, что сказал, и согласился просить извинения у Щербинина; я их в тот же вечер свел вместе, и они помирились. Щербинин не знал до того времени, что я был в родстве с Муромцовым.
Прохаживаясь в тот же вечер по селению, я увидел Михайлу Колошина, лежащего на улице подле сарая и накрытого буркой. С Дриссы не видал я его. В предположении, что он на траве расположился для отдыха, я в шутках бросил в него свою фуражку; но как удивился, когда услышал стон его и упрек в неосторожности обхождения моего с больным. Я сел подле него; он был в сильном жару и имел начало горячки; между тем капитан Теннер не давал ему покоя и хотел, чтобы он еще в тот же вечер сходил в главное дежурство для списания приказа. Колошин просил меня за него сходить; но скоро приказано нам было выступить, отчего мне не удалось ему услужить. Перемогаясь, он сам сходил ночью за приказанием.
По полученному в то время известию Багратион отступал к Смоленску, удерживая всю французскую армию. Отступление князя Багратиона событие довольно известное. Французы могли отрезать его от главной армии; но Багратион был человек решительный, храбрый, имел таких же генералов и вышел из своего тесного положения при нескольких блистательных делах с неприятелем.
10-я пехотная дивизия под начальством генерала Неверовского составляла ариергард князя Багратиона, который со своей 2-й Западной армией вступил в Смоленск, поручив Неверовскому прикрывать отступление по дороге, ведущей из Красного к Смоленску.[45]
Мы выступили обратно к Смоленску до рассвета и с половины пути нашего услышали гул орудий: впереди нас 7-й корпус Раевского (2-й армии) уже вступил в дело для подкрепления Неверовского. Опасаясь, чтобы Смоленск не взяли до нашего прибытия, кавалерию и артиллерию повели на рысях, посадив орудийную прислугу на лафеты и зарядные ящики. Не сомневаясь более, что вступим в сражение, мы шли очень быстро и с необыкновенным одушевлением, так что почти неприметно принеслись к Смоленску, сделав 40 верст перехода, и непременно приняли бы участие в жарком деле, если б опоздали: ибо французы обложили уже город и искали бродов через Днепр пониже Смоленска, чтобы нас предупредить. Но броды были глубокие, или неприятель не отыскал их и потому не успел переправиться через реку до нашего прибытия на соединение со 2-й армией князя Багратиона.
Генерал-квартирмейстер полковник Толь потребовал к себе наших офицеров для принятия лагерного места; мы поскакали с ним вперед, следуя вверх по реке, по правому ее берегу. Сражение же происходило на левом берегу. Приближаясь к Смоленску, мы видели польских уланов неприятельской армии, разъезжавших по левому берегу и отыскивавших бродов. Лагерь наш расположился на высоте против города, на правом берегу Днепра. На левом фланге нашем поставили несколько орудий, которые были направлены чрез реку на неприятеля. Смоленск был пред нами, а за ним, в глазах наших, происходило сражение. Зрелище было великолепное.
Мне очень хотелось побывать в сражении; но корпус наш не трогался, и мало оставалось к тому надежды. Посему я решился в дело съездить без позволения. Прекратившийся ночью огонь с утра опять начался. Я встал до рассвета, когда у нас все еще спали. Оседлав себе лошадь, я поехал в город. Осмотрев его, я следовал далее к Краснинской заставе. Тут я встретил Лунина, возвращавшегося из дела. Он был одет в своем белом кавалергардском колете и в каске; в руках держал он штуцер; слуга же нес за ним ружье. Поздоровавшись, я спросил его, где он был?
– В сражении, – коротко отвечал он.
– Что там делал?
– Стрелял и двух убил. – Он в самом деле был в стрелках и стрелял, как рядовой. Кто знает отчаянную голову Лунина, тот ему поверит.
Я выехал за Малаховские ворота, близ которых был построен редан.[46] На валу лежал генерал Раевский, при коем находился его штаб. Он смотрел в поле на движения войск и посылал адъютантов с приказаниями. По миновании редана я увидел две дороги. Шагах в двустах от правой стояли наши стрелки; на другой дороге, которая вела прямо, были на расстоянии четверти версты от городской стены сараи, около коих происходил жаркий бой. Французы несколько раз покушались сараи сии взять на штыки; но наши люди, засевшие в них, отбивали атаку. Ружейная пальба была очень сильная. Я направился к сараям шагом; пули летали чрез меня спереди и с правой стороны; но я не знал еще, что это пули, а узнал это только тогда, когда увидел, что они, минуя меня, ударялись об дощатый забор, тянувшийся вдоль дороги, от меня в левой руке. Близко подъехав к сараям, я немного остановился, посмотрел и, удовлетворив своему любопытству, поворотил направо – к первой дороге и поехал к стрелкам.
Видно было, что на этом месте дралась конница, потому что по полю разметаны были поломанные сабельные ножны и клинки, кивера конницы, гусарские шапки и проч. Прежде всего попалась мне на глаза шашка; я удивился, что ее никто еще не подобрал, слез с лошади, поднял и стал ее рассматривать; подле лежал и убитый. Пока я в него вглядывался, пуля упала у моих ног. Я поднял ее в намерении сохранить как памятник первого виденного мною дела с неприятелем, долго держал ее в кармане и, наконец, потерял. Только стал я садиться на лошадь, как другая пуля пролетела у самой луки моего седла. Я сел верхом, поговорил с нашими стрелками и поехал назад.
Скоро затем неприятель открыл по городу огонь из орудий, и чрез головку мою стали летать ядра; тут пришла мне мысль о возможности быть раненым и оставленным на поле сражения. Заслуги от того никакой бы не было; напротив того, мог я еще получить выговор и, поехав назад рысью, я возвратился в город, где среди множества раненых пробрался в Королевскую крепость: так назывался небольшой старинный земляной форт с бастионами, который служил цитаделью и был занят пехотой с батарейной артиллерией. Взошед на вал, я следил за действием орудий и видел, как одно ядро удачно попало вкось фронта (en echarpe) французской кавалерии, которая неслась в атаку. Часть эта смешалась и понеслась назад в беспорядке. Удовлетворившись виденным, я возвратился в лагерь. Курута сделал мне за отлучку замечание, которым я, впрочем, нисколько не оскорбился.
Вечером получено было приказание к отступлению, и во всем лагере поднялось единогласное роптание. Солдаты, офицеры и генералы вслух называли Барклая изменником. Невзирая на это, мы в ночь отступили, и запылал позади нас Смоленск. Войска шли тихо, в молчании, с растерзанным и озлобленным сердцем. Из собора вынесли образ Божией Матери, который солдаты несли до самой Москвы при молитве всех проходящих полков.
В Смоленске оставалась только часть Дохтурова корпуса для удержания натиска неприятеля в воротах. Такой мерой хотели дать время увезти раненых и скрыть от неприятеля наше быстрое отступление. Дохтуров защищался в самых воротах против превосходных сил, на него крепко наседавших. Наша пехота смешалась с неприятельской, и в самых воротах произошла рукопашная свалка, в коей обе стороны дрались на штыках с равным остервенением и храбростью. После продолжительного боя, когда все войска уже вышли из города, наши уступили место и в порядке перешли чрез Днепр. Французы разграбили и сожгли Смоленск, церкви обратили в конюшни, поругали женщин, терзали оставшихся в городе стариков и слабых, чтобы выведывать у них, где спрятаны мнимые сокровища. Во всю эту войну они показались совершенными вандалами. В поступках их не заметно было искры того образования, которое им приписывают. Генералы, офицеры и солдаты были храбрые и опытные в военном деле, но дисциплина между ними была слабая. Во французской армии было вообще мало образования, так что между офицерами встречались люди, едва знавшие грамоте. Во все время войны французы ознаменовали себя неистовствами, осквернением церквей и сожиганием сел, через что озлобленный на них народ вооружался против них и побил множество мародеров, удалявшихся в стороны для грабежа.
Смоленское сражение стоило нам около 10 000 убитыми и ранеными. Неприятель не менее нашего потерял. У нас убито два генерала, Балла и Скалон; из знакомых моих был тяжело ранен пулей в голову Муромцов, но он совершенно выздоровел. Из офицеров квартирмейстерской части ранены: подполковник Зуев пулей в голову и колонновожатый Ловейко картечью в ногу.
Неприятель, переправившись через Днепр выше нас, отрезал было часть войск наших; но они были выручены графом Остерман-Толстым, который с 4-м корпусом держался против всей неприятельской армии, дав время артиллерии и войскам нашим пройти.[47] Дело сие происходило под селением Валутина Гора, верстах в 14-ти от Смоленска. Я не был в этом сражении, потому что наш корпус прежде всех отступил и переправился чрез Днепр при Соловьеве; но те, которые в сем деле участвовали, превозносили храбрость наших войск. Мы понесли огромную потерю, но удержали место и тем дали время остальным войскам отступить. К Остерману было послано много полков на помощь, между прочими и гренадерские, которые также много потерпели. В сем сражении был ранен и взят в плен генерал Тучков.
Из-под Смоленска великий князь уехал. Причиной тому были неудовольствия, которые он имел с главнокомандующим за отступление. Так как штаб его упразднился, то брата Александра взяли в главную квартиру, а нам двум Курута приказал явиться к Толю. Толь был сердит, как сподвижник Барклая, на всех штабных Константина Павловича, принял нас сердито и упрекал нам, что мы во все время с Курутой ничего не делали. Незаслуженный выговор нам не понравился. Мы отыскали Куруту и спросили его, имел ли он причину быть нами недовольным и чем мы могли заслужить такой оскорбительный выговор. Курута успокоил нас, уверяя, что, кроме добрых о нас отзывов, никто никогда других от него не слыхал.
– Поверьте, – продолжал он, – что я никак не причиной тех неудовольствий, которые вы получили.
И он не лгал. Толь и самого Куруту пощипал, ибо он тогда же начинал превозноситься своим званием генерал-квартирмейстера.
Правда, что в то время у всех в голове кружилось, и он один всеми распоряжался и шумел на всех, будучи только в чине полковника.
Нам нечего было делать, как терпеть. Помню, как мы, однажды собравшись случайным образом на дороге все трое вместе, отъехали в сторону, сели и горевали обо всем, что видели, и о себе самих. Как было и не грустить? Неприятель свирепствует в границе России, отечество в опасности, войска отступают, жители разбегаются, везде слышен плач и стон. К сему присоединились еще собственные наши обстоятельства: об отце давно ничего не слыхали, сами были мы без денег, с плохой одеждой и изнемогали от тяжкой службы. К тому еще перемена начальства и незаслуженный обидный выговор…
На втором переходе от Смоленска я скакал с прочими офицерами за Толем (больная лошадь моя выздоровела). Брат Михайла несколько отстал; но он вскоре нагнал нас и со слезами на глазах передал нам о горестном положении, в котором нашел Колошина. Мы воротились и нашли его лежащим на телеге, запряженной плохой крестьянской лошадью, которую вел за собою в поводу слуга его Кузьма, ехавший верхом на коне своего барина Поллуксе. Сзади ехал драгун Казанского полка. Соскочив с лошади, я подошел к телеге и, раздвинув ветви, коими больной был накрыт, увидел друга своего Колошина, похожего более на мертвеца, чем на живого человека. Он открыл глаза, и хотя был в бреду, но узнал меня, привстал, схватил мою руку и, крепко пожав ее, произнес сильным голосом:
– Ты меня совсем забыл, Николай, забыл, забыл, совсем забыл!
Встревоженный таким зрелищем, я прежде всего хотел сейчас же скакать к Толю, чтобы выпросить позволение оставаться при больном; но он схватил мою руку обеими своими и держал ее так крепко, что я едва мог ее высвободить. Он вытаращил на меня глаза; рот его был в судорожном состоянии, так что он более ни слова не мог выговорить. В припадке горячки Колошин хотел вылезть из телеги и ухватить меня, но его удержали. Нагнав Толя, я просил у него позволения остаться при умирающем Колошине. Толь сперва отказал мне; но, видя неотступность мою, он с грубостью сказал мне:
– Поезжайте; вы служить не хотите; сами будете о том жалеть.
Я обрадовался позволению и возвратился к тележке, которую остановили под деревом подле дороги, потому что больной бился. Испугавшись музыки кавалерийских полков, в то время мимо нас проходивших, Колошин, вопреки усилий наших, в бреду выскочил из телеги. Став на колени, он поднял руки к небу и хотел что-то сказать, но не мог: предсмертные конвульсии уже овладели им. Я его насильно положил в тележку и, связав шарфом своим, поехал с ним далее. Он успокоился. От слуги Колошина узнал я подробности о начале его болезни. По миновании пароксизма, в коем я его застал в с. Гаврикове, лежащим подле сарая, он пошел за приказанием в главную квартиру и возвратился очень слабым; доехал, однако же, верхом с дивизией до Смоленска, где, не будучи более в состоянии стоять на ногах, слег. Между тем дивизия, при коей Колошин находился, вступила в дело. Он было заснул, но проснувшись и увидев, что остался один, велел оседлать себе лошадь и отправился в дело к дивизии, но не мог долго остаться на лошади и, по слабости своей, свалился с нее; его подняли и повезли назад; дорогой он еще раз упал. Приехав на квартиру, он уже совершенно слег и начал бредить. Открылась сильная горячка, и на другой день, когда он уже не в состоянии был двигаться и когда началось общее отступление, ни генерал Уваров, ни капитан Теннер о нем не вспомнили; дали ему одного драгуна для прислуги и бросили. Колошин неминуемо остался бы в Смоленске, если б слуга его не достал тележки из числа заготовленных для раненых. За несколько дней до болезни Колошин навещал своего двоюродного брата фон Менгдена, который лежал тогда в жестокой горячке и от которого он, вероятно, заразился.
Драгун вскоре уехал, и мы с Кузьмой остались вдвоем около больного и лошадей. Ни у больного, ни у меня не было денег, негде было и лекаря достать. К счастью, ехал мимо нас Орлов (должно быть Михаил Федорович); я нагнал его, остановил и, объяснив обстоятельства, просил у него денег взаймы, и он дал мне 50 рублей ассигнациями самым приветливым образом. Не помню, возвратил ли я ему эти деньги впоследствии. На этот раз они мне очень пригодились, ибо я купил у маркитанта несколько вина, белого хлеба, бульону, чаю, сахару и пр.; но лекаря все-таки не было. С трудом пропускал я больному в рот по нескольку ложек чаю или бульону, но под конец зубы его были так крепко стиснуты, что никакой пищи ему нельзя было давать.
В первый день мы остановились на лугу; ночь была холодная и сырая. Колошина накрыли как можно было теплее и оставили в телеге. Я же с Кузьмой развел огонь, подле которого мы и легли. Больной был без движения и без памяти в течение всей ночи; в таком же положении находился он и поутру, когда мы с места тронулись.
На следующий день мы прибыли в село Андреевское, 10 верст не доезжая города Дорогобужа. Тут была вся главная квартира, и сбирались войска. Армия Багратиона, которая из Смоленска отступала по другой дороге, здесь уже окончательно соединилась с нами, почему и располагали дать в сем месте генеральное сражение, но, простояв здесь дня два на позиции, переменили намерение и опять продолжали отступление.
В Андреевском я отыскал избу для Колошина и, уложив его, пошел к Орлову, который просил главного доктора Геслинга навестить больного. Геслинг дал мне мало надежды к выздоровлению его, но поставил ему две шпанские мухи на икры. Колошин лежал без памяти, без языка и со всеми признаками скорой кончины. В судорожном движении рук и пальцев его проявлялись уже предвестники смерти (carfalogie); он собирал платье свое, иногда лицо его приходило в конвульсии, и он испускал томный гробовой рев. С приехавшими в это время братьями мы сидели около него, ожидая последней минуты; но мушки подействовали: он утих и лежал без движения.
В селе Андреевском я в первый раз увидел производившуюся возле занимаемой мною избы перевязку раненых, привезенных из-под Смоленска; в кучу сбрасывались на улице отрезанные руки и ноги. Зрелище это несколько поразило меня, но я слишком был занят положением Колошина и недолго останавливался.
По данному мне совету я отвез Колошина в Дорогобуж; но так как все дома были разграблены или заняты ранеными, при том же должно было опасаться пожара, то я заехал на какой-то обширный двор и положил Колошина в конюшню. В доме двора сего квартировал дежурный штаб-офицер 2-й армии, полковник Зигрот, которого я вовсе не знал. Уложивши больного, я пошел к постояльцу, чтобы просить у него позволения тут остаться. Уже смерклось. Войдя наверх, я неожиданно встретил Толя, который только что на шаромыгу отужинал и был, казалось мне, несколько навеселе.
– А, здравствуйте, Муравьев, – сказал он, обратившись ко мне. – Что скажете, что вам надобно, что делаете с вашим больным?
– Он плох, очень плох, скоро должен умереть; я пришел просить здешнего постояльца, полковника Зигрота, чтобы он позволил нам в конюшне переночевать.
– Вы очень хорошо сделали, что пришли сюда; явитесь сегодня же ввечеру на службу в село Андреевское, а больного я поручаю вам, любезный Зигрот. Не беспокойтесь, господин Муравьев: Зигрот лучше вас за ним присмотрит; он мне старый друг, я его знаю. Он солдата не оставит без призрения, не только офицера, о котором я прошу.
Зигрот поклонился.
– Будьте покойны, Карл Федорович, – был его ответ.
Я хотел просить Толя, чтобы он только позволил мне быть свидетелем смерти близкого мне товарища; но он, возвысив голос, безжалостно велел мне ехать в Андреевское, присовокупив, что сам туда же возвращается. Я повиновался с душевной тревогой, но на другое утро пришел опять с той же просьбой к Толю, который мне грубым образом отказал. Я пошел к Орлову и просил его быть моим ходатаем, предоставляя ему объявить Толю, что, в случае отказа, буду решительно проситься в отставку, несмотря на все последствия, которые от сего могли бы произойти. Орлов принял участие в моем положении, сходил к Толю и, уговорив его, объявил мне позволение возвратиться в Дорогобуж.
Я прискакал в город, отыскал конюшню; но Колошина уже там не было, и никто не сумел сказать мне, куда его повезли. Я искал его по всем дворам, но не нашел; наконец, выехал на Московскую дорогу и увидел верного слугу его, Кузьму, сидевшего у сараев, находившихся в полуверсте за городом. Я узнал от него, что поутру Зигрот велел их выгнать со своего двора и что, не найдя другого места, он его перевез в сараи, где и положил его под крышей. Поступок, достойный приятеля Толя и немца!
Посмотрев больного, я пошел прогуляться в поле и пришел к бивуакам Смоленского ополчения, коим начальствовал старый, Екатерининских времен, генерал-лейтенант Лебедев, поступивший в запасное войско из отставки. Смоленского ополчения было до 12 000 человек; но собранные вскорости крестьяне сии еще не были ни обучены, ни вооружены порядочным образом. Одну часть из них снабдили ружьями, отобранными от кавалерии, другую же вооружили пиками. Офицеры были из мелкопоместных дворян или из гражданских чиновников. Никто из них не знал строевой службы, и несчастных мужиков учили только в ногу маршировать, к чему те и другие прилагали усердное старание. Впоследствии Смоленское ополчение неизвестно как и куда исчезло. Надобно думать, что разбежалось по домам. Генерал Лебедев просил меня к себе в балаган, где меня обступили офицеры ополчения с расспросами о новостях из армии; но у меня не то было на уме: я ушел от них и провел остальную часть дня подле Колошина, которому не было лучше.
От Дорогобужа до Вязьмы было, помнится мне, только три перехода, но очень больших, и я совершил их с больным при помощи одного Кузьмы. Мы ехали стороной, проселком, потому что на большой дороге было тесно от проходящих войск, пыльно и шумно. Дни были жаркие, и ночи холодные. После второго перехода мы остановились ночевать в каком-то селении в стороне от дороги. Больной, лежавший без движения с вечера, начал опять бредить и ночью несколько раз покушался уйти, но был удерживаем. Я не спал; в избе погасала зажженная нами с вечера свеча, как вдруг Колошин привстал и сел на постели. Глаза его были томны, не обнаруживая бреда. Он очень исхудал; желтый цвет лица его, болезненный и страждущий вид представляли совершенно мертвеца. В эту минуту он как бы после 13-дневного бесчувствия ожил – для сознания своего положения! Колошин ухватил меня за руку и слабым, дрожащим голосом сказал:
– Ты здесь, Николай? Как я болен! Ты все за мной ходил?
Я старался успокоить его, обнадеживая скорым облегчением болезни, но без пользы.
– Нет, друг мой, – отвечал он, – я не выздоровею, чувствую приближающуюся смерть; мне осталось только несколько часов жизни.
Не менее того надежда несколько просияла в душе моей.
– Где мы теперь? – спросил он.
– Близ Вязьмы.
– Итак, я уже матушку не увижу; прощай, Николай, прощай, друг мой, умираю! Благодарю тебя за твои попечения; я люблю душевно, страстно люблю ту, которую ты знаешь. – Он ослаб и, опустившись на постель, закрыл глаза и замолк, но не был покоен, ночью еще раз привстал и просил пищи; ему дали несколько ложек бульону.
Будучи впоследствии в Петербурге, я старался передать Нелидовой[48] о последних словах Колошина и нашел к тому способ через Дурново, который с нею был знаком, но узнал, что она, услышав о предсмертных словах покойного, только улыбнулась. Я рассказал о том сестре покойного, Елене Ивановне Колошиной, которая с Нелидовой была в близких сношениях; после сего она прервала связь свою с Нелидовой.
В ту деревню, где мы ночевали, пришло много раненых и усталых солдат. Жителей никого не было. Ночью сделался на соседнем дворе пожар, от которого могла и наша изба загореться, однако кроме загоревшегося было двора ничего не случилось. В деревне этой было много ульев с пчелами; солдаты, добывая поутру мед, потревожили пчел, которые разлетелись по всему селению и по нашему двору, в то время как мы собирались к выезду. Мы начали запрягать лошадь, но растревоженные пчелы так пристали к ней, что она кинулась на землю. Пчелы наполнили нашу избу и кинулись на больного, у которого сделались конвульсии. Мы покрыли его шинелями, сами завесились платками и зажгли пук соломы на дворе, чтобы отдалить их дымом; но и это средство не помогло: пчелы были слишком раздражены, их все более прилетало, и потому мы решились вынести из избы Колошина и уложить его в телегу, после чего Кузьма стал в оглобли и потащил телегу за селение; я же взял лошадь и выбежал с нею со двора. Пчелы нас преследовали более полуверсты; когда же их стало менее, то мы остановились, запрягли лошадь и поехали далее.
Мы скоро выехали на большую дорогу, от которой мы в трех верстах в стороне ночевали, и как в этот день надобно было в Вязьму приехать, то я не сворачивал с дороги в сторону. Дорогой Колошин, который все время был в беспамятстве, вдруг очнулся и, приказав остановить повозку, сказал мне, что настали последние часы его жизни. Я не совсем верил ему; мне казалось, что в прошедшую ночь был у него кризис болезни, почему я стал обнадеживать его скорым приездом в Москву.
– Нет, Николай, – отвечал он, – я матушку более не увижу; умираю, чувствую смерть вот здесь, – говорил он, показывая на грудь. – Здесь все горит, меня жжет, я очень страдаю. – У него была уже поражена внутренность воспалением, но я того не подозревал.
После того он несколько раз впадал в бесчувствие и однажды, придя в память, опять приказал остановить повозку и повторил мне все прежде сказанное.
Мимо нас проходили полки. Увидев лекаря, я подвел его к телеге и объяснил ему весь ход болезни Колошина. Лекарь не дал мне никакой надежды; напротив того, из слов его можно было заключить, что смерть была неизбежна. Он, однако, вынул что-то из кармана и, свернув две пилюльки, велел одну при себе больному дать, а другую спустя несколько времени.
– Это опиум, – сказал он, – но не беспокойтесь; его тут слишком мало, чтобы он мог больному повредить.
Я дал Колошину первую пилюльку, а через час другую; он успокоился, и мы въехали в Вязьму еще с некоторой надеждой на выздоровление.
Прибыв в Вязьму, я успел занять избу, принадлежавшую какому-то отставному солдату, и с трудом перенес в нее больного, который сначала очень бился; его положили на солому, где он после некоторого времени успокоился, казалось даже, что уснул. Наступила ночь. Предполагаемый сон Колошина поселил во мне еще надежду на возможность его выздоровления. Я был телесно и душевно утомлен, и мне нужны были отдых и рассеяние. Казавшееся облегчение Колошина утешало меня, и потому, отыскав братьев и товарищей своих в главной квартире, которая расположилась в Вязьме, я провел у них несколько времени. Возвращаясь после полуночи к больному, я вошел к нему неосторожно с шумом, ожидая узнать от слуги его радостную весть; но Кузьма остановил меня, предупреждая, что Михайла Иванович почивает и что он не просыпался с тех пор, как я ушел. В горнице было темно; я мог только видеть, что Колошин лежал смирно, и полагал, что он спит; но его уже в живых не было! Постлав себе соломы, я лег в ожидании его пробуждения; однако он уже более не просыпался.
Я крепко уснул, но до рассвета был разбужен Кузьмой, который, рыдая, дергал меня за ноги. Впросонках казалось мне, что он смеялся; я вскочил, думая услышать что-нибудь приятное о положении больного, но вскоре узнал свою ошибку. Кузьма заливался слезами, и я увидел Колошина, лежащего в том же положении, как я накануне его оставил, на правом боку: кулаки его были сжаты, зубы стиснуты, глаза закрыты.
На первых порах смерть сия не сделала во мне сильного потрясения; я хладнокровно перенес труп на скамейку, и не знаю, о чем думал; грустить же начал только чрез несколько дней. Тяжкое чувство разлуки навеки узнал я только тогда, когда его в яму опустили. Я накрыл саваном смертные останки моего друга. Черты лица его страшно изменились и выражали перенесенные им страдания.
Оставалось похоронить тело. Отставной солдат вымыл его, поставил в изголовье образ и свечку и читал Псалтирь. Кузьма пошел отыскивать гроб, что было довольно трудно, потому что жители большей частию уже выехали из Вязьмы. Но старик хозяин наш показал ему дом, в котором жил прежде столяр, куда Кузьма и побежал. Все в доме оставалось в целости, кроме хозяина, которого не было. Он нашел гроб, выдолбленный колодой из целого дуба, и принес его; в нем и схоронили Колошина. Во всем городе нашли только одного священника, который не хотел на квартиру прийти, а согласился отпеть покойного в Ивановском монастыре, к которому он принадлежал. Я звал товарищей на похороны, но, вероятно, занятия по службе не позволили никому из них прийти; пришли одни братья мои. Мы одели Колошина в новый мундир его и положили в гроб, а на крышке гроба привесили его кивер и саблю; похоронную телегу везла та же самая крестьянская лошадь, которая от Смоленска тащила его больного; впереди шел старый солдат с образом, за гробом мы трое, а за нами слуга покойника вел его Поллукса. Таким образом прошли мы большую часть города и пришли в Ивановский монастырь. Яма была уже вырыта, Колошина отпели и похоронили.
Я вырезал имя Колошина на яблони, стоявшей в голове ямы, в которую его похоронили. Может быть, французы срубили яблоню, но я помню место и найду могилу, хотя холодный камень не лежит на ней памятником. Не теряю надежды когда-нибудь побывать в Вязьме, где, отрыв могилу, вынуть голову Колошина для постоянного хранения ее в глазах моих. Если яблони более нет, то, по крайней мере, уцелел дубовый гроб, который не может скоро сгнить.
В Вязьме пришло в армию известие, что Барклай де Толли сменяется, а место его заступает Голенищев-Кутузов. Известие сие всех порадовало не менее выигранного сражения. Радость изображалась на лицах всех и каждого. Генерал-лейтенант от инфантерии Михайла Ларионович Голенищев-Кутузов служил в войсках с самых малых чинов. Он постоянно отличался действиями своими и распоряжениями. В особенности же он прославился в войну 1805 года против французов при отступлении до Аустерлица, как о том судят люди сведущие в военном искусстве. В начале 1812 года Кутузов командовал Молдавской армией и, разбив турок, заключил с ними выгодный мир, – обстоятельство в особенности благоприятное, потому что мы тогда нуждались в войсках. Государь, истребовав Кутузова в Петербург, вверил ему начальство над большой действующей армией. Государь был почти вынужден к тому по общим желаниям всего дворянства, которое требовало его назначения главнокомандующим. На место Кутузова назначили адмирала Чичагова, который должен был привести Молдавскую армию на Волынь для усиления генерала Тормасова, едва державшегося против соединенных сил австрийцев и саксонцев.
Кутузов был человек умный, но хитрый; говорили также, что он не принадлежал к числу искуснейших полководцев, но что он умел окружить себя людьми достойными и следовал их советам. Сам я не могу о нем судить, но пишу о способностях его понаслышке от тех, которые его знали. Говорили, что он был упрямого нрава, неприятного и даже грубого; впрочем, что он умел в случае надобности обласкать, вселить к себе доверие и привязанность. Солдаты его действительно любили, ибо он умел обходиться с ними. Кутузов был малого роста, толст, некрасив собою и крив на один глаз. Он лишился глаза в Турецкую войну, кажется на приступе Измаила, от пули, ударившей его в один висок и вылетевшей в другой (едва ли не единственный случай, в котором раненый остался живым), но он только окривел на один глаз. Кутузов не щеголял одеждой: обыкновенно носил он коротенький сюртук, имея шарф и шпагу чрез плечо сверх сюртука. От него переняли в армии форму носить шарф чрез плечо, обычай, продолжавшийся до обратного вступления нашего в Вильну, где государь, по приезде своем в армию, приказал соблюдать установленную форму.
Старость не препятствовала, однако же, Кутузову волочиться и любить женщин. Он имел в Польше наложницей жидовку. Кутузов в сражении был хладнокровен и казался покойным в самых тесных обстоятельствах. Он более молчал, отдавая приказания свои повелительным, но тихим голосом. Такие приемы вселяли к нему доверие подчиненных и надежды на успех.
Когда мы из Вязьмы выступили, Барклай еще предводительствовал армией. Предполагалось дать генеральное сражение при селении Федоровском, лежащем в 14 верстах по дороге от Вязьмы к Москве; но предположение сие отменили, на что вообще все много досадовали.
Отъехав несколько верст от Вязьмы, я увидел в правой стороне в лесу коляску и несколько драгун, которые несли женщину. Она была очень хороша собою, но на лице ее выражалось сильное страдание. У нее были прострелены обе ноги, что случилось в Вязьме нечаянно на кухне генерала Корфа, который стоял в доме отца ее. Повар Корфа мешал горячие уголья найденным на поле сражения ружейным стволом, который был заряжен пулей, и когда прогорела засоренная затравка, то сделался выстрел в то самое время, как молодая хозяйка шла мимо. Пуля попала ей в колено и прострелила обе ноги. Корф посадил ее в свою коляску и приставил к ней в прислугу драгун, приказав полковому лекарю следовать при коляске.
Мы пришли в лагерь под селением Царево Займище, где в первый раз увидели Кутузова, прибывшего в армию. Старик сидел на стуле, поставленном на улице, и смотрел на проходящие войска. Толь между тем расстанавливал квартиргеров армии, и, окончив дело свое, он уехал, приказав мне дожидаться одного из корпусов, дабы показать ему лагерное место. Корпус пришел поздно, я расставил полки и донес о том Толю. Так как и другие корпуса уже заняли свои места, то Толь послал меня к Барклаю де Толли с докладом о прибытии всех войск. Барклай в то время еще не передал звания своего Кутузову. Я отыскал его в какой-то избе. Когда я ему донес о прибытии войск, он кивнул головой, ничего не сказал, сел к столу и задумался. Он казался очень грустным, да и не могло иначе быть; Барклай слышал со всех сторон даваемое ему напрасно название изменника; на его место прислан новый главнокомандующий, и мы были уже недалеко от Москвы. Все эти обстоятельства должны были огорчить человека, достойного всякого уважения по его добродетелям и прежним заслугам.
Прибытие Кутузова в армию произвело большие перемены. Барклай остался начальником 1-й армии, Багратион – 2-й. К главнокомандующему обеими армиями Кутузову назначен был генерал-квартирмейстером квартирмейстерской части генерал-майор Вистицкий, человек старый, слабый и пустой; над ним смеялись. В начальники Главного штаба к Кутузову поступил генерал Бенингсен, человек храбрый и, говорили, с достоинствами, но более теоретик, нежели практик в военном деле. При Барклае оставался начальником Главного штаба Ермолов, а генерал-квартирмейстером полковник Толь.
Брат Александр был командирован к ариергарду в распоряжение генерала Коновницына, у которого был начальником Генерального штаба достойный человек, полковник Гавердовский, храбрый, распорядительный и любимый подчиненными. Я был переведен в новую главную квартиру под команду Вистицкого и очутился в обществе своих петербургских товарищей. Брат Михайла и Щербинин были назначены к Бенингсену.
Мы отступали довольно быстро, но в большом порядке, и пришли к Колоцкому монастырю, лежащему верстах в двадцати не доходя Можайска. Тут опять намеревались дать генеральное сражение, выбрали позицию, но не нашли ее удобной и отступили до села Бородина, лежащего в 11 верстах не доходя Можайска. Главная квартира расположилась в селении Татарки, тремя верстами поближе к Можайску, на большой же дороге.[49] Барклай остановился в селении Горки, что на половине дороги между Татарками и Бородиным; а Багратион – влево от дороги, в селении Михайловском.[50]
Не знаю настоящих причин, побудивших Кутузова дать Бородинское сражение, ибо мы были гораздо слабее неприятеля и потому не должны были надеяться на победу. Конечно, главнокомандующий мог ожидать отпора неприятелю со стороны войск, которые с нетерпением видели приближающийся день сражения, ибо мы были уже недалеко от Москвы. Казалось несбыточным делом сдать столицу неприятелю без боя и не испытав силы оружия. Французы превозносились тем, что нас преследовали; надобно было, по крайней мере, вызвать в них уважение к нашему войску. Кутузову нужно было также получить доверие армии, чего предместник его не достиг, постоянно уклоняясь от боя. Вероятно, что сии причины побудили главнокомандующего дать сражение, хотя нет сомнения, что он мог иметь только слабую надежду на успех, и победа нам бы дорого обошлась. При равной же с обеих сторон потере неприятель и при неудаче своей становился вдвое сильнее нас. Французы имели столь превосходные силы в сравнении с нашими, что они не могли быть наголову разбиты, и потому, в случае неудачи, они, отступив несколько, присоединили бы к себе новые войска и в короткое время могли бы снова атаковать нас с тройными против наших силами, тогда как к нам не успели бы прийти подкрепления. Наша армия также не могла быть разбита наголову; но, потеряв равное с неприятелем число людей, мы становились вдвое слабее и в таком положении нашлись бы вынужденными отступить и сдать Москву, как то и случилось.
По всем сим обстоятельствам полагаю, что сдача Москвы была уже решена в нашем военном совете, ибо и самая победа не могла доставить нам больших выгод. Полагаю, что цель главнокомандующего состояла единственно в том, чтобы подействовать на дух обеих армий и на настроение умов во всей Европе. Кутузов, по-видимому, с сей целью решился с риском дать сражение и, во всяком случае, предвидел значительную потерю людей. Может быть, что он тогда уже рассчитывал на суровость зимнего климата и на народное ополчение более, нежели на свои наличные силы, которых недоставало, чтобы противиться столь превосходному числительностью неприятелю.
Место, избранное для сражения, было довольно удобное. Линии наши занимали высоты по обеим сторонам дороги; перед нами было село Бородино, лежащее на реке Колоче, прикрывавшей фас нашего правого фланга. Правый берег оной, т. е. наш, был гораздо выше левого и крут. Колоча впадала в Москву-реку, прикрывавшую оконечность нашего правого фланга. На том же фланге была довольно обширная роща, которая оканчивалась при большой дороге кустарником. Середина нашего левого фланга выдавалась вперед и расположена была на особенной высоте, получившей название Раевского батареи, на которой происходил самый жаркий бой. От этого места до конца левого фланга были поляны и кустарники. Наконец, левый фланг примыкал к большому лесу, чрез который пролегала старая большая дорога, ведущая к Можайску.
Этой дорогой могли бы французы воспользоваться при самом начале дела, дабы предупредить нас в Можайске или принудить нас поспешно оставить позицию; но, может быть, Наполеон, полагаясь на свои силы и зная упорство наше, надеялся истребить нашу армию на занимаемой ею позиции. Местоположение позади обоих наших флангов было почти сплошь покрыто кустарником, который близ селения Татарки становился лесом. От левого фланга нашего спускалось несколько оврагов с малозначащими речками, текущими в р. Колочу.
Правый фланг неприятеля простирался до старой Можайской дороги, где находились главные его силы. Левый фланг его был гораздо слабее правого и почти совсем не действовал; ибо войска с оного были переведены на правый, так как и наш правый фланг оставался во все время сражения без действия, и войска с оного, наконец, были переведены на левый фланг. Село Бородино, находившееся сначала впереди французских линий, впоследствии осталось среди них.
В обеих армиях наших считалось семь пехотных корпусов и несколько кавалерийских дивизий; но некоторые из них были весьма слабы от урона, понесенного в сражениях под Витебском, Смоленском и Валутиной Горой. Под Бородиным пришел к нам генерал Милорадович с подкреплением, состоявшим из 8 или 10 тысяч пехоты. Еще пришло к нам тысяч до десяти Московского ополчения, но оно было дурно вооружено и во время сражения употреблялось только для уборки раненых. Всего с ополчением было у нас налицо около 110 тысяч человек и 750 орудий; у французов же считалось 160 тысяч и до 1000 орудий, а затем еще разные части, шедшие к ним на подкрепление.
Главная квартира армий расположилась – Кутузова в селе Татарках, Барклая – в Горках, а Багратиона – в Михайловском. Войска наши стали в следующем порядке.
Правый фланг 1-й армии: 2-й корпус Багговута, 4-й корпус графа Остерман-Толстого. За ними одна кавалерийская дивизия. Один егерский полк 2-го корпуса (помнится мне, 4-й егерский, коего командиром был полковник Федоров) занимал лес при оконечности нашего правого фланга; одна артиллерийская рота, принадлежащая ко 2-му корпусу, присоединилась к сему егерскому полку. В лесу сделаны были просеки и засеки; в первых расположены были орудия, а за вторыми егеря. Артиллерия 4-го корпуса заняла крутой берег реки Колочи, где орудия маскировались воткнутыми в землю деревьями. 4-й корпус примыкал левым флангом к селению Горки, лежащему на большой дороге. Одну кавалерийскую дивизию поставили за 4-м корпусом в колоннах, а за нею также в колоннах стояла 1-я кирасирская дивизия, на одной почти высоте с селением Татарки. На левом фланге коннице невозможно было действовать по причине кустарников; но ей можно было перейти через дорогу и поспеть на помощь к нашему левому флангу, где были открытые места, удобные для кавалерийских атак. Итак, войска наши разделялись на правый и левый фланги большой дорогой; правый фланг состоял из двух корпусов 1-й армии. Селение Горки лежало на возвышении по большой дороге; тут сделали небольшой окоп, который вооружили несколькими орудиями 4-го корпуса. При спуске с горы возвели другой окоп, вооруженный орудиями того же корпуса; орудия были направлены на село Бородино, в которое во время дела пустили только несколько ядер, когда войска наши отступили из оного.
Село Бородино было сперва защищаемо лейб-гвардии Егерским полком, а после 11-м егерским.
Левый фланг 1-й армии: 6-й корпус Дохтурова примыкал своим правым флангом к большой дороге при селении Горки. За сим корпусом стоял в резерве 5-й гвардейский корпус под командой генерала Лаврова. К левому флангу 6-го корпуса примыкал 2-й армии 7-й корпус генерала Раевского. Корпус сей защищал батарею, выдавшуюся вперед и получившую название – Раевского батарея. За сим 8-й корпус Бороздина, которым, помнится мне, во время сражения командовал Паскевич. 3-й гренадерский корпус под командой Тучкова стоял отчасти в резерве за левым флангом, а отчасти занимал старую большую дорогу, ведущую в Можайск. В резерве левого фланга находились еще 2-я кирасирская дивизия и несколько кавалерийских дивизий.
Резервная артиллерия под командой генерал-майора Эйлера стояла у селения Татарки. Она вся была в деле; но генерал Эйлер сказался больным и не участвовал в сражении.
На старой большой Можайской дороге расположились пять полков донских казаков под командой полковника Сысоева; остальные же донцы под командой графа Платова составляли особенный корпус, который во время сражения переправился чрез Колочу на нашем правом фланге и должен был действовать в тыл неприятеля. К сему летучему отряду присоединили легкую гвардейскую кавалерийскую дивизию под командой генерала Уварова; но от дурных распоряжений и нетрезвого состояния графа Платова войска сии, которые могли бы принести большую пользу, ничего не сделали. Кутузов отказал Платову в командовании в самое время сражения; способности же Уварова, который после Платова оставался старшим, довольно известны. Он расположил свою конницу подле леса, занятого неприятельской пехотой, и потерял много людей без всякой пользы. Уваров обладал даром выбирать для атаки такие места, где конница не могла действовать, и отряд его, имевший более 10 000 всадников, в день Бородинского сражения ни к чему не послужил.
Часть Московского ополчения расположили на старой Можайской дороге, другую же поставили в резерве за левым флангом для уборки раненых. Ополченцы стояли в колоннах неподвижно, теряя много народа от ядер; когда же их послали за ранеными, то они ходили в самый сильный огонь для спасения своих соотечественников.
Пехотные дивизии выстроились в три линии следующим образом: в первой линии два полка егерских, во второй же и третьей по два полка пехотных; но, принимая в расчет части, находившиеся в общем резерве, как и кавалерийские дивизии, оказывалось, что войска левого фланга стояли в шесть и даже в семь линий. Все протяжение наших линий занимало верст пять в длину и в глубину с версту. По сей причине неприятелю было весьма трудно прорвать наш фронт; но мы потеряли много людей от действия неприятельской артиллерии, коей ядра достигали наших задних линий.
Коновницын, начальствовавший ариергардом при отступлении, имел несколько жарких дел с неприятелем; ибо ему велено было как можно долее держаться, дабы дать главным силам время устроиться. Брат Александр, состоявший при ариергарде, говорил мне, что сражение под Гридневым было весьма жаркое. 23 августа Коновницын присоединился к главным силам, и войска его заняли свое место в общей позиции, после чего брат Александр поступил опять в главную квартиру, в круг старых своих товарищей и под начальство Вистицкого.
Левый фланг наш был укреплен многими шанцами, построенными наскоро и от того слабыми. Перед селением Михайловским поставлено было несколько реданов. Раевского батарея была обнесена низким валом, прикрывавшим до 50 орудий; лес, находившийся при оконечности левого фланга, был перегорожен засеками и занят стрелками.
В таком положении находилась наша армия 24 августа.
Помнится мне, что мы, офицеры Генерального штаба, еще 22 августа пришли в селение Татарки, где остановились в сарае. У нас нечего было есть да и купить было негде, и потому мы посылали одного из товарищей с фуражирами для добывания в деревнях съестных припасов.
23 августа поручено было полковнику Нейдгарту 1-му (Павел Иванович, квартирмейстерской части) укрепить правый фланг нашей позиции; меня же назначили к нему в помощь. Мы устроили на крутом берегу Колочи закрытые батареи, о которых выше сказано, и назначили сделать засеки в лесу, находившемся на оконечности нашего правого фланга. Пока мы разъезжали по линии, главнокомандующий сам приехал осматривать местоположение и застал нас на небольшом возвышении против левого фланга 2-го корпуса Багговута. Кутузов остановился на этом возвышении в сопровождении главной квартиры и советовался с генералами, как заметили орла, поднявшегося из большой рощи, остававшейся у нас в правой стороне. Он поднимался все выше и выше, наконец, величаво поплыл над нами и как бы остановился над главнокомандующим. Багговут, его первый заметивший, снял фуражку и закричал:
– Ein Adler, ach ein Adler![51]
Кутузов, увидев его, снял также фуражку свою, воскликнув:
– Победа российскому воинству. Сам Бог ее нам предвещает!
Случай этот тотчас сделался известен во всей армии и, конечно, способствовал к вящему ободрению войска. Говорят, что, когда привозили в Петербург тело умершего князя Кутузова, то орел сопутствовал церемонии. Я слышал это от очевидцев.
24-го числа поутру во всех полках служили молебны; налои заменены были пирамидами, составленными из барабанов, на коих поставили образа.[52] Сто тысяч человек войска, при распущенных знаменах, с коленопреклонением, усердно молились о помощи для истребления врагов отечества. Чувство любви к отечеству было в то время развито во всех званиях.
24-го числа вся неприятельская армия находилась перед нами. Ввечеру Наполеон сделал усиленную рекогносцировку для избрания выгоднейшего пункта атаки и посему направил густые колонны пехоты на Раевского батарею.[53] Солдаты его были пьяны. С нашей батареи отвечали картечью и причинили неприятелю большой урон; но французы повторяли свои атаки, поддерживая их сильной канонадой. Наши батареи продолжали действовать, и в короткое время завязался на нашем левом фланге сильный бой, не уступавший сражению 26-го числа, с той только разницей, что 24-го дело началось ввечеру и потому не могло долго продолжиться.
Наполеон хотел непременно овладеть Раевского батареей и несколько раз посылал на нее огромные массы пехоты, которые мы подпускали близко и рассыпали картечными выстрелами из нескольких десятков орудий. По отражении таким образом одной большой колонны, главнокомандующий послал 2-ю кирасирскую дивизию для преследования рассыпавшегося неприятеля, и наши кирасиры, потоптав множество французских пехотинцев, занеслись в неприятельские линии и выхватили из среды оных в виду всей французской армии семь польских орудий с их прислугой и лошадьми. Орудия сии провезли по всему нашему лагерю и отправили чрез Можайск в Москву. Пушки эти были взяты Малороссийским кирасирским полком.
Между тем неприятель стал занимать лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга, где завязалось сильное стрелковое дело; но мы удержали за собою лес.
Во время сражения 24-го числа главнокомандующий находился на левом фланге в сильном огне. С ним была вся главная квартира, в том числе и я при Вистицком, но не был никуда посылаем с поручениями. Неприятельские ядра, большей частию перелетая у нас чрез головы, ложились в задних линиях.
Когда смерклось, огонь стал ослабевать. Французы зажгли селения, находившиеся среди их линий, где запылали лагерные костры. Зрелище было величественное. Неприятельский лагерь означался почти непрерывной линией пламени на протяжении нескольких верст.
Георгий Мейндорф, прозывавшийся у нас Черным, о котором я прежде упоминал, был ранен в деле 24 августа. Его послали в лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга, чтобы расставить цепь стрелков; он подался неосторожно один вперед, его обступили три француза, из коих один приставил ему к боку штык, закричав: «Rendez-vous!»[54] Мейндорф отбил ружье его саблей, но другой ткнул его штыком в ляжку. Мейндорф от сего удара свалился с лошади, и его бы убили, если б на крик не прискакали два кирасира Малороссийского полка, которые, по овладении польскими орудиями, отбились от своего полка и, услышав голос русского, поспешили ему на помощь в лес, изрубили трех французов и спасли Мейндорфа. Один из избавителей его был унтер-офицер. Мейндорф доставил ему знак Георгиевского креста и дал обоим денежное награждение.
Потеря наша в деле 24 августа была довольно значительная; но со стороны неприятеля она, без сомнения, была гораздо более. Густые французские колонны храбро наступали с барабанным боем, но когда их осыпали градом картечи, то они не могли держаться, рассыпались и уклонялись, оставляя за собою след убитых и раненых. Помилования конница наша никому не давала, и пленных было взято только несколько человек.
Ночью огонь совершенно прекратился. Победа была на нашей стороне, но мы увидели преимущество сил неприятеля.
По прекращении дела, войска наши, составив ружья в козлы, развели огни и стали варить кашу. Мы возвратились в свое селение Татарки, где нашли, что сарай наш был занят ранеными, почему мы перебрались на ночь в крестьянский овин, стоявший подле самой большой дороги. Тут ночевали Щербинин, я, брат Михайла, Глазов и еще кое-кто из людей мне неизвестных. Пролезали мы в этот овин чрез маленькое окно в стене, довольно высоко вырубленное, лежали же почти один на другом.
Едва забрались мы в овин, как заснули. Я лежал с края и как бы во сне почувствовал, что кто-то ходит по моим ногам, которые тогда болели цинготой и были в язвах; мне в полусне мерещилось, что лежу на дороге и что 33-й егерский полк, идучи мимо, наступает мне на больные ноги. На спрос: «кто тут?» мне отвечали: «наши». «Ну, если наши, так проходите, братцы», – думалось мне в полусне. Однако же всю ночь кто-то у меня на ногах шевелился, а мне всё егеря мерещились. Проснувшись на рассвете, я увидел крестьянина, лежащего на мне.
– Что тебе надобно? – вскричал я.
Мужик проснулся и в перепуге хотел выскочить в окно. Он вынес уже одну ногу за окно, но я его за другую схватил и крепко держал. Товарищи мои проснулись на шум, как и люди наши, спавшие на дворе. Они схватили несчастного за вывешенную ногу и тащили его к себе. В таком положении держали его и били с двух сторон, принимая его за злоумышленного человека. Но это был только ратник Московского ополчения, который, отстав от своей дружины, не нашел себе на ночь другого убежища.
25 августа дело рано возобновилось, но было очень слабое: во весь день выпустили только несколько пушечных выстрелов; перестреливались по временам в цепи на левом нашем фланге, но и там огонь ружейный был весьма слабый. Между тем французы подкреплялись подходившими к ним новыми силами, а к нам пришло Московское ополчение.
Давно не имели мы никаких известий об отце, а слышали только, что он вступил на службу в ополчение; почему, полагая, что это могло быть Московское, я вышел на большую дорогу в надежде встретить отца, но тщетно. Я остановил несколько офицеров и расспрашивал их о моем отце; но никто мне ничего о нем сказать не мог. Офицеры сии, набранные из числа университетских студентов, приказных и из дворян, рады были случаю поговорить с бывалым в походе; они обступили меня и расспрашивали о сражении 24-го числа, о силах неприятельских и о расположении наших войск. В ратниках был отличный народ. Они оставляли свои места, окружали нас и, слушая со вниманием, делали свои заключения, потом нагоняли свои дружины, ушедшие между тем вперед.
25-го числа погода была пасмурная, изредка шел маленький дождь. Раненых было в этот день очень мало; но готовились к бою: ибо со всех окрестных деревень пригоняли в Можайск множество подвод для отвоза раненых.
26-го числа к рассвету все наше войско стало под ружьем. Главнокомандующий поехал в селение Горки на батарею, где остановился и слез с лошади; при нем находилась вся главная квартира. Солнце величественно поднималось, исчезали длинные тени, светлая роса блистала еще на лугах и полях, которые чрез несколько часов обагрились кровью. Давно уже заря была пробита в нашем стане, где войска в тишине ожидали начала ужаснейшего побоища. Каждый горел нетерпением сразиться и с озлоблением смотрел на неприятеля, не помышляя об опасности и смерти, ему предстоявшей. Погода была прекраснейшая, что еще более возбуждало в каждом рвение к бою.
Прежде всего увидели мы эскадрон неприятельских конных егерей, который, отделившись от своего войска, прискакал на поле, противолежащее нашему правому флангу. Люди слезли с коней и начали перестрелку с нашими егерями, переправившимися за Колочу. Граф Остерман-Толстой приказал пустить несколько ядер в коноводов. После непродолжительной перестрелки французские егеря отступили; но между тем неприятель атаковал гвардейский Егерский полк, который защищал село Бородино. К нему послали на подкрепление 1-й егерский полк, но войска сии не могли устоять против превосходных сил. После долгого сопротивления они, наконец, уступили мост чрез Колочу и отступили. В лейб-гвардии Егерском полку после нескольких часов перестрелки убыло 700 рядовых и 27 офицеров. Полк этот дрался с необыкновенной храбростью. Тут был убит знакомый мне подпоручик князь Грузинский. Труп его, накрытый окровавленной шинелью, пронесли мимо нас. Князь Грузинский был очень высокого роста и худощавого телосложения; его перекинули чрез два ружья, так что он совершенно вдвое сложился; с обеих сторон висели его руки и ноги, едва не волочась по земле. Грузинского любили в полку, где его знали за хорошего офицера и доброго товарища. Зрелище сие меня на первый раз несколько поразило; но впоследствии я свыкся с подобными сценами и с большим хладнокровием смотрел на убитых и раненых.
Во время перестрелки в селе Бородине один молодой егерь пришел в селение Горки к главнокомандующему и привел французского офицера, которого представил Кутузову, отдавая отобранную у пленного шпагу. Полное счастие изображалось на лице егеря. Французский офицер этот объявил, что когда они брали мост, то егерь этот, бросившись вперед, ухватился за его шпагу, которую отнял, и потащил его за ворот; что он при сем не обижал его и не требовал даже кошелька. Кутузов тут же надел на молодого солдата Георгиевский крест, и новый кавалер бегом пустился опять в бой.
Бородино еще было в наших руках, когда французы открыли огонь ядрами по селению Горки. Наши орудия им отвечали. Пальба сначала недолго продолжалась, но во время сражения она несколько раз возобновлялась. Гвардейские егеря, по утрате села Бородина, присоединились опять к своему 5-му корпусу. Французы учредили перевязочный пункт для раненых в селе Бородине и не атаковали пехотой батарей наших, построенных при селе Горки. Овладение французами села Бородина и действия около Горок происходили независимо от общего хода генерального сражения, исключительно объявшего наш левый фланг, но служили ему как бы вступлением. Впрочем, дело завязалось на левом фланге, когда Бородино было еще в наших руках.
В начале сражения Наполеон находился при правом фланге своей армии, на возвышении, с которого оба стана были видны. Любуясь величественно восходящим солнцем и началом прекрасного дня, он воскликнул среди окружавших его: «Voila le lever du soleil d’Austerlitz!»[55] Слова сии вмиг сделались известными во всей его армии и еще более возбудили легкие французские головы, способные воспламеняться от одного красного слова, кстати сказанного.
Он умел управлять пылким народом своим. Наполеон отдал по войску приказ, в котором напоминал прежние победы и указывал на близкую Москву, где армии предстояло насладиться всевозможными удовольствиями грабежа и отдыхом от трудов и беспокойств, понесенных в столь продолжительном походе. Речь сия подействовала, и французы дрались отчаянно. Воззвание это начиналось словами: «Rois, généraux et soldats!»,[56] и он правильно выразился, потому что в армии его находилось несколько королей в должности корпусных командиров. Достоинство королевского звания было до такой степени уронено, что солдаты и офицеры видели в оном не более как высший чин военной иерархии и называли их по старой привычке вместо le général Murat – le roi Murat,[57] и проч. Мюрат был человек храбрый и преданный Наполеону, но без образования. Он командовал авангардом. Ему-то Наполеон приказал начать атаку на наш левый фланг.
Дело началось сильной канонадой, обнявшей все пространство, заключавшееся между большой дорогой и оконечностью левого нашего фланга. В это время пехота перестреливалась только в лесу. Наполеон намеревался прежде всего привести нашу артиллерию в бездействие, и он мог надеяться на успех, потому что у него было в полтора раза более орудий, чем у нас.[58] Затем предстояло ему занять Раевского батарею пехотой, и тогда ключ позиции остался бы в его руках; но чтобы удержать за собою эту батарею, ему надобно было оттеснить нашу пехоту, защищавшую лес, находившийся на оконечности нашего левого фланга, и потому он послал для занятия сего леса сильные колонны. Мы также стали подкреплять сей фланг, и в лесу завязался ожесточенный бой. Между тем продолжался по всей линии частый артиллерийский огонь; зарядные ящики взлетали на воздух, и орудия подбивались, но подобные орудия немедленно заменялись свежими из резервной артиллерии. Во многих артиллерийских ротах были перебиты почти все офицеры и прислуга, почему для действия при орудиях назначали людей из пехоты. Войска наши, стоявшие во все время под ружьем, много потерпели от артиллерийского огня. Наполеон, находя, что уже настала пора начать атаку, послал огромные массы, чтобы взять на штыках Раевского батарею. Французская пехота несколько раз была на батарее, но ее отбивали с большой потерей. В довершение натиска он пустил всю свою конницу в атаку, чтобы прорвать наши линии, в которые она действительно вскакала и смяла почти весь 6-й корпус. Конница сия заняла с тыла Раевского батарею, на которую вслед затем пришла неприятельская пехота.[59]
Французские кирасиры собирались уже атаковать наш 5-й гвардейский корпус, коего полки построились в каре, как выдвинулись наши две кирасирские дивизии, которые ударили на неприятельскую конницу, опрокинули ее и погнали; но новые силы поспешили к французам на подкрепление, и некоторые из наших кавалерийских полков уступили место. Тогда конница наша, снова построившись, опять опрокинула неприятеля в овраг и гналась за ним до самых французских линий. Между тем сбиралась наша рассыпавшаяся пехота. В эту минуту неприятель мог бы опрокинуть все наше войско; но главнокомандующий, видя, что правый фланг наш не будет атакован, приказал 2-му и 4-му корпусам двинуться на усиление левого фланга. При переводе колонн чрез большую дорогу, Кутузов ободрял солдат, которые спешили на выручку товарищей, отвечая на приветствие главнокомандующего неумолкаемыми криками «ура!». Бенингсен лично повел главную колонну, и все понеслось рысью. Батарейные роты поскакали, рассадив людей по ящикам, лафетам и на лошадей, и новые тучи пехоты с громкими восклицаниями явились в жесточайший огонь, где заменили расстроенные полки. Но Раевского батарея была уже в наших руках.
Алексей Петрович Ермолов был тогда начальником Главного штаба у Барклая. Он собрал разбитую пехоту нашу в беспорядливую толпу, состоявшую из людей разных полков; случившемуся тут барабанщику приказал бить на штыки, и сам с обнаженной саблей в руках повел сию сборную команду на батарею. Усилившиеся на ней французы хотели уже увезти наши оставшиеся орудия, когда отчаянная толпа, взбежав на высоту, под предводительством храброго Ермолова, переколола всех французов на батарее (потому что Ермолов запретил брать в плен), и орудия наши были возвращены. Сборное войско Ермолова, увлекшись, пустилось к неприятельским линиям; но ему велено было остановиться, что весьма огорчило Алексея Петровича: потому что в то самое время Платов показался с 10 тысячами легкой конницы на левом фланге неприятеля, который обратил против этого неожиданного появления войск часть своей пехоты, и все его батареи на время умолкли. Но Платов был в тот день пьян и ничего не сделал, как и принявший после него команду Уваров ничего не предпринял. Внезапный удар этот мог бы решить участь сражения в нашу пользу.
Сим подвигом Ермолов спас всю армию. Сам он был ранен пулей в шею; рана его была не тяжелая, но он не мог далее в сражении оставаться и уехал. С ним находился артиллерии генерал-майор Кутайсов, которого убило ядром. Тела его не нашли; ядро, вероятно, ударило его в голову, потому что лошадь, которую после поймали, была облита кровью, а передняя лука седла обрызгана мозгом. 27-го числа раненый офицер доставил в дежурство Георгиевский крест, который, по словам его, был снят с убитого генерала. Крест сей признали за принадлежавший Кутайсову. Кутайсов был приятель Ермолову – молодой человек с большими дарованиями, от которых можно было много ожидать в будущем. Накануне сражения (мне это недавно рассказывал сам Алексей Петрович) они вместе читали «Фингала», как Кутайсова вдруг поразила мысль о предстоявшей ему скорой смерти; он сообщил беспокойство свое Ермолову, который ничем не мог отвратить дум, внезапно озаботивших его приятеля.
Французы постоянно усиливались в лесу; посему послали туда на подкрепление сводную гренадерскую дивизию, лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки и, кажется, лейб-гвардии Егерский. Полки сии храбро вступили в бой, и лес был удержан, причем стрелки сих полков потеряли много людей. Генерал Храповицкий, командовавший Измайловским полком, был ранен. Начальник 2-й армии, князь Багратион, был ранен картечью в ногу и умер через несколько дней от сей раны, хотя она и не была смертельная; говорили, что он не хотел дать себе ногу отрезать, отчего и лишился жизни. Дохтуров, по званию старшего за ним, принял начальство над его армией, 6-й же корпус его совсем почти исчез.
По отражении неприятельской конницы и по овладении Ермоловым батареей сражение восстановилось прежним порядком. Полки, пришедшие с правого фланга, заступили место расстроенных частей, гвардейскую артиллерию выдвинули на батарею, где она потерпела значительный урон. Рукопашный бой между массами смешавшихся наших и французских латников представлял необыкновенное зрелище, в своем роде великолепное, и напоминал битвы древних рыцарей или римлян, как мы привыкли их себе воображать. Всадники поражали друг друга холодным оружием среди груд убитых и раненых. От атаки неприятельской конницы остались следы в наших линиях, где лежало много французских кирасир; из числа их раненые или спешенные были переколоты нашими рекрутами, которые, выбегая из рядов своих, без труда нагоняли тяжелых латников и добивали сих рослых всадников, едва двигавшихся пешком под своею грузной броней.
Многими личными подвигами сопровождалось сие страшное побоище. Конногвардейский ротмистр Шарльмон (Charlemont), эмигрант, у коего убили лошадь, был легко ранен и захвачен французами; но он не бросал палаша своего; его тащили за лядунку с требовательным «Rendez-vous!» и уже довольно далеко увели, когда товарищи прискакали и отбили его. Если б он остался в плену, то был бы непременно расстрелян как эмигрант.
Под Бородиным было четыре брата Орловых, все молодцы собой и силачи. Из них Алексей служил тогда ротмистром в Конной гвардии. Под ним была убита лошадь, и он остался пеший среди неприятельской конницы. Обступившие его четыре польских улана дали ему несколько ран пиками; но он храбро стоял и отбивал удары палашом; изнемогая от ран, он скоро бы упал, если б не освободили его товарищи, князья Голицыны, того же полка. Брат его Федор Орлов, служивший в одном из гусарских полков, подскакав к французской коннице, убил из пистолета неприятельского офицера перед самым фронтом. Вскоре после того он лишился ноги от неприятельского ядра. Так, по крайней мере, рассказывали о сих подвигах, коих я не был очевидцем. Третий брат Орловых, Григорий, числившийся в Кавалергардском полку и находившийся при одном из генералов адъютантом, также лишился ноги от ядра. Я видел, когда его везли. Он сидел на лошади, поддерживаемый под мышки казаками, оторванная нога его ниже колена болталась; но нисколько не изменившееся лицо его не выражало даже страдания. Четвертый брат Орловых Михайла, состоявший тогда за адъютанта при Толе, также отличился бесстрашием своим, но не был ранен. Кавалергардского полка поручик Корсаков, исполинского роста и силы, врубился один в неприятельский эскадрон и более не возвращался: тела его не нашли.
После отражения атаки неприятельской конницы пронесся слух, что король Неаполитанский взят в плен; но ошибка сия скоро разъяснилась: захвачен был генерал Бонами, командовавший кирасирами; под ним была убита лошадь, и его самого ранили несколькими ударами в голову. Когда опрокинули неприятельскую конницу, он оставался на Раевского батарее пеший и был окружен нашими пехотинцами, которые добивали его прикладами. Он упал от ударов на колени и, закрыв себе глаза левой рукой, защищался палашом в правой руке. Бонами неминуемо лишился бы жизни, если бы адъютант (говорят Ермолова) не спас его. Его положили на носилки, и четыре московских ратника принесли его к главнокомандующему. Я его видел; лицо его было так изрублено и окровавлено, что нельзя было различить ни одной черты. Он лежал на спине без движения и едва мог произнести несколько слов.
Главная перевязка наших раненых производилась при большой дороге, на половине расстояния от с. Горки к с. Татарки. Из собранных лекарей и священников первые резали члены, другие же с крестом и Евангелием увещевали к смерти тех, которые не подавали более надежды к жизни.
Перед самой атакой кавалерии я находился с братом Александром в селении Горки, как прискакал с левого фланга с каким-то известием к главнокомандующему от Семеновского полка князь Голицын Рыжий, состоявший адъютантом при Бенингсене. Бурка его была в крови; обратившись к нам, он сказал, что эта кровь брата нашего Михайлы, которого сбило с лошади ядром. Голицын не знал только, жив ли брат остался или нет. Не выражу того чувства, которое поразило нас при сем ужасном зрелище и вести. Мы поскакали с Александром на левый фланг по разным дорогам, и я скоро потерял его из виду. Встревоженный участью брата, который представлялся мне стонущим среди убитых, я мало обращал внимания на ядра, которые летали, как пули; осматривал груды мертвых и раненых, спрашивал всех, но не нашел брата и ничего не мог о нем узнать. Вдруг показалась впереди пыль и французская конница, которая неслась в атаку. За собою я увидел кирасирскую дивизию, спешившую в бой; но едва полки успели на всем скаку выстроиться, как люди и лошади у нас стали валиться, поражаемые неприятельскими ядрами. Столкнулись конницы, и завязалось кавалерийское дело, про которое я выше писал.
Участь брата Михайлы тревожила меня. Если его не успели вынести с поля сражения до сей схватки, то, наверное, не мог он уже быть в числе живых; если же успели, то его надобно было искать в Татарках. Следуя за ранеными, я спустился в лощину, по коей тянулись они вереницей и куда попадали только неприятельские гранаты, добивавшие их осколками своих взрывов. По всей лощине стояли лужи крови, среди коих многие из раненых умирали в судорожных страданиях. В таком же положении находилось множество лошадей, боровшихся со смертью. Картина ужасная! Стон и вопль смешивались со свистом перелетавших ядер и лопавшихся гранат. Истребление человеческого рода на сем месте изображалось во всей полноте, ибо ни одного целого человека и необезображенной лошади тут не было видно. Можно себе составить понятие о понесенном некоторыми полками уроне из следующего примера. Я ехал до атаки по полю сражения мимо небольшого отряда иркутских драгун. Всего их было не более 50 человек на конях, но они неподвижно стояли во фрунте с обнаженными палашами под сильнейшим огнем, имея впереди себя только одного обер-офицера. Я спросил у офицера, какая это команда?
– Иркутский драгунский полк, – отвечал он, – а я поручик такой-то, начальник полка, потому что все офицеры перебиты, и кроме меня никого не осталось.
После сего драгуны сии участвовали еще в общей атаке и выстояли все сражение под ядрами. Можно судить, сколько их под вечер осталось.
Выехав на большую дорогу, я поворотил вправо к Татаркам, но никто о брате ничего не знал; люди наши, однако, говорили, что видели как будто его сидевшим саженях в 30 от большой дороги. Александр возвратился с левого фланга и также не нашел брата; он далее меня ездил, ибо я поравнялся только с Раевского батареей, он же доезжал до конца левого фланга.
Солнце уже садилось, но огонь не прекращался; однако же к ночи мы, после жаркого боя, уступили место, лишившись нескольких орудий. Остатки Дохтурова 6-го корпуса, примыкавшие правым флангом своим к большой дороге, еще кое-как удержались; но оконечность нашего левого фланга была совершенно отброшена назад, так что старая Можайская дорога оставалась почти совсем открытой. Все с нетерпением ожидали наступления темноты, которая, с прекращением кровопролития, спасала нас от совершенной гибели, которой бы не миновать, если б день еще два часа продлился. Конечно, не побежали бы войска наши, но все легли бы на месте, ибо неприятель был слишком превосходен в силах. Французская Старая гвардия еще в дело не вступала, тогда как часть нашей гвардии потеряла уже довольно большое количество людей, и Преображенский, и Семеновский полки, не сделав ни одного ружейного выстрела, понесли от одних ядер до 400 человек урона в каждом. В Семеновском полку служили два сына Алексея Николаевича Оленина. Подняв во время сражения неприятельское ядро, они перекатывали его друг к другу; к забаве этой присоединился товарищ их, Матвей Муравьев, как вдруг прилетело другое ядро и разорвало пополам старшего Оленина, у второго же пролетело ядро между плечом и головой и дало ему такую сильную контузию, что его сперва полагали убитым. Он опомнился, но долго страдал помешательством, отчего он хотя и выздоровел, но остался со слабой памятью и с признаками как бы ослабевших умственных способностей.
Когда совершенно смерклось, сражение прекратилось, и неприятель, который сам был очень расстроен, опасаясь ночной атаки, отступил на первую свою позицию, оставив Раевского батарею, лес и все то место, которое мы поутру занимали. Войска наши, однако, не подвинулись вперед и провели ночь в таком положении, как ввечеру остановились. Обе армии считали себя победоносными и обе разбитыми. Потеря с обеих сторон была равная, не менее того гораздо ощутительнее для нас; потому что, вступая в бой, у нас было гораздо менее войск, чем у французов.
Таким образом кончилось славное Бородинское побоище, в котором русские приобрели бессмертную славу. Подобной битвы, может быть, нет другого примера в летописях всего света. Одних пушечных выстрелов было выпущено французами 70 тысяч, так что их приходилось почти на каждого нашего раненого или убитого, не считая миллионов выстрелянных ими ружейных патронов и поражение холодным оружием. Во всей России отслужили благодарственные молебствия; но как должны были удивиться, когда через несколько дней услышали, что французы уже в Москве!
Государь приказал выдать каждому рядовому и унтер-офицеру по пяти рублей в награждение, и добродушные солдаты наши приняли с благоговением сию монаршую милость.[60]
Во всю ночь с 26-го на 27-е число слышался по нашему войску неумолкаемый крик. Иные полки почти совсем исчезли, и солдаты собирались с разных сторон. Во многих полках оставалось едва 100 или 150 человек, которыми начальствовал прапорщик. Вся Можайская дорога была покрыта ранеными и умершими от ран, но при каждом из них было ружье.[61] Безногие и безрукие тащились, не утрачивая своей амуниции. Ночи были холодные. Те из раненых, которые разбрелись по селениям, зарывались от стужи в солому и там умирали. В моих глазах коляска генерала Васильчикова проехала около дороги по большой соломенной куче, под которой укрывались раненые, и некоторых из них передавила. В памяти моей осталось впечатление виденного мною в канаве солдата, у коего лежавшая на краю дороги голова была раздавлена с размазанным по дороге мозгом. Мертвым ли он уже был, или еще живым, когда по черепу его переехало колесо батарейного орудия, того я не был свидетелем. Лекарей недоставало. Были между ними и такие, которые уезжали в Можайск, чтобы отдохнуть от переносимых ими трудов, отчего случилось, что большое число раненых оставалось без пособия. Хотя было много заготовлено подвод, но их и на десятую долю раненых недостало. Часть их кое-как добрела до Москвы, но многие сгорели в общих пожарах, обнявших весь околоток.
Перед выездом моим в 1816 году в Грузию виделся я в Петербурге с возвратившимся из плена лейб-гвардии Финляндского полка полковником фон Менгденом, который был захвачен больным в Москве, и я слышал от него следующие подробности о поле Бородинской битвы. Когда его с прочими пленными гнали к Смоленску через Бородинское поле, он увидел в селении Горки трех раненых русских солдат, которые сидели рядом, прислонившись к избе. Двое из них были уже мертвые, третий еще жил, фон Менгден проходил в сем месте 18 дней после сражения; ни одно тело не было еще убрано. Смрад был нестерпимый. Оставшиеся после столь долгого времени в живых раненые питались сухарями, добываемыми из ранцев убитых, среди волков, питавшихся сотлевавшими трупами людей и лошадей. Тела на поле сражения оставались не похоронены до того времени, как, по изгнании французов, земская полиция вступила в свое управление. Тогда пригнали крестьян, и трупы складывали в костры, которые сожигали. Не менее того зараза распространилась во всех окрестных селениях, отчего померло много жителей. В 1816 году я посетил Бородинское поле сражения и нашел на нем еще много костей, обломки от ружейных лож и остатки киверов. Батареи наши еще не были срыты. Стоило только несколько взрыть землю на Раевского батарее, чтобы найти человеческие остовы. Я поднял одну голову со вдавленным в одной стороне (вероятно картечью) черепом и послал ее в Петербург к брату Михайле. Окрест лежащие селения были разорены, и в колокольне Бородинской церкви видны еще были наши ядра.
Когда в 1812 году войска наши располагались на позиции при Бородине, хлеб в поле везде стоял великолепный и подавал надежду на обильный урожай; но все поля эти были потоптаны.
В том же 1816 году, проезжая через город Старую Русу, я познакомился с городничим Толстым, которому принадлежала мыза Татарки. Он уверял меня, что в 1813 году некому было засевать Бородинское поле, что ни одно зерно не было брошено в землю, но что земля, столь удобренная кровью и животным гниением, дала без всякой работы отличный урожай хлеба. Никакой памятник не сооружен в честь храбрых русских, погибших в сем сражении за отечество.[62] Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяниями, тогда как государь выдал 2 000 000 рублей русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году!
Потеря наша убитыми и ранеными в сем сражении состояла из 26 генералов, 1200 штаб– и обер-офицеров и 40 000 нижних чинов. Французы не менее нашего потеряли. Лошадей похоронено на поле сражения 19 000.[63] От гула 1500 орудий земля стонала за 90 верст. Говорят, что даже в Москве был слышен гул от пальбы. Пленных взято очень мало, не более 1000 человек. Французам же достались в плен с поля сражения люди большей частью раненые, и из них, которые не были в состоянии следовать, были добиты поднявшими их. Под Бородиным убит начальник штаба в ариергарде у Коновницына квартирмейстерской части полковник Гавердовский, под начальством коего служил несколько времени брат Александр. Гавердовский был человек с достоинствами и один из лучших офицеров Генерального штаба, как по своему уму, так и по знаниям, опытности и храбрости. Он был уважаем начальниками и любим своими подчиненными.
Передавая виденное мною под Бородиным и слышанное о сем сражении, помещаю здесь частный эпизод сего сражения, рассказанный мне пионерным капитаном Шевичем, с которым я познакомился в Динабурге в 1815 году.
В 1812 году Шевич командовал пионерной ротой. Желая участвовать в Бородинском сражении, он лично просил главнокомандующего вверить ему несколько орудий, при коих он со своими пионерами предлагал исполнять должность артиллеристов. Кутузов исполнил желание просителя и велел поставить его на Раевского батарею. Шевич имел двух братьев, служивших в каком-то полку, с которыми он 8 лет не виделся. Полк их, стоявший до войны в Финляндии, присоединился к большой армии, о чем он, Шевич, не знал. Для прикрытия его орудий случайно назначили баталион того полка, в коем братья его служили. Желая познакомиться с офицерами, он накануне сражения подошел ввечеру к огню, около которого они сидели. Осведомившись о названии полка, он спросил баталионного командира, не знает ли он брата его Шевича, который в этом полку служит. Но как они оба удивились, узнав друг друга! Братья обнялись. Шевич нашел и другого брата своего, который служил обер-офицером в том же баталионе. Братья провели ночь у огня, приготовляя себя к предстоявшей битве. Они выразили взаимную дружбу свою завещанием не выдавать друг друга. Когда французы взяли батарею, пионерный Шевич, схватив ружье, отбивался около своих орудий; брат его, майор, бросился к нему с баталионом на помощь и отстоял орудия, но убит подле вырученного им брата, который сам, раненный пулей в руку и штыком в грудь, не оставляет своего места. Третий брат жестоко ранен; его берут четыре солдата и хотят вынести из огня, но прилетевшая граната попадает прямо на раненого, взрывом своим разносит его члены в разные стороны и убивает четырех солдат, его несших. Это случилось в виду пионерного капитана, который в отмщение не дает помилования неприятелю. Французов всех перекололи и освободили орудия. Замечательный случай этот не имеет, конечно, ничего необыкновенного; но подробности рассказа могли бы подвергнуться сомнению, если б Шевич не был действительно известен в армии за человека отчаянной храбрости. Впрочем, говорили также, что поведение его было далеко не отличное и что он большой буян. Кажется, что он теперь выключен из службы за дурное поведение.
Ночь с 26 на 27 августа все провели без сна. Разнесся слух, что с рассветом сражение возобновится. Об этом действительно судили в созванном Кутузовым военном совете, но не верю, чтобы сам главнокомандующий о том помышлял, потому что армия наша была слишком расстроена: неизбежно последовала бы гибель нашего войска, если б дело на следующий день возобновилось. Скорее полагаю, что слух этот распустили с тем намерением, чтобы поддержать дух в войсках и не дать им заметить горестного нашего положения. Во все время сражения главнокомандующий сохранял невозмутимое хладнокровие. В самые опасные минуты он не терялся и рассылал приказание свои со спокойным видом, что немало служило к поддержанию духа в войсках.
27 августа брат Александр до рассвета снова отправился на поле сражения отыскивать тело Михайлы. Он проехал за нашу цепь, объездил все поле и не нашел брата. К удивлению своему, увидел он, что неприятель, оставив новую позицию, которой овладел после битвы накануне ввечеру, провел ночь на занимавшемся им с утра до боя бивуаке. Александр первый довел о том до сведения главнокомандующего.
Очень рано поутру войска наши, оставив поле сражения, начали отступать к Можайску. Пройдя город, остановились на высотах. Уменьшение сил наших было на глаз заметно, ибо на походе дивизии скорее прежнего сменяли одна другую. Не менее того отступление совершилось в таком порядке, что, судя по оному, нельзя бы назвать нас разбитыми. Пострадали, как выше сказано, раненые; некоторых из них передавили на большой дороге; те же из них, которые добрели до Можайска, сгорели в домах при общем пожаре города. Французы сами были очень расстроены и не решились нас преследовать; но, заняв ввечеру Можайск, они вступили с нашим ариергардом в перестрелку, которая поздно прекратилась. Затем мы провели ночь без тревоги.
Мы полагали брата Михайлу убитым; но в надежде еще найти его Александр на всякий случай выпросил у Вистицкого позволение ехать в Москву, чтобы искать брата по дороге между множеством раненых, которых везли на подводах. Так как мы во всем терпели недостаток, то мы положили с Александром, чтоб мне отпроситься в деревню князя Урусова, село Осташево, чтобы взять оттуда несколько лошадей и продовольствия и, если бы оказалось возможным, то и денег. Село сие лежит в 35 верстах от Бородина и 41 – от Можайска. Вистицкий отпустил меня 27-го числа ввечеру. Я отправился один верхом рысью, но, отъехав верст 8, встретил казачий пост, который меня не пустил далее, говоря, что он имеет строгое приказание никого не пропускать по этой дороге, потому что неприятель ее уже занял, что было справедливо; ибо тут же приведены были пленные французы разъездом казаков, от которых я узнал, что они взяли пленных в селе Бражникове, отстоящем от нашей деревни (бывшей князя Урусова) на одну версту. Итак, я возвратился ночью назад.
В наше село Осташево (или Александровское) заходило человек 60 французских мародеров, которые побили стекла в доме, сорвали с биллиарда сукно и поколотили управителя, но более ничего не могли сделать; потому что крестьяне, собравшись, часть их выгнали, а другую, по истязанию, убили.
28-го рано поутру мы снова отправились отыскивать брата Михайлу; ехали медленно, среди множества раненых, и всех расспрашивали, описывая им приметы брата; но ничего не узнали. Наконец, подпоручик Хомутов, который мимо ехал, сказал нам, что он 27-го числа видел брата Михайлу жестоко раненным на телеге, которую вез московский ратник, и что брат поручил ему известить нас о себе. Равнодушие товарища Хомутова, не известившего нас о том накануне, заслуживало всякого порицания, и он не миновал упреков наших. Мы продолжали путь свой и разыскания. Проезжая через селения, один из нас заходил во все избы по правой стороне улицы, а другой по левой; но в этот день мы его не нашли. Я остался ночевать в главной квартире; Александр же поехал далее.
29-го числа я отправился в Москву. В горестном положении увидел я столицу. Повсюду плач и крик, по улицам лежали мертвые и раненые солдаты. Жители выбирались из города, в коем проявлялись уже беспорядки; везде толпился народ. Я прискакал в дом князя Урусова, полагая найти там отца и братьев. Старый кучер подъехал ко мне испуганный и, не узнав меня, принял лошадь. Я вбежал с шумом, но Александр, встретив меня, остановил:
– Тише, тише, – сказал он, – Михайла умирает; у него антонов огонь показался, и теперь ему операцию делают.
Осторожно вошедши в батюшкин кабинет, я увидел брата Михайлу, лежащего на спине. Доктор Лемер (Lemaire) вырезывал ему снова рану и пускал из нее кровь. Михайла узнал меня, кивнул головой, и во все время мучительной операции лицо его не изменилось. Приятель его Петр Александрович Пустрослев тут же находился. Дом был уже почти совсем пуст. Князь Урусов выехал с батюшкой в Нижний Новгород, куда все московское дворянство укрылось. В доме оставалось только несколько слуг наших и те вещи, которые не могли вывезти в скорости. Я вышел из комнаты раненого.
Лемер, окончив операцию, подал нам некоторую надежду на выздоровление брата, впрочем, очень малую. Ввечеру Александр рассказал мне случившееся с Михайлой, по его собственным словам. Во время Бородинского сражения Михайла находился при начальнике Главного штаба Бенингсене на Раевского батарее, в самом сильном огне. Неприятельское ядро ударило лошадь его в грудь и, пронзив ее насквозь, задело брата по левой ляжке, так что сорвало все мясо с повреждением мышц и оголило кость; судя по обширности раны, ядро, казалось, было 12-фунтовое. Брату был тогда 16-й год от роду. Михайлу отнесли сажени на две в сторону, где он, не известно сколько времени, пролежал в беспамятстве.
Он не помнил, как его ядром ударило, но, пришедши в память, увидел себя лежащим среди убитых. Не подозревая себя раненым, он сначала не мог сообразить, что случилось с ним и с его лошадью, лежавшей в нескольких шагах от него. Михайла хотел встать, но едва он приподнялся, как упал и, почувствовав тогда сильную боль, увидел свою рану, кровь и разлетевшуюся вдребезги шпагу свою. Хотя он очень ослаб, но имел еще довольно силы, чтобы приподняться и просить стоявшего подле него Бенингсена, чтобы его вынесли с поля сражения. Бенигсен приказал вынести раненого, что было исполнено четырьмя рядовыми, положившими его на свои шинели; когда же они вынесли его из огня, то положили на землю. Брат дал им червонец и просил их не оставлять его; но трое из них ушли, оставив ружья, а четвертый, отыскав подводу без лошади, взвалил его на телегу, сам взявшись за оглобли, вывез его на большую дорогу и ушел, оставив ружье свое на телеге. Михайла просил мимо ехавшего лекаря, чтобы он его перевязал, но лекарь сначала не обращал на него внимания; когда же брат сказал, что он адъютант Бенингсена, то лекарь взял тряпку и завязал ему ногу просто узлом. Тут пришел к брату какой-то раненый гренадерский поручик, хмельной и, сев ему на ногу, стал рассказывать о подвигах своего полка. Михайла просил его отслониться, но поручик ничего слышать не хотел, уверяя, что он такое же право имеет на телегу, при сем заставил его выпить водки за здоровье своего полка, от чего брат опьянел. Такое положение на большой дороге было очень неприятно. Мимо брата провезли другую телегу с ранеными солдатами; кто-то из сострадания привязал оглобли братниной телеги к первой, и она потащилась потихоньку в Можайск. Брат был так слаб и пьян, что его провезли мимо людей наших, и он не имел силы сказать слова, чтобы остановили его телегу.
Таким образом привезли его в Можайск, где сняли с телеги, положили на улице и бросили одного среди умирающих. Сколько раз ожидал он быть задавленным артиллерией или повозками. Ввечеру московский ратник перенес его в избу и, подложив ему пук соломы в изголовье, также ушел. Тут уверился Михайла, что смерть его неизбежна. Он не мог двигаться и пролежал таким образом всю ночь один. В избу его заглядывали многие, но, видя раненого, уходили и запирали дверь, дабы не слышать просьбы о помощи. Участь многих раненых!
Нечаянным образом зашел в эту избу лейб-гвардии Казачьего полка урядник Андрианов, который служил при штабе великого князя. Он узнал брата и принес несколько яиц всмятку, которые Михайла съел. Андрианов уходя написал мелом по просьбе брата на воротах «Муравьев 5-й».
Ночь была холодная; платье же на нем изорвано от ядра. 27-го поутру войска наши уже отступали чрез Можайск, и надежды к спасению казалось никакой более не оставалось, как неожиданный случай вывел брата из сего положения. Когда до Бородинского сражения Александр состоял в ариергарде при Коновницыне, товарищем с ним находился квартирмейстерской части подпоручик Юнг, который пред сражением заболел и уехал в Можайск. Увидя подпись на воротах, он вошел в избу и нашел Михайлу, которого он прежде не знал; не менее того долг сослуживца вызвал его на помощь. Юнг отыскал подводу с проводником и, положив брата на телегу, отправил ее в Москву. К счастию случилось, что проводник был из деревни Лукино, князя Урусова. Крестьянин приложил все старание свое, чтобы облегчить положение знакомого ему барина, и довез его до 30-й версты, не доезжая Москвы.
Михайла просил везде надписывать его имя на избах, в которых он останавливался, дабы мы могли его найти. Александр его и нашел по этой надписи. Он тотчас поехал в Москву, достал там коляску, которую привез к Михайле, и, уложив его, продолжал путь. Приехав в Москву, он послал известить Пустрослева, который достал известного оператора Лемера; но когда сняли с него повязку, то увидели, что антонов огонь уже показался. Я приехал в Москву в то самое время, как рану снова растравляли.
Спустя несколько лет после сего Михайла приезжал в отпуск к отцу в деревню и отыскивал лукинского крестьянина, чтобы его наградить; но его не было в деревне: он с того времени не возвращался, и никакого слуха о нем не было; вероятно, что он погиб во время войны в числе многих ратников, не возвратившихся в дома свои. Я слышал от Михайлы, что в минуту, когда он, лежа на поле сражения, опомнился среди мертвых, он утешался мыслию о приобретенном праве оставить армию, размышляя, что если ему суждено умереть от раны, то и смерть сия предпочтительна тому, что он мог ожидать от усталости и изнеможения, ибо он давно уже перемогался. Труды его и переносимые нужды становились свыше сил. Если же ему предстояло выздоровление, то он все-таки предпочитал страдания от раны тем, которые он должен был чрез силы переносить по службе.[64] По сему можно судить о тогдашнем положении нашем! Мы с Александром были постарее Михайлы и от того могли лучше его переносить усталость и труды; но истощалось и наше терпение.
Приехав в Москву, я разделся, чего давно уже не удавалось мне сделать, и нашел себя в плохом положении. В Смоленске еще открылись у меня на ногах цинготные язвы. Хотя я их несколько раз сам перевязывал, но в Москве с трудом можно было отодрать присохшие бинты. Платье и белье были на мне совсем изорваны и покрыты насекомыми. Я переоделся и от того одного уже почувствовал облегчение. Однако денег у нас не было ни гроша, а надобно было отправить раненого брата в Нижний Новгород к отцу; надобно было ему достать в дорогу лекаря и снабдить кое-каким продовольствием. Я поехал к бывшему тогда в Москве полицеймейстеру Александру Александровичу Волкову, двоюродному брату отца. У него во всех комнатах лежали знакомые ему раненые гвардейские офицеры, за которыми он ухаживал. На просьбу взаймы денег он вынул бумажник и дал мне счесть, сколько их у него оставалось. Я нашел 120 рублей, и он мне отдал половину. С 60 рублями я возвратился домой. Александр со своей стороны также достал несколько денег, и мы отдали их Михайле.
Заложив оставшуюся в сарае коляску парой, мы отправили на ней раненого. За ним же ехала телега с поклажей, а за телегой шли оставшиеся дворовые люди: старики, бабы и ребятишки. Пустрослев также отправлялся в Нижний Новгород; он поехал вместе с братом и с ними известный врач того времени Мудров, который полюбил брата, лечил и спас его во второй раз от смерти. Александр проводил обоз сей верст 20 за Москву и там простился с Михайлой, не надеясь когда-либо с ним опять свидеться; потому что, когда сняли перевязку, то нашли, что антонов огонь вновь открылся. С тех пор я более ничего о нем не слышал до времени обратного занятия нами Вильны.
Дом князя Урусова оставался почти пустой. Мы пошли с Александром обыскивать его, дабы взять то, что возможно было с собою увезти. Старый лакей Колонтаев показал нам два запечатанных погреба, о коем мы еще в детстве слышали по рассказам, что князь Урусов, лет 40 тому назад, запасал в них хорошие вина, которые никогда не подавались к столу. Печати были сломаны, замок отбит, и мы водворились с фонарем и рюмкой для пробы вин, разрыли песок и нашли зарытые бутылки со старым венгерским и другими отличными винами и ликерами. Многого увезти нельзя было за недостатком места для укладки, и потому, выбрав бутылок двадцать, мы уложили их в ящик, чтобы с собой взять. Остальным вином угощали мы приезжавших к нам товарищей; но за всем тем, в два дня пребывания нашего в Москве, мы не извели и четвертой доли всего запаса. Затем один из погребов заложили камнем, а другие просто заперли. Французы расхитили один из них, другого же не нашли. Спустя несколько лет после войны, когда батюшка вступил во владение наследства, оставшегося от князя Урусова, он забыл о сем погребе. Когда же я к нему в отпуск приехал, то просил у него позволения заглянуть в знакомый мне погреб. Он мне подарил его, говоря, что в нем не могло ничего хорошего остаться. Много вин в нем оказалось попорченными; но оставалось еще до 50 бутылок хорошего вина, коим я долго угощал отца в его доме.
Во время пребывания нашего в Москве прибежал управитель суконной фабрики князя Урусова Василий Новиков. Он жил в селе Охлебихине, в 40 верстах от Москвы, и не ожидал французов, как вдруг пришел к нему неприятельский отряд и разграбил селение; Новикова же поколотили и разули. Он явился к нам босой и с перепугу рассказывал чудные вещи о французах. Переняв у них бранные речи, он как бы с ума рехнулся и не переставал объяснять разные подробности о французах, уверяя, что народ этот не умеет говорить, а только лепечет. От Новикова слышали мы также, что английское войско идет на выручку Москвы и что он даже сам видел английскую конницу. Посмеявшись рассказам его, мы, однако, рассудили, что главнокомандующий мог не знать о появлении неприятеля в той стороне, и потому я поспешил к Вистицкому с сим известием и нашел главную квартиру в Филях, что в шести верстах от Москвы.
Начальник мой, генерал Вистицкий, приказал мне лично о том объяснить главнокомандующему. Я пошел к Кутузову, который сидел в креслах среди комнаты, окруженный корпусными командирами. Полагаю, что у них тогда был военный совет, на коем судили о сдаче Москвы. Все говорили, один только Кутузов молчал. Когда я ему доложил, он мне отвечал только: «хорошо», и я возвратился. Видно, что ему уже известны были направления, по которым пошел отряд французов. Непростительно, однако же, Вистицкому, что он того не знал; но слабого и бестолкового старика сего ни до чего не допускали: он боялся даже сам подойти к главнокомандующему с докладом.
Я возвратился в Москву. Слух носился, что город будут защищать; приступили даже к деланию окопов для укрепленного лагеря. Главнокомандующим в Москве был тогда граф Ростопчин, который ежедневно издавал жителям прокламации в простых народных выражениях. Листы сии быстро распространялись по городу и всеми читались. Сими воззваниями Ростопчин сзывал народ, дабы, соединив толпы, идти против неприятеля. Он приказал отпереть арсенал и позволил всем входить в него, чтобы вооружаться. Город наполнялся вооруженными пьяными крестьянами и дворовыми людьми, которые более помышляли о грабеже, чем о защите столицы, стали разбивать кабаки и зажигать дома. Ростопчин старался поддержать сей беспорядок и без суда обвинил напрасно в измене купеческого сына Верещагина, которого приказал полицейским драгунам при себе изрубить палашами в виду всего народа, с шумом обступившего его дом. Говорили после, что Ростопчин пожертвовал этим молодым человеком для своего личного спасения.[65] По обвинению во всеуслышание Верещагина в измене и по нанесении ему первых ударов палашами, разъяренная толпа, схватив несчастного, изорвала его на части, тело же его оставили на улице непохороненным.
Верещагин был молодой человек с некоторым образованием. Он знал иностранные языки, и вся вина его состояла в том, что он, из французских ведомостей переведя одну реляцию о деле на русский язык, дал прочитать перевод свой приятелю. Ростопчину в общем мнении не простят сего поступка. Слышно также было, что он чувствует угрызения совести и что тень невинно умерщвленного часто представляется ему с упреками. Кроме небольшой части простого народа, никого в городе не оставалось. Дворянство все почти выехало. По каретам, в то время показывавшимся на улице, народ бросал каменьями. Цель Ростопчина была сжечь столицу, дабы неприятелю не достались запасы продовольствия, находившиеся в домах. Для вернейшего достижения сего выпустили арестантов из острогов и вывезли из Москвы пожарные трубы.
2 сентября войска наши обошли город чрез Воробьевы горы.[66] В ариергарде оставался Милорадович, которому приказано было заключить с неприятелем перемирие на 24 часа, дабы успеть вывезти раненых из столицы. Перемирие состоялось, но в госпиталях было до 25 000 больных и раненых, из коих часть сгорела в общем пожаре города. В Москве также оставалось еще много офицеров, которые заехали в свои дома. Некоторые из них, не ожидая столь скорого появления неприятеля, были захвачены в плен. В плен попался квартирмейстерской части подпоручик Василий Перовский 2-й. Он в то время выбирал из отцовского арсенала графа Разумовского ружья и кидал их в колодец. Французы внезапно схватили его при сем занятии и отослали с другими пленными во Францию.[67]
В этой партии пленных находился также Михайло Александрович фон Менгден, о котором я выше упоминал. Он лежал в Москве больной горячкой, в доме тетки своей Колошиной. Услышав об оставлении нами города, он велел себя вывезти, но едва доехал до Арбатских ворот, как неприятельский отряд настиг его и взял в плен. Фон Менгден впоследствии мне рассказывал, как французы с ними дурно обходились. Они убивали тех из пленных, которые от ран или болезни не могли далее идти, а с других снимали обувь и одежду, оставляя их босыми и почти нагими.
Я также попался бы в плен, если б не прискакал к нам в дом товарищ наш Лукаш с известием, что неприятель уже у Дорогомиловской заставы. Я поспешил с ним к заставе, чтобы о том увериться, и, услышав французские барабаны, поскакал домой, велел заложить телегу и отправился из города, взяв из дома князя Урусова старого, толстого и пьяного повара Евсея Никитича, который во весь поход до Вильны оставался при мне. Я поехал к заставе, в которую ариергард наш прошел, и прибыл к армии; то была, кажется, Владимирская застава. Дорогой я увидел лавку, в которую забрались человек десять солдат и грабили ее. Купец, подбежав ко мне, просил защитить его. Я слез с лошади и разогнал солдат; за одним из них, который унес какую-то добычу, я погнался и ударил его обнаженной саблей по плечу, так что он упал на землю. После я сожалел, что, вступившись в дело, помешал солдатам попользоваться у купца товаром, который достался же французам.
Мы никак не могли свыкнуться с мыслью, что оставляем Москву неприятелю, который будет обладать и распоряжаться в нашей древней святыне. С армией выехало из Москвы множество карет с семействами обывателей; бесконечный обоз этот остановился на первую ночь по большей части с главной квартирой и в окрестных селениях верст на 15 от города; на следующий же день укрывавшиеся от неприятеля семейства продолжали путь свой далее к востоку.
В Москве оставалось много наших мародеров. Во всех действующих войсках наших, по выступлению из столицы, состояло только 55 тысяч человек под ружьем. В том числе считался и небольшой отряд с Белорусским гусарским полком, посланный по Петербургской дороге под командой генерала Винценгероде к городу Клин, где ему назначалось, соединившись с Тверским ополчением, прикрывать г. Тверь. Французы недалеко подвинулись по сей дороге, и Винценгероде оставался в Клину во все время пребывания неприятеля в Москве.[68]
Наполеон думал, что сдача русской столицы совершится таким же порядком, как сдача Вены. Он ожидал у заставы депутацию с ключами города, но крайне удивился, когда увидел, что город уже в нескольких местах горит. Войска его вступили парадом по запустелым улицам Москвы и, подошедши к Кремлю, были встречены ружейными выстрелами из арсенала, куда забралась толпа пьяных, впрочем, скоро сдавшихся после нескольких пушечных выстрелов со стороны французов.
Скоро сделался взрыв пороховых погребов, и древняя столица наша под вечер вся запылала. Наполеон приказал тушить пожар и ловить зажигателей. Их до 200 человек повесили или расстреляли; но пожар от того не прекратился, и французские солдаты разбрелись по городу, грабили, разбивали винные погреба, перепились и, наконец, сами стали зажигать дома. Некоторые из жителей, в то время в городе оставшихся, уверяли меня ныне, что среди неприятельских войск происходил ужасный беспорядок: ни начальники их, ни солдаты не находили своих полков; все было пьяно и перемешано. Несколько из оставшихся обывателей города были убиты французами, женщины изнасилованы, церкви осквернены, образа поруганы. Французы вели себя при взятии Москвы как народ дикий и необразованный. В сущности, из таких людей и было большей частью составлено их многочисленное войско. Из всех добродетелей, знаменующих доблестного воина, они сохранили только храбрость. Наполеон остановился в Кремлевском дворце. Сильные караулы были поставлены у всех ворот, и русским был воспрещен вход в Кремль. Впоследствии и император французов, вытесненный из города пожаром, поместился в Петровском дворце, что в трех верстах от Москвы по Петербургской дороге.
Многие находят, что Кутузов должен был снова вступить со всеми силами в Москву 2 же сентября ночью, в том предположении, что он непременно истребил бы опьяненное войско неприятеля; но мне кажется, что такая мера была бы неосторожна, потому что войска наши неминуемо разбрелись бы, как и неприятель, для грабежа и пьянства, и армия наша вся бы исчезла, тогда как у неприятеля оставалось еще за городом по Смоленской дороге несколько корпусов, расположенных лагерем и в порядке.
Я выехал из Москвы после полудня и застал главную квартиру в большом селении, лежащем в 15 верстах от заставы. Оно было наполнено народом всякого рода, от чего происходила большая суматоха. Так как я приехал поздно и не знал куда явиться, то, сыскав товарищей, остановился у них. Потом я пошел к полковнику Эйхену 2-му (Федору Яковлевичу), чтобы осведомиться о происходившем, и узнал, что Вистицкий сменен, а на месте его исправляет должность генерал-квартирмейстера полковник Толь, к которому мне поэтому надобно явиться. Эйхен был приятный человек и хороший офицер, но он еще лучше мне показался, когда подпил немного моим старым венгерским вином, которого я ему две бутылки подарил.
В тот же вечер явился я к Толю. У него были собраны все наши офицеры, и он принял нас следующими словами:
– Господа, мне надобно теперь послать отличных офицеров в ариергард; движения войск наших будут требовать большой расторопности со стороны вашей. Господа Муравьев и Мессинг, вы назначены в ариергард к генералу Раевскому; отправляйтесь сейчас же и явитесь к нему; вы там найдете себе в товарищи подпоручика Юнга. Не сомневаюсь, что вы поддержите хорошее мнение, которое я о вас имею.
Судя по словам Толя, кажется, что фланговый марш около столицы уже был предположен. Ариергард стоял несколькими верстами ближе к Москве. Мы отправились туда и явились к генералу Раевскому; но как в тот вечер не предстояло нам занятий, то, по отыскании Юнга, мы расположились ночевать на дворе. Юнг был старый офицер, служивший еще в 1807 году; происхождения он был незнатного и воспитания не отличного, но простой и, может быть, добрый малый. Он был высокого мнения о себе и охотно рассказывал, как по службе обижен, жалуясь, что всего имел только Анненскую шпагу, причем рассчитывал вперед на четыре дела с неприятелем для получения четырех крестов, которые собирался расположить на груди своей симметрическим образом. Мы скоро заметили изъяны Юнга и прозвали его рыцарем симметрии и экилибра. Он был очень скуп и любил ездить на фуражировки для поживы на мызах, любил также отобедать или чаю напиться на чужой счет. Не миновал он затем насмешек от нас. Мессинг был тоже несколько лет в службе, но мало ею занимался; он был хороший товарищ, остроумен и большой повеса.
Юнг передал нам, что старшим офицером Генерального штаба назначили к нам в ариергард корпуса водяных сообщений капитана Гогиуса, что нам было неприятно. В ожидании в тот же вечер нового начальника своего, мы легли в солому, притаясь сонными, как вдруг приехал Гогиус, фигура небольшого роста, толстенькая и неблаговидной наружности. Не слезая с лошади, он закричал нам: «Господа!» Никто не отвечал. Гогиус несколько раз повторил свое восклицание, но мы захрапели. Наконец он слез с лошади, подошел к Юнгу и, разбудив его от притворного сна, объявил о своем назначении от имени Толя. Юнг спросил, есть ли у него на то предписание. Предписания не было, и Юнг снова захрапел. Гогиус, видя, что ему делать было нечего, стал вызывать нас шутками. Тогда мы приветствовали его и уложили с собою вместе. Он недолго у нас держался; его куда-то отправили; рассказывали, что он будто подозревался в деле о передаче известий неприятелю.[69] Он получил у нас прозвание Ориона по созвездию, коему уподоблялись три звездочки, которые он имел на эполетах, по форме установленной в корпусе водяных сообщений, где он числился.
В то время как я приехал в селение, где находился генерал Раевский, сделался в Москве взрыв порохового магазина. Треск был ужасный, и город, который уже в нескольких местах горел, почти весь запылал. Зрелище было грустное и вместе страшное. Мы никак не хотели верить, чтобы пламя пожирало Москву, и полагали, что горит какое-нибудь большое селение, лежащее между нами и столицей. Свет от сего пожара был такой яркий, что в 12 верстах от города, где мы находились, я ночью свободно читал какой-то газетный лист, который на дороге нашел.
3 сентября поутру мы увидали перед собою французский авангард. Так как мы терпели недостаток в съестных припасах, то я отправился с одним из наших слуг и казаком, чтобы запастись в большой барской усадьбе, видневшейся верстах в двух в стороне от дороги. Впоследствии узнал я, что дом этот принадлежит какому-то князю Голицыну. Дом еще не был разграблен, стены украшались великолепными картинами, и роскошная мебель во всех комнатах оставалась неприкосновенной; но во всем доме и дворе не было живой души, и я ничего не мог приобрести для продовольствия нашей артели. Вскоре после меня приехали на мызу башкиры и казаки, от которых я узнал, что войска наши отступают и что неприятель идет вперед по большой дороге. Поспешно сев на лошадь, я выехал за сад и увидел перед собою передовую цепь французов; пехоты же нашей уже не было. На большую дорогу можно было попасть, подавшись еще несколько вперед, чтобы объехать небольшое болото, и я поскакал по этому направлению, между тем как французские войска приближались. Но, достигнув оконечности болота, я круто поворотил налево, уже в близком от неприятеля расстоянии и достиг ариергарда нашего на большой дороге. Французы не поехали на меня, вероятно, потому что я сначала сам в их сторону скакал, отчего они могли принять меня за одного из своих.
На военном совете, собранном главнокомандующим, определено было обойти Москву фланговым маршем, дабы занять Калужскую дорогу и прикрыть южные губернии, откуда мы могли получать подкрепление и продовольствие. Между тем наши партизаны должны были занять все дороги, в особенности Можайскую, не допуская до Москвы неприятельских транспортов, шедших от Смоленска. Мы не были в силах выдержать сражения, и потому нам надобно было прибегать к иным средствам для изгнания неприятеля из столицы. Избегая генерального сражения, продолжая между тем военные действия и заняв Калужскую дорогу, мы могли собрать к зиме новую армию, изготовленную к зимнему походу, тогда как французам, ниоткуда не получавшим помощи, предстояли всякого рода нужды в сгоревшей столице и разграбленных окрестностях ее. Наступающие холода должны были способствовать к истреблению изнеможенного от недостатков неприятельского войска. Для приведения сего плана в действие требовалась большая тайна, особенно со стороны офицеров квартирмейстерской части, которым предстояло вести колонны проселками, и потому Толь, собрав наших офицеров, объяснил, по каким дорогам должно вести войска, и запретил нам объясняться по сему предмету с генералами, которых вели проселками и по дурным дорогам в неизвестном для них направлении.
Отступивши верст 30 от Москвы, армия наша своротила вправо, оставив на большой дороге незначительный отряд легкой конницы, дабы обмануть французов. В первый день мы отошли верст 30 в сторону. Непонятно, каким образом неприятель потерял нас из виду и нас на сем пути не беспокоил. Он мог бы нас на походе атаковать и нанести нам большой вред. Французские отряды, расположенные около Москвы по всем дорогам, иногда видели нас; бывали даже небольшие кавалерийские стычки; почему мы и опасались, что будем на походе атакованы всею неприятельской армией. Сего, однако же, не случилось, и французов увидели мы в силах только тогда, когда Калужская дорога была занята нами, и мы стояли уже на позиции под с. Тарутиным. Фланговый марш наш продолжался четыре дня по дуге круга, коего центром была Москва, а радиус имел около 30 верст.
Дым от пылавшей Москвы обратился в густое черное облако, которое носилось над нашими головами во все четыре дня похода. Казалось, как будто тень древней Москвы не оставляла нас и требовала мщения. Когда же мы заняли позицию, то тень сия исчезла: ветер разнес черное облако.
Раевский командовал ариергардом и имел стычку с неприятелем, помнится мне, под селением Панки, где с обеих сторон было сделано несколько пушечных выстрелов, перестрелку же поддерживали одни казаки. В этой стычке находился лейб-гвардии Драгунский полк, и тут встретился я с приятелем моим Николаем Петровичем Черкесовым, который определился в сей полк штандарт-юнкером.
Мы переправились чрез Москву-реку по понтонному мосту, послав во все стороны сильные разъезды; но неприятель нигде не показывался.
Перед переправой ариергард расположился ночью при селении, в котором остановился Раевский со своим штабом и где мы, офицеры квартирмейстерской части, заняв одну избу, также расположились на ночлег и уснули. Ночью селение это загорелось, о чем мы узнали чрез вбежавшего офицера, который нас разбудил. Увидев пламя, я вскочил впросонках и, думая, что все уже из избы выбрались, поспешил в конюшню, где взял свою верховую лошадь в повод и выехал второпях без верхнего платья, оставшегося в изголовье. Таким образом прошел я версты две за селение, где остановился. Шел дождь, и было холодно; войска, поднявшиеся с бивуака, проходили мимо меня; но, по темноте ночи, нельзя было никого различить. На зов мой подъехал офицер Ахтырского гусарского полка, граф Сиверс, которого я вовсе не знал и который, расспросив меня, дал мне свою шинель. Вскоре затем нагнали меня товарищи, которые благополучно выбрались из своей квартиры.
Мы пришли к городу Подольску, лежащему по Тульской дороге в 30 верстах от Москвы. Главная квартира остановилась в селении Кутузове. На другой день армия переправилась через реку Пахру и продолжала движение свое проселочными путями. Ариергард же, переправясь через реку, остановился версты три за рекой при селении, где простоял три дня. Несколько казачьих полков оставались с Харьковским и Казанским драгунскими полками за рекой перед Подольском. Между тем армия вышла на большую Калужскую дорогу и, отступив по оной еще верст 50, остановилась на позиции за селением Тарутиным.
За переправой чрез реку Пахру находилось село Дубровицы с усадьбой графа Мамонова, коего управитель Алексей, крепостной человек Катерины Федоровны Муравьевой, охотно угощал проезжих офицеров завтраками. Так как тогда не встретилось занятий, то нам позволено было на время отлучиться, и мы вполне воспользовались предложенным гостеприимством в Дубровицах, где порядочно отдохнули, т. е. спали покойно, хорошо обедали и ходили в баню, отчего больным ногам моим сделалось полегче.
Накануне выступления ариергарда в поход приехал в Дубровицы командир Харьковского драгунского полка полковник Дмитрий Михайлович Юзефович, с которым я тут познакомился и в течение войны несколько раз встречался, причем он оказывал мне некоторые услуги в нуждах, многими претерпеваемых в тогдашнее трудное время. Юзефович был человек умный и образованный; но говорили, что он любил пограбить. Он действительно составил себе на походе библиотеку, выбирая книги из библиотек, находимых на мызах и в усадьбах, оставленных по случаю войны владельцами. Французы различали два способа стяжания для военных, называя один способ voler,[70] что они признавали непозволительным, другой же faire suivre,[71] который они допускали.
Харьковский и Казанский драгунские полки, переправясь на нашу сторону реки, развели мост. Харьковский пошел далее, а Казанский, коим командовал какой-то майор, расположился в саду на бивуаках для наблюдения за неприятелем. Под вечер показались за рекой французские стрелки, с коими спешившиеся казанские драгуны завели через реку перестрелку, и у нас было человек 12 раненых.
Так как ариергарду назначено было на другой день выступить, чтобы присоединиться к армии, то я перешел на ночь в селение, где находился Раевский. На следующий день меня назначили состоять при генерале Илларионе Васильевиче Васильчикове, который командовал всей конницей ариергарда. Переход был до села Поливанова, где находился большой каменный дом и где мы остановились на ночлег. Сюда же приехал к нам с семьей знакомый дубровицкий управитель, коего казаки после нас совершенно ограбили. Генерал Васильчиков пользовался общим уважением. Он был известен храбростью своею и сохранял хладнокровие в деле с неприятелем. Обращение его с офицерами было всегда приветливое. Я тогда познакомился с его адъютантами, коих теперь забыл имена, кроме одного Баррюеля,[72] поручика Ахтырского гусарского полка, 13-ти или 14-летнего бойкого мальчика.
В селе Поливанове мы узнали, что за Бородинское сражение пожалованы Александр и я кавалерами ордена Св. Анны 3-й степени на шпагу; в тот же день Юнг случайно нашел на дороге ленточку Станислава польского ордена; мы ее разрезали и, поделившись, вдели в петлицы к шинелям, в которых ходили.
На другой день пришло известие, что неприятель показался. Полки, в ожидании его, выстроились; но никто не приходил, и мы пошли далее. Ночлег наш был при селении в пяти только верстах от Калужской большой дороги.
Васильчиков послал меня с двумя казаками верст за 15, чтобы разведать о неприятеле, но я встретил только наш разъезд и, приехав после полуночи к генералу, донес ему о виденном. Отправляясь в сию командировку, я отыскивал проводника, чтобы разведать от него об окрестных селениях и, увидев крестьянина, хотел взять его для расспроса, но крайне удивился, когда один из адъютантов подъехал к нему и стал с ним вежливо говорить. Крестьянин этот был известный партизан Фигнер, родной брат того, с которым я имел встречу в Петербурге в 1811 году по случаю пощечины, данной мною Михайлову в доме адмирала Мордвинова.
Фигнер служил в армейской артиллерии штабс-капитаном. Когда войска наши выступали из Москвы, Ермолов ехал мимо роты Фигнера, который, не будучи с ним знаком, остановил его и просил позволения ехать переодетым в Москву, чтобы убить Наполеона. По глазам Фигнера Ермолову казалось, что он похож на сумасшедшего (говорят, что Фигнер в самом деле был несколько помешан); но как он не отставал, то Ермолов приказал ему ехать с ним в главную квартиру и просил Кутузова позволить этому отчаянному человеку ехать в Москву, на что главнокомандующий согласился.
Фигнер, переодевшись крестьянином, отправился в Москву поджигать город и доставил главнокомандующему занимательные известия о неприятеле; в доказательство же, что он действительно был в Москве, показал паспорт, выданный ему французским начальством для свободного пропуска через заставу. В сем паспорте он был назван cultivateur (земледельцем).
Главнокомандующий, заметив деятельность и отважность Фигнера, поручил ему отряд, состоящий из 100 или 200 гусар и казаков. Фигнер, узнав, что из Москвы выступало шесть неприятельских орудий, скрыл отряд свой в лесах, где оставил его два или три дня; сам же, возвратившись в Москву, втерся проводником к полковнику, шедшему с орудиями, при коих было еще несколько фур и экипажей под небольшим прикрытием. Фигнер повел их мимо леса, в котором была засада и, подав условленный знак, поскакал к своим на французской лошади, данной ему полковником. Наша конница внезапно ударила на неприятельский обоз и все захватила в плен. Полковник сидел в то время в коляске и крайне удивился, увидев проводника своего предводителем отряда и объяснявшимся с ним на французском языке.
Ермолов, к коему доставили захваченных пленных и пушки с обозом, говорил мне, что полковник этот был умный и любезный человек, родом из Мекленбурга и старинный приятель земляка своего Бенингсена, с которым он в молодых летах вместе учился и которого он уже 30 лет не видел. Старые друзья обнялись, и пленный утешился. Случай сей доставил Фигнеру первую известность в армии. С тех пор он постоянно начальствовал отдельными отрядами и прославился в Европе своим партизанством.
В конце 1812 года появилось уже много партизан, но из них всех более отличался предприимчивостью своею и храбростью Фигнер. Он несколько раз бывал в неприятельском лагере, переодетый во французском мундире, и разведывал о положении неприятеля, о силах его и об отправлявшихся отрядах, на которые он по ночам нападал, чем причинял частые тревоги и большое беспокойство французам. Фигнер был до такой степени страшен неприятелю, что имя его служило пугалищем для их солдат, и голова его была оценена французами.
Фигнер, при всех достоинствах своих, был жестокосерд. Впоследствии времени он не отсылал более пленных в главную квартиру; говорили, что он, поставив пленных рядом, собственноручно расстреливал их из пистолета, начиная с одного фланга по очереди и не внимая просьбам тех из них, которые, будучи свидетелями смерти своих товарищей, умоляли его, чтобы он их прежде умертвил. Совершенно ли справедливо такое сказание, не знаю. Фигнера сколько-нибудь может в сем случае оправдывать то, что отряд его был малочислен, и потому ему нельзя было отделять от себя людей для провожания пленных и тем ослаблять себя. Во всяком случае, умерщвляя пленных, ему надобно было избегать жестокости. Поводом к ней, конечно, служило чувство мести за неистовства, чинимые французами в наших селениях и городах.
Фигнер погиб в Германии, переправившись за Эльбу с небольшим отрядом, где он был атакован многочисленной неприятельской конницей. Он долго держался; но, потеряв много людей, ему не оставалось другого спасения, как броситься в реку, чтоб переплыть ее; лошадь уже вывозила его на правый берег, когда один из его гусар, выбившись в воде из сил, схватил Фигнерову лошадь за хвост, сам утонул и утопил своего начальника.
Около того времени, как мы вышли на большую Калужскую дорогу, Милорадович был назначен для командования ариергардом, который состоял из двух корпусов пехоты, составлявших вместе едва 9 тысяч человек. Конницы было много, и Васильчиков оставался начальником оной. В числе ариергардных начальников находился командир драгунской дивизии и шеф Псковского драгунского полка генерал Корф. Одной из бригад сей дивизии командовал генерал-майор Панчулидзев, вместе и шеф Черниговского драгунского полка.
Милорадович пользовался славой храброго генерала, но я не имел повода в том удостовериться. Иные полагали его даже искусным полководцем, но кто знал лично бестолкового генерала сего, то, верно, имел иное мнение о его достоинствах. Корф был человек умный и добрый, но слабый, нерешительный и не принадлежал к разряду отважнейших. Он более всего предпочитал хорошую квартиру и любил напиться спокойно кофе, иногда оставлял войско свое и удалялся на сторону в селения для удобного ночлега. Милорадович же довел сей последний обычай до совершенства, ибо ему часто случалось отлучаться на целые сутки, так что войска не знали, где его отыскивать для получения приказаний и куда им идти.
Окружал же он себя множеством адъютантов и военными чиновниками, большей частью людьми праздными, частью и пошлыми. Панчулидзев также имел славу храброго человека, но в то время он в делах не поддержал этого имени.
Легкая гвардейская кавалерийская дивизия находилась также в ариергарде; ею командовал генерал-майор Антон Степанович Чаликов, большой крикун и шут, старый генерал, добрый человек и в иных отношениях, может быть, и хороший. Юзефович над всеми сими генералами имел преимущество как по уму своему, так и по образованию, и потому они его опасались и дичились.
Начальниками в полках Донского войска были: генерал-майор Николай Васильевич Иловайский (которого хвалили, но я его знал только по его хлебосольству) и генерал-майор Еким Екимович Карпов. Был еще из калмыков полковник Василий Алексеевич Сысоев, человек храбрый, умный, проворный и опытный, ныне служит генерал-майором и командует донским войском в Грузии.
Матвея Ивановича Платова в то время в армии не было: он впал в немилость у государя за поведение его в Бородинском сражении и уехал на Дон, где собирал по высочайшему повелению поголовное ополчение.
В то время как мы стояли под Тарутиным, пришло к армии 30 донских полков, составленных из стариков, выслуживших узаконенные лета. Не менее того казаки эти были отличные; они говорили, что пришли выручать своих внучат, которые воевать не умеют. И в самом деле, в донских полках доводилось иногда деду встречаться с сыном и внуком. Присылкой сего ополчения Платов оправдался во мнении государя и перед всей Россией.
По прибытии ариергарда под начальством Милорадовича на большую Калужскую дорогу он несколько отступил по оной и остановился при селении Красной Пахре. Милорадович и Васильчиков остановились в большом каменном доме подле селения. Первый по обыкновению своему разделся и лег спать, как неожиданно вбежал к нему адъютант с докладом, что, прохаживаясь по саду, он видел за оградой неприятельскую колонну. Милорадович в испуге вскочил и бегал по комнатам без штанов в колпаке. Васильчиков же сел верхом и поспешил в лагерь, где я с адъютантом его Баррюелем нагнал его. Он сам скакал по полкам, повторяя, чтобы скорее мундштучили и садились на коней.
Лейб-гвардии Гусарский полк поспел прежде всех, построился в колонну и поскакал за нами с обнаженными саблями, но в беспорядке. Мы уже далеко были впереди, когда гусары нагнали нас. Видно было французскую небольшую пехотную колонну, которая, заметив нас, построилась в каре, но мы продолжали скакать к ней по срубленному лесу между торчащими пнями. В правой стороне был у нас высокий кустарник, который тянулся до неприятельского каре; в левой же – роща, которая могла скрывать от нас силы французов. Колонна, не надеясь устоять против нас, повернула в кустарник, где расположилась по опушке в густом развернутом строе. Нам невозможно было с гусарами атаковать французов в лесу, и потому мы промчались мимо их пехоты, направляясь к неприятельской коннице, показавшейся несколько подалее того места, где сначала стояло каре. Таким образом выдержали мы шагах в пятидесяти от опушки кустарника сильный ружейный огонь, по быстроте движения нашего не продолжавшийся, впрочем, более двух или трех минут. Мы проскакали в таком близком расстоянии от неприятельской пехоты, что можно было почти различать людей в лицо. Однако же французы, по-видимому, оторопели; потому что от множества их выстрелов было ранено у нас только два гусара, остальные же пули просвистали мимо наших ушей.
Едва стали мы приближаться к неприятельской коннице, как она внезапно повернула назад и ускакала; облако пыли показывало нам, в которую сторону она неслась; но вскоре явилось за ним другое облако пыли, преследовавшее первое: то были лейб-уланы, которые объехали рощу, налево от нас находившуюся, и, увидев неприятельскую конницу, ударили на нее, нагнали и привели человек десять пленных. Зрелище было великолепное. Васильчиков остановил гусар и с кем-то разговаривал, когда два неожиданных пушечных выстрела принесли одно вслед за другим два ядра, которые пали рикошетом перед самой лошадью генерала. Мы вглядывались вдаль, но не было видно ни орудий, ни конницы, ни пехоты неприятельских; все исчезло, и тем кончилось дело. Подоспевшая между тем пехота наша пошла в лес, но никого уже там не застала. Милорадович приехал тогда, как уже все было кончено. Во все время, пока мы скакали мимо опушки под огнем неприятельским, Васильчиков был замечательно хладнокровен. Он ехал галопом, не обнажив сабли и, оглядываясь, кричал гусарам:
– Легче, легче, равняйтесь, гусары!
С сего дня я к нему возымел особое уважение.
В тот же вечер мы отступили к селению Чирикову, где расположились лагерем и простояли один день, остерегаясь, чтобы французы не отрезали нас от армии, которая находилась уже в Тарутине. На следующий день неприятель показался в значительных силах. Наполеон, узнавши об обходном движении нашей армии, послал из Москвы по Калужской дороге сильный авангард под командой короля Неаполитанского.
Мне неизвестно, по каким причинам Васильчиков в это время сдал начальство над ариергардной конницей донскому генералу графу Орлову-Денисову. Орлов-Денисов был храбр, но, говорили, недальний человек и любил выпить. Он не занял квартиры, но расположился в чистом поле у огня. Свита его состояла из гвардейских донских и черноморских казаков, коих было около восьми человек. Мы явились к нему; он принял нас ласково, посадил и предложил пить водку. Тут съехалось несколько казачьих полковых командиров, и все, по донскому обыкновению, тотчас принялись вместе со своим графом за водку. К вечеру Орлов перенес ночлег свой вперед к самым форпостам, где велел построить себе на большой дороге шалаш и развести огонь. Я оставался на квартире в Чирикове и славно отужинал у Юзефовича.
Поутру мы услышали частую канонаду на оконечности нашего правого фланга. Полагая, что там находится граф, я поехал по направлению, откуда слышал выстрелы, но нашел только шефа Нежинского драгунского полка генерал-майора Сиверса, который, будучи на том фланге старшим, должен был распоряжаться войсками.[73] Он так растерялся от неожиданного нападения, что скакал во все стороны как сумасшедший и не мог от перепуга двух слов сряду сказать. Однако артиллерия наша и пехота стали отстреливаться, и завязалось дело. Сиверс ловил всех проезжих, чтобы расспросить их, где граф; таким образом, он и меня поймал и хотел куда-то послать; но, видя его слишком оторопевшим и, казалось, даже пьяным, я уехал к большой дороге на левый фланг, где надеялся найти графа Орлова-Денисова и где также завязалось дело. Об этом Сиверсе носились дурные слухи: говорили, что он трус и, действительно, пьяница.
Подъезжая к большой дороге, я увидел, что французская конница атакует нашу артиллерию, почему мне нельзя уже было попасть на большую дорогу. Между тем слышно было, что выстрелы на нашем правом фланге стали также назад подаваться. Я был почти отрезан от своих, и мне оставалось только пробираться лесом. Со мною был казак, и я увидел другого, который прокрадывался по кустам, то нагибаясь, то вставая на стремена, чтобы на стороны оглядеться. Мы были так близко к неприятелю, что нельзя было подавать голоса. По данному знаку казак ко мне подъехал, и мы втроем пустились лесом, но подвигались медленно, потому что лес был очень густой. Хотя мы ехали назад, но выстрелы, судя по слуху, опередили нас, и я опасался застать неприятельскую пехоту в лесу, которого, к счастью, французы еще не заняли. После некоторого времени передовой казак вдруг остановился.
– Ваше благородие, французы, – сказал он.
Из-за куста, действительно, виднелся кивер и приложенное на нас ружье; но я скоро узнал, что то был наш егерь, и закричал ему, чтобы он не стрелял. Егерь остановил ружье, и, проехав через нашу цепь стрелков, я скоро выехал из леса, где нашел ариергардную пехоту нашу под командой Милорадовича, который находился очень далеко от выстрелов. Выехав, наконец, на большую дорогу, я поворотил направо и нашел графа Орлова с конницей, удерживавшего натиск неприятеля.
Одна неприятельская батарея вредила нашей коннице. Милорадович хотел ознаменовать свое появление в деле овладением орудиями. Каким-то глупым, гнусливым и осиплым голосом приказал он одному эскадрону Литовского уланского полка скакать через лес и взять неприятельскую батарею; но эскадрон этот состоял только из 30 человек, чего Милорадович не предвидел, и потому, увидев горсть всадников, тронувшуюся в лес для овладения орудиями, он приказал всему полку атаковать. Полк пустился, но в нем не было больше 200 человек. Тогда Милорадович приказал еще казачьему полку за ними следовать, и сия конница поскакала в беспорядке на батарею чрез лес, дабы захватить ее неожиданным образом с фланга.
Милорадович никак не полагал, чтобы неприятель догадался занять лес стрелками для защиты своей артиллерии от внезапного нападения. Он послал меня нагнать конницу и донести ему об успехе. Мы уже из леса выезжали, некоторые из людей наших были уже у самой батареи; мы видели Елисаветградский гусарский полк, который несся с фронта на батарею, как он вдруг остановился. Причиной тому была многочисленная неприятельская конница, показавшаяся в поле для защиты своих орудий. Литовские уланы хотели опрокинуть эту конницу. Все офицеры выехали из леса и сзывали улан своих, но никто не трогался. Уланы остались рассыпанными по лесу, смотрели на французскую конницу и кричали: «ура!», но вперед не подвигались. Ни побои, ни слова, ни понуждения, ни удары, ничего не помогло; как вдруг появившиеся сбоку неприятельские стрелки осыпали нас в лесу пулями и перебили много людей. В лесу против пехоты нечего было делать. Все кричали и, шпоря лошадей, удерживали их поводьями. Между тем французы свезли свою батарею. Я возвратился к Милорадовичу и донес ему о происшедшем. Казалось, что он уже забыл о том, что послал атаковать орудия, и ничего не приказал. Литовцы сами возвратились с уроном.
Становилось поздно, мы не уступали места, хотя силы наши были гораздо слабее неприятельских. Целый день шел дождь; люди и лошади утомились. Едва стало смеркаться, как появившиеся на высотах французские фланкеры предвещали нам приближение свежих войск на подкрепление к неприятелю. Выехала новая батарея, которая сыпала на нас картечью; но Милорадовича тут уже давно не было, граф Орлов был пьян.
– За мной! – закричал он, подернув усом.
За ним было человек шесть лейб-казачьих ординарцев, брат и я; мы пустились с обнаженными саблями за Орловым. Французские фланкеры испугались и бежали; мы их несколько преследовали, но остановились, когда увидали перед собою массу пехоты. Постояв немного под сыпавшейся на нас картечью, мы отступили шагом, не потеряв ни одного человека.
Ночь прекратила дело под Чириковым, в котором мы потеряли, как говорили, до трех тысяч человек ранеными и убитыми. Граф Орлов забрался к самым передовым постам, где сел у огня и задремал, нас же послал сделать рекогносцировку неприятельских ведетов.[74] По возвращении мы легли в грязь подле огня, привязав лошадей к шарфу. Дождь шел во всю ночь. Французы изредка пускали ядра по нашему огню; но мы так утомились, что, несмотря на это, уснули.
На другой день поутру, продолжая отступать к Тарутину, мы проходили через село Вороново, принадлежащее Ростопчину, который велел сжечь свой дом и селение, чтобы неприятель ими не воспользовался. Под Вороновым было тоже сильное ариергардное дело, в котором мне довелось только мало участвовать.
Вскоре после того графа Орлова-Денисова сменили в командовании ариергардной кавалерией и начальником оной сделали генерал-майора Корфа, человека толстого, как говорили, умного, доброго, но совсем не военного и застенчивого в огне. Мы к нему явились. При нем состоял квартирмейстерской части капитан Шуберт, умный и ученый, но гордый, неприятный человек и в полной мере немец. Он сначала хотел забрать нас в свою команду, но мы ему не сдались и находились без посреднического начальства лично при Корфе. Мы обрадовались, встретив тут дядю своего, генерал-майора Николая Александровича Саблукова,[75] который, снова вступив в службу из отставки, состоял при Корфе без всякой прямой должности. Приятно было увидеть человека, близкого нам по родственным связям и по сердцу своему всегда готового на всякую помощь.
Ариергард расположился в четырех или шести верстах не доходя села Тарутина, при котором вся армия стояла уже на позиции.
Неприятель показался и атаковал наш ариергард, коего все войска были в действии, причем произошло жаркое дело. Конница наша несколько раз ходила в атаку, и мы ни на шаг назад не подались. В сем сражении под селением Гремячевым (называемом также Корсаковым) мы потеряли, может быть, до 3 тысяч человек. Французы атаковали нас так настойчиво потому, что не знали о нашем намерении остановиться со всеми силами на Калужской дороге и упорно защищаться на избранной при селе Тарутине позиции. Так как у Неаполитанского короля был только авангард, то он не решился атаковать нас на другой день и расположился в виду нашем за оврагом. Войска наши также остались на своем месте, посылая сильные разъезды во все стороны и расставив около себя частые казачьи посты. Корф занял свою квартиру в селе Тарутине.
Обширное село Тарутино лежит при реке Наре и принадлежит князю Голицыну. В этом селе расположилась сперва главная квартира; когда же ариергард наш к оному подошел, то Кутузов перевел свою квартиру в деревню Леташевку, лежащую верстах в двух или трех подалее на большой же Калужской дороге; но как селение сие было недостаточно для помещения главной квартиры, то заняли еще другое селение, тоже Леташевку, лежащее на версту в стороне от большой дороги. Там была большая мыза, на которой стояли генерал Ермолов и многие другие. Позади Тарутина были высоты, на которых армия наша расположилась в несколько линий. Впоследствии времени тяжелую конницу поставили на тесных квартирах по окрестным селениям. Хотя позиция наша была выгодная, но мы не могли бы удержать ее против всех французских сил, потому что полки наши были очень слабы…
Французский генерал, приезжавший для переговоров о перемирии, выставлял Кутузову выгоды, которые могли произойти для России от заключения мира.[76] Кутузов прикинулся слабым, дряхлым стариком. Говорят, что он даже плакал.
– Видите, – сказал он посланному, – мои слезы; донесите о том императору вашему. Скажите ему, что мое желание согласно с желанием всей России. Всего ожидаю от милости Наполеона и надеюсь ему быть обязанным спокойствием несчастного моего отечества…
Предположения о мирных условиях были посланы в Петербург с курьером, но курьеру приказано было попасться в руки неприятелю, и Наполеон уверился в мирных расположениях Кутузова. Между тем через Ярославль был послан другой курьер к государю с просьбой не соглашаться ни на какие условия.
Французы стояли перед нами в бездействии и ожидали ежедневно ответа о мире. Между тем Кутузов мало показывался, много спал и ничем не занимался. Никто не знал причины нашего бездействия; носились слухи о мире, и в армии был всеобщий ропот против главнокомандующего.
Во время сего бездействия, продолжавшегося целый месяц, французы потеряли значительное количество людей на фуражировках. Партизаны наши присылали много пленных; других ловили крестьяне, которые вооружились и толпами нападали на неприятельских фуражиров. Не проходило дня, чтобы их сотнями не приводили в главную квартиру. Поселяне не просили себе другой награды, как ружей и пороху, что им и выдавали из числа взятого ими неприятельского оружия. В иных селениях крестьяне составляли сами ополчение и подчинялись раненым солдатам, которых подымали с поля сражения. Они устроили между собой и конницу, выставляли аванпосты, посылали разъезды, учреждали условленные знаки для тревоги. После таких мер в неприятельской армии оказалась большая нужда в продовольствии.
Французы стали употреблять в пищу своих лошадей; те же, которые оставались, были так слабы что, когда казаки подъезжали к их передовой цепи, то неприятельские всадники, занимавшие форпосты, спрыгивали с седла и бежали назад, оставляя лошадей на месте неподвижными. От недостатков проявились у них между людьми заразительные болезни. Французские мародеры приходили даже в Тверскую губернию и там были побиваемы крестьянами, которые, как тогда рассказывали, остервенились до такой степени, что прикалывали своих собственных слабых и раненых товарищей, дабы не затруднять себя ими или чтобы они не попались живыми в руки неприятелю. Некоторым из крестьян выдавались Георгиевские кресты. Всего более отличались поселяне Ельнинского и Юхновского уездов Смоленской губернии, которые под начальством капитана-исправника причинили много вреда неприятелю.[77]
В числе партизан были, кроме Фигнера, Дорохов и Михайла Орлов. Первый из них с Лейб-драгунским полком разбил наголову французских гвардейских драгун и на большой Можайской дороге захватил неприятельские обозы, шедшие в Москву. Михайла Орлов был послан с маленьким отрядом к Верее, которую он взял приступом, за что получил Георгиевский крест и был произведен из поручиков прямо в ротмистры.[78]
Пока неприятель, таким образом, изнемогал, наша армия поправлялась. Продовольствие у нас было хорошее. Розданы были людям полушубки, пожертвованные для нижних чинов из разных внутренних губерний, так что мы не опасались зимней кампании. Конница наша была исправна. Каждый день приходило из Калуги для пополнения убыли в полках по 500, по 1000 и даже по 2000 человек, большей частью рекрут. Войска наши отдохнули и несколько укомплектовались, так что при выступлении из Тарутинского лагеря у нас было под ружьем 90 000 регулярного войска. Численностью, однако же, мы были еще гораздо слабее французов, и нам нельзя было рисковать генеральным сражением; но можно было надеяться на успехи зимней кампании в холода и морозы, которых неприятель не мог выдержать.
Тарутинский лагерь наш похож был на обширное местечко. Шалаши выстроены были хорошие, и много из них обратились в землянки. У иных офицеров стояли даже избы в лагере; но от сего пострадало село Тарутино, которое все почти разобрали на постройки и топливо. На реке завелись бани, по лагерю ходили сбитенщики, приехавшие из Калуги, а на большой дороге был базар, где постоянно собиралось до тысячи человек нижних чинов, которые продавали сапоги и разные вещи своего изделия. Лагерь был очень оживлен. По вечерам во всех концах слышны были музыка и песенники, которые умолкали только с пробитием зари. Ночью обширный стан наш освещался множеством бивуачных огней, как бы звезд, отражающихся в пространном озере.
Под Тарутиным расстреляли несколько солдат наших, пойманных на воровстве; говорили, и одного офицера, который от самой Вильны шел с отрядом мародеров, собравшихся из разных полков. Он дошел таким образом до Тарутина, пробираясь стороной и проселками, помимо большой дороги, и на пути своем ограблял помещиков и крестьян. Говорили также, что будут расстреливать офицера лейб-гвардии Литовского полка по имени Сиона. Отец его француз и занимает какое-то место в пажеском или кадетском корпусе. Сын будто изобличен был в передаче известий неприятелю. Не знаю обстоятельно этого дела, о котором много и долго говорили. Потом сказывали, что Сион исчез, а гораздо позже, что он был прощен. Другие же говорили, что Сион вовсе не был изменником. До того времени бывали частые пожары в нашем лагере и окрестных селениях, и слух носился, будто этими знаками передавались вести неприятелю.
К нам в авангард командировали квартирмейстерской части прапорщика или подпоручика Льва Алексеевича Перовского 1-го,[79] побочного сына графа Алексея Кирилловича Разумовского, бывшего ученика моего в училище в Петербурге; человек умный и со сведениями, но неприятный в обхождении.
В службе квартирмейстерских офицеров ариергарда происходила неурядица. Нас было пятеро и без начальника, почему прислали к нам полковника квартирмейстерской части Павла Петровича Черкасова. Наружность сего человека умная и порядочная чертами лица: он был похож на изображения Фемистокла. Первые приемы его были приятные, и разговор занимательный; но, по ближайшем знакомстве с ним, он оказывался низких и подлых свойств, злым, скупым, пьяным, бестолковым педантом и трусом. Не менее того пороки и недостатки сего человека не лишили его расположения Милорадовича, который, по глупости и необразованности своей, легко привязывался к пресмыкающейся перед ним личности. Черкасов оставался во время всего похода при Милорадовиче, который любил и отличал его, тогда как Раевский и Ермолов, видевшие его пьяным или уклоняющимся от ядер, бесщадно бранили его. Черкасов был прежде преподавателем в кадетском корпусе. Нельзя сказать, чтобы он не имел познаний; но, дослужившись до чина полковника, он был без всякой опытности и не умел обращаться с благородными офицерами. Как его мало знали, то он сначала понравился нам, и мы были рады ему; но когда начались военные действия, то он весь обнаружился. Презрение было первое чувство, которое он к себе вселил трусостью; впоследствии он совершенно растерялся и, казалось, даже несколько в уме помешался.
Главнокомандующий, находя, что уже настало время действовать, решился атаковать врасплох стоявший перед нами французский авангард под командой неаполитанского короля. Предварительно посланы были офицеры квартирмейстерской части лесами и проселочными дорогами для обозрения местоположения в тылу неприятеля, что исполнили сам Толь с поручиком Траскиным и прапорщиком Глазовым. Обстоятельно ознакомившись с путями, они повели ночью две колонны под командой Багговута и Бенингсена лесами. Нападение сие хранилось в большой тайне, и потому запрещено было во время движения говорить, курить трубку, стучать ружьями. К рассвету колонны должны были стянуться у опушки леса, к которому примыкал неприятельский левый фланг. По оплошности французов, не занимавших опушки леса, наши войска остановились в близком от них расстоянии. Милорадовичу приказано было выстроить авангард впереди Тарутина, не атакуя неприятеля, а с тем единственно, чтобы отвлечь внимание его. Гвардия, выступив из своего лагеря, стала в резерве.
На рассвете Бенингсен дал пушечным выстрелом сигнал атаковать левый фланг пребывавшего еще во сне неприятеля. Французы были раздеты. Пока они одевались, Бенингсен и Багговут открыли сильную канонаду по неприятелю и, выступив с пехотой из леса, захватили 20 орудий, которые стояли на позиции. Французы, несколько оправившись, отступили своим левым флангом и устроили сильную батарею против корпуса Багговута; но она была скоро сбита, причем Багговут убит ядром. Между тем правый фланг неприятеля тронулся, чтобы атаковать Милорадовича, но был отражен несколькими картечными выстрелами. Пока сие происходило, мы увидели в тылу французов Орлова-Денисова, атакующего их казаками. Атака была блистательная: казаки опрокинули неприятельских кирасир и причинили значительный урон им. Французы стали отступать бегом; мы их сильно преследовали верст десять, и, наконец, они исчезли, потеряв большое число орудий и много людей убитыми, в числе последних и генерала Ферье.[80]
Войска наши возвратились в Тарутинский лагерь с песнями и музыкой. Аванпосты наши остались на том месте, где неприятель скрылся, Милорадович снова занял свою квартиру в селении Тарутине. Сражение сие получило название по речке Чернышке, на которой оно происходило; называют его также Тарутинским.
После этого дела наши гвардейские офицеры пустили насчет Наполеона красное словцо, будто он, выступая из Москвы, сказал о Кутузове: «Ta routine m’a dérouté».[81]
Сражение при реке Чернышке происходило 6 октября, кажется, не в самый ли день взятия Полоцка графом Витгенштейном.[82] В этот день, когда авангардные войска становились на позицию, Черкасову следовало с нами ехать в поле; но так как он за нами не посылал, то мы сами пошли к нему и сказали, что Милорадович садится на лошадь и что пора ехать. Черкасов совсем растерялся. Он бегал по комнате и хватался то за одну вещь, то за другую, вдруг останавливался и прислушивался.
– Господа, – говорил он, – слышите ли вы? выстрелы? а? а? точно, выстрелы и неприятельские.
– Пойдемте, Павел Петрович, – повторили мы ему.
– Сейчас, господа, сию минуту, дайте только собраться; а ты казак, мошенник, мне дурно лошадь оседлал, переседлай ее; не так, не хорошо, сызнова переседлай, перемундштучь Лыску.
Мы внутренне смеялись над ним, тем более что он еще был пьян. По настоятельной просьбе нашей он, наконец, сел верхом, шатался на лошади и всю дорогу бредил; то он к нам приставал, зачем у каждого из нас нет карандаша с бумагой, говоря, что должность нашего офицера во время сражения состоит в том, чтобы рисовать движения войск; он даже хотел нас назад послать, но был уже в таком положении, что не говорил, а лепетал, и мы, понемногу отставая от него, отыскали Милорадовича, при коем и остались; Черкасов же исчез и все время сражения неизвестно где и как время проводил. Для нас стыдно было иметь подобного начальника, которого и посторонние видели в нетрезвом положении. Не менее того, Черкасов был избранником Милорадовича, и по нему можно было судить об избравшем его.
С начала дела я находился при Милорадовиче; через нас перелетело только несколько ядер. Видя, что авангард наш в дело не вступает, я отправился с Перовским вперед для отыскания происшествий, более занимательных. Мы далеко проникли и попались однажды под ружейные выстрелы. В одном месте застали французский фургон и, разбирая его, нашли в нем несколько книг, которые взяли с собой. Мы возвратились ввечеру в то время, как Милорадович вступал с войсками в свой прежний лагерь. На пути видел я тело генерала Ферье, которого французы впоследствии себе выпросили для отдания почести. В ужасном положении был неприятельский лагерь, через который мы ехали. Кроме множества убитых людей, повсюду лежали зарезанные лошади, которыми французы питались. На квартире, занимавшейся неаполитанским королем, я видел ободранную кошку, вероятно, готовившуюся к столу. Везде фургоны, нагруженные вывезенным из Москвы имуществом, оставленные на пути и разграбленные казаками, которые разметали часть вещей по полю. Осталось также много колясок и карет, которыми поживились в Москве начальники французских войск. На поле сражения лежало также несколько убитых женщин; одну из них видел я пораженной пулей в глаз; подле нее лежал раненый поляк. Он был без памяти, но бился и громким голосом ревел.
В сражении под Тарутиным Псковский драгунский полк, опрокинув французских латников, надел неприятельские кирасы, в коих и продолжал бой. В уважение подвигов псковских драгун государь назвал их кирасирами, и они сохранили также во всю войну приобретенные ими французские желтые и белые латы.
Во время дела встретил я одного драгуна, который гнал пред собою русского, сильно порубленного. Раненый кричал и просил пощады от драгуна, но тот не переставал толкать его лошадью и подгонять палашом. Пленный этот был родной брат драгуна, ходил по воле в Москве и вступил в услужение к одному французскому офицеру, за что и не щадил его родной брат, который, после строгого обхождения с ним, отдал его в число военнопленных, собираемых в главную квартиру. Подобие римских нравов!
Между ужасами, виденными мною на поле сражения, я был свидетелем одной зверской сцены, от которой чувство человеческое содрогается. Проезжая по тому месту, где лежали французские кирасиры, я остановился по жалобным воплям одного из них и увидел рослого и стройного латника, лежащего на спине; бок у него был вырван, как бы полуядром, но он был еще в памяти и, мотая руками, вскликивал:
– O Jésus, Marie![83]
Два драгуна, заметив на нем хорошие сапоги, слезли с лошадей, и один из них стал тащить с него обувь, но так как сапог с ноги не подавался, то другой наступил ногой лежащему на живот и выдавил ему внутренность из раны. Француз ревел, но удерживавший его ногой драгун смеялся и ругал его, а другой стащил сапоги; и оба уехали, высматривая, не будет ли еще добычи около других убитых и раненых.
В другой раз был я свидетелем случая, более утешительного в пользу человечества в такую эпоху, когда всякое сострадание к себе подобным, казалось, исчезло среди наших воинов, разъяренных бедствием отчизны, пожаром Москвы и неистовствами, совершавшимися французами. В предположении, что в лесу, через который отступала французская пехота, могли остаться какие-нибудь заблудившиеся стрелки, Милорадович послал эскадрон драгун для отыскания их. Нашли одного польского егеря, которого драгун хотел вести в Тарутино; но повстречавшийся с ним адъютант Милорадовича или офицер из числа состоявших при нем ординарцев приказал ему убить поляка, чтоб скорее возвратиться к своему полку. Драгун отвел поляка в сторону и, приставив ему палаш к горлу, собирался заколоть его, но не мог решиться и, отведя палаш, стал смотреть пристально на поляка, который, не произнося ни слова, как бы с равнодушием ожидал неизбежной смерти.
– Экой проклятый, – говорил драгун, – не сдается. – Опять приставил палаш к горлу и опять принял его назад, говоря: – Нет, мне видно не убить его.
Драгун крикнул проезжавшего мимо казака:
– Господин казак, – сказал он ему, – убейте поляка; мне велено, да рука не подымается.
Казак хотел показать себя молодцом.
– Кого? – спросил он. – Эту собаку заколоть? Сейчас.
Отъехав шагов на 15, он приложился на поляка дротиком и поскакал на него. Поляк не двигался; казак же, подскакав к своей жертве, поднял пику и, сознавшись, что ему не убить осужденного на смерть, поскакал далее. Затем драгун, разругав пленного, погнал его в Тарутино.
В сем сражении ранили квартирмейстерской части капитана Данилевского, который нечаянным образом наткнулся на пулю; говорили, что у него самого никогда духу не достало бы сунуться в огонь. Данилевский был офицер с некоторыми сведениями, но человек низкой души. Он умел вкрасться в доверенность к князю Волконскому, начав военную службу штабс-капитаном, теперь же полковник Гвардейского генерального штаба и флигель-адъютант. Обхождение он имел неприятное и сделал много неудовольствий офицерам, которые служили под его начальством. Вся его военная служба состояла в письменных занятиях, ему, впрочем, довольно известных.
Из знакомых моих погиб в этот день гвардейской артиллерии поручик Безобразов, большой повеса, но добрый малый. Он накануне прибыл в армию и, не явившись еще в бригаду, поскакал по своей охоте в дело, где был исколот казаками, которые ошибочно приняли его за француза. Безобразова на другой день нашли и привезли; ни одна рана его не была смертельна, но их было так много, что он их не перенес.
Мы еще дня два или три простояли в Тарутине, стараясь открыть неприятеля, который совершенно исчез. В это время приехал в армию какой-то князь Хованский, который, будучи знаком с Милорадовичем, остановился в Тарутине. Милорадович, желая похвастать Тарутинским сражением, в выигрыше коего он почти не был участником, пригласил Хованского объехать поле битвы и по этому случаю приказал всем офицерам своего штаба следовать за ним одетыми в полной форме. Милорадович поехал на то место, где опрокинули французских кирасир; их тут множество лежало. Михайло Андреевич разъезжал по раненым и убитым и хвастался победой пред Хованским, объясняясь плохим французским наречием и переводя сам неудачные объяснения свои на русский язык.
Спускаясь в овраг, мы услышали жалостный стон в стороне; подъехав, увидели человека совершенно голого, лежащего на спине. Лицо его было так обагрено запекшейся кровью, что нельзя было различить ни одной черты; половина лобной кости была сбита, и часть черепа лежала подле головы в виде чаши; тут же лежала и картечь, вероятно, снесшая часть черепа.[84] Глаза страдальца были открыты, но не могли видеть, потому что были залиты кровью. Стоная, он изредка обнаруживал движение в членах. В таком положении раненый провел две морозные ночи, последовавшие за сражением. Его расшевелили и привели в память, расспрашивая на нескольких языках, и он наконец отвечал на польском: жалонер (солдат). Ему предложили выпить водки, что он с радостью принял, и ему влили несколько водки в рот, ибо он почти вовсе не двигался, а только дрожал от холода. Несчастный, хотя и пришел в память, но не видя и не зная нас, ничего не просил и молчал. Молчание это можно было отнести к слабости, но оно могло быть и последствием утвердившегося тогда в войсках убеждения, что раненым суждено умирать на поле сражения, нисколько не рассчитывая на помощь даже своих соотечественников, чему имели бесконечный ряд примеров: ибо солдаты часто видели на поле сражения погибающих от ран товарищей своих, тогда как малейшая помощь могла бы их спасти. Лекарь, бывший с нами, осмотрев раненого, объявил, что можно еще спасти его от смерти, и Милорадович приказал отвезти его в Тарутино. Взвалили поляка на драгунскую лошадь и увезли, после чего я его более не видел. Милорадович, проехав по полю сражения, возвратился в Тарутино.
На другой день после сего объезда, помнится мне, перевели квартиру Милорадовича в село Никольское, версты три вперед, куда перешла часть авангарда, и расположились около селения. Вероятно, что в это время главнокомандующему уже были известны движения неприятеля и выступление его из Москвы. Наполеон намеревался идти по Калужской дороге. В самый день прибытия нашего в Никольское или на другой Милорадович приказал всем квартирмейстерским офицерам авангарда сделать рекогносцировку неприятеля по Московской дороге и ехать как можно далее. Меня отправили с Юнгом, а Перовского с братом Александром.
Проезжая мимо лагеря казаков, мы заехали к Николаю Васильевичу Иловайскому, который тогда командовал полком. (Впоследствии он занимал, во время отсутствия графа Платова, место наказного атамана на Дону.) Отобедав у Иловайского и взяв у него казаков, мы продолжали путь свой далее и проехали за с. Чириково, но никого не видали, встретились только с братом Александром и Перовским и возвратились около полуночи в село Никольское.
Во время отступления от Москвы я случайно познакомился с храбрым полковником Адамом Адамовичем Бистромом, который тогда командовал 33-м егерским полком. Ныне он генерал-майор и командует лейб-гвардии Павловским полком.[85]
При возвращении нашем с рекогносцировки Милорадович уже имел повеление идти чрез Полотняные Заводы к Малоярославцу, ибо неприятель, оставив Москву, бросился со всеми силами на Боровск. Так как находившиеся там казаки не были в состоянии держаться, то до выступления еще Милорадовича напра вили из Тарутинского лагеря к Боровску генерала Дохтурова с 6-м корпусом; но Дохтуров должен был уступить превосходным силам неприятеля и отступал до Малоярославца.
Кутузов, видя, что французская армия двигалась на Калугу, тронулся форсированным маршем со всей армией и быстро пришел к Малому Ярославцу. Некоторые казачьи полки сделали сей поход на полных рысях. И в самом деле, если бы мы не поспешили защитить Малоярославца, то французы заняли бы Калугу и расположились бы на зиму в южных губерниях. В Малоярославце произошло сильное сражение, в котором отличился А. П. Ермолов своей храбростью и распоряжениями.
Я не участвовал в сем сражении, чему виной был Черкасов, который, желая подслужиться Милорадовичу, послал меня из Никольского тотчас после возвращения моего с рекогносцировки, ночью же, на Полотняные Заводы, а оттуда далее, для занятия квартиры генералу до прибытия туда еще главной квартиры. Когда Милорадович прибыл с Черкасовым и мы заняли квартиры свои, то первый поехал в дело, а второй неизвестно куда, приказав мне оставаться в селении и дожидаться его; но он возвратился только на другой день поутру, когда все уже было кончено.
Битва под Малоярославцем продолжалась во всю ночь. Город четырнадцать раз переходил из наших рук в руки неприятеля. Потеря была с обеих сторон очень велика; но французы, видя, что вся наша армия была в готовности вступить в бой, бросились вправо, ближе к Можайской дороге на Медынь, где авангард их был разбит с потерей 30 орудий. Цель Кутузова состояла в том, чтобы заставить неприятеля отступить по большой Смоленской дороге, где все было выжжено, разорено и где не было никаких средств к продовольствию. Авангард под начальством Милорадовича должен был идти проселком, в значительном расстоянии от большой дороги, и, равняясь с неприятелями, не вступать в общее сражение, а стараться отрезывать неприятельские корпуса, замыкающие их шествие. Главная армия наша должна была идти также проселком в большом расстоянии от Смоленской дороги и, в случае нужды, поддерживать авангард. Вследствие таких распоряжений неприятель неминуемо должен был прийти в окончательное расстройство и бессилие от недостатка в продовольствии и в квартирах, тогда как наши войска, следуя стороной помимо большой дороги, не подвергались сим недостаткам.
Для умножения бедствия французов главнокомандующий приказал Платову следовать за ними со всеми казаками по большой дороге и не давать им отдыха на ночлегах. Отряды казаков часто заезжали вперед неприятеля, уничтожая переправы и мостики, дабы затруднить его шествие. Множество казаков, рассыпавшихся по всем селениям, в стороне лежащим, вместе с вооруженными крестьянами истребляли усталых французов и тех, которые удалялись от большой дороги для отыскания жизненных припасов. Таким образом проводили французскую армию до города Красного. В сем отступлении неприятель потерял несметное множество народа.
Не помню, которого числа октября месяца французы выступили из Москвы.[86] Они оставили в древней столице нашей памятники своего варварства. Кремль во многих местах был взорван генерал-инженером Шаслу (Chasseloup) по приказанию Наполеона. Император французов хотел также подорвать колокольню Ивана Великого, но взрыв не удался, а разрушил подле стоявшую церковь, башня же Ивана Великого дала только в нескольких местах трещины. Церкви в Москве были осквернены обращением их в конюшни, магазины и госпитали, и среди них валялись конские и человеческие трупы. Большая часть домов была сожжена или разграблена. Говорили, что из 30 тысяч домов, находившихся в Москве до пожара, осталось после оного только 900. Все Замоскворечье и Арбат сгорели дотла. Когда я посетил Москву в 1813 году, то часто случалось мне ехать среди города через пустыри, заваленные кирпичом и камнями, из груд коих торчали одни трубы. По выступлении неприятеля из Москвы полиция наша немедленно заняла город и стала приводить его в порядок, зарывая мертвые тела, оставшиеся на улицах и в домах и водворяя возвращавшихся обывателей в свои дома. Через два или три месяца после французов народу в городе было уже много, а на другой год строились уже дома и весь Гостиный двор заново.
В то самое время как французы выступали из Москвы, Винцингероде стоял с отрядом около Клина на Петербургской дороге. Услышав об отступлении неприятеля, он поспешил со своим отрядом в столицу и, удалясь с адъютантом своим от войск, был захвачен в плен неприятельским караулом, остававшимся еще в городе. Его выручили казаки уже около Борисова.
На другой день после сражения под Малоярославцем авангард наш продолжал движение свое и открыл неприятельский авангард по направлению к Медыни, около селения Алексеева, где мы издали видели неаполитанского короля Мюрата, объезжавшего свои войска. Канонада продолжалась с час, после чего неприятель исчез, потянувшись к Можайской дороге. Мы двигались левым флангом, держась на одной высоте с неприятелем, но в таком от него расстоянии, что его не было видно, и к ночи остановились верстах в четырех или пяти не доходя с. Царева Займища, что на большой Смоленской дороге.
После генерала Багговута, убитого под Тарутиным, начальство над командуемым им 2-м корпусом было поручено принцу Евгению Виртембергскому, молодому человеку, отважному и храброму. Его поставили вблизи большой дороги в то самое время, как неприятельский ариергард отступал в большом беспорядке. Преследуемые одними казаками, французы были в таком смятении, что побросали много орудий, фургонов, экипажей, вывезенных из Москвы, и большое количество раненых. Они ночью бежали толпой, сбрасывая, в облегчение себе, амуницию и оружие. При всем этом корпус, составлявший их ариергард, кажется, под командой маршала Нея, спасся, тогда как ему следовало тут погибнуть.
Спасением же своим Ней обязан Милорадовичу, который предпочитал спокойствие свое боевым трудам. Он даже запретил Евгению Виртембергскому, вопреки просьб сего последнего, атаковать неприятеля и удовольствовался советом Черкасова, который в ту ночь был так пьян, что едва на ногах держался и умолял Милорадовича не вступать в дело. Граф Платов, однако же, дрался с французами ночью и нанес им значительный урон. На другой день, когда мы вышли на большую дорогу, то нашли ее во всю ширину и на расстоянии нескольких верст в длину заваленной брошенными орудиями, фургонами и экипажами. Убитых и раненых лежало множество, казаков же между ними я ни одного не видал.
Крестьяне участвовали в сем поражении, после которого они удалились в свои дома и к утру явились с лошадьми, упряжью и женами. Я видел, как они, заложив четверню своих лошадей в длинный французский фургон, посадили на них мальчиков форейторами, а жен и ребятишек, даже грудных, в фургон, и поехали с восклицаниями, давя раненых и убитых. Они забирали с собой сколько можно было, ружей, пистолетов, пороху и кафтанов, которые сдирали с живых и мертвых. Радость сияла на всех лицах. Обстоятельства переменились, и мы начинали торжествовать.
Следующий переход был по большой дороге до селения Воронцово, оттуда снова свернули в проселочные дороги и около Вязьмы вышли опять на большую Смоленскую дорогу. Главнокомандующий намеревался отрезать корпус маршала Нея, составлявший ариергард французов, и для того армия наша поспешила предупредить его в Вязьме. Милорадович должен был первый выйти на большую дорогу и отрезать неприятельский ариергард; но это ему не удалось: французы пробились сквозь нашу конницу, занявшую было дорогу, и прошли в Вязьму, защищаясь против всего нашего авангарда. Фланг французов, обращенный к нашей армии, был закрыт удобной для них местностью, и они выбрались из сего тесного положения, потеряв, однако же, много людей, орудий и обоза.
Авангард наш занял Вязьму ночью. Сражались по улицам, причем принц Евгений храбро ударил в штыки, лично находясь впереди колонны. Победа эта, однако же, немало стоила нам людей. Весь город был в пламени, и французы, спасавшиеся на колокольнях и в домах, стреляли по нашим из окон. Потеря неприятеля в сем случае была огромная; мы захватили в плен большое количество раненых и много штаб– и обер-офицеров.
Не зная, что под Вязьмой будет дело, я с товарищами было отстал от Милорадовича. Услышав пальбу, мы поскакали на звук и дым, но Милорадович уже пропустил неприятеля, которого только теснил к городу; к нам же изредка только залетали ядра. Тут нашли мы исчезавшего несколько времени нашего полковника Черкасова, но уже протрезвившегося; он увивался около Милорадовича и рассказывал всем, как его лошадь убило ядром. Не надобно, однако же, думать, чтобы Лыска его была под ним убита; совсем нет. Он и кончины ее не видал. В то время как казак вел Черкасову лошадь с заводными лошадьми Милорадовича, какое-то заблудшееся ядро, попав Лыске в живот, порешило ее существование.
На предпоследнем переходе к Вязьме встретился я с личностью, которую не полагал найти в армии, а именно с князем Александром Петровичем Урусовым, родным племянником нашего старого и ныне покойного князя Александра Васильевича. Он был без образования и особенных дарований, уволен в 1807 году в чине майора из военной службы за корыстолюбие и в 1808 или 1809 году женился в Москве на красавице, дочери вице-адмирала Пустошкина. Этому князю Урусову как-то удалось в 1812 году опять вступить в службу, и его назначили шефом Копорского пехотного полка. Впоследствии он некоторое время командовал 10-й или 11-й пехотной дивизией и получил даже Анну 1-й степени.[87] При возобновлении нашего знакомства мы остались ему еще обязанными в том, что он выпросил у своего дивизионного начальника прощение нашим людям, которых взяли под караул за намерение поживиться крестьянским хомутом из избы, в которой не было хозяев.
По занятии Вязьмы главная квартира Милорадовича расположилась в городе. Так как у меня расковалась лошадь, а в городе не было кузницы, то я отпросился в Харьковский драгунский полк к Юзефовичу, чтобы подковать лошадь. Было уже около 11 часов вечера. Я с трудом нашел Юзефовича, который стоял с полком за городом на биваках. Он принял меня необыкновенно приветливо и пригласил остаться ночевать с ним в шалаше, на что я согласился. На другой день рано поутру я хотел ехать назад к своему месту, но Юзефович, не зная, что Милорадович пойдет до Дорогобужа по большой дороге, уговорил меня следовать с его полком, уверяя, что весь авангард за ним пойдет проселком влево. Я согласился с ним идти и оттого прибыл к своему месту только в Дорогобуже.
С Юзефовичем следовал какой-то француз по имени Денасс (De Nass), считавшийся в нашей службе капитаном по армии. Он, конечно, принадлежал к числу праздношатавшихся офицеров, которые таскались от одного места к другому, не имея настоящих обязанностей. Денасс был человек ловкий и дерзкий. Думаю, что подобного ему грабителя во всей армии не было. Он не пропускал ни одной мызы, чтобы с нее чего-нибудь не увезти, и в сем отношении отчасти был под пару Юзефовичу. Впрочем, Денасс был великий лгун, фанфарон и, в сущности, пустой человек. Он из ничего составил себе целый обоз. Была у него славная коляска, набитая разными награбленными книгами и посудой; в услуге он имел французских пленных солдат и людей всякого народа, которые каждый день переменялись или уходили; с ним также были собаки, и в числе их старая моська, которую он называл Дарю и особенно любил. Денасс был весь в ревматизмах и надевал трое рейтуз, из которых одни были на вате, другие на меху, а третьи подбиты клеенкой; на голове носил он огромную теплую фуражку, а сверх оной еще башлык на вате. Кроме фуфаек надевал он на плечи два сюртука и сверх всего еще теплую шинель и шубу; шея же повязана платком; ноги, разумеется, были у него в теплых сапогах, а уши заткнуты хлопчатой бумагой. Денасс оставался в Москве, в то время как французы заняли город. При оставлении нами Москвы Милорадович договорился с неприятелем, чтобы не брали в плен тех из русских офицеров, которые в течение 24 часов со времени вступления неприятеля в столицу в ней бы оставались. Невзирая на это условие, французы многих захватили, но Денасса не тронули, хотя и подозревали, что он француз; но он отделался тем, что назвал себя Назовым: в противном случае его бы расстреляли, как эмигранта. В сущности, от того произошло бы, может быть, более добра, чем зла; но судьбе угодно было оставить его в живых.
Юзефович, уходя с полком, просил меня остаться с Денассом несколько времени. На ночлеге он, не знаю от чего, промедлил. После полудни уже велел он заложить бричку свою и, наложив в ней много подушек, сел, укутавшись. Таким образом, мы тронулись в поход довольно поздно; с нами было два драгуна, из коих одного, Попова, Денасс по незнанию языка называл Паапу. Денассу положили на колени женское седло, которое он где-то заграбил. Сам он держался одной рукой за рожок седла, а другой держал на седле свою моську Дарю. Объехав город, мы продолжали путь свой и вышли на настоящую дорогу, когда уже смерклось. Ночь была темная, и Денасс стал бояться. Он поминутно перещупывал свои вещи и спрашивал у Попова, который сзади ехал, тут ли он. Осязав вещь, о которой думал, он говорил:
– Паапу, скажи, что это сапоги?
– Сапоги, ваше благородие, – отвечал Попов, не видев.
– Хорошо, Паапу; скажи, что это книг моя, которая надобно взял на мызу?
– Книги, ваше благородье.
– Паапу, скажи, что это женщина седло?
– Как, ваше благородие, женщина седло?
– Да, дурак, женщина седло; не знаешь, скотин, такой больша палка у него?
– А, женское седло, ваше благородье.
– Ну, хорошо. – И опять сызнова начинал свои расследования и допросы.
Проехав несколько верст по большой дороге, я увидел впереди большой огонь и, подъехав к оному, нашел несколько драгун, которых Юзефович тут оставил, чтобы сворачивать обозы его в проселок, ибо он с полком на этом месте сам поворотил влево. Денасс отстал было, но чрез четверть часа он нагнал меня с бричкой, коей медленное приближение было издали слышно. Мне надоела возня с этим французом, и потому я не остановил брички его, которая мимо меня проехала по большой дороге; но драгун его Попов, подбежав к огню и узнав, что надобно свернуть налево, доложил о том Денассу, который сперва велел остановить свою повозку и, несколько постояв в раздумье, приказал поворотить ее назад.
Кучер, при повороте повозки, в темноте наехал на камень, и я имел удовольствие видеть, как бричка опрокинулась, и Денасс из нее вывалился: все снасти, его укрывавшие, накрыли его; зазвенела посуда, завизжала моська, и заревел Денасс, которого отрыли из-под шубы и посадили опять в повозку; но старая моська его с испугу бежала и с тех пор, как я после узнал, более не являлась. Грешен, – я порадовался случившемуся с Денассом, который мне очень надоедал. Я со стороны видел паденье его и более не подъезжал к нему, а, проехав ночью проселком верст восемь, прибыл к селенью, где Юзефович расположился на ночлеге. Я рассказал ему о случившемся с Денассом происшествии, о котором он, казалось, также не сожалел. Денасс присоединился к нему только спустя три дня.
К тому времени составлен был под начальством Корфа особый кавалерийский отряд, в состав коего поступил с полком своим Юзефович.
В бригаде с Харьковским драгунским полком находился Киевский драгунский, которого шефом был полковник Эммануель. Корф шел с сим отрядом в стороне от большой дороги, где селенья потерпели менее разоренья, чем лежавшие на большой дороге. С Корфом находился неразлучный спутник, дядя мой Николай Александрович Саблуков, который удивился, встретив меня в сем отряде, и пожурил меня за отлучку от моего места; но тогда делать было нечего, и я должен был дойти с Юзефовичем до Дорогобужа.
Мы вышли на большую дорогу верстах в 10 или 15 не доходя города у монастыря, в который заехали. Монастырь был совсем разграблен; монахов в нем не было, но он был полон французов, мертвых и умирающих; смрад был ужасный. Большая дорога была также устлана умирающими и трупами умерших французов; повсюду разметаны были брошенные пушки и фургоны без упряжи. Юзефович удерживал меня отобедать, но я не согласился и отправился к своему месту.
По пути в Дорогобуж ехал я мимо бывшего неприятельского лагеря, где кроме орудий и обозов оставалось много больных. Они сидели в шалашах у огня и были похожи на мертвецов. Не будучи в силах двигаться, члены их горели по частям в огне, их согревавшем, и они, наконец, сами погибали в шалашах, загоравшихся от неприсмотра за огнем.
У самой большой дороги стоял шалаш, построенный из прутьев, покрытый соломой и обставленный большими, разумеется, без окладов, образами, которые французы взяли из монастыря для прикрытия себя от непогоды. Подле шалаша горел огонь, а в шалаше было четыре слабых француза. Крестьяне, наезжавшие из окрестностей, грабили лагерь; некоторые из них, заметив образа свои расколонными на дощечки, приговорили служащих в шалаше французов к смерти, но никто не решался наложить на них руки. Подъехал какой-то драгунский офицер, который, заметив раздумье крестьян, спросил их, о чем дело идет?
– А вот, батюшка, – отвечали они, – нечистая сила ограбила образа из нашего монастыря. Мы знаем, что они замучили до смерти монахов, чтобы разведать у них, где деньги лежат. Монастырь был небогатый, и отцы положили головушки свои за Бога и царя; так теперь хотим мы нечистого француза убить, да рука не подымается. Мы слышали от нашего попа, что людей бить не годится; так и не знаем, как к делу приступить.
– Так вы, братцы, и не бейте их, – отвечал офицер, – пускай бездельники сами сгорят живые, а который из шалаша полезет, того палкой по голове, да сперва разденьте их: ведь они грабили и дома, и семьи ваши.
– Как же, батюшка, совсем ограбили.
– Так и не робейте; ну, к делу; валяйте их, братцы; смотри на эту шельму, еще раздеваться не хочет, ну, его хорошенько.
Вмиг французы были догола раздеты, шалаш на них придавлен, обложен соломой и хворостом.
– Зажигайте же, – говорил офицер.
– Слушаем, ваше благородие; царь нам велел офицеров слушаться.
Шалаш запылал. Двое из французов, бывшие еще в состоянии двигаться, стали вылезать из оного, но они были встречены двумя ударами в голову оглоблями, которыми хворост в огне поправляли, и повалились без чувств в пламя; их закрыли дровами, и они погибли с товарищами своими в огне.
Не было пощады для врагов, ознаменовавших всякими неистовствами нашествие свое в нашем отечестве, где ни молодость, ни красота, ни звание, ничего не было ими уважено. Женщины не могли избежать насилия и поругания. Рассказывали, что Фигнер застал однажды в церкви французов, загнавших в нее из окрестных селений баб и девок. Одну двенадцатилетнюю девочку лишали они невинности, пронзая ей детородную часть тесаком; товарищи злодея около стояли и смеялись крику девочки. Все эти французы погибли на месте преступления, ибо Фигнер не велел ни одного из них миловать. В другой раз Фигнер настиг карету, в которой ехал польский офицер; с ним сидели две девицы, родные сестры, обе красавицы, дочери помещика, которого дом разграбили, а самого убили; дочерей же увезли и бесчестили. Фигнер остановил карету, вытащил изверга, который был еще заражен любострастной болезнью. Спутницы его были почти нагие; они плакали и благодарили своего избавителя. Фигнер снабдил их одеждой и возвратил в прежнее их жилище, поляка же привез к крестьянам приговорить его миром к жесточайшему роду смерти. Мужики назначили три дня сряду давать ему по нескольку тысяч плетей и, наконец, зарыть живого в землю, что было исполнено. Уверяют, что происшествие сие истинное. Многим также известно, как французы ругались над нашим духовенством. Им давали приемы рвотного, после чего сосмаливали им попарно бороды вместе.
Достигнув Дорогобужа ввечеру довольно поздно, я заехал погреться на какой-то пустой двор, среди коего горел разложенный огонь. При костре сидел казачий офицер Краснов, внук донского генерала Краснова, который был в течение войны убит. Познакомившись с Красновым, я с ним поужинал и лег спать у огня. Пока мы разговаривали, пришел к нам из избы раненый майор Коронелли, который назвался, помнится мне, Малороссийского гренадерского полка; я его прежде никогда не видал, а был знаком с его братом, который в Петербурге играл в некоторых домах роль шута. Майор был в жалком положении; раненный пулей в грудь, он оставался один, брошенный. Коронелли казался как бы помешанным, может быть, в бреду от горячки; он трудно дышал, говорил скоро, отрывисто и громко; глаза его сверкали, и движения были быстрые. Все эти признаки, были, вероятно, предвестниками скорой смерти. Поевши с нами, он поспешил назад в избу, где растянулся на полу. Более я не видел его. Коронелли рассказывал, что он был захвачен около Москвы в лесу мужиками, которые его приняли за Наполеона и, побив, представили начальству. В самом деле Коронелли родом итальянец, лицом смуглый, нос горбатый, и он дурно по-русски выговаривал.[88]
На другой день рано поутру я нашел Черкасова, который остановился на квартире вместе с артиллерийским полковником Павлом Ивановичем Мерлиным, начальником авангардной артиллерии. Начальником штаба при Милорадовиче состоял в то время полковник Потемкин, человек благородный. Он теперь служит генерал-майором, командует Семеновским полком и любим офицерами. Должность дежурного штаб-офицера в авангарде исправлял майор Дмитрий Павлов, числившийся в одном из русских казачьих полков с медвежьими шапками, набранном в 1812 году из охотников. Павлов не пользовался доброй славой; говорили, что он трус и грабитель. Не знаю, куда он девался после дел под Красным; говорили, что его за что-то выключили из службы. Начальник артиллерии, полковник Мерлин, был крив и неопрятной наружности; его вообще не любили; он находился в большой дружбе с Черкасовым, кормил его и жил с ним вместе. За дружбу сию требовал он от Черкасова, чтобы наши офицеры употреблялись по его поручениям, и Черкасов посылал нас, когда Мерлину было угодно.
Адъютантами у Милорадовича были: лейб-гвардии Гусарского полка ротмистр Паскевич, человек несносный своей гордостью, впрочем, совершенно пустой и без дальнего образования. Глинка, хохол и вроде земляка своего генерала; он довольно известен своими сочинениями, в которых льстит Милорадовичу. Черниговского драгунского полка штабс-капитан Булгаков, человек ограниченный. Штаб, или дежурство, у Милорадовича был многочисленный и наполнен большей частью пустым и праздным народом. Кроме сих состояло еще при Милорадовиче много офицеров на ординарцах, в числе коих находились конногвардейский князь Андрей Голицын и квартирмейстерской части бывший товарищ мой Ермолов (кажется, Михайла). Оба они ничего не делали, а ездили только занимать квартиры; не менее того их за каждое дело награждали. Ермолов забыл прежнее наше товарищество, и, когда я был болен, без лошади и без денег, ему на ум не пришло меня навестить. Однажды я к нему зашел, но видя, что он тяготится моим присутствием, я с тех пор более с ним не знался.
Прибыв в Дорогобуж, я узнал, что брат Александр был откомандирован в отряд с генерал-майором Юрковским, шефом Елисаветградского гусарского полка.
Из Дорогобужа авангард пошел опять проселком влево. Цель главнокомандующего была предупредить неприятеля при городе Красном и отрезать ему там путь к отступлению.
Милорадович со 2-м и 4-м корпусами шел между большой армией и неприятелем и наблюдал за ним, тогда как партизаны наши тревожили его, перехватывая у него фуражиров, отсталых, орудия и обозы.
Армия наша заняла уже г. Красный, когда последние французские корпуса стали выступать из Смоленска. Корпус маршала Нея всех более пострадал, наткнувшись на всю нашу армию на большой дороге. Невзирая на сие, он храбро наступал, потому что ему для спасения оставалось только пробиваться сквозь наши силы. Французы отчаянно лезли на наши батареи, но были разбиты, рассыпаны и преследуемы нашей конницей, которую они, однако же, еще несколько удерживали. Сам Ней спасся, бросившись в сторону, и с ним ушло тысяч до двух людей из всего его корпуса. Другие неприятельские корпуса имели такую же участь, но меньше потеряли, впрочем, оставили в наших руках все свои обозы и артиллерию. Казна Наполеона была также отбита, и из нее многие поживились. Говорили, что в иных полках делили золото фуражками, и солдаты продавали горсти серебра и золота за красные ассигнации.
Красненские дела продолжались три дня.[89] Отряды наши, находившиеся ближе к Смоленску, извещали главнокомандующего о прибытии неприятеля, и тогда войска наши становились под ружье, орудия заряжались картечью, и бой начинался с уверенностью в победе. Из Смоленска тянулось также несчетное множество отсталых, раненых и больных французов, на которых не обращали внимания, а только раздевали их догола, и они умирали от холода или голода перед нашими линиями. Под Бородиным лежало множество трупов, но на небольшом протяжении под Красным их было не менее; однако они занимали большое пространство.
Из селения Уварова, где мы находились, Черкасов приказал мне ехать в г. Красный с бумагой и каким-то изустным поручением к принцу Евгению Виртембергскому. Лошадь моя была так изнурена, что с места не двигалась; к тому же была без подков.
Отговариваться не следовало, и я отправился пешком в темную и холодную ночь через бывшее поле сражения. Везде горели огни, при иных стояли наши войска, у других ночевали вооруженные французы, отставшие от своих полков. Я долго блуждал, однако пришел в г. Красный пешком, переправляясь через неглубокую речку вброд и проваливаясь сквозь слабый лед оной. Отыскав квартиру принца Евгения, которого застал за ужином, я передал ему поручение свое. Он приглашал меня отужинать, но я не остался, потому что должен был спешить обратно с ответом. Назад шел я по тому же полю сражения, без дороги, натыкаясь и падая в темноте на трупы. Однако я добрался до селения Уварова и доложил генералу об исполнении поручения.
В ту же ночь я отпросился навестить брата Александра, который был болен и которого я давно не видал. Лошадь моя отдохнула, и я отправился верхом, взяв с собою слугу брата Михайлы, Петра, оставшегося с нами, когда мы из Москвы отправили раненого Михайлу. Проехав верст пять между убитыми, я прибыл в большое селение, где стоял генерал-майор Юрковский. Все было тихо, потому что все спали. Долго и безуспешно отыскивал я брата; во всех избах, куда я входил, храпели; просыпавшиеся же встречали меня бранью, повторяя:
– Запри дверь – холодно.
Не допытавшись ни от кого о брате, я подошел к огню, горевшему среди улицы, собираясь тут дожидаться рассвета. Около огня лежало несколько мертвых французов; один только стоял и грелся; он был высокого роста, в кирасирской каске и почти совсем нагой; на лице его выражались страдание и болезнь. Он просил у меня хлеба, и я променял ему кусок хлеба, который был со мною в запасе, на каску, дав ему в придачу свой карманный платок, которым он повязал себе голову. Мне хотелось сохранить эту каску для украшения оной по окончании войны стены своего будущего, еще неведомого жилища. Француз с жадностью бросился на хлеб и вмиг пожрал его.
Тут на беду его вышел из соседственной избы Мариупольского гусарского полка майор Лисаневич, который не мог уснуть в избе и от бессонницы пришел погреться у огня.[90] Кирасир, приметивший его, как видно было, еще днем, просил у него позволения войти в избу. Лисаневич приказал ему молчать и, как тот не переставал просить, то Лисаневич, крикнув вестового, приказал ему отделаться от француза. Вестовой толкнул его; обессиленный кирасир повалился и, ударившись затылком о камень, захрапел и более не вставал. Лисаневич указал мне избу, в которой брат находился; я пошел туда и, отворив дверь, нашел ее полную спящим народом. Смрад был нестерпимый. Влево у дверей под скамьей умирал в судорогах от горячки русский драгун. Хозяйка в доме еще оставалась; она держала на руках грудного ребенка, которого крики, смешанные со стоном и храпением страждущих и спящих, наводили уныние. Лучина томно догорала, иногда вспыхивая и освещая грустную картину сию.
Войдя в избу, я громким голосом спросил:
– Муравьев, ты здесь?
Из угла отозвался мне братнин голос:
– Что тебе надобно?
– Я брат твой Николай, приехал тебя навестить, услышав, что ты болен.
– Спасибо, брат, – отвечал Александр, – я в дурном положении.
Пробираясь к нему, я наступил на ногу одному французу, который закричал:
– Ah, Jesus, Marie!
Я отскочил и наступил на другого, который также закричал.
– Что за горе, – закричал я брату, – к тебе подойти нельзя!
– Нельзя, Николай, тесно; первый, на которого ты наступил – французский капитан, которому вчера пятку оторвало ядром, и ты, верно, ему на больное место наступил; второй тоже раненый француз, и как они добрые ребята, то я их пригласил ночевать в эту избу. Мне самому нельзя вытянуть ног за теснотой; все раненые и больные, а подле меня лежат писари Юрковского, которые ужасно воняют. К тому же крик ребенка, который мне спать не дает.
Драгун вскоре умер, и его вытащили на улицу; другие потеснились. Я лег, закурил трубку и стал с братом разговаривать.
Свыклись мы в 1812 году с подобными зрелищами. Александр сказал мне, что он участвовал во всех красненских делах с отрядом генерала Юрковского, но что он перемогал себя, потому что был очень болен, а теперь так ослаб, что принужден проситься в отпуск в Москву для излечения болезни. Ноги его, как и у меня, были в ужасном положении и покрыты цинготными язвами. Во все сие время он был без слуги, потому что человек его оставался со мною. Я дал брату свою кирасирскую каску, чтобы он ее домой довез, но он ее дорогой потерял. На рассвете я простился с братом и надолго. Мне нечем было ему помочь, ибо мы оба были без денег. Он мне дал кусок сукна, из которого я с помощью казака сшил себе шаровары и башлык. Я оставил у брата приехавшего со мною мальчика Петра. Пожелав друг другу счастья, мы расстались.
Рано поутру я возвратился в село Уварово и был вскоре послан с каким-то приказанием к генералу Иевличу, шефу Белостокского пехотного полка.[91] Иевлич стоял с двумя полками под ружьем на большой дороге в ожидании неприятеля; но неприятельских отрядов из Смоленска более не показывалось, ибо все французские корпуса накануне еще оставили город; тянулись только во множестве слабые люди, которые валились и умирали от голода или холода. Бригада, которой командовал Иевлич, не была тоже в блистательном виде: она состояла из четырех или пяти сот человек, оборванных и голодных людей. По исполнении своего поручения я возвратился в село Уварово, где отдохнул, лежа у огня на улице.
Упомяну здесь еще об ужасном зрелище, которого я был свидетелем в с. Уварове. Подле избы дежурного штаб-офицера майора Павлова положено было человек 20 раненых и слабых французов. Двор избы был разобран на дрова, и пленные лежали в сенях у самых дверей. Они теснились к избе, и всякий раз, как дверь отпиралась, она ударяла кого-нибудь из них; когда же они слишком близко жались к двери, то часовой разгонял их, ударяя прикладом в толпу. Раны их не были перевязаны, и сочившаяся из них кровь замерзала на теле. Каждый мимо идущий солдат топтал и раздевал их, отдирая рубаху от раны, так что они, наконец, остались почти совсем нагие. Скоро прекратилось между ними всякое движение: иные замерзли, другие были убиты; из кучи изредка только слышно было стенание. Близ избы была яма, в которой лежала давно издохшая лошадь с выгнившей уже внутренностью. К сей падали прилипло несколько мертвых, совершенно голых французов, которые влезли в яму, как видно было, грызли лошадь и не имели после силы оттуда выбраться. Не менее того, около сей добычи толпились другие французы, которые также валились в яму и с жадностью раздирали зубами протухшие кишки лошади. Не имея силы вылезть из ямы, они оставались в ней и несли участь товарищей. Яма, наконец, закишела людьми, которые между собою дрались за кусок падали и, наевшись, засыпали вечным сном.
Всех ужаснее было следующее зрелище. Я шел мимо большого сарая, который был без крышки, и услышал из него крик, жалобы, стон и брань на всех европейских языках. Заглянув в сарай, я увидел толпу неперевязанных раненых, лежавших один на другом. Один лез через другого, и из сей кучи торчали обесчлененные руки и ноги, на которые наступали; придавленные кричали, ругались, но получали толчки от тех, которые еще в силах были двигаться. На часах стояли два московских ратника, которые прехладнокровно били прикладами по головам тех из несчастных, которые, желая выпросить себе хлеба у прохожих, приползали к дверям и высовывали головы. Когда я остановился у входа, то пленные, увидев меня, перестали ругаться и обратились ко мне, прося хлеба. Я бросил им две или три горсти сухарей, которые нам только что выдали. Нельзя описать того, что произошло в сарае: мертвые двигались с живыми в общей перетасовке; иногда они исчезали, иногда показывались обращенными вверх ногами.
В средине шевелившейся тесноты приметил я одного француза, сидящего, руки сложа, в рубище, но с кивером на голове. Нога его была оторвана, через нее также лазили, но он терпел и молчал; ему ни одного сухарика не досталось. Страдалец на меня пристально смотрел, и я спросил его, зачем он не добывал своей доли сухарей; он кивнул мне головой в знак благодарности и сказал:
– Monsieur, je suis officier; quand les inalheureux auront mange, et qu’il restera quelque chose pour moi, je mangerai de meme. Je nefais que mon devoir».[92]
Я удивился его духу и дал ему еще горсть сухарей, которыми он поделился с теми из раненых, которые не в состоянии были их себе достать. Офицер этот просил меня, чтобы я велел им подать воды, говоря, что они уже дня два не пили. Я упросил каких-то солдат, которые достали ушат с водой и поставили его у входа в сарай между часовыми. Раненый офицер приполз к ушату и хотел установить порядок между своими сострадальцами, дабы каждому из них досталось воды; но им не до того было: они бросились с криком к ушату и, невзирая на повторенные удары часовых, толпа вырвалась из дверей, стала драться около ушата и разлила всю воду, так что никому ничего не досталось. Достойного же офицера своего они смяли в дверях. Когда воду разлили, они начали за то укорять друг друга и опять между собою браниться и даже драться; но не трудно было их унять, и часовые втеснили их прикладами обратно в сарай, куда перекинули и погибших от ударов. После сего в сарае сделалось тише, потому что многих уже не стало. Между тем наши солдаты входили в сарай и бесщадно сдирали с живых и мертвых последние рубища, на них оставшиеся; и тогда возобновлялся стон из среды этой груды обезображенных людей. К вечеру в сарае все замолкло, и часовые стерегли лишь одних мертвых.
Французы имели главные госпитали свои и склады в Смоленске. При отступлении их из города остававшиеся там последние войска их все разграбили вконец, и с сего времени число мародеров (trainards) умножилось у них до такой степени, что более половины французской армии тянулось в разброде.
Краснинские дела происходили 4, 5 и 6-го чисел ноября месяца. 7-го или 8-го вечером мы выступили для преследования неприятеля и пришли на ночлег в какое-то местечко, где столпилось множество жидов. Народ сей во все время войны оставался нам приверженным, перенося за то гонение от французов. При выступлении из Красного снег вдруг стаял, отчего сани мои с вещами, поклажей и лошадьми отстали, нагнали же меня только в Борисове.
Французы уходили так быстро, что Милорадович с авангардом более не нагнал их и даже не поспел на Березину к Борисову, где адмирал Чичагов должен был встретить неприятеля. Намерение главнокомандующего было припереть неприятеля к реке Березине до ее замерзания. Чичагов, выступившей из Молдавии по заключении мира с турками, имел до 40 000 войск. Соединившись с Тормасовым около Волковиска, он принудил генерала Ренье, начальствующего австрийцами и саксонцами, отступить, после чего Чичагов подвинулся форсированными маршами к Березине и занял Борисов, дабы преградить французам переправу; но авангард его, переправившийся через Березину, был внезапно атакован бегущим неприятелем и принужден обратно перейти за реку. Пока отряд французский отвлекал Чичагова, вся неприятельская армия, построив мост в другом месте, переправилась, встретив сопротивление только от небольшой части наших войск, которую Чичагов не успел подкрепить.
Между тем Витгенштейн, оставшийся перед Полоцком с 1-м корпусом, усиленный петербургскими дружинами, занял город и, преследуя неприятеля, разбил его и придвинулся к Борисову. Он должен был соединиться с Чичаговым и совокупно с ним действовать против главной французской армии; но не сделал сего, как слух носился, потому что не хотел подчиниться Чичагову.[93]
Общенародно обвиняют адмирала в пропуске Наполеона; но многие полагают, что и Витгенштейн был тому причиной. Однако он взял в плен целую французскую дивизию, которая сдалась в числе 8000 человек. Французы сами сознаются, что при переправе их через Березину потеря их была несметная: они лишились в этом месте почти всей своей артиллерии и обозов; последняя конница, которая у них оставалась, совершенно спешилась; множество людей потонуло в реке, померло или попалось в плен. Некоторые корпуса их совершенно исчезли, так что французская армия не была более в состоянии выставить какого-либо отряда в порядке для удержания нас в преследовании. Мы подвигались до самой Вильны, так сказать, среди французской армии, коей изнеможенные солдаты, окружая нас, просили хлеба. Наполеон уехал в сопровождении нескольких генералов, оставив войско свое на произвол судьбы. В сражении под Борисовым захвачен был у нас в плен квартирмейстерской части подпоручик Рененкампф, которого, однако, вскоре отбили казаки. Отбили также захваченного в Москве генерала Винценгероде.
Авангард наш, следуя от Красного, пришел в Копысь, местечко, лежащее на левом берегу Днепра, который в сем месте широк и глубок. Надлежало построить мост, для чего употребили пионерную роту капитана Геча, которая связала плоты и сделала переправу. Между тем как работа производилась, Милорадович с авангардом расположился в местечке и, как ему хотелось скорее переправиться, то Черкасов, подслуживаясь ему, приказал мне дождаться на берегу реки, пока мост поспеет, и о том немедленно ему донести. Часа четыре стоял я у берега и грелся у огня с Гечем; когда же работа кончилась, то, желая сам удостовериться в безопасности переправы, я дождался, когда первый ящик переедет через мост, и затем поспешил лично передать о том Черкасову.
– Мост уже давно готов, – сказал мне Черкасов, – и вы виноваты в том, что ослушались меня, и вместо того, чтобы у реки стоять, сидели на квартире. Генерал Милорадович уже давно знает, что мост готов.
Действительно какой-то адъютант, который мимо ехал, не рассмотрев порядочным образом дела, поспешил с приятным известием к своему генералу. Я отвечал Черкасову, что во все время безотлучно оставался на берегу и не замедлил ни одной минутой своим донесением.
– Неправда, – возразил он, – я знаю, что вас там не было.
– Когда я вам говорю, что был, то вы должны верить, и мне чрезвычайно странно кажется, что вы так смело уверяете, что меня там не было, тогда как я, несмотря на стужу, простоял там все утро и исполнил приказание ваше в точности.
– Вы мне грубите, вы не были на мосту.
– Был.
– Не были.
– Был же, повторяю вам, слышите ли? Вы можете думать, что хотите, это для меня все равно, но я от того не буду виноватым.
– Сейчас Милорадовичу пожалуюсь, что вы мне нагрубили, и вы будете за то отвечать.
– Жалуйтесь, как хотите, а я вам не позволю так дерзко со мною обращаться.
Черкасов испугался и поспешно вышел, но жаловался ли он или нет, того не знаю; только Милорадович мне ничего не говорил.
Когда войска начали переправляться в присутствии Милорадовича, стоявшего на берегу, то один ящик провалился. Черкасов стал упрекать меня, зачем мост дурно построен; но я ему и тут не уступил, и весь авангард благополучно переправился через реку. Было уже поздно, так что ночь застала нас на правом берегу Днепра еще в сборе; но переход предстоял небольшой, и мы прошли на ночлег в местечко Милослав, отстоящее только на 10 верст от переправы.
Полагая, что брат Александр уже уехал из армии, я крайне удивился, когда он ночью разбудил меня. Брат, перемогаясь от болезни, проехал ночью десять верст, чтобы еще раз увидеть меня до отъезда, ибо в Копыси, где он получил вид на выезд из армии, он меня более не застал. Ему удалось занять, кажется, у дяди Саблукова, 100 или 200 рублей ассигнациями. Зная, что я нуждался в деньгах, он приехал, чтобы ими со мною поделиться, и дал мне половину своих денег. Я же ничем не мог помочь больному брату и, поблагодарив его, простился во второй раз, не зная, надолго ли. Он в ту же ночь поехал обратно в Копысь, откуда отправился через Калугу в Москву.
Мы продолжали поход свой чрез местечко Бобр и селения, коих названий не помню. Черкасов знал, что я крайне утомлен от трудов, что лошадь моя едва ноги переставляла и что я от того большую часть перехода шел пешком. Он знал, что я был болен и во всем нуждался. Несмотря на это, он часто давал мне поручения всякого рода. Во время сих тяжелых и для здорового человека переходов Черкасов приказал мне однажды безотлагательно ехать в холодную, темную ночь за 30 верст вперед на следующий ночлег, куда пионерная рота капитана Геча получила также приказание идти для построения через реку мостика; мне же поручалось, как и в Копыси, пробыть при строении моста и возвратиться к рассвету назад с донесением о готовности переправы.
Делать было нечего, и я отправился один в темную, морозную ночь лесом, наполненным отсталыми французами, которые грелись около разведенных ими огней. Проехав версты две рысью, лошадь моя стала, отчего я был вынужден идти пешком и тащить ее за собою. По причине худой одежды моей я мог на пути замерзнуть, мог быть ограблен французами, коих положение было немногим хуже моего, мог с дороги сбиться; но возвращаться мне не следовало, и, вооружившись терпением, я обнажил саблю и продолжал путь свой пешком. Изредка слышал я впереди себя идущую роту Геча, кричал, чтобы они остановились и подождали бы меня; но они или не слышали моего голоса или мало думали о призывавшем их на помощь и продолжали идти, так что я во весь переход не мог нагнать роту. Протащившись часть ночи, я наконец прибыл в селение, где нашел Геча, приступившего уже к разборке избы для постройки мостика на небольшой речке, через которую можно было вброд перейти. Мостик при мне же был кончен и, как я не в силах был к рассвету возвратиться к Черкасову с донесением, то решился остаться с Гечем до его выступления. Мы забрались в овин, где уснули часа на три; вскоре Геч получил предписание идти далее в Борисов.
Милорадович не проходил через наш мостик и ночевал в другом селении в стороне, так что Черкасов напрасно только помучил меня и пионеров. Лошадь моя, несколько отдохнувшая ночью, опять повезла меня на другой день, и я поехал верхом с пионерной ротой, но вскоре стал отставать, и, наконец, лошадь моя упала; но тогда было светло, и я, нагнав Геча пешком, просил его помочь мне. Коня моего подняли и привязали за кряковку саней Геча, в которые он меня с собою посадил; но едва мы несколько сажен отъехали, как лошадь моя опять упала; ее не могли более поднять, и я, отрезав подпруги, положил седло в сани и продолжал путь, оставив в лесу верного Казака своего, который мне служил от самого Смоленска, когда мы еще отступали к Москве. Пионеры сорвали с него подковы и определили коню моему более не ходить; в замену же подков высыпали перед ним горсть овса, которого, вероятно, он и не отведал. Случалось мне видеть, что пред мертвыми лошадьми лежало несколько овса как бы в знак прощания с ними хозяев и почести, заменяющей похороны.
Подходя к Борисову, мы слышали выстрелы Чичагова, но когда пришли в город, то нашли в нем только пленных, убитых и раненых; город же был совсем вверх дном поставлен.
Поблагодарив Геча, я зашел в одно из уцелевших жилищ и лег в углу на землю, думая о своем бедственном положении. Я был без слуги, без лошади, без денег, ибо братниными заплатил некоторые долги. Ноги мои болели ужасным образом, у сапог отваливались подошвы, одежда моя состояла из каких-то синих шаровар и мундирного сюртука, коего пуговицы были отпороты и пришиты к нижнему платью; жилета не было, и все это прикрывалось солдатской шинелью с выгоревшими на бивуаке полами; подпоясывался же я французской широкой кирасирской портупеей, поднятой на дороге с палашом, которым я заменил свою французскую саблю. Голова покрывалась изношенной солдатской фуражкой и башлыком, сшитым из сукна, подаренного мне братом. В таком одеянии случалось мне проводить морозные ночи, сидя у огня. Был на мне еще старый нитяной шарф с оставшейся одной кистью, которая служила мне вместо веника. Иногда я раздевался, садился спиной к огню, при коем парился шарфом, и тем облегчал зуд, беспокоивший меня по всему телу. Давно уже не переменял я рубашки и давно спал не раздеваясь. Платье мое было напитано вшами, которые мне покоя не давали и которых я, сидя у огня, истреблял сотнями. Закручивая рубашку, я по примеру солдат парил ее над огнем и радовался треску от сыпавшихся из нее насекомых. Когда отодрал я бинты, коими увязаны были ноги, то нашел язвы увеличившимися и умножившимися до такой степени, что от пяток до бедер едва ли не половина поверхности их была покрыта язвами, в гное которых кишели насекомые. Я ослаб душевно и телесно, но удержался рапортоваться больным, в намерении дотянуть поход до конца. При том же мне не от кого было ожидать помощи или участия: бросили бы меня в Борисове в госпитале. Смерть казалось мне лучшим исходом, потому что не предвиделось улучшения в быте моем. Я изнемогал от нужды и болезни, когда обстоятельства мои неожиданно изменились и я начал оживать.
Выспавшись несколько и отдохнув, я пошел по улицам искать, не зная сам чего. Увидав дом, в котором ели, пили, смеялись, я вошел в него. Там нашел я генерала Корфа за завтраком с дядей Саблуковым и многими собеседниками, всех несколько навеселе. Я был в солдатской своей выгоревшей шинели и остановился в комнате, глядя на пировавших. Саблуков посадил меня, когда узнал, накормил и, расспросив о моем положении, предложил мне 400 рублей взаймы. Я не хотел было принять их, потому что не надеялся быть в состоянии возвратить сию сумму; но он так ласково сделал мне предложение, что я не мог отказаться.
– Отец твой мне их отдаст, – сказал дядя, – когда у него деньги будут; а как тебе теперь лошадь нужна, то я тебе сыщу и сторгую славную.
Французская дивизия, которая сдалась в плен Витгенштейну, была взята со всеми обозами. Офицеры, нуждаясь в деньгах, продавали своих лошадей, и Саблуков, тут же выйдя на улицу, сторговал мне от французского полковника хорошую верховую лошадь с седлом, за которую заплатил 80 рублей; остальные же 320 рублей положил я в карман, сел на нового коня своего, поблагодарил дядю и торжественно отправился к товарищам. Я привязал лошадь в сарае, убрал ее, подложил ей гнилой соломы, которую сорвал с крыши, расседлал и, войдя в горницу, положил седло в голову и лег: не высплю ли еще чего-нибудь доброго?
Новую лошадь назвал я Французом. Она была крива, стара и разбита, но большая и еще способная к перенесению похода. Я ею был очень доволен, но некому было за нею ходить: слуга мой отстал, и давно уже я ничего не знал о нем. Я проспал до сумерек; проснувшись, увидел пред собой человека, которого впросонках принял за вестового; мне показалось, что меня звали к Черкасову. Я встал, разбранил полковника и готовился к нему идти; но как удивился, когда мнимый вестовой, подойдя ближе, сказал:
– Вы, сударь своего Николая не узнали.
Я бросился обнимать своего верного слугу, и он мне рассказал, какими судьбами ко мне возвратился. Николай заболел еще в Видзах, откуда он, как выше сказано, был отправлен с конногвардейским лазаретом в Динабург и даже в Псков. Его дурно вылечили и отправили с выздоровевшими к армии в корпус Витгенштейна, который тогда стоял пред Полоцком. Николай был малый проворный; он сыскал подполковника Шефлера, который тогда был обер-квартирмейстером в корпусе Витгенштейна. Шефлер его знал и взял его к себе слугой. Николай, по ловкости своей, скоро приобрел доверие Шефлера и офицеров его, поручивших ему надзор за своими обозами. Когда Витгенштейн приблизился к Березине, Николай разведал, что главная армия находилась около Борисова, и, решившись отыскать меня, пустился ночью один, пешком, по снегу, без дороги, среди неприятельских огней, и на другой день к вечеру пришел в Борисов после 40-верстного перехода.
Пока я спал, Николай убрал вновь приобретенную мною лошадь. Он с собою принес из корпуса Витгенштейна пару новых сапог, которую я тотчас же надел, и предложил мне несколько рублей денег, которые сохранил; кроме того, он принес с собою сухарей и соли; сам же он был хорошо и тепло одет. Итак, из бедственного положения, в котором я находился, я вдруг очутился с лошадью, с деньгами, со слугой и сапогами. Этого мало! Как только Николай кончил рассказ о своих похождениях, въехали на двор мои сани с тремя лошадьми и прислугой. Подвода эта, оставшись от бесснежья в Красном, наконец, потянулась, не зная дороги, и долго блуждала среди разоренных и опустелых селений.
Всего стало довольно и, если б я не был болен, то более ничего не оставалось в то время желать, как только лучшего полковника начальником.
От возвратившегося слуги моего Николая узнал я, что с петербургскими дружинами, присоединившись к корпусу Витгенштейна, прибыли под Полоцк дядя мой Дмитрий Михайлович Мордвинов, двоюродный брат Александр Мордвинов и родственник Семен Николаевич Корсаков, племянник адмирала Мордвинова. На другой день прибытия к армии петербургских дружин, Витгенштейн атаковал Полоцк и был отбит; но неприятель, известясь об отступлении Наполеона, ночью оставил город, и Витгенштейн, заняв его, провозгласил победу, которую по всей России славили, говоря, что Полоцк штурмом покорен. Так, по крайней мере, разгласили официальные сведения, частные известия и слухи о сем деле. Говорили, что мы под Полоцком лишились более 8000 человек.
Дядя мой, камергер Мордвинов, командовал 5-й дружиной. Ему оторвало ядром выше колена ногу, которую тогда же отрезали. Государь дал ему за то генерал-майорский чин и Георгиевский крест 4-й степени. Брат Мордвинова также был в сем сражении и получил Владимирский крест. Из офицеров квартирмейстерской части убиты были подполковники Тилеман и Коцебу; ранен Вильдеман, а в плен взят подпоручик Мориц Коцебу 2-й.[94]
Авангард наш должен был переправиться чрез Березину, чтобы идти к Вильне; но старый мост был сожжен, надлежало новый построить за ночь, чтобы к рассвету войска могли перейти через реку. Черкасов поручил это дело мне, для чего и была назначена пионерная рота Геча; но как несчастная рота сия потеряла много людей от трудов и нужды, ею переносимых, то она не была в состоянии выставить более 50 изнуренных работников. Черкасов послал меня к принцу Евгению Виртембергскому, дабы потребовать от него людей. Все это происходило ночью. Принца разбудили, велено было дать мне из какого-то пехотного полка одну роту с офицером. Я пошел снегом прямо к бивуаку полка и, так как в назначенной к работе роте состояло только 15 оборванных и истощенных рядовых, то я пошел по городу и собрал жидов, которые вскоре все разбежались.
Наконец, около полуночи в темную ночь народ мой собрался на берегу реки. Надобно было изобрести, каким образом построить мост, ибо от старого, стоявшего на сваях, оставались одни концы, и, если бы приняться за поправку его, работу эту не кончили бы в три дня. Река была широкая и имела несколько островов; по ней шел накануне лед, который только что остановился, но все был еще в состоянии поднять человека. Трудно было придумать прочную переправу, и мы с Гечем решились переложить по льду с острова на остров бревна, связать их веревками и по бревнам сделать настилку, устроив как бы плавучий мост на льду. Такой мост тем был опасен, что многие бревна не были связаны за недостатком веревок, и, если б река тронулась, то его снесло бы неминуемо, и всю вину на меня бы сложили. Но нам иначе делать было нечего, и, решившись на сие предприятие, мы немедленно принялись за дело. Пехотинцев я послал набирать дрова, чтобы развести огни на берегах и островах, а пионеры стали таскать бревна для построения моста.
Мы разбирали на лес и на дрова стоявшую на правом берегу реки большую корчму, наполненную французами. Число их беспрестанно увеличивалось новыми жертвами, ибо вновь приходившие садились на мертвых товарищей своих и в бессознательном положении ставили пораженные ноги свои прямо в огонь, среди кружков их горевший. Сими пришельцами умножилось и количество трупов, устилавших земляной пол корчмы. В диком взгляде этих несчастных, иногда на нас обращавшемся, не выражалось ни просьбы, ни отчаяния, и они умирали, не показывая даже страдания: столь притуплены уже были мысли и чувства сих движущихся, полузамерзших и почти нагих привидений. О помощи им нельзя было и помышлять, когда мы сами едва были в силах себя выручать. Конечно, лучшая участь пала на тех из французов, которых признавали пленными; но кому было заботиться о призрении того множества бродящих мертвецов, среди коих двигалось вперед наше ослабленное от трудов и холода победоносное войско?
Желая ободрить уставших пионеров, я принялся сам за работу и таскал с ними бревна; между тем лед все становился крепче, и мы начали, хотя с опасностью, переходить по льду, причем мне доводилось быть по колена в воде, невзирая на свои больные ноги и покрывавшие их язвы. Геч с офицерами своими продрогли от холода, и они, оставаясь на берегу, грелись у огня. Я усердно трудился, как вдруг услышал голос Черкасова, который меня с берега звал. Я пришел на голос его с бревном на плечах. Он заметил мне, что, пускаясь в работу с нижними чинами, я ронял достоинство своего офицерского звания, на что получил в ответ, что я в том никакого стыда не вижу и что, напротив того, пример мой нужен для ободрения людей.
– Вы не исполняете своей обязанности, – сказал Черкасов, – вам следует только распорядиться, и от того, что вы сами работаете, вышло то, что еще ничего не сделано; вы уже три или четыре часа здесь, а моста и начала еще не видно.
– Вы можете видеть, – отвечал я, – что лес уже заготовлен и постройка моста сейчас начнется.
– У вас огни еще не разведены.
– Я послал людей за дровами, им ходить далеко. Огни скоро покажутся.
– Как, вы хотите еще оправдываться, не сделав ничего? Посмотрите, как у меня дело пойдет. Эй вы, – закричал он на людей с присоединением народного бранного выражения, – ступайте за дровами, разводите огни!
Казалось, что Черкасов был пьян. Случилось, что в то самое время посланные мною люди принесли дров и начали раскладывать огни.
– Видите, – продолжал Черкасов, – как только я пришел, так дело в ход пошло.
– Если б меня здесь не было, – отвечал я, – то вы прождали бы еще несколько часов, пока заготовили бы материал и развели бы огни; неужели вы в самом деле думаете, Павел Петрович, что вашим присутствием осветилась река?
– Как, вы еще забываетесь предо мною? Вот увидите: войска должны до рассвета переправляться, и если мост к тому времени не поспеет, то вы будете отвечать.
Затем Черкасов уехал, оставив меня с Гечем. Разведенные огни показали нам ужасную картину: по льду и по островам валялись трупы лошадей и людей, которые, вероятно, были принесены еще днем течением и вмерзли в лед.
Часа за два до рассвета мост был готов, и я поставил для караула пехотную роту с офицером, с приказанием, чтобы без моего позволения не пропускать ни одной повозки через реку; сам же собрался идти к Черкасову с известием о готовности моста. Но едва отошел я от берега, как встретил графа Ожаровского с партизанским отрядом, при коем находился и наш Дмитрий Дмитриевич Курута, исчезавший во все время, как великий князь отсутствовал из армии. Я обрадовался, увидев своего старого начальника, и возвратился к мосту, чтобы переправить отряд графа Ожаровского. Тут Черкасов опять явился. Ожаровский приказал сперва переходить обозам. Несколько повозок переехало в порядке; но как это долго продолжалось, то фурлейты и кучера стали напирать и совершенно сбили караул, мною поставленный. Опасаясь, чтобы мост не провалился от множества повозок на нем теснившихся, и видя, что никто о том не заботился, я сам начал останавливать их на берегу; но всякий старался скорее прорваться, и в общем натиске увлекли меня на самый мост, где я принужден был сторониться, чтобы не быть задавленным. Ночь была темная, беспорядок полный, лед трещал, все кричали, и я попался в самый омут, где прорывались повозки и ящики, между коими теснились всадники. Мост легко мог провалиться. Однако отряд Ожаровского прошел благополучно, и я возвратился на квартиру, где лег отдохнуть, но недолго отдыхал, потому что с рассветом авангард Милорадовича начал переправляться. Мы выступили из Борисова и прошли в тот день около 30 верст.
После нескольких переходов мы пришли в местечко Радушкевичи. Мороз был градусов в 30. В Радушкевичи приехал главнокомандующий. Так как уже не с кем было воевать, то он сдал командование армией Тормасову; сам же собирался ехать в Вильну в сопровождении Толя и под прикрытием небольшого отряда.
Я изнемогал. Не будучи более в силах бороться с болезнью при служебных трудах, но видя, что военные действия уже кончились, я подал Черкасову рапорт, в коем объяснял, что не в состоянии более продолжать службу, а потому просился в главную квартиру. Черкасову это было неприятно; но делать ему было нечего, как донести о том Толю, причем он на меня нажаловался.[95] Не менее того меня перевели по желанию; Черкасов же, призвав к себе товарища моего, Перовского, старался сблизиться с ним, обещая представить его к награде; обо мне же отозвался ему с дурной стороны. Подобными средствами Черкасов искал примирения со своими офицерами, которые его не любили. Но Перовский отвечал полковнику, что он напрасно меня обвиняет и что, если он, Перовский, заслужил награждение, то и я то же самое заслужил. Черкасов удивился такому отзыву, но еще более изумился, когда Перовский стал также проситься за болезнью в главную квартиру. Черкасов не мог уговорить его остаться и принужден был его уволить. Вскоре за тем заболели и другие офицеры, так что Черкасов остался совершенно один в авангарде; к нему прикомандировали подпоручика Бергенштраля, которого он также не удержал.
Однако Перовский получил два награждения за авангардную службу, я же ничего. Все товарищи мои получили тоже награды. Гораздо позже слышал я, что и меня представляли к Владимирскому кресту 4-й степени, но что я лишился сей награды оттого, что в общем представлении брата Александра и меня назвали не по номерам, а Муравьевыми старшим и младшим, потому что нас тогда только двое в армии оставалось (о Михайле же, давно раненном, не было и слуха, жив ли он или умер). Когда представление пошло далее, то выставили к именам нашим номера, старший был Александр, номер его 1-й, младший был Михайла, номер его 5-й, и таким образом Михайла получил мой Владимирский крест, который ему сочли после за Бородинское сражение; я же оставался без награды за всю авангардную службу. Так ли оно точно случилось, того утвердительно сказать не могу; но я не завидовал брату, а радовался, что он остался жив, и утешался своим крестом, который заслужил кровью. Без сего случая участь его была бы та же, как и многих раненых, находившихся в отсутствии или о существовании коих не имели сведений: его бы забыли.
Я отправился с Перовским из местечка Радушкевичи проселочными путями в главную квартиру, которую мы нашли после двухдневного путешествия. Тормасов заменил место главнокомандующего. Старик граф Местр был генерал-квартирмейстером. Мы к нему явились. Нам отвели квартиру и не обременяли службой, потому что болели мы действительно. Мы перешли с главной квартирой в местечко Ольшаны, где войска расположились на зимних квартирах на десять дней. Между тем адмирал Чичагов занял 6 декабря Вильну, куда вскоре прибыл и Кутузов. Говорили, что австрийский аванпост находился недалеко от Ольшан. Против них выставлен был от нас обсервационный корпус, который с ними, однако же, в дело не вступал, потому что с Австрией сделали договор прекратить военные действия против нас.
Австрийцы при начале войны вынуждены были вступить в союз с французами, но, видя бедственное их положение, они оставили союз с ними и присоединились к нам. Шварценберг, который командовал австрийским вспомогательным французам корпусом, начав свое отступление, ежедневно извещал нас накануне, куда он идти намеревается, дабы избежать столкновения. Часто форпосты наши встречались с австрийскими, однажды даже и пили вместе в каком-то местечке. Таким образом, Шварценберг оставил наши границы и отступил в Галицию под наблюдением нашего корпуса.
6 декабря, день моих именин, я провел в Ольшанах, созвал товарищей и достал жидовских музыкантов, которые наигрывали какую-то песню. Пышный ужин наш состоял из щей и куска жареной баранины.
Простояв десять дней в Ольшанах, главная квартира получила приказание идти в Вильну. Я с Перовским отправился днем ранее; после нескольких дней путешествия разоренными местами и между мертвыми и умирающими мы приехали чрез местечко Ошмяны в Вильну.
Прежде чем приступить к рассказу о моем кратковременном пребывании в Вильне, упомяну опять о бедственном положении, в котором находилось французское войско. Начиная от Вязьмы, преимущественно же от Смоленска до Вильны, дорога была усеяна неприятельскими трупами. Из любопытства счел я однажды, сколько их на одной версте лежало, и нашел от одного столба до другого 101 труп; но верста сия в сравнении с другими еще не изобиловала телами: на иных верстах валялось их, может быть, и до трехсот. Кроме того, места, где французы ночевали, обозначались грудами замерзших людей и лошадей. Я сам видел в Борисове шалаш, выстроенный из замерзших окостенелых тел, – шалаш, под коим умирали сами строители. Корчмы, выстроенные на большой дороге, были набиты мертвыми и живыми людьми. От разведенного среди них огня загоралась корчма, и все в ней находившиеся погибали в пламени. Такая была общая, почти без исключения, участь всех корчм и тех, которые в них укрывались от морозов и по большей части не в состоянии были выйти, по слабости, ранам или болезни.
Когда наша полиция вступила в исправление своих обязанностей, то трупы стали складываться в костры и, по обложении их дровами и навозом, сожигались, отчего распространялся отвратительный смрад, смешанный с запахом жженого навоза. И теперь, когда я слышу запах жженого навоза, то вспоминаю ужас 1812 года.
Однажды видел я нашего драгуна, хладнокровно гревшегося около большого костра мертвых французов; уходя, драгун взял еще из костра уголек и закурил трубку. Зима 1812 года была жестокая. Термометр Реомюра иногда показывал более 31 градуса.[96] Холода эти, может быть, предохранили нашу армию от заразительных болезней, производимых тлением тел. Но так как много трупов оставалось еще под снегом, то весной, когда сделалась оттепель, они стали гнить и произвели эпидемию, которая опустошила те губернии, чрез которые неприятель отступал.
Я слышал, что крестьяне, заметив какое-нибудь получше платье на мертвом теле, приносили тело в избу и оттаивали его на печи до состояния мягкости членов, после чего скидывали платье и, обшарив карманы, иногда находили в них деньги. Случалось им находить деньги даже в сжатом кулаке умершего, причем гнилое тело заражало всю семью, которая вымирала и передавала заразу соседям и так далее. Ополчения, которые проходили чрез сии места в 1813 году, лишились во время похода почти половины своего народа.
Случалось мне, что, едучи ночью, подвернется замерзший труп между полозьями; отверделые руки его останавливали сани, так что надобно было вылезать и вытаскивать мертвеца из-под саней. Ужасное зрелище представляли и различные положения, в которых умирали французы. Некоторые были совсем вдвое согнуты, у других лица изуродованы от ударов об лед при падении. Снег заносил тех, которые лежали в канаве, и случалось видеть руку с сжатым кулаком или почерневшую ногу, которая торчала из-под снега. Я видел одного француза, замерзшего, стоя на коленях, руки сложа в положении просящего помощи.
Казаки наши забавлялись мертвыми: они их втыкали головами в снег, ногами вверх, врознь, сажали их друг на друга верхом, выставляли их рядами к стенам строений, составляли из них группы в неприличных видах, впрягали замерзшие тела к оставленным на дороге французским орудиям, сажали их по нескольку человек в брошенные коляски и дрожки. Проезжая чрез Ошмяны, я видел один дом в два этажа без оконных рам и без дверей, но во всяком окне стояло, опершись на край, человека четыре замерзших француза. Голые тела сии в отверделом положении своем выражали еще страдания, в которых они умирали. Зрелища ужасные, с которыми мы тогда свыкались! В числе замерзших встречались и женщины, тоже нагие. Одну я видел лежавшую на спине, ногами врознь, со вставленным между ними ветвистым прутом. Так забавлялись казаки. Пехотинцы были скромнее, ибо их изнуряли переходами; они страдали от холода, часто и от голода. Старания их ограничивались только тем, чтобы поживиться около мертвого шапкой или изорванным кафтаном. Когда не могли сего сделать, потому что платье примерзло к телу, то довольствовались тем, что спарывали с них пуговицы. Кавалеристы домогались своего: они сдирали подковы с палых лошадей. Артиллеристы срывали железо с брошенных лафетов и шины с колес.
Число трупов, устилавших дорогу, увеличивалось множеством французских офицеров и солдат, более похожих на тени, чем на живых людей, которые брели в сильнейшие морозы, голые и босые, среди отшедших товарищей своих, и к ним по пути валились. На редком из них были мундиры, большей же частью накрывались они чем попало. У многих были на головах ранцы вместо шапок, у иных оставались на головах кирасирские каски с длинными конскими хвостами; сами же кирасиры были голые и накрывались рогожей или обвивались соломой. Я видел одного из таких, который, опираясь на палку, вел под руку женщину; несчастная чета едва на ногах держалась и просила хлеба у прохожих: «Клиеба, клиеба!» Иные скрывались в соломе по селениям, лежащим в стороне от большой дороги.
Однажды случилось мне ночевать в уцелевшей деревне; слуга мой пошел на крестьянское гумно, дабы достать корма для лошадей, и когда он стал набирать солому, то из оной выскочили два голых француза, которые так быстро убежали в лес, что их не могли остановить. Французы преимущественно толпились там, где лежала падаль, около которой они дрались и рвали ее на куски. Они обступали наших мимо идущих, прося на всех европейских языках хлеба, службы или плена. Но какое пособие можно было оказать сим страдальцам, когда мы сами почти бедствовали от нужд? Некоторые из наших офицеров уверяли, что они видели, как французы, сидя у огня, пожирали члены мертвых товарищей своих. Сам я не видал этого, но готов тому верить.
Многие французы почти требовали, чтобы мы их в плен брали, и говорили, что мы обязаны были призреть обезоруженных людей; но они не имели права ссылаться на существующие между воюющими обычаи, когда сами столь явно нарушали их жестокостями, разорением и грабежом, которые они в нашем отечестве производили. Наполеон расстрелял многих наших солдат пленных, когда не имел, чем кормить их; отставшим же от его армии солдатам насилия мы не делали: они сами погибали от того, что нечем было их содержать. Из них выбирали, однако, немцев, которых привели внутрь России и сформировали из них легионы, присоединившиеся впоследствии в Германии к Прусской армии. Посылали также казаков набирать пленных, которых сгоняли в одно место и потом отсылали во внутренние губернии колоннами, состоявшими из двух или трех тысяч человек; но продовольствия им, за неимением оного, не могли давать. На каждом ночлеге оставались от сих партий на снегу сотни умерших. Некоторые на походе отставали. Однажды встретился я с такой колонной, в которой сделалась драка. Поссорились за то, что один из них нашел на дороге отрезанную лошадиную ногу и, подняв ее, стал грызть; голодные товарищи, увидев сие, бросились на него, чтобы отнять добычу, и задавили бы его, если бы казаки, въехав в толпу, не разняли дерущихся плетьми и пиками.
Жесточе всех обходились с пленными крестьяне, которые зарывали их живыми в землю.
– Пускай он своею смертью помрет, – говорили они, – мы не будем отвечать за убийство пред Богом.
Иные покупали их у казаков за несколько грошей, приводили к себе в деревню и передавали нечистого врага (как они называли французов) связанного ребятишкам на умерщвление с истязаниями всякого рода, чтобы дети их, говорили они, разумели, как истреблять нехристей. Может быть, что дошедшие до меня рассказы о том были преувеличены; но я сам слышал одного крестьянина, говорившего, что «пленные вздорожали, к ним приступу нет, господа казачество прежде продавали их по полтине, а теперь по рублю просят».
В 1812 году взято было нами в плен 180 тысяч человек, из коих едва ли 30 тысяч возвратились в свое отечество. Французы оставили в России 1400 орудий и всю казну, от которой обогатились преимущественно казаки. Довольно странно, что некоторые из бродящих по дороге французов, забыв опасность, грабили вместе с казаками казну Наполеона и, в общей суматохе, лазили в фургоны, от коих, разумеется, были отбиты. Иным, однако же, удавалось вытащить несколько золота, которое у них, впрочем, на месте же и отбирали.[97]
Наши солдаты тоже много потерпели от холода. Потеря наша замерзшими состояла, может быть, более чем из 1000 человек. Кроме того, люди у нас от трудов сильно ослабевали. На переходах оставалось по дороге большое количество усталых, из коих часть впоследствии присоединилась к своим полкам, другая же сворачивала в сторону от дороги и бродила по селениям. Помню, что под Радушкевичами весь Минский пехотный полк состоял только из 80 человек нижних чинов; в иных ротах других полков было только по 7, 8 и 10 рядовых. Солдаты ходили в лаптях, одевались в серые крестьянские кафтаны и в чем попало. И офицеры немногим лучше одевались; многие ходили в нагольных тулупах и отличались от рядовых только остатками нитяного шарфа, которым подпоясывались.[98]
По прибытии в Вильну численность нашей армии значительно уменьшилась. Войско, приведенное из Молдавии Чичаговым, находилось в лучшем состоянии, почему мы расположились около Вильны на квартирах, а Чичагов продолжал преследование неприятеля до Ковны, где он и остановился на р. Неман.
После соединения с главной армией на р. Березине Витгенштейн снова отделился для преследования остатков французских корпусов – Удино, Виктора и Сен-Сира и для наблюдения за Прусским корпусом генерала Йорка, который находился в Митаве. По сделанному с ним договору, военные действия с пруссаками прекратились, после чего они отступили в свои границы. Затем последовали с прусским королем переговоры о вступлении с нами в союз. Витгенштейн перешел за Неман и взял несколько прусских городов, которые были заняты французами.
Вскоре государь и великий князь Константин Павлович приехали в Вильну. Кутузов был пожалован званием светлейшего князя Смоленского и орденом Св. Георгия 1-й степени; чином фельдмаршала был он награжден еще за Бородинское сражение. Государь, невзирая на заслуги, оказанные войсками, ознаменовал прибытие свое в Вильну арестованием нескольких офицеров гвардейских за несоблюдение формы в одежде. Константин Павлович, по добродушию своему, много заботился об облегчении участи французов, погибавших ежедневно сотнями на улицах Вильны. Наш генерал граф Сент-При был назначен для призрения пленных, которые называли его своим благодетелем. В Вильне встретился я с родственником, Николаем Аполлоновичем Волковым, с которым некоторое время вместе учился у моего отца. Он только что определился на службу из камер-пажей, откуда был выпущен поручиком в какой-то егерский полк, из которого Сент-При взял его к себе в адъютанты, причем перевел тем же чином в лейб-гвардии Семеновский полк; теперь же Волков уже полгода полковником.
При вступлении в Вильну улицы во многих местах были завалены мертвыми французами; везде жгли навоз для предохранения города от заразы. Оставшиеся в Вильне французы во множестве бродили по улицам полунагие, испрашивая милостыни у проходящих; в числе их были штаб– и обер-офицеры. В госпиталях их лежало по нескольку человек на одной кровати и под кроватями. Мертвых же (иногда и умирающих), которых не успевали выносить, выбрасывали из окна со второго этажа на улицу. Мы застали еще в Вильне сформированных французами из местных поляков жандармов, которые при нас еще несколько времени исправляли полицейские должности. В Вильне приобретены были нами большие склады оружия, амуниции и платья, коего часть продали прусскому королю, потому что он был совершенно обобран и ему трудно было вооружить армию для содействия нам.
Приехав в Вильну, я остановился с Перовским на прежней квартире моей, в доме Стаховского в Рудницкой улице; но Стаховского самого в городе не было, и, как я был знаком с евреем, который в сем доме жил со своим семейством, то я у него остановился в одной с ним комнате. Еврей этот был человек умный, начитанный и гостеприимный. Он меня принял очень хорошо и дал мне лучший угол в комнате, где лежал старый больной отец его. Я был так слаб, что не мог выходить. Когда я снял с себя солдатскую шинель, то нашел на себе только остатки сюртука, когда же скинул сапоги, то увидел вместо носков только лоскутки вязаных ниток. Я обмылся, очистился и через два дня достиг до того, что мне только оставалось сапоги переменить. Я вспомнил, что в санях была еще какая-то пара сапог, но когда хватился, то не нашел ее более: старый мой московский повар Евсей Никитич, по прибытии в Вильну, принялся пить и, пропив свои деньги, спустил туда же и мои сапоги. Евсей Никитич только по вечерам возвращался домой на четвереньках, и как он не был в состоянии переползти через высокий порог калитки, то ночевал на улице; когда же переправа через порог ему удавалась, то он забирался в сани, спал и на другой день снова отправлялся до рассвета в шинок променивать пожитки мои на вино.
Однажды сидел я ввечеру с Перовским в единственно освещенном углу довольно обширной комнаты моей, читая la Henriade Travestie[99] (книга, помнится мне, поднятая после Краснинских дел на большой дороге, где часто находились выброшенные из французских фургонов книги, добытые ими при разграблении ими Москвы). Мы смеялись обороту, который дан сочинителем рассказу о смерти Генриха IV: «A ces mots le roi fit un pet, et ce fut le dernier qu’il eut fait»,[100] как обоняние наше было неожиданно поражено самым отвратительным запахом.
Оглянувшись, мы увидели в темном углу француза, стоявшего на коленях в дверях; он был почти совсем наг. Вместо шапки и обуви голова и ноги его покрывались от стужи телячьими ранцами. Он прочитал молитву Pater Noster[101] и, вползши в середину комнаты, расположился на полу, чтобы перевязать отмороженные ноги свои, от тления коих распространялся ужасный смрад. Я крикнул ему, чтобы он убирался; но француз, не трогаясь с места, просил пощады.
– Ayez pitié de moi, – сказал он: – je n’ai que quelques heures à vivre: tout ce je vous demande c’est de me permettre dépasser un quart d’heure chez vous pour me remettre un peu du froid, et puis je m’en irai crever dans la rue.[102]
Меня тронул голос отчаяния, с которым он произносил сии слова, и я вступил с ним в разговор. На спрос мой, какого он полку, он, сидя на полу, приставил руку ко лбу и отвечал:
– 30-me draguons provisoire, commandant.
– Votre régiment était-il fort on entrant en campagne?
– Commandant, il comptait 1000 hommes à cheval.
– Pourquoi avez vous quitté le régiment?
– Je n’en pouvais plus de fatigue, de faim et de froid.
– Restait-il alors encore beaucoup de monde an régiment?
– Commandant, il n’y avait plus d’officiers, et il ne restait que 14 hommes a pieds.
– D’ou venez-vous en ce moment?
– Je viens de Molinsky. (Смоленск.)
– Et vous n’avez pas vu vos camarades?
– Commandant, non, je ne les ai pas rencontres; les auriez vous vu par hasard?
– Vous avez passe devant eux. Ils sont étendus sur la grande route.
– Commandant, il est bon à vous de plaisanter; je vous assure que j’envie bien leur sort: ils ne souffrent plus, et moi je devrai encore passer quelques heures dans la rue avant de mourir.
– Désirez-vous vraiment mourir?
– Commandant, si j’en avais seulement les moyens, je ne différerais pas d’une minute.[103]
Желая видеть, как он на себя руку наложит, я подал ему свой пистолет незаряженный, насыпав при нем порох на полку. Драгун, сидя на полу, почти вырвал у меня пистолет из рук и, взяв дуло в рот, спустил курок; но выстрела не было. Однако же он, в ожидании смерти, невольно вздрогнул. Увидав, что пистолет не был заряжен, он отдал его, сказав:
– Commandant, il est cruel à vous de me duper ainsi! J’attendais avec impatience le moment ou j’allais cesser de souffrir; j’attendais ce moment de votre bienfaisance, quand vous me présentiez l’arme; mais elle n’est pas chargée. Allez! Ce n’est pas bien a vous de prolonger ainsi mes souffrances en reculant l’instant désiré de ma mort; je m’en irai geler cette nuit, tandis que tout aurait pu être termine dans ce moment.[104]
Мне понравилась твердость духа этого несчастного. Я ему дал поесть и рубль серебром:
– Pour charger l’arme, – присовокупил я, – une autre fois que l’envie vous prendra de vous plomber la cervelle.[105]
Перовский ему тоже дал рубль, и сверх того я его послал с запиской к Волкову, чтобы его приняли в госпиталь и имели хорошее за ним смотрение. Волков, как выше сказано, был адъютантом у графа Сент-При, которому поручено было смотреть за пленными французами. Волков при свидании уверял меня, что просьба моя была исполнена, почему полагаю, что этот француз, которого я, впрочем, более не видел, выздоровел.
Когда я несколько оправился в силах, так что мог выходить, то пошел к князю Петру Михайловичу Волконскому проситься в отпуск в Петербург для излечения болезни. Князь подробно осведомился о состоянии моего здоровья и приказал идти к Толю для получения отпуска. Так как я еще в Радушкевичах просился через полковника Черкасова в отпуск, то напомнил о том Толю, сказав, что до сих пор не получил еще разрешения. Толь отвечал мне, что Черкасов отнесся обо мне с невыгодной стороны, что, впрочем, отпуск давно отправлен ко мне по начальству. Толь не стал бы разбирать моей ссоры с Черкасовым, а потому, во избежание новых неудовольствий, я промолчал и вышел от него. Но билета на отпуск я нигде не мог найти и уже отчаивался ехать в Петербург, как неожиданно вошел ко мне родственник мой, Артамон Муравьев 3-й, который состоял при Чичагове и приехал с Немана в Вильну, чтобы выхлопотать себе также отпуск в Петербург. Бумаги мои ошибкой к нему попались, и он их привез, чему я крайне обрадовался, и мы уговорились вместе ехать. В то же время пред отъездом моим я получил жалованье и фуражные деньги, так что с теми деньгами, которые у меня еще оставались, собралось у меня до 700 рублей ассигнациями.
1812 года 31 декабря ввечеру приехал я в Петербург прямо к дяде Николаю Михайловичу Мордвинову, у которого воспитывалась с дочерьми его сестра моя Софья. Я вошел в комнаты в дорожной своей одежде, бурке и башлыке. Меня не узнали и, как тогда были Святки, то приняли сначала за кого-нибудь из переодевшихся дворовых людей. Меня долго осматривали и узнали только тогда, когда я скинул башлык. Все бросились меня обнимать, и я был истинно счастлив видеть себя снова в кругу близких и любящих меня родных, после целого почти года, проведенного вдали от своих, в трудах, нуждах всякого рода и без известий о своих домашних и близких людях. Дело, разумеется, началось с чая; посадили меня, и все, расположившись около меня, стали расспрашивать. Одна только тетка Катерина Сергеевна уговаривала меня отдохнуть, предоставляя себе удовольствие беседы до другого дня. Но, прежде всего, хотелось мне расспросить об адмирале Мордвинове и дочери его Наталье Николаевне, и я узнал, что во время вступления неприятеля в Москву он уехал с семейством в новое свое Пензенское имение. О батюшке имелись неполные сведения, ибо он редко писал. Я узнал, однако же, что он вступил в службу по кавалерии полковником и формировал ополчение в Нижнем Новгороде. Полагали, что брат Александр тоже в Нижнем Новгороде. Там же находился и брат Михайла, который выздоравливал от полученной им под Бородиным раны.
Переночевав у дяди, я на другой день переехал в казенный дом Кушелева, где полковник Эйхен дал мне прежнюю мою квартиру. Я начал лечиться у нашего штабного врача Свеяского, который прописал мне купоросные кислые капли. Дня два принимал я их с водой и оставил; скорее полагаю, что впоследствии получил облегчение от молока, которое постоянно продолжал пить.
* * *
Итак, кончилась моя первая кампания 1812 года. Я много перенес, много трудился и был крайне утомлен; но, пережив страдальческое свое положение, много приобрел опытности, хотя много потерял по службе, ибо товарищи обогнали меня в чинах: я стал даже ниже тех, которые в 1811 году были колонновожатыми под начальством моим, уже были поручиками, а я оставался прапорщиком. Это произошло оттого, что я имел несчастие служить под начальством человека негодного, который был вообще презираем и своими начальниками, и подчиненными. Теперь еще не могу хладнокровно слышать имени Черкасова. Он был причиной, что я несколько раз провинился по службе, хотя не буду и себя в том оправдывать.
Когда я несколько поправился в здоровье, то, в намерении отыскать братьев, отпросился в отпуск в Москву. С чувством благоговения и горести увидел я развалины нашей старой Москвы. Я проезжал пустырями в тех местах, где прежде возвышались здания, и на сих пустырях торчали одни трубы сгоревших строений. К тому времени собралось уже много обывателей, но они жили тесно, помещаясь в лачугах, кое-как ими построенных на зиму. Замоскворечья более не существовало; Кремль был как бы выворочен наизнанку: древние стены его во многих местах обрушены, церкви разорены. Мы, русские, могли гордиться развалинами нашей древней столицы, принесенной в жертву для спасения отечества.
С увлечением въехал я в уцелевший дом князя Урусова,[106] где стекалось так много воспоминаний из нашего юношества, и спешил все в нем осмотреть. В больших парадных комнатах помещался у французов госпиталь; стены были попорчены гвоздями, вколоченными для развешивания амуниции; мебель была поломана и вчистую ободрана. На образах домовой церкви князя Урусова сделаны были похабные французские надписи. Из фамильных портретов, развешанных по стенам занимаемых нами комнат, только некоторые остались, и те были прорваны. Библиотека отца моего была растаскана, и сочинения разрознены; везде видны были следы грабежа и бесчинства, как бы после нашествия вандалов.
Случилось, что брат Александр прибыл из Нижнего Новгорода в Москву перед самым моим приездом. Велика была наша радость друг друга увидать. Я узнал, что батюшка вступил в военную службу и определил в оную несколько из своих учеников, которых было уже довольно много; узнал, что отец формирует в Нижнем ополчение и был назначен начальником штаба к графу Петру Александровичу Толстому, который командовал сими ополчениями; что князь Урусов был очень недоволен на батюшку за то, что он его оставил, и даже намеревался отказать ему от наследства; но что батюшка, невзирая на сие, не оставил службы; что у него нечем было нам помочь; что князь Урусов отказался от вспомоществования нам и, дав Александру 500 рублей, сказал, чтобы впредь мы ничего более от него не ожидали.
Обстоятельства сии были не весьма утешительны. Проезд мой до Москвы и обратно ложился на мои скудные средства, а сверх того нужны были еще деньги, чтобы возвратиться в армию. Брату предстояли те же затруднения, и мы пригласили по сему случаю на совещание приятеля нашего П. А. Пустрослева, который занимал тогда место почт-директора в Москве.[107] Он был женат на сестре Колошиных, с которыми мы были дружны.
По совету Пустрослева я написал самый умеренный счет того, что мне было необходимо, чтобы снова отправиться в поход, и после долгих прений мы решили, что для подъема нужно было 700 рублей, кроме тех денег, которые мне надобно было при себе иметь на покупку, по прибытии в армию, лошадей. Мы имели надежду на дядю Николая Михайловича Мордвинова и на Петербургскую деревню Сырец, из которой отец получал от трех до четырех тысяч в год дохода. Дядя управлял этой вотчиной и употреблял часть получаемых им денег на воспитание сестры нашей Софьи, которая у него жила. Мы не ошиблись в предположениях своих, и Сырец снабдил нас средствами к отъезду в армию.
На обратном пути из Москвы в Петербург я своротил из Новгорода влево в Сырец, где, переговорив с приказчиком, возвратился через г. Лугу в Петербург и представил дяде Мордвинову составленную мною в Москве с помощью Пустрослева записку. После некоторых затруднений он выдал мне потребные деньги, и я снарядил себя в поход, а затем у меня оставалось налицо еще до 80 червонцев. Я взял с собою моего верного Николая и еще бывшего кучера Артемья Морозова, которого одел в казачье платье. Слуга он был тоже верный и старательный, но любил выпить.
Когда я приготовился выехать из Петербурга, то на меня навязали двоюродного брата моего Николая Мордвинова с просьбой доставить его в армию. Отцом его был родной дядя мой Владимир Михайлович Мордвинов, храбрый генерал, раненный в 1807 году. Николай воспитывался в кадетском корпусе; он не был лишен природных дарований и ловкости, но, к сожалению и стыду фамилии, уже ранее обладал всеми пороками, знаменующими преступника: ложь, обман, воровство, нахальство и т. п. Он пускался во все, что только можно было придумать пошлого и безнравственного. И такого спутника передали мне на руки. Он был уже несколько раз наказан телесно отцом своим, который не знал более, что с ним делать. Поручая мне своего сына, он предоставил мне право тоже наказывать его, если бы я то признал нужным. Николаю Мордвинову, тогда только что выпущенному из кадетского корпуса в артиллерию прапорщиком, не было более 16 лет от роду. Он дурно кончил свое поприще службы и жизни, был несколько раз разжалован и, наконец, выключен из службы, сослан в отдаленные губернии и погиб в кабаке. В уважение желания дядей я не мог отказаться от такого спутника. При последних увещаниях, которые ему делали, он прослезился, будто раскаялся; но другого подобного лицемера на свете не было, и он в пути много причинил мне хлопот.
Квартирмейстерской части полковник Эйхен, остававшийся в Петербурге при местном управлении нашим штабом, отправил со мною два ящика с инструментами для доставления их к князю Петру Михайловичу Волконскому.
По ведомостям видно было, что наша главная квартира находилась тогда в Калише, что в герцогстве Варшавском, и что Витгенштейн был уже в Пруссии. Так как по дороге на Ригу было менее езды, чем через Псков и Динабург, то я, во избежание задержки в почтовых лошадях, избрал себе путь через Остзейские провинции, тем более что мне хотелось видеть страну сию, в коей до того не был.
Здоровье мое поправлялось, и хотя последние язвы на ногах скрылись уже во время похода, но я не замедлил выездом своим из Петербурга.
Мне было прискорбно видеть, что отстал по службе от своих товарищей, и я спешил ехать в армию, при ревностном желании вознаградить потерянное. Но в сих делах, как и во многих других, часто случается, что успех зависит более от счастья. Начинания мои во второй кампании были иные, чем те, которыми сопровождался первый поход мой. Хотя и тут еще долго не везло мне счастье по службе, но я уже был несколько постарее, опытнее; военные действия происходили в Германии, где мы не видели той нужды, которую переносили в 1812 году, при отступлении к Москве и в зимнем походе до Вильны. Я не был болен и не имел Черкасова начальником. Кажется, если б я самого Черкасова увидел на испытании, претерпенном мною в 1812 году, то пожалел бы и о нем.
Часть третья Со времени второго выезда моего из Петербурга в армию 1813 года до конца перемирия в Шлезии и до выступления в поход в Богемию того же года Вторая кампания
Помнится мне, что я выехал из Петербурга в конце марта месяца. Погода была прекрасная, весна показывалась во всей красоте своей; но я удалялся от родных, не видав отца и меньшего брата, потому скучал.
Хотя у меня имелось несколько денег, но я был бережлив, ибо опытом дознал, что достаток немало способствует к достижению успехов по службе: обширнее связи и круг знакомства, лучше и теплее одет, отчего удобнее переносишь труды; наконец, верховые лошади исправнее и в большем количестве, следственно более средств деятельно исполнять свои обязанности. Начальство охотнее пользуется сими преимуществами офицера и при возложении на него поручения не входит в рассмотрение средств на то имеющихся, от чего часто случается, что лучшими офицерами считают тех, которые исправнее движутся. Скажу, что, с сей точки зрения, служба офицера квартирмейстерской части в военное время становится одной из труднейших, а часто и неблагодарной.
Во вновь предстоявших трудах мне следовало заботиться о вознаграждении потерянного по службе. Я сохранил те же чувства гордости и честолюбия, как при начале 1812 года, но опытом был научен, что рыцарских добродетелей недостаточно там, где нет рыцарей.
Около Дерпта встречались мне на дороге волки. Первый, которого я увидел, покойно сидел на большой дороге впереди нас. Остановив повозку, я пошел к нему с обнаженной саблей; он подпустил меня довольно близко, потом, не торопясь, встал и сел у опушки леса, скаля зубами на меня. Я осторожно подходил с поднятой саблей к волку, который не двигался; но когда я с криком бросился на него, то он убежал в лес и через несколько секунд очутился за повозкой. Я опять пошел за ним, но он медленно отступал и, как видно было, не боялся меня; когда же я заметил, что волк слишком далеко заманил меня от повозки, то воротился и продолжал путь.
На другой станции огромнейший волк, перебежав через дорогу, спрятался в кустах. Я опять остановил повозку и, вооружась саблей, пошел за ним в лес, раздвигая густые ореховые кусты, как вдруг увидел перед собой волка не более как в трех шагах; голова его была огромная, и он, вытянув шею, показывал мне зубы, как будто хотел броситься на меня. Я был один, посмотрел на него, подумал и отступил, не оборачиваясь к нему задом. Лишь только я в повозку сел, как другой волк перебежал опять через дорогу, но я оставил его в покое. Явно было, что хитрый зверь сей делал засады для одиноких людей или неосторожных прохожих.
От Риги до Ковны заметны были следы неприятеля, но гораздо менее, чем те, которые видел я по дороге от Москвы до Вильны. В иных местах оставались еще видны ретраншементы, построенные пруссаками.
Из Ковны избрал я себе путь через Кёнигсберг, чему причиной было желание мое скорее увидеть немецкую землю, минуя разоренные места Варшавского герцогства, которое было немного чем в лучшем положении Литвы, особливо на наших границах. Кроме того, мне хотелось видеться с двоюродным моим братом Александром Мордвиновым, который служил в 5-й дружине Петербургского ополчения, направившейся к осаде крепости Данцига через Кёнигсберг. Наконец, меня всего более побуждало к избранию этого пути желание видеть служившего в том же ополчении С. Н. Корсакова и что-либо узнать от него о двоюродной сестре его, меньшей дочери адмирала Мордвинова; но Корсакова видеть мне не удалось, а по приезде в армию получил я замечание от князя Волконского за то, что долго в дороге пробыл.
Первый встретившийся мне на пути прусский город был Гумбинен. Поразили меня тщательно обработанные земли, хороший и чистый городок. Дороги были обсажены деревьями, везде заметны порядок, промышленность и благоустройство; обыватели образованные и гостеприимные, особливо к русским, в которых признавали спасителей их отечества. С уважением приняли меня в ратуше, где бургмейстер тотчас подвинул для меня стул, набил мне трубку, подал огромный стакан пива и начал рассказывать прежние свои подвиги, ссылаясь на старого толстого ландрата, коего плешь на голове сияла как светило и который подтверждал слова его протяжным «Ja, ja».[108] Добрым немцам дай только случай потолковать: они все забудут и полюбят внимательного слушателя, особливо, если он хорошо знает немецкий язык. По окончании рассказа о своих подвигах бургмейстер начал читать мне стихи, сочиненные городовым учителем школы. Стихи сии заключали жалобу прусских волов на французов, которые их крепко истребляли. Сочинение было довольно глупое, но вся ратуша хохотала от чистого сердца, и я, глядя на карикатуры предо мной сидевшие, не мог удержаться от смеха. По прочтении стихов и по восстановлении тишины бургмейстер излил свой гнев на французов, которые Пруссию порядочно ограбили.
В самое это время вошел в горницу французский полковник, которого вели в плен. Он жаловался, что ему не дают мясной порции, на что в ответ бургмейстер начал читать ему жалобу волов в стихах. Француз ничего не понимал и только повторял:
– Que, sacre Dieu, viennent-ils me lire, quand j’ai besoin de manger.[109]
Я служил им переводчиком; наконец, француза отправили, сказав ему, что Наполеонова армия всех волов в Гумбинене поела, чем он остался весьма недоволен.
Бургмейстер меня так полюбил, что не хотел ни под каким видом отпустить и упрашивал, чтобы я ночевал в городе.
– Ich werde Ihnen ein Quartier verschaffen mit bester Verpflegung,[110] – говорил он; но я не согласился, и мне подвезли vierspannige Vorspann’s-Fuhr,[111] большую фуру, в которую можно бы 15 человек поместить. Ее навалили полную сеном, на котором я разлегся со своими людьми, фура тронулась шагом и так медленно подвигалась, что, отъехав полторы мили, я должен был остановиться на ночлег в деревне, где нашел тот же порядок, как и в городе: та же ратуша, в коей заседал шульц. Мне отвели квартиру и на другой день также снабдили фурой для дальнейшего следования. Такими удобствами для проезжающих военных обязаны мы были французам, которые, при долговременном своем пребывании в немецкой земле, без зазрения совести делали непомерные требования и обижали жителей, если прихоти их не в точности выполнялись. Французские солдаты, стоя на квартире у порядочных людей, делали то же самое, и добрые немцы, наконец, уверились, что так должно быть; они были счастливы, когда видели со стороны наших офицеров вежливость и благодарность.
Я приехал в Инстербург, где взял квартиру для ночлега, и написал оттуда письма в Россию. В городе собралось много фрейвиллигов, или вольноопределяющихся, все конные. В числе их находились и молодые люди высших сословий, которые определялись рядовыми; они вооружались и одевались на свой собственный счет и составили в армии особый корпус под названием das freiwillige.[112] Во всей Пруссии вооружались, и отряды вольнослужащих были довольно многочисленны. Ратники сии дрались храбро, но многие из них случайно попались к французам в плен в начале последовавшего перемирия, когда не успели еще всем войскам разослать повеления о временном прекращении военных действий. Было также много пеших вольнослужащих, и в числе сих находились мальчишки 14-ти и 15-летние. Они вооружались короткими штуцерами, которые далеко били; самые же егеря стреляли весьма метко и редко выпускали напрасный выстрел. Их сформировали в баталионы, и стрелки сии заменяли старых солдат с большим преимуществом. Те конные вольнослужащие, которых я в Инстербурге видел, были плохие кавалеристы, хотя и одевались в длинные гусарские венгерки. Ими командовал отставной старый гусарский поручик, который некогда служил в отряде славного майора Шиля, в 1808 или 1809 году. Он выводил своих охотников в поле и учил их поодиночке наездничать, что они довольно неловко делали, но показывали большое уважение к своему старому поручику, горели любовью к отечеству и питали непримиримую вражду к французам. Все они с нетерпением ожидали выступления в поход, чтобы сразиться с бывшими их угнетателями.
Из Инстербурга ехал я чрез Татау, любуясь обработанностью местности, и прибыл в Кёнигсберг, где находился в должности военного губернатора с нашей стороны бывший шеф Новороссийского драгунского полка генерал-майор Сиверс. Этот Сиверс был большой хлопотун, но человек бестолковый, грубый и, говорили даже, пьяный. В спорных случаях с обывателями он, в угодность пруссакам, притеснял русских; но ему, кажется, не удалось это, ибо слышно было, что по выезде его в Россию от прусского двора представлен был государю начет, сделанный на Сиверса за время бытности его в Кёнигсберге комендантом. Не знаю, чем это дело кончилось.
Приехав в Кёнигсберг, я пошел в канцелярию Сиверса, чтобы получить квартиру и позволение провести несколько дней в городе, всех между тем спрашивая о двоюродном брате моем Александре Мордвинове, как он неожиданно со мною встретился, чему я очень обрадовался. Он по знакомству своему тотчас доставил мне квартиру на большой улице, недалеко от Armen-Brüder, у madame Коллевино (Collevino), доброй и толстой немки. Муж ее был тоже добрый немец, чем-то торговал, ходил напудренный, с косой, и по утрам прибегал ко мне с известием о новом поражении французской армии, показывая письма, полученные им из разных мест. «Noch eine Pataille!»[113] – были всегда его первые слова. Вести сии завлекали его в политические суждения, причем он не щадил всей Германии[114] в пользу Пруссии, делил царства, и ничего более в ответ от меня не требовал как «Ja!». У него были две хорошенькие взрослые дочери и один сын, недавно определившийся в вольнослужащие егеря.
С. Н. Корсаков находился с Петербургским ополчением при осаде Данцига, почему я не надеялся его увидеть; сам же Мордвинов был отпущен на короткое время в Кёнигсберг. Я с ним однажды обедал у брата коменданта, пионерного генерала Сиверса 2-го, с которым был еще в Петербурге знаком в 1811 году. В тот же вечер пошли мы в театр, где играли Сандрильону, Die Aschen-Brodel.[115]
В Кёнигсберге состоял в то время один жандармский офицер пруссак по имени Танкред von чего-то, который был знаком с моей хозяйкой. Однажды, зазвав его к себе, я просил его пригласить его товарищей и употчевал их до такой степени, что они без проводников не могли домой идти. Странно покажется, что я послал за незнакомыми офицерами, чтобы вместе вечер провести, но такое обращение водилось между пруссаками и русскими офицерами: встречаясь с незнакомым на улице, пруссак жал русскому руку и называл его mein bester Camrad или Herr Camrad.[116] Наши солдаты также дружно жили с прусскими. Наша гвардия во всю кампанию стояла попеременно в карауле у государя с королевской гвардией и, по смене, солдаты обеих наций пожимали друг другу руки. Прусские солдаты имели более денег, чем наши, и, называя наших своими избавителями, водили их в трактиры и потчевали. Они дивились, как наши выпивали водку стаканами, и слушали со вниманием рассказы наших, хотя и не понимали их. Пока напиток еще не начинал действовать, все происходило дружно и миролюбиво; когда же наши, употребляя без меры даровую водку, напивались допьяна, то заводили ссору с пруссаками, драку и выгоняли их с побоями из трактира. Немки вообще оказывали много склонности к русским и часто поддавались соблазну. Женщины хороши собою в Германии, а особливо в Саксонии. К слабости присоединяют они любезность, ловкость и, что удивительно, хорошие правила, так что их нельзя называть развратными, и они не вызывают к себе презрения, а скорее внушают участие.
В Кёнигсберге я нашел нашего поручика Окунева, квартирмейстерской части, который был захвачен в плен французами в Бородинском сражении и лежал больным в Кёнигсбергском госпитале, когда казаки выгнали неприятеля из города. Комендант Сиверс прикомандировал к себе Окунева и давал ему писать маршруты для проходящих команд.
После пятидневного пребывания в Кёнигсберге я отправился далее к Эльбингу, через города Гейлигенбейль, Брандеберг и Фрауенсбург. Я ночевал в селении на берегу Фришгафа. Вечер был прекрасный. Я пошел на берег моря; садящееся солнце позлащало воды в пространном заливе, все было тихо, слышен только был крик лебедей на море; все клонило к задумчивости, и я провел таким образом часа два в созерцании, давая полную свободу воображению. Ночь уже наступила, когда я возвратился на квартиру.
Переночевав в Эльбинге, я поехал далее вверх по правому берегу Вислы, через город Мариенвердер подле плотины, построенной с давних времен для удержания разлития реки. Я переправился через Вислу на пароме на веслах против Нейбурга и приехал вверх по левому берегу реки в городок, лежащий против Кульма, или Хельмна, который был на другом берегу реки в герцогстве Варшавском. Слух носился, что главная квартира уже выступила из Калиша и подвигалась к Дрездену. Я давно уже был в дороге, мне надобно было торопиться; но между тем и лошадей купить, чтобы, по прибытии в армию, немедленно начать службу.
Мне сказали, что в Кульме найду хороших лошадей, и потому, переправившись через Вислу, я купил у одного поляка двух кобыл, заплатив за каждую из них по 25 червонцев, и затем переправился обратно через реку с лошадьми на пароме, в сильную бурю. Одну из кобыл я избрал себе под седло и назвал ее Сестрицей, другую же назначил для вьюка, назвав ее Агафьей Петровной. Лошади эти были украинские и весьма добрые, но не привыкшие ни к седлу, ни к повозке, так что их должно было дорогой объезжать. Я нашел русскую телегу у маркитанта, наложил в нее сена и овса и поехал таким образом далее, но все еще брал форшпаны. После этих покупок карман мой совсем почти опустел, и я опять затруднялся, как в армию прибыть без денег. Всего более опасался я пропустить военные действия, о которых слух носился, что они уже начались.
Следуя далее, я приехал из Герцогства Варшавского в г. Бромберг, где находился штаб Барклая де Толли, который командовал тогда осадным корпусом перед крепостью Торн (Торунь). Переночевав в Бромберге, я поехал далее через местечки Пиздры и Кобылино до города Милича, лежащего на границе герцогства Варшавского и прусской Шлезии. Места, через которые я проезжал, нельзя было сравнить с теми, которые я в Пруссии видел. Повсюду являлись бедность и разорение, хотя край сей и был союзный французам, и Наполеон его более других щадил. Причиной тому леность поляков и помещики, которые сильно угнетают крестьян. Я не нашел между поляками того гостеприимства, которое видел в Пруссии. Жители в Польше терпеть нас не могли. Однажды только был я приветствован, не помню, в каком местечке, бургмейстером, который был старый французский роялист; имя его было De la Garde; старик позвал меня к себе на вечер, и я у него провел часа два весьма приятным образом.
Саксония меня восхищала: к красивому местоположению надобно присоединить жителей замечательной честности и гостеприимных. Но король их был привержен к Наполеону, который много благоволил к нему, но угнетал народ. Народ терпел и от наших солдат, которые рады были случаю назвать Саксонию неприятельским краем и, невзирая на ласки и гостеприимство жителей, часто обижали их. Французы, зная расположение жителей к нам, со своей стороны также грабили их, называя их изменщиками и неверными подданными; но таково богатство сего края, что через две недели разоренное селение принимало опять прежний вид свой; разбежавшиеся жители опять собирались и жили прежним порядком; их снова обирали, но в короткое время они опять поправлялись своим терпением и трудолюбием. Но такое положение жителей можно преимущественно отнести ко времени нашего отступления или к третьей кампании, после перемирия.
По приезде в Юнг-Бунцлау я зашел в ратушу для получения квартиры и был свидетелем забавного приключения. Бургмейстер ходил около стола задом, со шляпой на голове, защищаясь от русского офицера, который его преследовал и старался с него шляпу сбить. Все немцы тут же стояли и ужасно кричали, но не смели предпринять другого действия, как отгораживать воюющих стульями, которые вслед же за сим по горнице разлетались. Бургмейстер кричал:
– Herr Officier, sie werden dafur verantworten,[117] а русский:
– Как ты, с[укин] с[ын] немец, смеешь меня Сибирью стращать, когда меня Александр Павлович в службе держит? Сними шляпу, а не то я тебя доеду!
Маневры остановились, когда я вошел, и обе стороны выбрали меня судьей. Бургмейстер жаловался, что офицер без всякой причины на него напал, а офицер, что бургмейстер его Сибирью стращал. Мне сие странно показалось, ибо они друг друга не могли понимать.
– Слышите ли, он меня Сибирью и в ваших глазах стращает. Я тебя, немца, под караул возьму, как ты смеешь? – кричал русский.
Я понял дело и растолковал офицеру, что бургмейстер не думал его Сибирью стращать, а что он ему квартиру обещал, что «sie werden» по-немецки не значит Сибирь, а значит «вы будете». И так я примирил их и получил за то в благодарность от всей ратуши стакан пива, трубку табаку, славную квартиру и на другой день форшпан такой величины, что можно было в нем, по крайней мере, трем семействам разместиться.
В одно время со мною находился в Юнг-Бунцлаве светлейший князь Кутузов, который оставался там за болезнью. При нем находился между прочими квартирмейстерской части капитан Брозин 1-й, к которому я пошел. Брозин объявил мне, что светлейшего здоровье весьма плохое и что доктор Вилье, который его лечит, не подавал никакой надежды к его выздоровлению. И в самом деле, часа три после сего, когда я уже был на квартире, хозяйка моя прибежала в слезах и объявила мне о смерти князя. Все жители были в отчаянии: так на него надеялись и иноземцы.
Главная квартира и государь уже были в Дрездене. На другой день меня обогнал на дороге Брозин, который вез известие государю о кончине светлейшего. Говорили, что намерение Кутузова было остановиться на Эльбе и не идти далее вперед, но государь был иного мнения и настоял на своем. Впрочем, Кутузов вовремя умер, спасши отечество свое и получивши всевозможные почести. Счастие, часто содействующее успехам на войне, могло оставить его и помрачить приобретенную им славу.
Бишофсверд была последняя станция до Дрездена. Я радовался, что в тот же день настигну места своего назначения; мне оставалось шесть немецких миль, но как лошади в моем форшпане были плохи, то я большей частью шел пешком.
Около полдня прибыл я в Дрезден, где надеялся отдохнуть; но прежде всего мне должно было явиться к князю Волконскому. Я отпустил форшпан и, остановив повозку свою на левом берегу Эльбы, у самого моста, тут же оделся и пошел отыскивать князя. Первого встретил же на улице Брозина, который второпях сказал мне, что сейчас получено повеление от государя немедленно выступать вперед; что неприятель, собрав большие силы, идет к Дрездену и что вскоре будет генеральное сражение. Известие это было некстати, потому что нужно было провести дня два в Дрездене, дабы приготовиться к походу; но делать было нечего. Я сыскал квартиру князя. Состоявший при нем Перовский-старший был в тот день дежурным и сказал мне, что князь недоволен на меня за то, что я так долго пробыл в дороге. Князю доложили обо мне; он вышел и строго заметил мне, что я так долго в дороге был. Я не успел оправдаться, как он скрылся; но я дождался, как он опять вышел, и спросил его, где мне находиться прикажет.
– Находись пока при мне, – отвечал он, – войска в поход выступают, и ты следуй с главной квартирой.
В этот день переход назначен был в 7 миль, что невозможно было совершить, и потому войска тянулись сии 49 верст почти без остановки, день и ночь.
Главная квартира стала выбираться из Дрездена, и я возвратился к своей повозке, переоделся, пошел покупать конскую верховую сбрую и издержал последние деньги свои: оставался у меня один червонец. Затем пошел я в ратушу для получения форшпана. Комендантом в Дрездене с русской стороны был лейб-гвардии Измайловского полка полковник, кажется мне, Гейдеке, который мне объявил, что не получу форшпана без вида от князя Волконского; князя же в городе уже не было. Троюродный брат мой Муромцов, служивший адъютантом при Ермолове, на счастье мое тут случился и упросил полковника, который обещался мне дать форшпан, но не прежде как через два часа. Мне нельзя было так долго ждать, и я решился отправиться пешком, сложив все вещи в свою повозку.
Я отправил повозку вперед в город Вильсдруф, отстоящий от Дрездена в двух милях по дороге к Лейпцигу. Спустя полчаса я пошел вслед за нею пешком. День был весьма жаркий, я шел скоро и, достигнув Вильсдруфа, был уже совсем утомлен, ибо поутру еще много прошел пешком до Дрездена. В Вильсдруфе я отдохнул с час, пообедал и отправился перед сумерками далее. Ночь меня застала на дороге. Пошел проливной дождь, темнота была страшная, и я не видел сам, куда я иду. Лошади едва везли в нескончаемую гору; наконец, мы приехали после полуночи к какой-то корчме, где я совсем измученный уснул на соломе. На другой день до света я отправился далее пешком же; дождь не переставал лить. Мне хотелось выкурить трубку, но по несчастью я потерял огниво. Ничтожное обстоятельство сие было очень неприятно и напомнило мне положение мое в 1812 году; я тащился пешком по грязи, помышляя о том, что со мною могло случиться. Начальник дурно принял, я без денег, могу пропустить предстоящее сражение; но я не унывал и вызывал силы свои и терпение для достижения цели. Я прибавил шагу и вдруг увидел перед собою что-то в грязи и поднял прекрасное огниво со всем припасом, обрадовался и закурил трубку. С искрой, выбитой из кремня, прояснились мысли и надежда в моем сердце: я повеселел; мне казалось, нечаянная находка огнива указывала как бы начало перевеса обстоятельств в мою пользу.
Я въехал в какое-то большое селение, в котором стоял великий князь Константин Павлович с Конной гвардией, и пошел в штаб, чтобы найти кого-нибудь из знакомых, но провел там не более четверти часа и видел только подпоручика Глазова, который занимался составлением дислокаций для войск; но я встретил новое лицо, именно квартирмейстерского полковника Кроссара, необыкновенного чудака, которого прозвали царем-фараоном. Между тем я послал своего Николая отыскать князя Андрея Голицына, у которого при выезде из Вильны в Петербург я оставил свою верховую лошадь, купленную в Борисове и прозванную Французом. Николай нашел ее, но как Голицына не было дома, то ему велели в другое время за ней прийти.
Я продолжал далее свой путь пешком и прибыл в небольшой городок, где было много прусских офицеров. Пока лошади мои отдыхали, я зашел в трактир и познакомился за чашкой кофе с каким-то прусским лекарем, который, кажется, так же как и я, путешествовал пешком. Он надеялся, что у меня есть форшпан, а я надеялся на него; но, вышедши вместе, мы крайне удивились, найдя друг друга пешими. Форшпанов было много заготовлено на улице, и в ратуше происходил большой шум.
– Пойдемте, любезный товарищ, – сказал мне пруссак, – в ратуше теперь крик за форшпаны, бургмейстер совсем потерялся, нападемте на него вместе и станемте кричать; может быть, нам в суматохе и удастся вытребовать форшпан.
Сказали, пошли и сделали. Несчастного бургмейстера пруссаки рвали во все стороны, и он не знал, кому отвечать. Мы стали еще больше шуметь и схватили какого-то немца с трубкой, который дал нам форшпан. Мы расположились в нем и отправились в путь. Как я был в эту минуту доволен! Сидя на сене, я с участием смотрел на бедных пешеходов, которые тащились по большой дороге. Ноги мои, которые начинали уже отказываться, отдыхали, и я более не требовал от проводника, чтобы он скорее ехал.
Перед въездом в город Герингсвальдау стояли драгуны Ингерманландского полка, которые останавливали все собственные повозки офицеров для составления вагенбурга, потому что ожидали сражения. У них было только телег с десять собрано, и моя 11-я. Мне не позволили везти ее через город, хотя я и говорил, что везу казенные вещи. И так я принужден был бросить свою повозку с сеном; переложив из нее вещи в форшпан, которого если б у меня не было, то я нашелся бы принужденным остаться в вагенбурге, ибо вьюки у меня еще не были устроены.
Продолжая путь, я приехал на ночлег в город Рохлиц, где было заготовлено множество форшпанов для вывоза раненых, которых ожидали после предполагаемого сражения. Комендантом был какой-то пьяный армейский поручик; в пьяном восторге своем он стал обнимать меня, уверяя, что немцы созданы для услужения нам, и потому дал мне славную квартиру и обещался дать на другой день мне такой же форшпан. Я переночевал с прусским лекарем, который на другой день ушел, и я его нигде более не встречал. Меня крайне озабочивало, как бы на другой день на вьюках подняться, чтобы быть в состоянии начать службу, ибо у меня денег не было. Для достижения сей цели распродано было все, что оказалось лишним в моих чемоданах, и куплены нужные к тому времени вещи, так что, при усердии слуг моих, работавших всю ночь, к утру все было готово, и сокращенное имущество мое могло следовать за мною на вьюках.
Кроме сего оказалось у меня еще 19 талеров от продажи вещей (талер составляет 90 копеек серебром). Люди, видя нужду мою в деньгах, предложили мне свои собственные, так что у меня собралось до 30 рублей серебром. Форшпан достали, и я отправился далее. В тот же день нагнал я главную квартиру на походе и прибыл ночевать с нею в город Борна, где я опять явился к князю Волконскому, который меня принял ласковее прежнего. Я сдал ящик с инструментами, и он мне повторил приказание при нем находиться. Я остановился на квартире у Щербинина-старшего и послал в Конную гвардию за лошадью, которую привели, так что я находился в совершенной готовности начать службу.
Ввечеру проходила через город прусская армия, которую я тогда в первый раз видел. Офицеры и солдаты горели желанием сразиться с неприятелем. Прусская пехота вообще была хороша; не так конница, потому что лошади были плохие, да и сами всадники не умели обходиться с ними.
Наша союзная армия была не так сильна, как предполагали; число полков русских было велико, но полки были слабы, так что едва ли армия наша составляла всего 50 тысяч; пруссаки не успели собрать более 20 или 30 тысяч. Наполеон был сильнее нас. Он успел собрать более 80 тысяч пехоты; но конницы у него почти вовсе не было, что давало нам большое преимущество над ним, ибо конницы у нас было много и весьма хорошей. Люценское сражение происходило в конце апреля на равнинах, удобных для действия конницей, но мы не умели этим воспользоваться. Витгенштейн нес звание главнокомандующего соединенных сил наших с пруссаками.
В день сражения войска наши выступили до рассвета из Борны и двинулись вперед через город Пегау, прошли оный и стали выстраиваться на равнинах. Движения сии производились очень отчетливо и уподоблялись учению: головы колонн равнялись, потом делалась правильная деплояда, и вскоре пространное и ровное поле покрылось длинными линиями пехоты. Зрелище было великолепное. Пруссаки занимали правый фланг, конница оставалась сзади в колоннах и держалась более к левому флангу; гвардия стояла в резерве, подкрепляя правый фланг. Позади линий наших возвышался бугор, на котором остановилась главная квартира и государь. Корпус Милорадовича стоял в нескольких верстах от нашего левого фланга и не участвовал в сражении. Жители так мало ожидали тут сражения, что перед нашими линиями паслись стада, которые разогнали пушечными выстрелами с обеих сторон.
Прежде, нежели прийти на место сражения, мы проходили еще чрез местечко Грег, где я взял осторожность купить овса, которым наполнил саквы, висевшие при седле. Во время выстраивания войск князь Волконский, при коем я состоял, посылал меня как адъютанта с приказаниями к подвигавшимся колоннам. Он тогда был начальником Главного штаба у государя.
Толь, бывший генерал-квартирмейстером, поехал в сопровождении нескольких офицеров открывать неприятеля; он подвинулся довольно далеко вперед и был принят выстрелами нескольких неприятельских фланкеров, против которых выслали наших, и началась перестрелка. Неприятель стал показываться в колоннах против нашего центра, но в довольно большом расстоянии. Линии наши подвинулись, чтобы атаковать его, и несколько артиллерийских рот поскакали вперед, остановились и начали размениваться ядрами с неприятелем, который, однако же, не выставлял больших сил. Обрадованный надеждами на легкую победу, государь приказал войскам еще подвинуться; неприятель отступал, и завязался по всей линии сильный огонь.
Между тем Дибич, генерал-квартирмейстер Витгенштейна, послал меня с тремя казаками на самый конец левого фланга и велел, спустившись в широкий овраг, следовать оным по дороге к городу Вейсенфельсу, дабы узнать, занят ли он неприятелем. Найденные мною там прусские разъезды я присоединил к себе и продолжал ехать рысью по оврагу. Подъезжая к одному селению, я увидел человек 15 французов, которые бежали из селения. Я поскакал, но уже никого не застал в деревне. Шульц, или старшина, называл меня избавителем, говоря, что французы грабили их, но, увидев нас, бежали, бросив добычу свою.
Я поскакал за деревню преследовать французов и привезти язык к Дибичу, но они успели присоединиться к своему эскадрону, который, приметя нас, выслал фланкеров. Пруссаки мои бросились в перестрелку с ними. Под прикрытием их я разъезжал по полю и приметил вдали большие колонны неприятельской пехоты. Прусский унтер-офицер, который храбро распоряжался своими фланкерами, снабдил меня карандашом и бумагой, на которой я нанес то, что видно было неприятельского строя и позиции. Мы не ожидали таких сил против нашего левого фланга и потому имели на оном мало войск. Милорадович, стоявшей с 12-тысячным корпусом в нескольких верстах от сего фланга, должен бы атаковать неприятеля, но не сделал сего, как слышно было, будто по личным неудовольствиям своим на Витгенштейна. Может быть, Милорадович и не догадался; но он был извинителен тем, что не обладал достаточными для того способностями ума, а виноваты, конечно, те, которые доверили ему начальство. Я немедленно поскакал к Дибичу, чтобы донести ему о том, что видел, но Дибича не нашел и потому донес о том князю Волконскому, который, кивнув головой, сказал «хорошо» и более ничего. Волконский, по неопытности своей в военном деле, играл несчастную роль в сем сражении: он скакал далеко позади линий, суетился и ничем не распоряжался. Между тем на нашем правом фланге завязалось сильное дело.
Перед сим флангом находилось несколько селений, из коих одно называлось Грос-Гиршау (отчего Люценское сражение получило у пруссаков название сражение под Грос-Гиршау). Должно было занять сии селения, – подвиг, предстоявший пруссакам. Селения были густо наполнены французскими стрелками; но пруссаки храбро ворвались в оные и завели ружейную перестрелку, какой я под Бородиным не слышал. Французы упорно защищались; несколько раз селения были нами взяты и уступлены. Прусские вольнослужащие егеря отличались храбростью и ловкостью. Мальчики эти слепо лезли вперед и не выпускали выстрелов даром; но тут и легло много пруссаков. Наш гренадерский корпус пошел к ним на подкрепление. Под вечер селения остались в наших руках.
С обеих сторон потеря была весьма значительна. Храбрый генерал наш Коновницын был ранен; с прусской стороны был убит родственник короля прусского принц Гессен-Гомбургский. Государь и главная квартира стояли на пригорке позади линий наших; все внимание было обращено на упорную перестрелку, которая почти целый день продолжалась. Тянулись оттуда толпы раненых, которые немедленно заменялись свежими войсками.
Пруссаки дрались с таким остервенением, что многие раненые, перевязавшись, закуривали трубку и снова возвращались в огонь. Солдатские жены некоторых из них, исправлявшие в полках должность маркитантов, ходили с ними в огонь и подкрепляли людей водкой. Жители окрестностей, выйдя в поле с припасами и бинтами, сами кормили и перевязывали раненых. Я видел одного раненого прусского офицера, возвращавшегося из Гросс-Гиршау. Он едва верхом держался; лошадь его вели под уздцы, в туловище его сидело семь французских пуль. Разговаривая с королем своим и товарищами, окружившими его, он не показывал ни малейшего упадка духа.
В перестрелке сей находился тоже Тверской егерской баталион великой княгини Екатерины Павловны; баталион сей дрался храбро и потерял много людей и офицеров. Родственник мой Полторацкий, служивший в сем баталионе, был прострелен насквозь.
Под вечер казалось, что победа совершенно решилась в нашу пользу; мы подвигались, занимали новые селения. Радость выражалась на лицах государя и прусского короля. Александр Павлович оставил бугор и поскакал на правый фланг, где еще продолжался порядочный ружейный огонь. Я тогда в первый раз видел царя нашего в огне. Как он был величествен, хладнокровен и прекрасен! Приятная улыбка на губах его, среди визга пуль, утешала всех окружавших. Он недолго был в огне. Я имел случай удостовериться, что слава, несущаяся о его храбрости, не ложная.[118] Прусский король также храбр и хладнокровен, но, как говорят, не блестит дарованиями. Он молчалив, наружность имеет строгого человека, но в обхождении приветлив. Штаб его немногочислен, но составлен из дельных людей. Прусский король высокого роста, несколько худощав, носит усы, фуражку в клеенке, синий сюртук и саблю, повязанную поверх оного. Он был любим войском и подданными.
Мы торжествовали, отбили неприятеля, селения были заняты нами, и мы подвигались; но при начале сумерек, когда огонь стал прерываться, внимание государя было внезапно обращено к правому флангу частыми залпами и сильной беглой пальбой. 25 000 свежего войска пришло к французам из Лейпцига. Наполеон двинул новые массы в занятые нами селения. Государь приказал гвардии подкреплять стрелков; гвардейские колонны двинулись вперед и остановились пред селениями, выслав своих стрелков, но превосходство неприятеля было очевидно: густые колонны его заняли обширное поле, открывая пушечную пальбу, и войска наши, не будучи в состоянии удержать селений, поспешно отступили из оных и в таком беспорядке, что не было возможности их остановить; уходили поодиночке, оставляя раненых в руках неприятеля, на тех местах, которые достались было нам после упорной битвы и где мы потеряли множество народа. Во время сего беспорядка князь Волконский послал меня с каким-то приказанием на левый фланг, который стоял без действия.
Возвратившись по исполнении данного мне поручения, я не нашел более ни князя, ни государя: все уехали, все войска отступали, ночь настала темная, пошел дождь. Я ехал при стоне раненых, среди бегущих по обширному полю сражения. Видя, что тут уже никого из начальников не осталось, я начал искать князя назади и приехал в Пегау, куда с трудом протеснился, потому что улицы были битком наполнены ранеными, умершими, ящиками, орудиями и пр. Я слез с лошади у одного дома, в котором было много раненых офицеров, но никто из них не мог мне ничего сказать о государе и о князе Волконском. Я выбрался из Пегау опять к полю сражения и встретил адъютанта князя, Дурново, который ехал назад. Он поворотил, и мы поехали вместе отыскивать своего начальника; но кого можно было найти в такой суматохе и в темную ночь?
Я поехал опять назад в Пегау, как вдруг услышал ужасную пальбу на левом нашем фланге; ружейный огонь блистал во мраке ночи, как беспрерывная молния. Войска наши, разбитые и на сем фланге, принуждены были отступить, что было, однако, сделано в лучшем порядке, чем на правом фланге. Внезапное нападение сие было учинено теми неприятельскими колоннами, которые я еще поутру заметил, о которых донес Волконскому и на которые он тогда не обратил внимания. Колонны сии обошли наш фланг по Вейсенфельской долине, окружили его и атаковали. Финляндский и Егерский гвардейские полки храбро защищались; но, понеся значительный урон, они принуждены были отступить. Прусские гвардейские кирасиры атаковали неприятельскую пехоту, построившуюся в каре, врубились в оные, но были отчасти переколоты штыками и оставили много народа в неприятельских кареях.
Итак, французы одержали совершенную победу. Беспорядок в нашем войске был чрезвычайный, но и неприятель был расстроен. Мы имели еще много свежей конницы, а французы ее вовсе почти не имели, и потому они нас не преследовали; иначе захватили бы у нас много артиллерии. В сражении под Люценом был ранен родственник мой Муромцов, который был адъютантом у А. П. Ермолова. Из офицеров квартирмейстерских легко был ранен князь Голицын-старший.
Одна из причин, по коим нас под Люценом разбили, состояла в том, что у нас не было настоящего главнокомандующего. Государь приказывал; Витгенштейн приказывал, как нареченный главнокомандующий; князь Волконский приказывал, как начальник Главного штаба всех наших армий; Дибич приказывал, как генерал-квартирмейстер Витгенштейна; Толь приказывал по званию, им перед тем при Кутузове носимому; прусский король приказывал, как король; главнокомандующий его приказывал, как начальник над прусскими войсками. Приказания часто перечили одно другому; случалось, что и флигель-адъютанты приказывали. Видя беспорядок, корпусные командиры стали сами распоряжаться, так что все приказывали, при совершенном отсутствии общей диспозиции, которой не было. Полковник Толь был всех дельнее. Его это так огорчило, что он занемог во время сражения, лег за курганом и был несколько времени без чувств; его трясла сильная лихорадка. Толь бешен, зол, горяч, но распорядителен, храбр и опытен. Выкричав последние свои силы, он поневоле замолчал.
Правый фланг наш мог бы в порядке отступить, а левый мог быть победоносным, но Милорадович, стоявший в нескольких верстах от оного, не пришел на помощь. Мы имели еще важное преимущество над неприятелем: у нас была славная конница, а у французов ее совсем не было. Ровное местоположение способствовало для действия кавалерией, но мы не воспользовались сим преимуществом, и конница наша почти совсем в деле не была. Наша потеря, кажется, превышала 15 тысяч человек, а может быть и 20 тысяч. Неприятель не мог менее нашего потерять, но у нас много народа пропало в отступление, которое совершалось в несказанном беспорядке. Русские еще лучше отступали, но у пруссаков иные полки тогда совершенно исчезли и собрались только уже около Дрездена. Орудия их шли поодиночке, теснясь среди бродящих всадников и пехотинцев. Раненых было очень большое количество; было заготовлено и много форшпанов для отвоза их; но, невзирая на сию помощь, во всех окрестных городах и селениях валялось по улицам множество мертвых тел. Говорили, что государь хотел на другой день возобновить сражение, но не сделал сего по причине недостатка в артиллерийских снарядах, оттого, что парки наши отстали.
При ретираде князь Дмитрий Владимирович Голицын, командовавший кирасирской дивизией, по беззаботливости своей уехал вперед от своих войск и, по прибытии в Дрезден, не оказался у него Астраханский кирасирский полк, который после отыскался и прибыл: он шел другой дорогой.
Когда никого из товарищей моих более не было на поле сражения, откуда давно уже уехали государь и князь Волконский, я отправился назад, въехал в город Пегау и нашел товарищей, дожидавшихся князя верхами на улице, у подъезда какого-то большего дома. Я стал также дожидаться его, но не дождался: ибо князь зашел в дом, сел на кресло и уснул.
Так как тут делать было нечего, то я стал отыскивать своих людей, которых вскоре нашел. Надобно было отдохнуть. На площади было место, но надобно было лечь среди раненых и мертвых; артиллерия и обозы не переставали во всю ночь двигаться, причем доставалось сим несчастным. Люди мои приготовили мне местечко на площади же, но при доме, в небольшом палисаднике, где можно было лечь только одному человеку. Кто-то оставил за палисадником несколько вязанок сена, и я на них расположился; но раненые во всю ночь не давали мне уснуть. Я несколько раз вставал и справлялся, тут ли еще князь. Он не выезжал. Я пошел в трактир, чтобы выпить чашку кофе, но не мог ничего добиться, ибо несчастную хозяйку рвали во все стороны; она металась как сумасшедшая. И на кухне, и на биллиарде, и под биллиардом, словом, везде лежали раненые. Возвратившись к своему палисаднику, я уснул перед зарей; когда же проснулся, то было уже светло. Ужаснейший беспорядок царствовал в городе; последние войска наши через оный проходили, и если б я проспал еще несколько, то, вероятно, попался бы французам.
Князя уже не было в городе, и я поскакал искать его по дороге к Дрездену. Я нашел главную квартиру в городке Пёниге. Сам не зная еще, к чему и к кому я прикомандирован, я полагал, что состою в главной квартире, в числе квартирмейстерских офицеров под командой полковника Гартинга, но не застал его дома, когда пошел являться; после же с ним виделся и узнал, что точно под его начальством состою. И так я сыскал себе, наконец, начальника, которого до сих пор не знал; потому что я приехал в тревожную минуту, когда все были заняты выступлением войск из Дрездена и приготовлениями к предстоявшему сражению.
В Пёниге главная квартира провела ночь, оттуда пошли мы к Дрездену через Рохлиц и Вильсдруф. Недалеко от Рохлица встретился я с подпоручиком Хомутовым квартирмейстерской части. Он ездил за приемкой жалованья для офицеров и отдал мне мое и братьев, равно как порционные и фуражные деньги, так что у меня вдруг оказалось около трех тысяч рублей, какой суммой я еще никогда не обладал. С братом Александром я поделился сими деньгами, когда он в армию прибыл; но брат Михайла своих никогда не получал, ибо они до его приезда были издержаны, и хотя он сам в деньгах нуждался, но не требовал их.
В Вильсдруфе остановились мы отдохнуть, и мне досталась хорошая квартира по непредвидимому случаю. Как я шел по улице, меня остановила женщина, которая звала меня к себе в дом. Я удивился ее предложению, но она сказала, что должна непременно иметь постой и что, не зная, какой ей попадется постоялец, она решилась меня принять, потому что я ей нравился. Такая искренность с ее стороны была мне, конечно, приятна. Я вошел к ней и был весьма хорошо принят и угощен хозяйкой, после чего она тотчас побежала в ратушу и вытребовала себе квартирный билет на одного офицера. Такие встречи не один раз случались. Когда в город вступали войска, то добродушные немцы выбегали им навстречу и выбирали себе постояльцев. В Вильсдруфе купил я еще лошадь, которую назвал Кирасиром, по огромной стати ее и толщине, заплатив за нее 300 рублей ассигнациями.
Ввечеру главная квартира пришла в Дрезден; я остановился с товарищем Лукашем на правом берегу Эльбы, а на другой день с рассветом мы выступили и стали подниматься в гору. Главная квартира остановилась на повороте в роще, так что весь Дрезден был виден с окрестностями как на ладони. Армия продолжала отступление к Бишофсверде; ариергард оставался в городе под командой, помнится мне, Милорадовича; мост был сломан. На правом берегу реки поставлены были наши орудия; по улицам, примыкающим к реке, и в домах, в окошках выставлены были стрелки. Мы видели, как неприятель тянулся от Вильсдруфа длинной колонной, которая вступила в город с барабанным боем и, придя к мосту, была встречена ядрами и картечью. Неприятель выставил свою батарею на левом берегу реки, рассыпав своих стрелков, и завязался довольно сильный огонь с одного берега на другой; но пока сие происходило, французы готовили переправу в другом месте и перешли Эльбу, однако, помнится мне, только на другой день. Главная квартира ночевала в Бишофсверде; армия же стояла на позиции в готовности принять бой. В Бишофсверде намеревались дать сражение, но передумали и отступили на другой день к Бауцену, где заняли сперва позицию, оставив город в тылу, потом перешли за город и опять стали; но Толь, который располагал сими движениями, нашел выгоднейшую позицию несколько позади, и войска заняли оную.
Опишу здесь личность необыкновенного чудака, явившегося в нашу армию. Полковник Кроссар (Crossard), родом француз, человек без сведений, без образования и без воспитания, до 45 или 50 лет от роду перебывавший в службе во всех европейских державах (Французской, Голландской, Английской, Испанской и Австрийской), наконец, вступил в нашу, где его приняли в 1812 году по квартирмейстерской части полковником.[119]
Он был замечательной храбрости, но не в состоянии ничем управлять, и был помешан на военном искусстве в больших размерах (sur les grandes operations militaires, как он сам говорил). Он имел австрийский крест Марии-Терезии, который нелегко достается, был весь изранен, век свой провел на войне и для того переходил из одной службы в другую. Когда военные действия останавливались, то Кроссар становился печален, угрюм. Он был так малообразован, что едва ли умел различить на карте селение от реки. Деятельность его была беспримерная, вечно верхом, никогда почти не спал, ездил на маленьких клячах, которых офицеры на переходах, забавляясь, исподтишка приучали лягаться. Кроссар воображал себе, что командует всей армией, имел много знакомых, шутил довольно остро и был причуден в речах своих. Он себе приписывал все выигранные сражения, а о проигранных говорил:
– Je l’avais bien prédit; je le leur disais bien. Ils n’ont pas voulu suivre mes conseils, et bien les voila punis![120]
Во время сражения он везде совался и кричал; но никто его не слушал, и над ним только смеялись. Когда под Бауценом Толь выбирал позицию, он везде скакал и кричал во все горло:
– S’il n’y a pas de position, il faut en faire une.[121]
Он издерживал много денег, не жалея их для потчевания товарищей, а сам жил свиньей. Наружность его была смешная: ростом мал, волоса как смоль черные, несколько толст, лыс, зубы белые, как у собаки, глаза совсем красные. При смуглом цвете лица, он много походил на цыгана, всегда в треугольной шляпе с обвислыми при дожде полями, от чего она тогда принимала вид шляп, употребляемых на похоронах факельщиками: поля бились ему по глазам, но он от того не переставал всюду скакать и только бранился на поля, закрывавшие ему зрение. Вся одежда его была в таком же роде.
Он состоял при великом князе Константине Павловиче, который его охотно держал при себе и часто за шута употреблял. При всем этом Кроссар получил за Лейпцигское сражение Георгиевский крест, вскоре после того Анну с бриллиантами, Владимира на шею. Но он всегда жаловался, что его по службе обижают наградами. Наконец, по окончании войны, его сплавили во французскую службу генерал-майором. Неприятно было видеть преимущества, коими пришелец этот воспользовался в нашей службе.
Когда Толь выбрал другую позицию под Бауценом, он послал меня провести артиллерию через город и поставить ее на новое место. Я вел ее и уже был в городе, как вдруг Кроссар налетел на меня.
– Que faites-vons, monsieur? – закричал он. – Toute la ville est un défile, et il ne faut jamais risquer de conduire de l’artillerie par un défile.[122]
Я во второй раз только видел рожу его, засмеялся и сказал ему, что исполняю данное мне приказание от начальства.
– C’est moi, le colonel Crossard, qui vous ordonne maintenant de faire retourner les pièces et de chercher un autre passage que celui de la ville.[123]
Я видел, что он сумасшедший и, показав, что ему не следовало мешаться не в свое дело, продолжал идти по улицам. Кроссару нечего было со мною делать. Он стал орудия поодиночке останавливать; но артиллеристы, погоняя своих лошадей, поехали рысью, и он принужден был стоять и смотреть, как над ним смеялись. Он опасался броситься поперек скачущих орудий и, дождавшись последнего ящика, храбро кинулся перед лошадьми и велел казакам своим держать их. Ему удалось поворотить один ящик и отбить его от роты; он вывел его за город и обвел окружной дорогой, едучи сам впереди победоносным образом, и приказал казакам своим наблюдать, чтобы ящик не ускакал; но как только артиллерист завидел свою роту, выступающую из города, он поскакал и нагнал ее. Кроссар воображал себе, что вся наша артиллерия за ним тянется; оглянулся и, увидев только своих двух казаков, которые смеялись, пустился нагонять ящик. Но не тут-то было: лошаденка его, которой солдаты недавно хвост отрезали, взлягивала и вперед не двигалась, и тем все дело кончилось. Можно без сомнения полагать, что Кроссар с убеждением прокричал:
– J’ai sauvé toute l’artillerie russe, qui allait s’embarrasser dans un défile par l’inadvertance d’un jeune officier inexpérimenté.[124]
Неприятель находился в то время от нас верстах в сорока. В 1812 году Кроссар явился к нам в армию в странной одежде. Мундира он еще не имел; он был в шубе, в ямских рукавицах и в какой-то смешной шапке. В сем одеянии явился он на форпосты, где казаки сочли его за неприятеля, взяли в плен, говорят, побили плетьми и представили обратно в главную квартиру; по крайней мере, так рассказывают.
В первый день прибытия нашего под Бауцен главная квартира ночевала в городе. Моя квартира с товарищами была недалеко от Герлицкой заставы. Я видел, как прусская армия проходила через город. Она несколько собралась после Люценского сражения; но офицеры и солдаты, полагая нас причиной неудачи под Люценом, хмурились и уже не теми глазами на нас смотрели, однако же с увлечением желали снова сразиться с неприятелем. На мою квартиру зашел прусский вольнослужащий стрелок, которому едва было пятнадцать лет. Видный мальчик этот изнурился от больших переходов, просил поесть, и его накормили. Он вычистил свой штуцер и уснул в углу крепким сном. Мы на другой день узнали, что он был курляндский дворянин Фитингоф, учился в каком-то университете в Пруссии, где, по-видимому, был оставлен без пособия небогатыми родителями, о которых он давно известий не имел. Видя, что товарищи его, студенты, определялись в службу, он вступил в сообщество их стрелком и был во все время сражения под Люценом. Жалок был бедный мальчик, который нуждался в деньгах, но не просил их. Однако же мы догадались и помогли ему, за что он много благодарил нас и, подкрепив силы свои, побежал за город к своему баталиону.
Главная квартира перешла в селение Штейнберг, лежащее верстах в четырех от города. Государь отделился от оной и занял другое большое селение, несколько в стороне. В Штейнберге мы провели дня два без всякого дела, живя на открытом воздухе. Для препровождения скуки я прочел «The vicar of Wakefield»,[125] книгу, которую в Бауцене купил.
Бауценские ворота завалили и сделали бойницы для стрелков; но немцы так привержены к своим жилищам, что, видя сии приготовления к упорному сражению, они не оставили города, потерпели много, но зато спасли имущество свое.
6 или 7 мая брат Александр прибыл в армию и был прикомандирован к главной квартире. Того же числа последовало новое расписание нашим офицерам, и меня назначили дивизионным квартирмейстером к легкой гвардейской кавалерийской дивизии, состоящей из полков лейб-гвардии Драгунского, лейб-гвардии Уланского, Гусарского и Казачьего; из них Казачий полк находился постоянно при государе, в главной квартире.
Дивизионный командир был генерал-майор Антон Степанович Чаликов, человек немолодой, но веселый и чудак; он был довольно умен и имел некоторое образование. Служа у великого князя, он нашел выгодным представлять из себя шута и, наконец, так привык к сему, что двух слов не мог сказать без рифмы, что всех смешило. Чаликов был командиром лейб-гвардии Уланского полка; он числился более 40 лет в службе, был весь седой и в морщинах, но продолжал бодрствовать в оправдание пословицы «седина на лбу, а черт в ребре». Он был большой крикун и хлопотун, но бестолков. Лейб-драгунского полка командиром был генерал-майор Чичерин; его прозвали le gentilhomme de la chambre,[126] и в самом деле он был более похож на придворного человека, чем на военного. Лейб-гусарский полк был в откомандировке; он после присоединился к своей дивизии, отчего я мало был знаком с офицерами сего полка.
Как я долгое время продолжал службу с сей дивизии, то я назову офицеров двух первых полков, с которыми я был знаком, чтобы дать понятие о новом обществе, в которое я вступил. Они были вообще люди храбрые, но вели жизнь распутную: пили, играли в карты, буянили. Знаясь с ними, мне случалось выходить по вечерам из границ умеренности; но после перемирия я переменил сей род жизни. Игроком я не был. Меня любили в дивизии, и если б я тогда был постарее и опытнее, то мог бы иметь влияние между людьми, не получившими большого воспитания и лишенными обыкновенного образования.
В Лейб-уланском полку первыми лицами в обществе офицеров считались Марков, Жаке, Крещенский, Черкасов, Иоселиян, Колчевской, Гофман, Шишкин, Воейков, двое Заборинских, Глазенап, Альбединский, Вейс и пр., все отличавшиеся храбростью.
Иван Васильевич Марков тогда был поручиком; я с ним в Петербурге был еще несколько знаком; он их всех честнее был, но горлан, очень любил выпить или, как говорилось у них, протащить; играл в карты, любил буянить и всегда был в венерической болезни.
Николай Николаевич Жаке, полковой квартирмейстер. Никакое количество водки не могло его сбить с ног; от венерических болезней у него нос был с небольшим провалом, и голос всегда охриплый; ему было за 30 лет, в деле он вооружался пикой и отправлялся во фланкеры. Признавали его пьяным только тогда, когда он сипучим своим голосом повторял затверженные им слова, единственные, которые он по-французски знал: «C’est ne pas la naissance, c’est la seule vertu qui fait la différence».[127] Его произвели в полковники и дали какой-то уланский полк; слышно, что он совсем спился и умер.
Крещенский был адъютантом у Чаликова, слабого здоровья, хороший малый, храбрый, пил поумереннее товарищей и знал свое дело.
Николай Львович Черкасов, полковой адъютант, человек неприятный, неуживчивый и, говорили, бесчестный; его офицеры не терпели, потому что он был доносчиком на них у генерала, большой хвастун, пил поменьше других.
Иоселиян, родом имеретин, необыкновенного роста, силы и храбрости, бедный, простой и смирный; он имел пять или шесть ран. В полку рассказывали, как в кампании 1812 года Иоселиян, увидев однажды, что человек 12 вооруженных французов забрались в сарай, слез с лошади, взял пику и в сопровождении одного улана молдованца, по имени Кариов, бросился в сарай и переколол их всех.
Полковник Колчевской простой малый и горький пьяница.
Гофман был еще молодым офицером в то время и прислан в полк под покровительство Маркова, с которым он вместе жил. Думать можно, что полковой дядюшка его Марков не упустил случая сделать достойного себе племянничка.
Шишкин, очень молодой человек, но бойкий и чахнул от пьянства и фрянок.[128]
Воейков, друг и приятель Маркова, имел более других образования, но был задорен, дерзок и крикун.
Два брата Заборинских также любили выпить.
Альбединский был порядочнее многих в полку; я с ним позже познакомился; казалось, что его не любили товарищи. В обратное следование наше через город Шалон во Франции он вступил в масонскую ложу и был ревностным членом этого общества.
Вейс, молодой человек, порядочный и не вдавался в пьянство.
Глазенап, из храбрейших между офицерами.
Кроме сих были еще многие, как то: князь Эристов, Масловский, Меликов, трое Болшвингов, Гундиус, принц Филипштальский, маркиз Босезон и пр. Они все отличались храбростью; последние двое еще приличием и образованием.
Старшим полковником в полку тогда был Мезенцов, человек ограниченных дарований и, как говорили, не из бойких офицеров; его не уважали. Офицеры также в глаза смеялись и над стариком Чаликовым, который называл их головорезами и спускал им дерзости. Он сам представлял из себя шута, врал, коверкался и потому не вправе был требовать уважения от своих офицеров. Чичерин был шефом Лейб-драгунского полка. Офицеры его вообще не любили, и в полку постоянно происходили раздор и несогласия; трезвости же не более как между уланскими офицерами.
Назову тогдашних знаменитостей Лейб-драгунского полка. Елимовской, горлан и пьяница, но старый и храбрый кавалерийский офицер; он теперь полковой командир Нижегородского драгунского полка, где отличается мотовством, пошлостью и пьянством. Пенхержевский, полковой квартирмейстер или адъютант. Иванов, генеральский адъютант, замечательной глупости. Яковлев, прозванный Куликом по длинному его носу, глупый и пьяный, но хорошо знающий фронтовую службу. Кардо-Сысоев, простой малый, едва знающий грамоте. Еще двое Яковлевых, совершенные невежды. Катаржи, грек, Роп, немец, Сиверс, лишившийся голоса от венерических болезней. Пушкевич, побочный сын какого-то Пушкина, добрый малый, но жестокий пьяница; он бывал представителем за свой полк, когда драгунские офицеры состязались с уланскими, кто кого перепьет. Драгуны были всегда обязаны Пушкевичу победой. Станкевич, отличный пьяница и буян. Черкесов, побочный сын Петра Семеновича Мордвинова (брата адмирала Николая Семеновича), приличный молодой человек, с которым я был в коротком знакомстве и дружен. Богданов, очень молодой, убит в сражении под Фер-Шампенуазом. Двое Бурцовых. Брежинский, поляк. Шембель, человек пошлый и пьяница. Бергман славный, умный малый, с воспитанием и просвещением. Бибиков, убит на поединке. Сапега. Клюпфель, хороший молодой человек, с воспитанием, сын управляющего в Петергофе.
Лейб-драгунский полк также отличался храбростью и часто находился в передовых войсках. Кнорринг, порядочный человек, убит под Лейпцигом. Полковник Квитницкий, крайне глупый и пошлый человек.
Таково было новое общество, в которое я попал, и на искушения коего случалось мне несколько раз податься.
7 мая я был командирован из главной квартиры в легкую гвардейскую кавалерийскую дивизию, которая расположена была в резерве за левым флангом. Дождь шел проливной. Я явился к Чаликову, который с первого приема начал врать. Уланские офицеры обступили меня и расспрашивали о новостях. Марков узнал меня, позвал меня к себе в шалаш и собрал товарищей своих. Мы сели у огня, и вмиг я был знаком с целым полком; с первого раза все меня стали тыкать. Я удивился такому обращению; но, видя, что вольное сие обхождение было у них в обычае, я начал с ними также запросто говорить; к вечеру все было пьяно.
Пред центром главной позиции нашей, несколько влево, находился верстах в двух или трех город Бауцен. Линии наши занимали возвышения, примыкая своим левым флангом к высоким горам, отделяющим Саксонию от Богемии. Горы сии покрыты были лесом и удобны только для действования пехотой. От этих гор до конца правого фланга местоположение было почти ровное и пересечено только несколькими оврагами и селениями. По всей линии нашей были построены батареи, коих орудия должны были много вредить неприятелю. Сначала горы, на левом фланге лежащие, были слабо заняты нашей пехотой, почему и можно полагать, что линии наши начинались от подошвы сих гор. Часть центра и правого фланга занимали пруссаки, а на самом конце оного стоял отдельно от главной армии Барклай де Толли с корпусом. Он накануне присоединился к нам, прибыв от осады крепости Торунь; но корпус его состоял только из 8000 и по отдаленности был мало поддерживаем во время сражения. Гвардия, кирасиры и резервная артиллерия стояли в резерве за центром. Легкая гвардейская кавалерийская дивизия стояла в резерве за левым флангом на равнине, примыкая к горам. Авангард стоял впереди левого фланга, прикрывая несколько горы. Лейб-гвардии Гусарский полк, считавшийся в нашей дивизии, был откомандирован в авангард.
За нашими линиями находился довольно высокий бугор, безопасный от ядер неприятельских. Тут расположились государь и вся главная квартира. Витгенштейн был главнокомандующий; но ему также мешали действовать, как и в сражении под Люценом, ибо распоряжались многие. Барклай был старее Витгенштейна, но первого подчинили второму, вверив ему только 8000 войск. К чести Барклая относится то самоотвержение, с коим он подчинился младшему для сохранения порядка, который нарушали. Он повиновался и храбро держался против превосходных сил неприятеля до крайней возможности.
Казалось, что Наполеон мог бы легче одержать победу, если бы он атаковал наш левый фланг в горах, потому что у него преимущественно была пехота; но его намерение было отбросить нас в Верхнюю Шлезию, дабы прежде нас прийти на Одер, где крепости еще занимались французскими гарнизонами. Сим средством мог он отрезать нас от вспомогательных войск, обозов, снарядов и пр. По сей причине он атаковал наш правый фланг и воспользовался промежутком, находившимся между корпусом Барклая и главной армией. Французы были сильнее нас с самого начала сражения; они могли иметь до 100 или более тысяч людей, тогда как у нас едва ли более 70 тысяч было. Мы имели преимущество в коннице, но не умели ею действовать, да и местность не совсем к тому способствовала; однако и у французов была конница, хотя и не в большом числе, но уже более чем в сражении под Люценом.
Мая 7-го дня (сегодня ровно пять лет тому назад) ввечеру французы атаковали наш авангард. Дело было жаркое, часть войск главной армии в нем участвовала, но оно кончилось без явного успеха с чьей-либо стороны. Дело сие происходило в тот самый вечер, как я явился в дивизию. Видно было, как масса французских стрелков тянулась по ближайшему хребту гор, тесня нашу пехоту сильной перестрелкой. Неприятель так близко подвинулся, что уже равнялся почти с нашим флангом; мы же стояли в резерве. Чаликов стал беспокоиться, но главнокомандующий не обращал внимания на сие движение неприятеля и не подкрепил пехоту нашу в горах. Французы были, конечно, слишком слабы в горах, чтобы вредить нам в тот день с фланга; но после сего поиска они узнали, что горы почти вовсе не были заняты нами и воспользовались тем 8-го и 9-го числа. К ночи огонь утих, и нагорная колонна неприятельская отступила.
8-го числа ввечеру началось то же самое дело. Авангард сильно дрался, некоторые войска главной армии также участвовали в бою, та же пехотная колонна явилась на той же горе и перестреливалась с нашей пехотой. Чаликов со всеми офицерами нашей гвардии вышли несколько вперед и стали на бугорок, чтобы видеть дело. Чаликов весьма беспокоился, видя неприятеля у себя почти в тылу, и вызвал охотников, чтобы ехать в горы, узнать силы неприятельские и нет ли за горами других скрытых колонн. Вызвались уланский Шишкин и я.
Шишкин поехал с несколькими уланами прямо к горам, увидел вблизи то, что мы издали видели, но не узнал ничего обстоятельно и скоро возвратился. Мне дали трех улан. Желая показаться перед дивизией, я решился заехать в тыл к неприятелю и, если удастся, привести языка. Мне надобно было объехать стрелков, и потому я сперва подался назад и переехал на высокий перевал, соединяющий всю цепь с горой; на перевале сем я нашел взвод Глуховского кирасирского полка при офицере.
Кирасиры стояли на пикете с заряженными пистолетами. Офицер, видя, что отступающая наша пехота уже к нему приближается, встревожился и не знал, что ему предпринять в горах с тяжелой конницей. Передо мной была долина, покрытая кустами. Я приметил, что она поворачивала вправо и должна непременно вести в тыл к неприятелю, или, по крайней мере, на фланг его. Я спросил кирасирского офицера, не заметил ли он в ней неприятельских стрелков; но он ничего не мог мне сказать, а только советовал не ездить туда. Однако так как я уже решился порядочно разведать о неприятеле, то и спустился в долину. Из предосторожности, я велел двум уланам ехать поодаль, стороной, равняясь со мной; сам же ехал серединой с третьим уланом.
Таким образом проехал я версты две среди высоких гор, объезжая ту, на которой дрались и которая у меня все вправе оставалась; наконец прибыл я к одному селению, оставленному жителями. Гора была уже несколько позади меня. Созвав уланов, я сбирался въехать в селение, как увидел четвертого улана, скачущего ко мне со стороны неприятельской; он был в белой шапке, почему, приняв его за поляка, я готовился напасть на него, обнажив саблю. Он же, заметив нас, остановился, потому что принимал нас за французов. Но вскоре мы узнали в нем улана Литовского полка, который как-то отстал и заблудился в горах. Он предупредил меня, что по селению рассыпаны неприятельские стрелки. Въезжая осторожно в селение, я осматривал все дворы, но никого не нашел и выехал на другую сторону деревни.
Огонь на горе умолк, неприятеля нигде не было видно, и потому я вознамерился повернуть вправо и, объехав совершенно кругом гору, прибыть к дивизии своей с другой стороны ее; но едва я стал подыматься на перевал, как увидел неприятельских стрелков, отступающих кучкой. Увидев нас, они остановились, и мы несколько времени всматривались друг в друга. Французы, верно, полагали, что в селении кроется отряд наших войск; но, видя, что никого не было, они продолжали отступать по перевалу, соединяющему гору, на которой они дрались, с другой и отделяющему меня от наших линий, так что в этом месте дорога была пересечена.
Я стал дожидаться, чтобы неприятель прошел и скрылся в селении; но, заметив, что один французский солдат отстал от колонны, я решился схватить его и поскакал на него в гору с обнаженной саблей; но когда я к нему приближался, то был встречен множеством выстрелов из колонны, так что я принужден был отъехать и скрыться за селением в ожидании удобного случая, чтобы проехать. Но солдат сей, который, как я после узнал, был раненый, полагал, что мы совсем уехали, и я видел, как он шел в наше селение.
Переждав несколько, я опять въехал в деревню со своими уланами и, заглянув в один двор, увидел сего солдата, сидящего на пороге дома; ружье его было прислонено к стене. Я поскакал на него и ударил его плашмя саблей. Он в перепуге не успел схватиться за ружье. На требование мое «reudez-vous!» он отвечал дрожащим голосом «pardon!». Я схватил его за ляжку и потащил. Он был легко ранен в руку и не мог следовать за мною, потому что я ехал рысью; но он собрался с силами, когда уланы дали ему несколько толчков в спину оборотами пик. Я торопился, опасаясь, чтобы его не отбили, и потому оставил намерение свое кругом объехать гору, а пустился старой дорогой по долине.
Отъехав с версту, я увидел, что казаки наши уже заняли гору, на которой дрались. Я остановился. Пленный был родом савояр.[129] Виденная нами в горах пехотная колонна состояла вся из его земляков горцев; так как колонна отступила, то нам нечего было опасаться. Уланам очень хотелось обыскать пленного, что я им позволил сделать, и вмиг он был избавлен от излишней тягости; но ничего порядочного у него не нашли, денег у него не было, и в ранце нашли только несколько белья, которое уланы разделили между собой.
Уже начало смеркаться, когда на перевал, где я в первый раз нашел глуховских кирасир, прискакал маленький Паренсов, полковник свиты, состоявший при Витгенштейне.
– Что у вас делается? – спросил он торопливо.
– Ничего, – отвечал я, – неприятель отступил, и в горах никого более нет; но флангу нашему сначала угрожала неприятельская пехота, потому что нам нечем было его отразить.
– Вот гренадеры пришли, – сказал Паренсов и ускакал назад.
Он в самом деле привел несколько полков гренадеров, но полки сии опоздали, и неприятеля уже не было видно.
Я приволок своего пленного к Чаликову; офицеры все обступили меня, восхваляя действия мои на рекогносцировке. Чаликов также восхищался и отправил пленного в главную квартиру; меня же офицеры привели к Маркову, где угостили. Ночь прошла в рассказах и бивуачном препровождении времени у разведенного огня.
Настоящее Бауценское сражение происходило 9 мая, в Николин день. Так как наша дивизия действовала в горах, то могу только описать происходившее на крайнем левом фланге, потому что центр и правый фланг были скрыты от нас горами, и об отступлении армии могли мы знать только по гулу орудий, раздававшемуся в ущельях.
Мая 9-го числа, рано поутру, дивизия наша двинулась по три налево, в горы. Я вел ее той же дорогой, которой накануне ехал. Места мне были известны. Приведя ее к селению, Чаликов остановился. Неприятель еще нигде не показывался; мы были окружены со всех сторон высокими горами, так что конница в сем месте была совсем лишняя. Почти вплоть к дивизии находилась некрутая и невысокая гора, коей вершина покрыта была лесом и скрывала от нас неприятеля; смотря с нашей стороны влево от сей горы, возвышался над нею бугор. Горы справа и слева были все выше находившегося против них возвышения, у подошвы которого мы стояли. Никакие представления с моей стороны не могли Чаликова побудить передвинуться. Он совсем потерялся, когда узнал, что неприятель перед нами скрывается в лесу; ничего не мог он приказывать и скакал, как сумасшедший, по фронту, спрятав свой белый султан, для того, говорил он, чтобы не служить мишенью французам.
Гораздо левее нас в горах стоял Лисаневич с пехотой, но она мало была нам заметна по отдалению и лесам, ее скрывавшим. Генерал-майор Эммануель также находился в горах с драгунами. Рота донской конной артиллерии стояла на особом возвышении в резерве; на правом фланге нашем была также пехота в горах; недалеко от нас находился Белорусский гусарский полк. Итак, в горах было у нас много войск, но местоположение не позволяло их расположить иначе как отдельными частями. Конница казалась излишней и во время дела напрасно теряла людей. С большей пользой могла бы она действовать на правом фланге, где местоположение было удобнее.
Как скоро дивизии выстроилась во фронт, я поехал с Крещенским рекогносцировать неприятеля. Подъехав к лесу, обогнули мы бугор и проехали довольно далеко, но никого не видали; однако неприятель находился близко от нас в лесу, ибо едва мы успели возвратиться, как в опушке леса показалось множество неприятельских стрелков и такой густой цепью, что их можно было скорее принять за головы колонн; почти вплоть за ними стояли и самые колонны. Войско это было баварское. Неприятелем командовал на сем фланге маршал Удино; с нашей стороны начальствовал, не знаю по какому-то случаю, граф Орлов-Денисов. Баварцы открыли сильную ружейную перестрелку; орудий у них не было, потому что не было почти возможности их перевезти в горы, доступные только для нашей донской конной артиллерии. Пехота наша заняла косогор, простирающийся к лесу, и отвечала на огонь неприятеля, прикрывая нашу дивизию, которая не могла действовать, а стояла все время сражения почти целый день под пулями.
Чаликов велел людям слезть. Неприятельские пули достигали людей наших, которые стояли во фронте пешком, держа лошадей в поводу. Нас закрывал в полроста небольшой косогор, на котором я лег с офицерами для отдыха. Пули, пролетая мимо наших голов, ударяли в землю подле нас. Хотели выпить водки и встали. Едва Колчевской стал подносить бутылку ко рту, как прилетела к нам пуля, ударила бутылку в дно и, разбив ее, упала Колчевскому на ногу; он не замешался, а только выбранился и выпил, потом поднял пулю и, показав ее, бросил. Вслед за сим прилетела другая пуля, которая ударила подле нас стоявшего улана в ногу пониже колена; сначала он точно поднял ногу и опять поставил ее, не подозревая, что был ранен; но вдруг лицо его побледнело, он упал, и его унесли: пуля ему кость перебила, и ему отпилили ногу.
Недалеко от нас упала тоже фланговая лошадь без дыхания: пуля ударила ее в самый лоб. Всадник был малороссиянин; он расседлал свою лошадь и с досады за то, что должен на своих плечах нести седло, уходя выругал своего коня и ударил его ногой в живот. От этого толчка конь вдруг вскочил, всхрапнул, встрепенулся и казался бодрее, чем когда-либо. Пуля только ошеломила его до обморока. Коня снова оседлали, и он прослужил все сражение под своим хозяином.
Мимо нашего фронта вели всех раненых пехотинцев и пленных баварцев. Люди так бывают ожесточены во время сражения, что хохот раздался, когда протащили одного несчастного, у которого ниже живота было разбито пулей; он был почти без чувств. Смеялись люди, ежеминутно того же ожидавшие. Мы обступили одного баварского офицера, которого вели три гренадера; нельзя было не полюбоваться гордому виду его и поступи; он приводил на память древних рыцарей. Роста он был высокого, осанка благородная, и весь в крови; на голове была у него каска с красным волосяным султаном; он молчал и гордо смотрел на нас. Гренадеры, приведшие его, говорили, что он высунулся вперед из цепи своих стрелков и подстреленный упал на колени; наши бросились, чтобы его схватить, солдаты его бежали; но он, обнажив шпагу, защищался от трех наших, ранил одного, и его схватили только тогда, когда один из наших ударил его штыком в грудь.
– Wo sind sie blessirt?[130] – спросил я его. Не отвечая мне ни слова, он схватил обеими руками мундир свой и рубаху и, разорвав ее, показал широкую грудь свою, всю в крови; его перевязали и отправили далее.
Сильное дело завязалось на правом нашем фланге, где Наполеон вел главную атаку; мы только слышали гул орудий, который в горах раздавался. Против нас в лесу усиливались неприятельские стрелки. Для удержания их граф Орлов-Денисов приказал двинуться донской конной артиллерии. Два орудия заняли бугор, перед нами находившийся и отстоявший не более как на 60 сажен от лесу. Донцы отважно выехали на бугор под жестоким ружейным огнем, действовали своими орудиями часа три во фланг неприятелю и нанесли ему большой урон, но и сами много потерпели: почти все люди и лошади их были у них перебиты и несколько раз заменялись новыми. Баварцы покушались взять сии орудия, но при выступлении из леса увидели Белорусский гусарский полк, тронувшийся в атаку на них, и отступили.
Для удержания неприятеля привели к нам из-за гор еще прусскую артиллерийскую роту, состоявшую из семи трехфунтовых орудий. Капитан Гертиг, который ею командовал, явился к Чаликову, и Чаликов приказал мне показать ему место, откуда бы ему удобно можно было действовать. Другого места я не мог найти, кроме как несколько поодаль от правого фланга нашей дивизии; он стоял ниже неприятеля и должен был в гору стрелять, но делать было нечего, и пока Гертиг заряжал орудия свои, у него уже несколько человек было раненых. Он осыпал неприятельских стрелков картечью и нанес им большой урон. Но неприятель снова усилился и, невзирая на то, что его с двух сторон били картечью, решился взять прусские орудия и стал из леса выходить; пехота наша не могла устоять и бежала. Чаликов, видя опасность, вызвал охотников из своего полка.
Выехали Жаке и я, а за нами человек пятнадцать улан. Жаке взял у одного из них пику, обратился ко мне и сказал весьма кстати, хотя и не понимая, что говорил, обыкновенную свою поговорку:
– Ce n’est pas la naissance, c’est la seule vertu qui fait la différence.
Мы закричали «ура!» и поскакали к неприятелю; пехота наша быстро отступала и почти бежала. Баварцы приближались к прусским орудиям. Дивизия наша уже давно села на коней и готовилась к бою; но что могли мы сделать с уланами против толпы стрелков, спускающихся с покатости на расстоянии 30 или 40 сажень от нас? Некоторые из наших подбежали к ним и стреляли по ним из пистолетов; но нас осыпали таким множеством пуль, что вмиг уже около половины наших охотников не было. Видя, что мы уланов всех потеряем и ничего не сделаем, мы решились с Жаке поднять пехоту нашу и ввести в дело тех из людей, которые прятались за каменьями и за кустами. Уланы стали их выгонять оборотами пик, а я нагайкой, так что в одно мгновение собралось много народа; к этому времени пришли еще на помощь к нам весьма кстати олонецкие ополченные стрелки, люди все храбрые и ловкие. Олонцы немедленно расположили свою цепь при прусских орудиях, завели перестрелку и стали понемногу вперед в гору подаваться. Между тем мы присоединили к ним толпы пехотинцев.
Увидев одного спрятавшегося за камнем, я ударил его плетью и, соскочив с лошади, хотел вырвать у него ружье, чтобы идти вперед для примера другим; но он мне ружья не дал, сам закричал «ура!» и бросился один на штыки вперед. Стыдился ли он или опасался плети, того не решу. Пехотных офицеров ни одного тут не было. Толпа солдат присоединилась к сему пехотинцу, заревела «ура!» и побежали в гору. Баварцы нас не дождались и побежали, отстреливаясь, в лес, мы за ними и вмиг заняли опушку леса. Огонь вдруг совершенно прекратился, и неприятель исчез.
Я пустился с сей толпой, ободряя солдат, и уже был близко леса, как лошадь мою ранили пулей в ляжку вскользь. В пылу дела я не приметил, как на мне тоже прострелили бурку. Лошадь моя захромала, но рана была легкая: содрало только кожу, и сие не помешало мне на ней ехать. Только в ту минуту, как она крепко захромала, полагая, что у нее нога перешиблена, я спешился, чтобы осмотреть рану, и, дав ей отдохнуть, опять сел верхом и донес Чаликову и Орлову об очищении леса. Они были свидетелями всего и одобрили мои действия. Уланские офицеры окружили меня и превозносили мой подвиг. С тех пор они меня еще больше полюбили и называли фланкером, достойным их дивизии. Граф Орлов припомнил мне сражение под Чириковым, о котором я упомянул в записках о походе 1812 года.
– Здесь не хуже, – сказал он, – было того вечера, как мы под картечью с несколькими казаками прогнали французских фланкеров. Вы тогда со мной были; помните, как там жарко было?
По изгнании неприятеля из леса все тронулось на рысях вперед; радость сияла на всех лицах; конница подалась вправо на гору, и мы увидели перед собой Бауцен. Фланг наш много вперед подвинулся, но мы увидели в дыму, что наш правый фланг отступает и что направление линий наших совсем переменилось. Мы стали догадываться, что правый фланг наш должен быть разбит. Генералы наши не имели довольно смелости, чтобы атаковать неприятеля с тыла многочисленными своими войсками и занять Бауцен, отчего все сражение могло бы принять другой оборот. Мы не воспользовались своею победой и остановились на высотах. Лейб-гвардии Драгунский полк был послан вправо для разогнания собравшегося там неприятельского отряда. Адъютант Крещенский, который был послан с полком сим, вскоре воротился с донесением; лошадь его была тяжело ранена.
Однако же граф Орлов и Чаликов остановились на том бугре, где донская артиллерия более трех часов так славно действовала под сильнейшим ружейным огнем. Лафеты сих орудий были испещрены пулями; два или три дерева, тут росшие, остались без листьев и с поломанными сучками.
Я уже говорил, что людей и лошадей несколько раз переменили свежими. На место убывающих из последней смены едва оставалось четыре человека; при них был храбрый офицер, бойкий мальчик лет 14-ти, который выдержал все сражение, командуя этими двумя орудиями. Граф Орлов приласкал его; назывался он Андреев. Надобно было сменить сию артиллерию, но свести ее было некем; и так набрали пехотных солдат и, прикомандировав их к орудиям, отправили их назад; на смену же им велели прийти на бугор прусскому капитану Гертигу со своей ротой.
Гертиг пришел и хотел было явиться графу Орлову и рассказать ему свои подвиги, но он был так пьян, что упал у ног графа, вмиг уснул и захрапел: Гертиг нализался, стоя еще под горой, с радости, что орудия его были спасены. Он также имел много урона, и у него оставалась только половина людей при орудиях. Наша потеря в коннице не была значительна, но пехота много потерпела.
Лисаневич, командовавший в горах еще левее нас, опрокинул также сильную колонну неприятельскую, которая скрылась. После того на нашем фланге не было более ни одного выстрела.
Я поехал из любопытства в лес и нашел его устланным убитыми баварцами; потеря их была очень значительна.
Чаликов тут же приказал Крещенскому написать реляцию при себе. Крещенский перед отправлением бумаги показал ее мне; в ней заключалось описание дела и особые похвалы на счет его, Крещенского и меня, так что, казалось, нельзя было отказать нам наград за отличие; но неблаговоление ко мне в главной квартире, вероятно, не дало ходу сему донесению, ибо я за Бауценское сражение ничего не получил, невзирая даже на изустные ходатайства Чаликова и на успехи нашего фланга. Напротив того, почти все числившиеся в главной квартире свидетели поражения нашего на правом фланге получили награды. Счастье еще не клонилось на мою сторону. Я с удовольствием надел бы знак отличия за сие сражение, ибо чувствовал, что заслужил его, свидетельствуясь всеми офицерами лейб-гвардии Уланского полка.
Лошадь моя очень устала, почему я отпросился у Чаликова съездить в прежний лагерь наш на первой позиции, чтобы переменить ее; при сем он мне поручил съездить в главную квартиру государя за приказанием.
Как я переехал горы, то стало уже смеркаться; поднялся сильный ветер со стороны Бауцена. Вьюки наши уже спешили уходить, однако я успел переменить лошадь и выехал на большую дорогу, где был свидетелем всеобщего беспорядка. Артиллерия скакала в несколько рядов назад по большой дороге, пехотные колонны на рысях обгоняли одна другую, вьюки, обозы, повозки, все теснилось, мялось на дороге, от чего пострадало много раненых. Лейб-гусарский полк прикрывал побег сей под неприятельскими ядрами, которые попадали уже в толпы бегущих. Государя давно уже не было на пригорке, и он впору уехал, потому что французский левый фланг, разбивший нас, так подался вперед, что едва не предупредил нашего отступления на большой дороге. Никто не начальствовал, и каждый старался пробраться назад, как умел. Неприятель так приблизился, что обратный путь по большой дороге для нашей легкой гвардейской кавалерийской дивизии был уже отрезан.
Я поскакал к Чаликову с известием о виденном, но он уже получил приказание отступать. Надлежало пробраться на город Лёбау горами, по неизвестным проселочным дорогам, и этот путь должен я был указать. Ночь уже наступала, когда мы двинулись назад. Я поскакал в ближайшее селение и, взяв проводника, вывел дивизию из гор к Гохкирхену, селению, знаменитому поражением Фридерика Великого. Оно было все в огне, его зажгли наши. Тут мы уже вышли на большую дорогу; но темнота была такая, что в двух шагах нельзя было человека различить. На этом месте дивизию нашу остановили несколько в стороне от дороги, полагая, что здесь будет ночлег. Мы послали людей за дровами и за водой. Все до крайности устали, и мы, прилегши на землю, уснули крепким сном; но недолго продолжался наш отдых: приказано было далее идти. В жестокую ночь сию нас несколько раз таким образом морочили. К рассвету мы прошли через Лёбау и остановились за городом на час времени; тут сыскались наши вьюки; но вскоре мы опять тронулись в поход и, помнится мне, в тот же вечер пришли к городу Гольдбергу.
В Бауценском сражении мы, конечно, сделали ошибки; но должно преимущественно приписать сие превосходству сил неприятеля. Витгенштейн также именовался главнокомандующим. Говорят, что распоряжения были также смешанные, как во время Люценского сражения. Наполеон направил все свои силы на Барклая де Толли и отрезал его от главной армии. Он и не мог удержаться с 8000 против всей неприятельской армии; не менее того он долго держался и только к вечеру принужден был отступить. Тогда французские линии стали правым флангом под острым углом к большой дороге, обхватывая нас своим левым флангом, что и заставило нас поспешно отступить. Командование ариергарда было поручено А. П. Ермолову; у него нечаянным образом оказалось до 60 орудий, которые не успели уйти. Орудия сии оставались без прикрытия, и они спаслись по особенному счастью. Причиной беспорядка в нашем отступлении было то, что все главнокомандующие и цари уехали, не сделав никакой диспозиции. Слышал я, что один только Дибич оставался и дал некоторые приказания войскам, полагая, наверное, что Ермолов пропадет с орудиями, как он на другой день дал о себе известие, что отступил благополучно и в порядке. Известие сие всех обрадовало. Где тот случай, в котором бы не нашелся великий начальник мой, из которого бы он не вышел со славой! Но не умеют ценить или, вернее сказать, не жалуют его. Он имеет много завидующих ему, которые, забывая отечество, стараются запятнать сего великого мужа в мыслях легковерного государя.
Потерь наших не знаю наверное, но думаю, что мы лишились под Бауценом до 20 тысяч человек.[131] Говорят, что мы орудий не потеряли. Мне кажется, что если б начальство, обратив внимание на успехи нашего левого фланга, приказало бы оному овладеть Бауценом, который находился у неприятеля в тылу, то сражение могло бы принять другой оборот. В горах было у нас много войска, и Наполеон атаковал нас с сей стороны с тем только, чтобы отвлечь внимание наше от правого нашего фланга. Мы не воспользовались преимуществом своим на левом нашем фланге. Если б мы сие сражение выиграли, то соединились бы с австрийцами, которые, по всегдашней политике своей, выжидали успехов наших, чтобы вступить с нами в союз. Говорили, что недалеко от места сражения находился в Богемии сильный корпус цесарцев.
Последствиями Бауценского сражения было то, что французы отрезали нам дорогу на Бреслау и что мы должны были отступить по направлению в Шлезию, к австрийской границе. Слух носился в армии, что мы должны соединиться там с цесарцами. Во время отступления мы получили некоторые подкрепления; ариергард наш ежедневно дрался, и в одном из этих дел украинские казачьи полки захватили 11 орудий у неприятеля под местечком Рейхенбах.
В сражении под Бауценом мы имели, однако же, частные успехи, как, например, кроме удачных действий в горах, мы разбили наголову гвардейский уланский полк Наполеона, так что те, которые не остались на месте, взяты в плен; их вели среди войск наших толпой во все время отступления. Люди сии были замечательны по стройному их росту, мужественному виду, а особливо по красным мундирам и высоким шапкам. По сим признакам они постоянно бросались всем в глаза.
Из наших офицеров квартирмейстерской части убит был поручик Гернгрос двумя пулями в живот, в то время как он ехал с приказаниями в горы.
В Гольдберге нашу дивизию расположили позади города, близ кладбища. Так как мы не рано пришли и всякий думал отдохнуть, то я не строил себе шалаша, а велел только накрыть хворостом и надерганным в поле хлебом старую могильную яму, в которую провалилась или опустилась земля, покрывавшая покойника. Я был защищен от дождя и мог хорошо в ней лежать. Ввечеру пошел я навестить некоторых знакомых и, поздно возвратясь, удивился, найдя брата Александра спящим крепким сном в моей яме. Я не имел еще известий о нем со дня сражения. Мы обрадовались, найдя друг друга здоровыми, и долго толковали лежа; он у меня всю ночь провел. Он советовал мне уклоняться от сообщества новых уланских товарищей моих и был, конечно, прав; но я переменил свои привычки только тогда, когда, с переводом в другое место служения, удалился от круга людей неумеренных, наполнявших полки легкой гвардейской кавалерийской дивизии.
От Гольдберга пришли мы в Яуер, а оттуда к Швейдницу и расположились на бивуаках за городом. Под Швейдницем сделалось известным, что заключено перемирие с Наполеоном, который успел уже занять Бреслау на Одере и освободить гарнизон крепости Глогау. Надобно полагать, что и французское войско было в большом расстройстве: иначе Наполеон не согласился бы заключить перемирие. Оно было в особенности нам выгодно, потому что мы могли собраться силами и соединиться с австрийцами, склоняя их к союзу с нами, о чем, впрочем, заботился и Наполеон.
Из Швейдница пришли мы к городу Стрелен, где я получил расписание селений, который нам следовало занять в Шлезии, в округе Гротгау, верстах в семи от сего города. Взяв с собою квартирьеров и фуражиров, я поехал в селение Герцогсвальдау, где назначен был штаб нашей дивизии и квартира Чаликова. Помещик в сем селении был барон Шефлер, человек недальний; у него была старая жена, клавикорды и большой каменный дом, который отвели для Чаликова.
Я остановился в корчме, лежащей за селением, созвал старшин и приступил к дислокации. Великий князь, командовавший гвардейской конницей, занял свою квартиру недалеко от Гротгау, в селении Оссиг, где была большая мыза. Кирасиры стояли в окрестностях; князь Д. В. Голицын, командир их, расположился в Гротгау. Главная квартира в Рейхенбахе, в 7 или 8 милях от нас; там находился и государь.
Сделав расписание селений для трех полков наших, я отправил квартирьеров занимать оные и составил по расспросам маленькую дислокационную карту, которую представил Чаликову, чем он остался очень доволен.
Полки наши вступили в кантонир-квартиры между 15-м и 20-м числами мая. Пока я занимался размещением полков, я не заботился о себе; все офицерские квартиры были заняты, и я остался без помещения и потому занял корчму и объявил себя хозяину его постояльцем. Но так как у него внизу не было жилой комнаты, то я расположился на чердаке. Жилье мое было неудобно, часто заливал меня дождь, подо мною целый день крик и шум; по ночам мешки с овсом, на которых я лежал, были атакованы баталионами крыс, которых я отгонял кегельными шарами, перекатывая их со слугой моим Николаем: крысы боялись этого стука и на короткое время прятались.
Вид из моего окна был прелестный: богатые золотые поля расстилались во все стороны, а над колосьями возвышались церкви селений, окруженных садами; дороги рассекали волнистые поля, по коим всюду двигались фуры. В правой стороне находилась роща, которая сохранялась для охоты короля; в ней водились разные птицы, и разноцветные фазаны иногда пролетали мимо моего окна. Чудесная страна, населенная честными и добрыми людьми! Сидя у окна и любуясь природой, воображение мое парило в прошедшем и в будущем. При закате солнца отовсюду слышались песни, и, наконец, заревая труба наша в отдаленности возвещала покой могильным голосом своим во всех окрестных селениях. Я любовался, задумывался, садился у окна и писал свои мысли. Тогда написал я послание к покойному другу моему Колошину. Мне казалось, что он со мной и разделяет думы мои своей усладительной беседой. Не уклоняйся от меня, священная память друга и утешай меня в горестях и страданиях! От тебя почерпну я твердость, в тебе найду путь к добру и истине!
Мне надобно было съездить в город Бриг, лежащий в двух или трех милях. Чаликов отпустил меня, и я отправился. Сделав в Бриге нужные покупки, я зашел отобедать в трактир, как вошли три прусских офицера. Один из них был тот самый капитан Гертиг, который под Бауценом так хорошо действовал своими тремя фунтовыми пушонками и, наконец, напившись пьян, уснул у ног графа Орлова. Мы обнялись, как старые товарищи. «Bester Camerad, Herr russischer Camerad»[132] и так далее – были изречения, повторенные с восклицаньями, особливо как мы все подпили. Одного из пруссаков называли der Herr Lieutenant Lange.[133] Гертиг без всяких околичностей сказал мне при нем, что у него прекраснейшая жена и что так как завтра день его рождения, то он приглашает меня к нему на праздник в гости. Рота их стояла по дороге в Стрелен, в селении, отстоящем на три мили. Я с удовольствием принял предложение; они обещались прислать за мной на другой день форшпан, и мы в тот же вечер разъехались из Брига.
На другой день довольно рано явилась ко мне фура, и фурман принес мне пригласительное письмо от Гертига и товарищей его, и я отправился. Отъехав версты две от Герцогсвальдау, я прибыл в селение, где начинались кантонир-квартиры прусской армии. Тут стояли das Ost-Preussische Dragoner, или Uhlaner-Regiment[134].[135] Повозку мою остановил унтер-офицер, в котором я узнал молодца, храбро действовавшего в сражении под Бауценом; его называли Гурецки. Он просил меня представить о нем начальству. Я ему велел на другой день ко мне приехать, что он и сделал. Ему очень хотелось получить Георгиевский крест, но как я не имел надежды выхлопотать ему сего отличия, то ограничился тем, что дал ему рекомендательное письмо к его полковому командиру, чем он остался весьма довольным. Я его более не видал и не знаю, успел ли он что-нибудь сделать с этим письмом.
Далее продолжая свой путь, я прибыл в красивое селение, где Гертиг и товарищи его приняли меня со всевозможной приветливостью. Лейтенант Ланге представил мне свою жену, которая в самом деле была хороша собою и приятная женщина. Мы отобедали в прекрасном садике, при звуках музыки, веселились и пили за здоровье друг друга. Жена Ланге занимала всех своим разговором. Сам Ланге был человек весьма порядочный; Гертиг был простой и более под каплей.
Отобедав, я хотел отправляться домой; но меня не пустили пруссаки, объявив, что они приготовили бал именно для меня. Мне нельзя было отказаться, но я не понимал, где они могли найти место и дом для бала. Они объяснили, что приказали очистить деревенскую школу и привести туда самых лучших крестьянок (немки все охотницы вальсировать), и вся деревня, нарядившись, ожидала моего появления в школу. Жена Ланге осталась дома, а мы пошли. Едва я вошел в горницу, как музыка протяжно заиграла Ach du liebe Augustchen.[136] Все встали, перешептывались, и каждая из танцовщиц с нетерпением ожидала, чтобы я ее взял вальсировать. Гертиг схватил лучшую из них, подвел ее ко мне, и я открыл бал медленным немецким вальсом. Пруссаки закурили трубки и начали вслед за мной кружиться.
Я скоро перестал танцевать и начал наблюдать вертевшиеся передо мной карикатуры. Учитель школы, подойдя ко мне, высказал мне предлинную речь, в которой я приметил только окончательные глаголы; их собралось до пяти к концу: haben, sein, werden, geworden, bin.[137] Я поблагодарил его протяжным «Ja!» Немцы единогласно сознались, что еще никогда не видали столь благовоспитанного человека как de Herr russischer Lieutenant.[138]
Между тем артиллеристы все подносили пунш, от которого пруссаки напились. Им тогда пришло в голову угостить меня одной из плясуний, и, разведав, которая из них мне более нравилась, они отвели ее без больших затруднений в особую комнату. Она бы и согласилась, если б дело не так круто повели; но отец ее вступился и раскричался, за что его вмиг выпроводили с дочерью и всем семейством. Другие гости находили, что он человек вздорный и не умеет себя вести в благородном обществе. Когда мои пруссаки порядочно подпили, ординарцы проводили их домой, а я сел в свой форшпан и отправился в Герцогсвальдау на свой чердак, куда прибыл на рассвете другого дня.
Из главной квартиры последовало новое расписание всем офицерам квартирмейстерской части. Мне снова досталось служить при Его Высочестве, почему, простившись с Чаликовым и уланами, которые меня полюбили, я отправился в селение Оссиг, которое не далее одной мили лежало от Герцогсвальдау в округе Гротгау. При отъезде моем Чаликов обещался дать мне свидетельство в отличии, оказанном мною под Бауценом в присутствии всего уланского полка; но в ту самую минуту он не успел сделать сего, и дело было отложено.
Я прежде сего не бывал в Оссиге. Мне показали большой каменный дом, в котором стоял великий князь. Я не знал расположения комнат и вошел по парадному крыльцу в большой коридор, в котором было много дверей, ведущих в покои Его Высочества, Куруты и других лиц, при нем состоявших. Мне надобно было явиться к Куруте. Едва подошел я к часовому и спросил его, кто в той комнате живет, как дверь вдруг с треском отворилась, и из нее выскочил сам Константин Павлович в белом халате. Глаза его сверкали от ярости. Я имел несчастие разбудить его. Сам я был без шляпы, в фуражке, шпоры на ногах были у меня особенно гремучие; они-то именно потревожили сон великого князя. В запальчивости своей он не узнал меня.
– Кто ты таков? – вскрикнул он сипучим своим голосом, который раздался по всему коридору и взмутил всю мою внутренность.
Едва я успел произнести свою фамилию, как, оглядевши меня с головы до ног, он снова начал кричать.
– Ах! да он в шапке! Ах, да какие шпоры! Под арест его, под арест! Ступайте, сударь, явитесь сейчас к Дмитрию Дмитриевичу Куруте; а там я выучу вас ходить в таком наряде!
Довольно счастливо было то, что он меня при этом случае не выбранил, как у него часто водилось. Просипев грозную проповедь свою, он скрылся так же быстро, как явился; я же тут не стал медлить и пошел отыскивать Куруту, который жил в соседней комнате. Я явился к бывшему своему начальнику, доброму Куруте, который принял меня как старого знакомого. Я ему рассказал встречу свою.
– Хорошо, – отвечал он, – я это дело поправлю, а вы ступайте теперь к товарищу своему Даненбергу; отдохните, а завтра приходите сюда поранее; здесь есть для вас работа.
Я пошел по большому селению отыскивать Даненберга, которого нашел с трудом; он принял меня к себе на квартиру. На другой день я пришел в назначенное время к Куруте, который мне тут же дал занятие. Великий князь зашел в комнату, был весел, шутил, разговаривал со мной, как бы забыл прошедшее. Он называл нашу чертежную Operations Kanzeley.[139]
Чаликов часто к нам езжал и рассказал Куруте о моем отличии под Бауценом, после чего Курута приказал мне съездить к Чаликову в Герцогсвальдау и вытребовать от него свидетельство с намерением представить меня к награде. Я съездил к Чаликову, который обещался мне дать свидетельство; но он о чем-то другом суетился и опять забыл; я же не хотел его более о том просить, и дело осталось без последствий.
Однажды великий князь смотрел работу мою, облокотившись на стол. Чаликов с другой стороны стоял и стал выхвалять меня Его Высочеству, говоря, что я под Бауценом врезался с тремя уланами в неприятельскую колонну и вытащил оттуда несколько человек пленных (что, конечно, не было верно рассказано). Великий князь, выслушав все как бы со вниманием, оборотился ко мне и, показав мне сложенные свои пальцы, чмокнул языком и спросил, не хочу ли я этого. Непривычный к такому обхождению начальника, я покраснел; он же вскочил и стал во все горло хохотать и бегать по комнате. Не понимаю, к чему он так шутил. Вспомнил ли он, что я сон его потревожил; только все этим и кончилось, и за последние два сражения я и благодарности не получил.
Константин Павлович вел странную жизнь. Поутру приезжал к нему на двор полуэскадрон в караул, и он, стоя на балконе, командовал и учил его часа полтора. После сего заставлял их поодиночке несколько раз через барьер прыгать, причем нередко случалось, что люди с лошадьми падали и ушибались, а он хохотал. После смены он приходил к Куруте, иногда беседовал с ним порядочно, а чаще возился с собакой своей, травил ею свою Фридерикшу, которую для того призывал, и при этих забавах он все вверх дном ставил у Куруты в комнате. Иногда Курута унимал его какой-нибудь острой шуткой, и Константин Павлович сознавался, что Дмитрий Дмитриевич скоро вынет из кармана пучок розог и высечет его, после сего он целовал руку у Куруты и усмирялся. До обеда он спал. После обеда опять спать ложился, в 6 часов вставал и выходил на балкон. Ему приносили солдатское ружье, и он стрелял в цель с балкона по статуе, стоявшей среди двора его, которая была без рук и без головы от его пуль. Любопытно было видеть, как он заряжал и стрелял, все по форме, как будто бы он во фронте стоял. Курута за ним находился и похвалял удачные выстрелы. После стрельбы собирали по деревне жеребцов и кобыл… и также приводили петухов для драки. К вечеру он прогуливался и всячески дурачился. Приводили к нему какую-нибудь немецкую музыку, состоявшую из цимбал или плохого кларнета, и каждый день новую; он приказывал им играть у себя в коридоре, за что щедро платил музыкантам. По случаю перемирия великий князь привез Фридерикшу, с которой, к удивлению моему, приехала, в числе окружавших ее, та самая панна стряпчина Лежанова, за которой брат Михаил в Видзах волочился; она очень подурнела. Окружавшие великого князя были те же, что и прежде в то время как мы стояли в Видзах.
Назову только новые лица, появившиеся при дворе Константина Павловича. Адъютант его лейб-гвардии конного полка ротмистр Алексей Орлов, красивый мужчина, умный и ловкий,[140] но нрава скрытного; впрочем, я с ним всегда в ладах жил. Он теперь генерал-майором. Квартирмейстерской части подпоручик Даненберг Петр Андреевич, тот самый, которого я в 1811 году принимал в колонновожатые, учил математике и экзаменовал в офицеры; теперь он был уже чином старше меня. Даненберг был умен, учился хорошо, прилежен и храбр. По предкам Даненберг был из шведов, но по мыслям русский. Немцев он не любил и охотно шутил над ними.
С ним жил некто Мёнье (Meunier), уроженец французский, но с детства выехавший из своего отечества и взросший в Вестфалии, где он вступил в службу в garde du corps[141] короля Иеронима; в 1812 году он перешел во французскую службу в пехотный полк и был полковым квартирмейстером. При обратном шествии из Москвы в Вильну он претерпел общую участь своих соотечественников и ходил в Вильне, прося милостыни по улицам, был в рубище и почти полунагой. Ему вспомнилось, что, когда он занимал некогда должность учителя французского языка в каком-то институте в Берлине, великий князь, в проезд свой через Берлин, спрашивал у него имя. Мёнье отыскал в Вильне квартиру Его Высочества и хотел войти к нему, но был отбит прикладом часового. Невзирая на это, он не оставил своего намерения; нужда придала ему смелости, и он, оттолкнув часового, ворвался в комнату цесаревича и объяснил ему, кто он таков. Константин Павлович, вспомнив рассказанный им случай, велел принять его в свой обоз, одеть и снабдить деньгами. Мёнье был порядочный человек. Константин Павлович полюбил его и ласкал. Он всюду путешествовал с обозом, а по вечерам иногда призывали его разговаривать с цесаревичем. Мёнье не принадлежал к числу тех дерзких и наглых французов, которые в короткое время становятся несносными. Ему было более двадцати лет от роду; он был скромен и благовоспитан; мы с ним хорошо уживались. Он вскоре перешел от нас на другую квартиру, а впоследствии времени ему поручен был в управление весь обоз великого князя. Теперь он в Варшаве и, кажется, вступил в нашу службу. Великий князь по доброте души набрал к себе много несчастных пленных; иных отправил он в Петербург, где они жили в Мраморном дворце и прихотничали. Несколько мальчиков, взятых из числа французских флейщиков, он определил в кадетский корпус, чего, конечно, не следовало делать. Некоторые из пленных, оправившись по получении денег и платья, бежали.
В то время как мы стояли в Оссиге, находилось у великого князя еще два иностранца такого рода. Один был гренадер наполеоновской Старой гвардии, его звали Адам. Он был портной, большой шут и каналья. Был еще один пруссак, по имени Хазе, который служил капельмейстером во французских войсках и сделался совершенным французом, развратный и грубый человек и тоже шут, но знал порядочно музыку и обучал наших музыкантов. Я видел его после в Стрельне, где он везде был принят и учил Фридерикшу играть на фортепьяно. Я нашел еще в Оссиге при великом князе Донского войска поручика Сердюкова Алексея Михайловича, которого я в 1812 году еще знал; он был ранен под Бауценом, но скоро выздоровел. Человек простой.
Я имел также случай познакомиться с подполковником Иваном Ивановичем Шицом, бывшим тогда обер-квартирмейстером при князе Голицыне 5-м, командовавшем гвардейской кавалерией. Шиц был порядочный чудак; чудна была и одежда его, например, шляпа имела вид похоронной с подстегнутыми кверху полями; султан, более зеленый нежели черный, отливал в ясную погоду всеми радужными цветами; шейный платок лежал у него на груди, мундир не впору, двубортный и с большими плоскими пуговицами; рейтузы спущены, сапоги доходили ниже икр и надевались сверх рейтуз; лошаденка скверная; чепрак французский гусарский синий всегда криво лежал на драгунском седле; путлица и уздечка были перевязаны веревочками. В такой амуниции он везде ходил, и я удивляюсь, как при великом князе все сие ему с рук сходило. Шиц не был еще стар, он был храбр и несколько раз ранен, добрый и простой человек, совсем недальних способностей и веселого нрава; при этом крепко придерживался чарочки. Казалось, что он был несколько помешан.
В Оссиге я тоже нашел Кроссара, который служил шутом у Константина Павловича. Он все спал, или кофе пил, или громогласно проповедовал les gra-a-a-ndes operations,[142] или скакал по окрестным местечкам без памяти, полагая, что командует всеми войсками. Когда он бывал дома, то постоянно ходил в одной рубашке и брился по два раза в день, намазав прежде все лицо мылом. В таком положении его раз застал Ланской, адъютант князя Голицына и, подкравшись к нему сзади, схватил его… и волочил по комнате. Кроссар, почти голый, с намыленной рожей и бритвой в руках, кричал и не знал, что с ним делается; наконец, Ланской, подведя Кроссара к дверям и бросив его, сам бежал.
Когда я в Оссиге обжился и познакомился, великий князь стал со мною ласковее, иногда разговаривал и шутил со мною. Я жил вместе с Даненбергом дружно. Утро мы занимались в чертежной у Куруты или, как Константин Павлович говорил, в Operftions Kanzeley. Обед нам отпускали от стола Его Высочества; вечер мы проводили дома в чтении или в спорах, иногда перебирая всех окружающих Константина Павловича, между которыми не нашли ни одного пленившего нас; иногда ходили прогуливаться за деревню и любовались окрестностями.
Великий князь занял меня раз работой, довольно скучной: ему хотелось иметь рисунки мундиров всех кавалерийских полков армии; их надобно было чертить в виде параллелограммов, разбивать их на треугольники и другие фигуры, коих цветы должны были означать воротник, выпушку, подкладку, мундир, полу, флюгер и проч. Но он сам хотел предоставить себе ребяческое удовольствие покрыть параллелограммы сии яркими цветами и потому приказал мне принести их только начерченными. Он только что встал после обеда, после крепкого сна, был сердит, сел на балкон, велел себе свои краски принести и начал мазать, все испортил, замарал и, увидев наконец, что тут требовалось терпение, он велел просить меня, чтобы я все это поправил. Поправить нельзя было; я принужден был все сызнова переделать, что ему так понравилось, что он велел меня за то много благодарить и потребовал еще три экземпляра, один для Уварова, другой для Ожаровского, третий уже не знаю для кого. Я принужден был заняться этой пустой работой. Константин Павлович раздарил новые экземпляры, а один оставил себе и постоянно носил его в кармане; это для того было ему нужно, что в то время переменились все мундиры кавалерийские.
Мне также поручено было с Даненбергом снять поле, на котором великий князь учил конницу, с окрестностями оного на большое расстояние. Великий князь занимался часто учениями. Однажды, будучи не в духе, он излил гнев свой на лейб-драгун, которых учил, наговорил офицерам много неприятностей и, подъехав к капитану Воеводскому, сказал ему, что он глупее его потника; потом, уезжая с поля, послал адъютанта к генерал-майору Чичерину сказать ему, чтобы он этих ослов учил да мучил, пока они не выучатся. Чичерин приказал отвечать цесаревичу, что у него не ослы в команде, и, скомандовав справа по три, увел полк в квартиры, а на другой день послал рапорт к великому князю о болезни. Сему примеру последовали многие офицеры, и великий князь не мог сделать по желанию своему учения, на котором хотел загладить вину свою. Он послал к Чичерину любимца своего Олсуфьева, просить его, чтобы он выздоровел; но Чичерин не сдался и приказал отвечать, что выздоровление не в его воле состоит. Он вынудил, наконец, Константина Павловича самого к нему приехать. Чичерин принял его в халате и по долгом объяснении согласился вывести полк на учение. Великий князь беспокоился об обидах, нанесенных им офицерам, но Чичерин за всех поручился, и на другой день было учение.
Драгуны учились весьма дурно, потому что удача на учениях часто зависит от случая, но великий князь находил все отлично. Он подъехал к капитану Воеводскому и в присутствии офицеров спросил у него, что он ему сказал на прошлом учении.
– Такие слова, – отвечал Воеводский, – после которых я не могу более служить.
– Да что такое, скажите, пожалуйста, право не помню.
– Ваше высочество мне то и то сказали.
– Неужели! Быть не может! Если я это сказал, то, право, не помню, ибо сказал сие в горячке и без намерения обидеть вас и потому прошу у вас извинения.
Константин Павлович пожал у Воеводского руку и, обратясь ко всем офицерам, сказал им:
– Господа, если вперед со мною подобное бы случилось, то предупреждаю вас просьбой за то не сердиться на меня, потому что я иногда не помню, что говорю; сегодняшний пример доказывает вам истину моих слов.
Во время перемирия был великолепный смотр кавалерии, на котором присутствовали государь, прусский король и много посетителей. Пруссаки приезжали из отдаленных квартир, чтобы видеть сие зрелище. Мне поручено было расставить войска. На смотру были три кирасирских дивизии, состоявшие из 12 полков, легкая гвардейская кавалерийская дивизия (три полка) и гвардейская конная артиллерия. Полки все были укомплектованы недавно приведенными частями по два эскадрона в каждый полк. После церемониального марша государь начал смотреть войска справа по одному в карьер, но не имел терпения пропустить поодиночке даже людей Кавалергардского полка и прекратил смотр, тем более что многие из людей и лошадей падали и расшибались. После того было общее учение всем полкам вместе. Полки Кавалергардский и лейб-гвардии Конный делали атаку целой бригадой в одну линию. После учения государь уехал обратно в Рейхенбах, где находилась его главная квартира.
Из Оссига ездил я иногда навещать конногвардейского Синявина, с которым прежде был знаком. В Оссиг приехал ко мне брат Михайла, выздоравливавший от полученной им под Бородиным раны. Радостно для нас было обнять друг друга после продолжительной разлуки. От Михайлы узнал я, что отец вступил в службу полковником, оставив при себе молодых людей, которые у него учились. Батюшка был назначен начальником Главного штаба в корпус графа П. А. Толстого, начальствовавшего 70 000 ратников восточных губерний, которые формировались в Нижнем Новгороде. Вступив в службу против желания своего отчима князя Урусова, он поссорился с ним, и князь хотел лишить его наследства; но отец, несмотря на то, пошел в службу. Так как у батюшки было мало состояния, то он не мог нам денег присылать. Между тем, заняв высокое место, стал жить не по своим средствам и наделал долгов.
Прожив у меня одни сутки, брат Михайла уехал в Рейхенбах, потому что князь Волконский взял его к себе в адъютанты.
Мы начали помышлять о продолжении военных действий, когда срок перемирия стал кончаться. Курута послал меня сперва в Гротгау и потом в Мюнстерберг к стороне Богемии, дабы доставить ему предварительные сведения о состоянии селений, около сих городов лежащих. До Мюнстерберга был один день езды. Я ехал кантонир-квартирами прусских войск; пруссаки комплектовали полки свои, учились и готовились начать с новым рвением предстоявшую кампанию.
По приезде в Мюнстерберг мне отвели квартиру у аптекаря, достаточного человека, который показал мне вверху хорошую комнату. Пока я сидел один, вошла ко мне хозяйская дочь, стройная молодая девушка лет 18-ти. Она скромно поклонилась и спросила, где мне угодно будет кушать, у себя в комнате или внизу. Я просил ее прислать кушанье ко мне наверх, и чрез несколько минут она опять пришла и накрыла сама на стол. Я просил ее посидеть со мною. Она спросила меня, не знал ли я двоюродного брата ее Баррюеля, служащего в Ахтырском гусарском полку.[143] Я действительно знал Баррюеля, который служил адъютантом или ординарцем при Васильчикове, и хотя ему было не более 15 лет от роду, но он уже был поручиком.
– Знаете ли, – продолжала она, – зачем я вас о нем спрашиваю? Это потому, что вы на него очень похожи; вы сделали в моем сердце впечатление, которое меня никогда не оставит.
Молодая хозяйка моя не принадлежала к числу развратных женщин; напротив того, она была скромная. Странно мне показалось, как я мог ей вдруг так понравиться, и, сделав признание в моей страсти, бедная девушка покраснела, потупила глаза и замолчала. Мне ее было жаль, и в утешение ее я обнял ее и обнял с удовольствием. Случившийся в соседней комнате шум понудил нас расстаться, но она просила меня провести вечер в саду.
– Там будут родители мои, – сказала она, – соберутся гости, будет пастор, и вы приятно время проведете с нами.
«Почему не так?» – подумал я, обещаясь прийти. В сумерки я пошел в сад и нашел там всех тех, о которых она меня предупредила. За трубкой разговаривал я с пастором о богословии, как прелестница сделала мне знак, чтобы выйти прогуляться. Я вышел, она меня дожидалась, но не в скрытном месте, и изъяснялась в любви своей вполголоса, собирала ягоды и угощала меня; словом, совсем увлекалась страстью. Я отвечал ей невинными ласками, сад был маленький, и из беседки, в которой старики сидели, было во все стороны видно. Так и кончился вечер, а на другой день я уехал обратно в Оссиг.
Часть четвертая Со времени выступления в Богемию после перемирия до выступления в поход во Францию из Франкфурта-на-Майне Третья кампания
Перемирие кончилось в начале августа. Оно продолжалось более двух месяцев, в которое время как французы, так и мы, усиливались вновь прибывавшими людьми, так что полки наши были комплектны к выступлению в поход. Корпуса были сильные. В одном корпусе Витгенштейна имелось более 30 000 пехоты. Он составлял авангард главной действующей армии, коей командование государь вверил Барклаю де Толли. Прочие корпуса соответствовали сему силой. Гвардейские полки были в отличном виде, конница отъелась и поправилась; словом, у нас явилась новая армия, укомплектованная из Варшавы баталионами и эскадронами, которые формировали Лобанов и Жандр, бывший адъютант великого князя.
Пруссаки также времени не теряли и укомплектовали разбитые полки свои. Они устроили по примеру нашему множество ополчения (Landwehr), которое не уступало ни в чем регулярному войску. Они сформировали еще несколько полков из охотников, людей достаточных, но вступивших в службу рядовыми из любви к отечеству, ибо в то время царствовал в Пруссии удивительный дух во всех сословиях. Студенты, ремесленники определялись в службу. Ополчения прусские были одеты наподобие русских, в синих полукафтаньях, а на фуражках имели медные кресты с надписью: «Für Konig und Vaterland».[144] Кроме того, составили в Пруссии поголовное ополчение под названием Landsturm, которое состояло из всех оставшихся неспособных и старых людей (ибо никого более в деревнях не оставалось). Их вооружили пиками; они не были обмундированы, не знали никакой службы и не выходили никогда из своих селений. Пруссия, вооружившись таким образом, могла выставить без ландштурма в поле до 300 000 славного войска; пехота их была в особенности хороша. Такие силы были, конечно, несоразмерны народонаселению королевства, но это было последнее усилие Пруссии, после которого она бы более не восстала, если б война имела несчастливый исход.
С нашей стороны выступали из отдаленных губерний бесчисленные ополчения, которых, однако же, едва ли половина перешла за границу и четвертая доля возвратилась; причиной тому был дурной присмотр, который у нас обыкновенно имеют за людьми: они во множестве болели и умирали. Другая причина сих болезней была та, что ополчения проходили через губернии, где погибла французская армия и где она оставила заразу, опустошившую страну.
Наполеон тоже усиливался. К концу перемирия у него была многочисленная армия, но главные силы его состояли из пехоты, и мы всегда имели над ним преимущество конницы, преимущество, которым, однако, мы не умели пользоваться.
Во время перемирия обе стороны изощряли дипломатическое искусство для склонения Австрии на свою сторону, что давало большой перевес: ибо Австрия, пользуясь своим нейтралитетом, собрала также значительные силы, с которыми она была готова пристать к победителям. Австрийская армия стояла в Богемии. Во время перемирия дипломаты наши ездили в Прагу под предлогом лечения на теплых водах Теплицких, пользуясь тем для переговоров с Австрийским двором, который мы успели склонить к союзу. И мы двинулись с сильным войском в пределы Богемии для соединения с цесарской армией. Главная квартира Наполеона и главные силы его находились в Дрездене, где он укрепился.
Общий главнокомандующий, или генералиссимус, у союзников был австрийский фельдмаршал Шварценберг. Такое снисхождение государь согласился сделать цесарцам для удержания с ними союза. Шварценберг был родом чех или богемец, высокого роста, толстый, гордый, лично храбрый, но, как говорят и как последовавшие военные действия сие доказали, человек без военных дарований, нераспорядительный и нерешительный. Он не обладал теми качествами, которые должны ознаменовывать хорошего полководца.
План кампании у нас был следующий:
Прусский главнокомандующий Блюхер должен был с армией, состоявшей из пруссаков и русских, идти чрез Саксонию к Дрездену прямой дорогой, тогда как главные силы наши, соединясь с австрийской армией в Богемии, должны были под предводительством Шварценберга идти тоже к Дрездену по Теплицкой дороге.[145] С главными силами нашими находились три государя, и русские войска в сем случае были все под начальством у союзных главнокомандующих.
Во время перемирия перешел на нашу сторону от Наполеона генерал Жомини, написавший известную книгу под названием Traité des grandes opérations militaires («О великих военных действиях»). Государь, приняв из менника с почестью, дал ему чин генерала в нашей службе, назначил к нему адъютантов и большое жалованье. Хотя книга его признавалась дельной военными людьми, но он сам не был таким, каким его полагали. Теория и практика предметы весьма различные, и если б Жомини не пользовался расположением государя, который иностранцев часто предпочитал русским, то на него не обращали бы внимания, и остался бы он в презрении.
Во время перемирия приехал еще к нам из Северной Америки французский генерал Моро, человек честных, благородных правил и искусный полководец; он надеялся видеть отечество свое под правлением Бурбонов, коих был приверженец. Союзные государи держали его при себе и следовали его советам.
Мы выступили в августе месяце из кантонир-квартир и в один или два перехода прибыли с конницей в Мюнстерберг. Кроссар назначен был великим князем для делания дислокаций и занятия лагерных мест. Этот сумасшедший человек представил себе по обыкновению, что он командует всеми союзными войсками и что неприятель на носу. Когда надобно было лагерь занимать, то он без памяти скакал по обширному полю на маленькой крестьянской лошади, у которой грива не росла, а хвост был солдатами отрезан; часто кляча его не подвигалась вперед, и когда он ее бил и шпорил, то она брыкалась. Мы с Даненбергом подталкивали ее сзади и смеялись над Царем Фараоном. Он водил кирасирские полки с одной горки на другую и морил лошадей их; не зная ни слова по-русски, он сзывал их по своему во все горло и кричал вместо Екатеринославский Екатериноорловский, вместо Его Величества полк куирасы-косудар, вместо Ее Величества полк куирасы-косударын. У него был в одно время бессменный ординарец Староингерманландского драгунского полка, которого он иначе звать не умел, как Ермолинский.
Наконец, перестали его слушаться, и пока он рыскал по лесам и по горам с одним казаком, товарищ мой Даненберг и я покойно расставляли войска. Когда же дело доходили до дислокации, то, едва умея различить на карте селение от речки, он держал квартирьера до ночи, бился, потел, смешивал, перековеркивал название селений и, наконец, ничего не приказывал, и дислокация составлялась нами; но так как он нам мешал и ответственность за промедление или неисправность легла бы на нас, а не на Кроссара, то мы принуждены были уезжать вперед и отправлять квартирьеров до его прибытия. Кроссар дело смекнул, и когда мы с половины дороги от него ускакивали, то он кликал нас и силился нагнать; но лошаденка его брыкалась, не подвигаясь вперед, а Кроссар терзался и кричал:
– Ah mon Dieu, mon Dieu! Ah Jésus, Marie, les grandes opérations sont maintenant au diable; ces messieurs vent se faire tourner par l’ennemi, ils vont être pris en flanc[146] (тогда как французы находились от нас в 200 верстах).
Когда же Кроссар нагонял нас в городе или селении и находил уже всех квартирьеров разъехавшимися и дислокацию сделанной, то он оставался доволен и потчевал нас кофеем, который пил с утра до вечера.
Мы сказали Куруте, что Кроссар нам ничего делать не дает. Курута был на него недоволен, но ничего не мог сделать, потому что он был под покровительством великого князя. Он нам приказал стараться исполнять свою должность и делать дислокации без ведома нашего сумасбродного полковника. Хотя великий князь Куруту очень любил, целовал у него руки, слушался его и называл его своим наставником, но я сам слышал, как он однажды гонял и стращал почтенного наставника своего арестом за то, что старик забыл что-то приказать касательно движения войск и что Конная гвардия отстала с версту, тогда как великий князь любил ехать с нею вместе на переходах.
Когда мы прибыли в Мюнстерберг и когда войска были расставлены в лагере, я приехал на квартиру свою, которую назначили мне на этот раз не у аптекаря. Однако мне хотелось увидеть прежнюю молодую хозяйку свою, и я отправился к ней. Увидев меня, она смешалась; старики мне обрадовались и к радости же отнесли смятение дочери. После первых приветствий она повела меня в приемную комнату, принесла туда кофею и трубку, потом заперла все двери на ключ и на задвижки и села со мною на небольшое канапе или, лучше сказать, в большие кресла, в которых мы едва могли поместиться… Я не решился воспользоваться ее слабостью. Проведя таким образом около часа, я с нею расстался, обещаясь возвратиться в сумерки. В обещанное время я пришел к дому аптекаря и застал все семейство и дочь сидящими на скамье, на улице подле ворот. Какой-то провиантский офицер сидел подле нее и жал ее руку в своих. Отец тотчас стал мне рекомендовать будущего зятя своего. Несчастная не знала, куда ей деваться, а я в досаде ушел домой.
Спустя час после того пришел ко мне брат ее, мальчик лет 12-ти, с запиской, в которой она в самых страстных словах выражала свою привязанность ко мне, просила меня возвратиться и уверяла, что хотя по воле родителей рука ее и принадлежала тому офицеру, которого я видел, но что сердце ее мне принадлежало. Я послал ей в ответ через брата ее изустно жестокий отказ и лег спать. Пошел сильный дождь; ночью пробудил меня стук у дверей, и я узнал голос мальчика, который с плачем говорил, что ему не велено возвращаться без ответа. Я впустил его из жалости; он подал мне другую записку, в которой она заклинала меня всем возможным прийти к ней; но я безжалостно отказал и на другой день до рассвета переехал с главной квартирой Его Высочества в селение, отстоящее верстах в четырех от Мюнстерберга.
Мы тут дневали, и я имел случай ближе видеть Фридериксшу, которая несколько переходов провожала Константина Павловича. Она приятная женщина и недурна собою; ей тогда было за 25 лет, и она не имела уже той свежести, которой женщины часто пленяют более, чем правильными чертами лица.
Вновь прибывшие во время перемирия резервные эскадроны для укомплектования полков начали с первых переходов упадать; потому что лошади их, непривычные к большим переходам по каменистым дорогам и к бивуакам, стали худеть и ослабли. Однако эскадроны сии держались еще кое-как до Дрезденского сражения, после которого в полках убавилось от переходов много рядов.
После дневки войска двинулись в горы, отделяющие Шлезию от Богемии. Мы шли через городок Франкенштейн. День был прекрасный, впереди представлялись нам горы в самом величественном виде, по равнине со всех сторон тянулись густые колонны войск. Подобные картины никогда из памяти не изглаживаются. Мы поднялись на вершину гор и прошли мимо крепости Зильберберг на границе прусских владений в горах. Крепость сия имеет необыкновенный вид; ее считают неприступной; заложена же, кажется, Фридрихом Великим. В ней производились работы, когда мы мимо проходили. Мы шли каменистым ущельем, иногда по воде, и пришли ночевать в городок Варту. На следующий переход мы начали выходить на равнину и продолжали марш через Браунау, Гичин, Мельник, Будин, Лаун и Таттину. Дорогой купил я еще лошадь чалую, огромной величины, которую назвал Галиотом и которая служила мне до возвращения в Петербург.
В Богемии народ совершенно розен от саксонского или вообще от германского. Богемцы более русские, чем немцы. Они называют себя чехами и говорят по-славянски. В народе заметна при грубости и смышленость, отличающая наших соотечественников. Они также имеют много обычаев, схожих с нашими.
По вступлении в Богемию пруссаки вспомнили старинную вражду свою с австрийцами и обращались там, как в неприятельском краю, отчего они более оставались в убытке. У нас же, русских, приказано было вести себя как можно скромнее, и потому мы часто переносили обиды от жителей и затем еще оставались виноватыми. Мы часто нуждались в квартирах и пище по недружественным распоряжениям австрийцев; когда же нужда заставляла нас посылать на фуражировку, то по людям нашим стреляли, а после нас же наказывали. Однако, когда наши выходили из терпения, то, невзирая на приказания начальства, они вступали в бой с вооруженными мужиками и австрийцами, стоявшими на залогах, и мы всегда имели верх и приводили союзников под караулом.
Женщины в Богемии красивы, но также были мало приветливы к нам, как и мужья их; я видел в Браунау одну девушку лет 19-ти такой красоты, какой едва ли где встречал.
Первые австрийские войска, которые мы увидели, были пехотные. Мы ожидали, по словам Кроссара, встретить отличную армию, но, напротив того, увидели несчастных солдат, одетых в грязные мундиры, бывшие некогда белыми. Амуниция была в небрежном виде, офицеры смотрели очень дурно, войско было невыученное, без большего порядка и совсем без духа. Кроссар утешал нас тем, что по одному полку не должно судить о всей армии; но когда мы увидали огромные колонны, или массы, австрийских полчищ, тогда уверились, что неошибочно было наше первое мнение о них. Австрийская пехота была плохая, особливо та, которая состояла из настоящих австрийцев. Гренадеры их все набраны из славян или кроатов, народ рослый, сильный и храбрый, но вместе с тем грубый и свирепый; в гренадерских полках нижние чины не говорят по-немецки, а по-славянски, тогда как офицеры у них из немцев и командные слова на немецком языке. Случалось, что офицеры не могли объясниться со своими людьми иначе как с помощью русского переводчика. Австрийская конница превосходнее пехоты, люди хорошо ездят и умеют беречь лошадей, хорошо одеты, но со всем тем дурно дерутся, от того что офицеры у них плохие и большей частью из низших сословий, как то ремесленников и пр. Австрийская артиллерия в сражении хорошо действует, хотя люди и офицеры одеты, как сапожники; мундиры их можно даже назвать шутовскими, к тому же они оборваны и засалены. В австрийской армии вообще нет ни духа, ни настоящего повиновения, и потому войска сии не могут быть надежными; хотя славяне и храбры, но под предводительством тех офицеров, которые ими начальствуют, лучший солдат никуда не будет годиться. На переходах люди отстают и уходят в селения по сторонам, где проживают во время похода, предаваясь грабежу; единственное извинение такого беглеца состоит в слове ich bin Marode,[147] и с сим отзывом он как будто имеет право уклоняться от службы. Через сие самое случается то, что после трех или четырех трудных переходов недосчитываются половины полка. Беспорядки сии усиливаются в австрийских войсках, когда им не дадут покойно переночевать или отобедать. Вялое войско.
В австрийской армии есть славная конница, состоящая из венгерских гусар; они хорошо одеты и содержаны, знают в совершенстве аванпостную службу и храбры, офицеров имеют лихих, но войско сие не привержено к австрийскому двору. Венгры всегда были в ссоре с прочими цесарскими войсками и, напротив того, в дружбе с русскими. Есть также у австрийцев несколько баталионов отличных стрелков, которых называют sitbenburger, или семигорцы; они храбры, стреляют метко и имеют хороших офицеров, одеваются нарядно.
Австрийский император не имеет гвардии. Гренадеры заступают место телохранителей его. Гвардией же его называются две небольшие дружины, состоящие каждая из 30 или 40 человек богемцев и венгров из лучших дворянских фамилий. Они служат в звании рядовых, окружают государя своего и одеваются так же странно, как их царь, т. е. в серых мундирах, красных штанах и треугольных шляпах с зелеными султанами. Первая дружина называется Богемской гвардией, а вторая Венгерской. Они не знают никакой службы и составляют просто свиту императора, но свита сия придает двору более странности, чем пышности; ибо эти благородные гвардейцы большей частью не смотрят молодцами: подле толстого старика видишь 15-летнего мальчика, совершенные карикатуры. Но у императора Франца есть еще гвардия, состоящая из 150 человек и называющаяся Extragarde. Она составлена из старых инвалидных солдат, одетых с замечательным безвкусием. Инвалиды сии содержат внутренние караулы во дворце и служат также за столом у императора.
Одно из больших зол в австрийской армии – это обозы, коим нет конца. Когда австрийская армия истлела на переходах во Франции, то оставались одни обозы; колонны огромных крытых белых фур тащились по всем дорогам, грабили, разоряли край и останавливали движение войск; ибо с остановкой одной фуры останавливался весь обоз, так что русские начальники не находили другого средства на ночных переходах, как посылать одного офицера вперед к первой фуре, чтобы разговориться с австрийским начальником обоза, а между тем вынуть из колеса передней фуры чеку: колесо сваливалось, фура ложилась на бок, и вся колонна фурвезена останавливалась. Около заброшенной чеки собирался совет, который после долгих рассуждений, наконец, решался общими силами вставить новую чеку, между тем как наши войска и артиллерия обгоняли обозы. (Это сделал адъютант Ермолова Муромцов.)
Сих домообразных фур было несколько тысяч у австрийцев; большей частью они были пустые, а в других сидели офицерские и солдатские жены с ребятишками, собачками и с награбленными вещами. К сословию походных маркитантов у австрийцев принадлежат иногда и офицерские жены.
По соединении нашему с цесарской армией нам ве лено было надеть, наподобие австрийцев, веточку в шляпу или в кивер, что у них служит знаком похода (das Feld ze ichen). К великому князю прикомандировали несколько австрийских офицеров, которые бессменно при нем находились во все время войны. Из них старший был полковник Вернгард, флигель-адъютант Франца, человек храбрый, весьма любезный, умный и с хорошими познаниями; состоя при великом князе, он получил Георгиевский крест и Анну с бриллиантами, не оказав никакого отличия. Поручик Шиллер служил в каком-то австрийском кирасирском полку, был родом поляк из Галиции и состоял тоже при Его Высочестве. Третий был некто Гальзадо, родом испанец. Он числился в каком-то австрийском гренадерском полку; достоинства его и вся служба состояли в том, что по ночам на переходах он вынимал ножик из кармана и искусно насвистывал об острие разные песни, что забавляло великого князя. Еще было двое, но я их не знал, и они как-то скоро исчезли. В честь великого князя австрийцы назвали один из кирасирских полков своих полком Его Высочества Константина Павловича.
У нас были также пруссаки: прусского гвардейского уланского эскадрона поручик Панневиц, родом саксонец (он пристал к нам уже во Франции), прусского гвардейского казачьего эскадрона юнкер, которого после произвели в офицеры в прусский кирасирский полк Его Высочества,[148] и поручик Готберг того же полка, славный, добрый и храбрый малый.
Штат великого князя так умножился, что мы уже не умещались в порядочном селении и составляли как бы особую главную квартиру.
Я забыл упомянуть еще об одном Шиндлере, который при Его Высочестве находился. Шиндлер родом венгр, родился во Франции, не получил ни воспитания, ни образования, служил то во французской, то в австрийской службах солдатом, отличился храбростью, был произведен в вахмистры, вышел в отставку и жил в Венгрии. После Лауценского сражения, перед самым перемирием, узнав, что войска наши недалеко от австрийской границы, он перешел к нам, явился к великому князю и просил службы в лейб-гвардии Уланском полку. Константину понравилась отчаянная наружность Шиндлера, и он принял его старшим вахмистром в полк, приказав ему при себе находиться. Шиндлер в самом деле был отчаянный в делах, кидался вперед, обирал пленных, сдирал с них медвежьи шапки и шил себе из них чапраки, продавал захваченных лошадей и тем поддерживал свою казну, ибо любил мотать. Кроме того, великий князь давал ему много денег и баловал его. Шиндлер был славный наездник, мастер бороться и всех приемов лихого и проворного бойца.
Однажды он был послан в разъезд с командой под начальством офицера для приведения языка. Подъехав к одному селению, наполненному французами, офицер хотел назад возвратиться, но Шиндлер просил его подождать в поле, а сам поехал в селение с одним уланом и стал стучаться в дверях у одного дома, в котором сидели французы. Он с ними толковал по-французски, пока они не отперли ему дверей; тогда он вскочил в комнату и, сделав выстрел из пистолета, схватил одного в медвежьей шапке и притащил его к разъездному офицеру. Французы были так изумлены нечаянностью, что не посмели за ним следовать.
Другой раз он защищал с четырьмя или пятью уланами переправу через реку против неприятельской команды, пока полк его переправлялся. Однажды он во время дела подскакал к французскому баталиону, который принял его за польского улана; пронесшись вдоль фронта всего баталиона, он закричал «Vive l’empereur Alexandre»[149] и заколол крайнего человека; по нему пустили ружейный огонь, но ни одна пуля его не задела.
Шиндлер получил знак Георгиевского креста, после произведен был в корнеты, в поручики, и теперь, я думаю, что он должен быть штабс-ротмистр лейб-гвардии Уланского полка, имеет Владимира 4-й степени, золотую и Аннинскую сабли. В обращении он не имеет приличия, требуемого от офицера, грубоват, развратного поведения. Ни в какой службе, кроме нашей, не был бы он гвардейским офицером. Впрочем, Шиндлер добрый малый, смирен, когда не пьян; когда же пьян, то сам черт с ним не совладает. Будучи офицером, он никогда во фронте не служил, а все рыцарствовал и имел один исключительно право ездить с турецкой камышовой пикой, которую ему подарил Константин Павлович.
Хотя великий князь и назывался командиром отдельного гвардейского корпуса, но он исключительно привязался к 1-й кирасирской дивизии и был с ней неразлучен, особливо с Конной гвардией, которая состояла в 1-й бригаде дивизии. К сей дивизии прикомандирована была прусская кавалерийская гвардейская бригада, состоявшая из полка Garde de Corps (кавалергарды) и легкого гвардейского кавалерийского полка. Кавалергардами командовал полковник Ларош, храбрый, решительный, умный и старый служивый; полковым адъютантом был у него поручик Краут, человек приличный. Легким гвардейским кавалерийским полком командовал уланский майор Крафт, молодой человек с ужасными усами, всегда вытянутый, как говорят, à quatre épingles[150] и несколько фанфарон.
Тогдашние пруссаки вообще любили фанфаронничать, но в деле были храбры и дрались отчаянно. Полк сей состоял из пяти эскадронов, из коих один был гусарский, другой уланский, третий драгунский, четвертый казачий и пятый состоял из вольноопределяющихся. Хотя полк сей постоянно вел себя хорошо в деле, но по наружности не вселял к себе доверия. Лошаденки были плохие, люди не умели верхом ездить, одеты же были как бы с умышленным безвкусием. Гусары, сидя на клячах, хотели уподобляться венгерцам, шпорили лошадей, когда проезжали мимо окна, где выглядывала какая-нибудь женщина, но худая лошадка от того вперед не поднималась и, кружась на месте, только брыкалась. Казаки отпускали себе бороды, которые никак не шли пруссаку, утопающему во вьюке драгунского седла на изнуренной и замуштученной лошади. Вновь сформированные прусские казаки старались всё перенимать у наших казаков, почему и знались исключительно с нашими донцами, которые пили на счет пруссаков и после обкрадывали их или били. Эскадрон вольноопределяющихся был самый несчастный, ибо он состоял из людей лучшего звания, которые должны были сами ходить за своими лошадьми и не могли хорошо перенести всех трудностей похода. Эскадрон улан также перенимал у наших; они ужасно затянули себе тальи и перехват шапки; у них все было пересолено (outre), отчего они были смешны. Прусская конница вообще не принадлежала к числу отличных.
Между гвардейскими прусскими гусарами я знал одного поручика Лона (Lohn) с ужасными усами; он родом венгр и служил в английской службе, в уланах.
Прусской конной гвардейской артиллерией, состоявшей из семи орудий, командовал старый, толстый и лысый ротмистр; лицо у него было красное, как мак, и приятная улыбка скрывалась под его густыми белыми усами; на подбородке имел он также пучок белых волос. В прусской армии можно было обогатить свой альбом порядочным собранием карикатур.
Прусская гвардейская пехота состояла из двух или трех славных полков под командой храброго полковника Авенслебена и находилась под начальством Милорадовича. В сих полках я только знал поручика Кнобельсдорфа, коего отец был посланником в Турции.
По прибытии в город Таттину получено было повеление следовать как можно скорее к Дрездену. Витгенштейн, составлявший наш авангард, уже сражался под Пирной, несколько раз сбивал неприятеля и сам был отражен. Мы выступили немедленно, и я поехал с Даненбергом вперед для занятия лагерного места или квартир. Мы проехали через Лаун, Брикс, Биллин, Дукс, Теплиц, Кульм и стали подниматься на хребет гор, отделяющих Богемию от Саксонии. На самой вершине сих гор находилось селение Ноллендорф. Шоссе было очень хорошее, но по нему только и проехать можно было, потому что вправо и влево леса, крутизны и овраги. Сделав в тот день очень сильный переход, мы пришли ночевать в городок Готлейбе, лежащий несколько влево от большой дороги в ущелье и, кажется, на саксонской границе. Полки были расположены по селениям. На другой день мы прошли через селение Пегерсвальде в Грос-Котту.
Гвардейский корпус расположился лагерем, великий князь поместил квартиру свою в Грос-Котте; но едва он успел занять ее, как услышали перестрелку за селением. Лейб-гвардии Егерский полк был послан на подкрепление небольшого отряда из корпуса Витгенштейна, который тут находился и не в силах был удерживать внезапное нападение большего числа французов. Перестрелка усилилась, но между тем великий князь получил приказание следовать с гвардейским корпусом к Дрездену.
По прибытии нашем в Грос-Котту Курута послал меня в селение Отендорф для узнания дорог. Я нашел Отендорф полный нашими гвардейскими солдатами, которые грабили все без пощады. Хозяйка замка была женщина хорошей фамилии и случайно оказалась сестрой той, у которой я в Дрездене ночевал во время нашего отступления. Солдаты приходили даже в самый кабинет ее, и она бы не миновала горькой участи, хотя ей уже было 40 лет, если б я на то время не приехал. Солдаты разбежались по садам и по крестьянским избам; я за ними гнался несколько времени, но не мог ни одного поймать. Крестьяне около меня собрались; в домах их был крик: «разбой!» Уводили скот, уносили деньги, срывали чепцы у женщин, из перин пух выпускали (первая забава солдата на грабеже); словом, несчастное селение это громили до конца.
Обыватели показали мне один дом, который наполнен был солдатами; я велел их вызвать. Они вышли, неся в полах шинелей множество вещей и в портках столько же. Побранив их, я приказал им отдать награбленные вещи, и они опустили полы, из коих чего не посыпалось! Серьги, картофель, кольца, кофей, сахар, ложки, ножницы и проч. Женщины, увидев такое повиновение, бросились на солдат, полезли в карманы подштанников и с криком и слезами доставали оттуда деньги. Предоставив солдатам взять себе картофелю и хлеба, я отпустил их. Но один из них не дал себя обыскивать и бежал; я пересек ему дорогу в переулке и схватил его за ворот; так как он стал вырываться из моих рук, то я ударил его по уху, и он принужден был сдаться. Созвав крестьян, я приказал связать солдата, который был Измайловского полка, и посадил его в конюшню под обывательский караул. Окончив данное мне поручение, надобно было возвратиться в Грос-Котту, и я затруднялся, куда мне с арестантом деваться. Я призвал его и стращал, что его расстреляют в лагере за грабеж и неповиновение; солдат был старый и молодец собою; он мне отвечал:
– Ваше благородие, отпустите меня. Пускай лучше французская пуля мне в лоб попадет, чем русская. – И я освободил его.
Подъезжая к Грос-Котте, я услышал перестрелку: гвардейская пехота уже выступила, не дождавшись своих фуражиров, рассыпавшихся в с. Отендорфе; конница тянулась по большой дороге к Дрездену. Великий князь обогнал ее в коляске с Олсуфьевым, а Курута верхом ехал сзади шагом, окруженный адъютантами Его Высочества. Не слезая с лошади, я доложил ему об узнанных мною дорогах и поехал за ним.
Наступил вечер, пошел проливной дождь, поднялся сильный ветер. Около полуночи мы прибыли в какой-то городок, где отдохнули с час и поехали далее. Перед рассветом мы прибыли в селение, в котором великий князь ночевал. Даненберга и мои вьюки отстали; мы завели лошадей под сарай, положили им сена и легли подле них, но нам недолго позволили отдыхать: через полчаса казак с трудом разбудил нас и позвал к Куруте, который приказал нам немедленно ехать, чтобы принять лагерное место для гвардии от Барклая де Толли. Проливной дождь не прекращался, и рассвет едва только что показывался, когда мы нашли Барклая, стоявшего совершенно одного на пригорке. Многолюдной главной квартиры его тут не находилось, как часто бывает в подобных случаях; ни дождь, ни усталость, ни нерадение адъютантов – ничего не могло возмутить его спокойствия, и Барклай показался мне в то время необыкновенным человеком.
Австрийцы уже начали атаку на левом фланге, а Остерман-Толстой приступил к Пирне.[151] Даненберг оставлен был для принятия лагерных мест, а меня послали к Ермолову, командовавшему Первой гвардейской пехотной дивизией, дабы привести его к Пирне, где он должен был соединиться с Остерманом-Толстым. Ермолов уже шел на позицию; я доложил ему о приказании главнокомандующего, а он послал меня отыскать Остермана и выехать к нему навстречу. Я поскакал каким-то ущельем и, по незнанию местоположения, приехал к большому селению, составляющему предместье Пирны.
Тут находилась какая-то егерская рота, состоявшая из оборванных рекрут под командой молодого офицера. Рота вела перестрелку с неприятелем, стоявшим на крутом обрыве, так что он был до головы закрыт, а наши совершенно открыты. Несчастные егеря наши из сил выбились, потому что несколько дней были без пищи и в трудах. Они имели уже большой урон и пускались в бегство; но офицер храбро кидался вперед с обнаженной саблей и останавливал их бранью и ударами, причем и на него изливались ругательные слова от рекрут, которые не менее того принуждены были снова возвращаться в огонь. У них мало уже оставалось патронов, когда я приехал. Огонь со стороны неприятеля был частый; наши же изредка стреляли и стояли тут единственно для того, чтобы неприятель не занял этого места, предавая себя неминуемой гибели без нанесения какого-либо вреда французам. Молодой офицер подошел ко мне и жаловался со слезами на глазах на своих солдат, говоря, что уже сам из сил выбился: причем объяснил мне, что принадлежит к корпусу Остермана и оставлен для прикрытия сего места, по-видимому, забыт и что Остерман сам с корпусом на горе сражается.
Я отыскал Остермана. Он сидел на барабане среди чистого поля; войска его стояли в колоннах. Когда я донес ему о своем поручении, он спросил мое имя и, узнав, что я Муравьев, стал выхвалять нашу фамилию, называя отца моего, братьев и родных, про которых он слышал: с некоторыми из них он был знаком, так как и со старшим братом моим, причем он, обратившись к окружавшим его, сказал, что Муравьевы должны служить для других примером по службе. После того, пожав мне руку, он приказал сказать Алексею Петровичу, что ожидает его с нетерпением; ибо советы Ермолова будут служить ему приказанием, хотя Ермолов в чине был и моложе его. Я выехал к Ермолову навстречу, и он соединился с Остерманом.
Наполеон находился с главной армией в Дрездене, где он укрепился. Союзные войска были расположены без всякого знания дела. Мы окружили ту часть города, которая находится на левом берегу Эльбы, так что правый фланг наш упирался к реке выше Дрездена, а левый упирался тоже к реке ниже города. Левый фланг состоял из австрийцев, у коих было много сил. Гренадеры их отчаянно бросались на французские батареи, защищавшие Грос-Гартен (городской сад). Несколько раз батареи сии были в руках австрийцев; артиллерия их быстро подавалась вперед, нагоняла отступавшего неприятеля, делала несколько выстрелов и продолжала таким образом преследование, так что бой начинался уже на улицах Дрездена. Но Наполеон воспользовался слишком явной ошибкой наших полководцев, ибо мы занимали наружную линию, а он внутреннюю. Силы наши были растянуты, и потому, если бы их было вдвое более чем у неприятеля, то на каждом пункте отдельно мы всегда оказались бы слабее французов. Наполеон, собрав войска свои, ударил ими в один пункт, пробил наши линии, отрезал один фланг от другого и остался победителем.
Он сперва не знал о скором появлении нашем под Дрезденом и ходил со своей гвардией по дороге в Шлезию с намерением атаковать Блюхера; но, осведомившись о приближении нашем к Дрездену, он поспешно возвратился.
Генерал Моро лишился в сем сражении обеих ног от ядра. Его отнесли на руках в Лаун, где он умер. Австрийцы вывели в это сражение около 150 тысяч войск, с нашей стороны было их до 50 тысяч, а с прусской – до 20 тысяч. Когда наши фланги были отрезаны, то 30 тысяч австрийцев сдалось в плен.[152] Они не выдержали трудов и не прекращавшегося ливня: по колена была грязь, в которой они оставили свои башмаки. Погода во все время сражения была ужасная, проливной дождь продолжался двое суток сряду, ружья не стреляли, на малое расстояние ничего не было видно, топкая и вязкая почва земли до того растворилась, что пехота двигалась с большим трудом, и на таком поле и под таким небом она должна была еще провести ночь! Раненым не было никакого спасения. Погоду сию могу сравнить только с той, которую мы испытали в 1812 году в России при отступлении нашем из Свенциян. Потеря наша в сражении под Дрезденом была большая,[153] но остатки наши отступили в порядке, а австрийцы исчезли, и многие из них поодиночке разбежались, как офицеры, так и нижние чины.
Когда я привел Первую гвардейскую дивизию под командой Ермолова к Остерману, сражавшемуся в Пирне, то при этой дивизии находились квартирмейстерской части брат мой Александр и подпоручик Глазов.
Я поехал обратно к Куруте, но поле было так исчерчено дорогами, что я сбился с настоящей и попал в какую-то деревню, находившуюся недалеко от неприятеля. В эту деревню заехали также по ошибке разные обозы, вьюки и раненые. Все оттуда поспешили выбраться и с дракой теснились на улицах, ибо за самым селением были французы. Я также поторопился выехать из селения и спешил один по полю, где встретил несколько прусских стрелков, ведущих еще перестрелку с неприятелем. Наконец я выехал к Лубенскому гусарскому полку, которого два или три эскадрона возвращались с атаки и гнали человек 200 пленных (у них убили в сем сражении генерала Мелессино).
Я продолжал путь и увидел перед собою линии конницы. Дождь мешал мне различить, наша ли она или неприятельская. Хоть я видел, что она была обращена ко мне фронтом, но подумал, что могла быть и французская конница. Более всего усомнился я, когда увидел скачущего ко мне улана с опущенной пикой. Я уже схватился за эфес сабли, когда в улане сем узнал Шиндлера, который меня тоже принял за неприятеля. Мы вместе приехали к великому князю. Его Высочество со всею свитой находился в некотором волнении. За несколько минут до моего приезда 1-я кирасирская дивизия выстроилась, обнажив палаши, и сам Константин Павлович готовился с резервами идти в атаку на корпус неприятельской конницы, который у нас на фланге оказался, но, увидев наши силы, отступил. Через нас летали ядра, но сие недолго продолжалось, ибо скоро наступила ночь. Все разъехались. Днем ничего нельзя было видеть от дождя, подавно же ночью. Пылающие со всех сторон пожары увеличивали около нас темноту. Я зашел с Даненбергом в комнату, наполненную ранеными; мы хотели высушить платье у огня, но вместо того оба опустились на землю и уснули мертвым сном; но не более двух часов успели мы уснуть, как приехал за нами казак от Куруты с известием, что войска уже идут в поход. Мы застали великого князя, как он верхом садился. Рассвет показался, когда мы уже были на пути.
Главная часть нашей колонны состояла из кирасир, 1-я же гвардейская дивизия составляла ариергард. Неприятель следовал за нами, и ариергард наш удерживал его до самого Диполдисвалдау, откуда мы не останавливаясь пошли к Мариенбергу, городку, лежащему на границе Саксонии и Богемии у подошвы горы. В Мариенберге уже съехались все главные квартиры. На сем переходе видели мы австрийскую армию в разброде: тащились отдельно то по нескольку офицеров, то кирасиры; где гусары везли на волах пушки, где фуры, полные женщин, ребятишек и перин. Эти женщины были офицерские и солдатские жены, маркитантки, которые тогда рюмку водки продавали по одному червонцу. Я был так изнурен и голоден, что, увидев по дороге Малороссийский кирасирский полк на привале, решился отыскать малознакомого мне ротмистра барона Трухсеса и просить у него чего-нибудь поесть; он дал мне два или три сухаря. Я ехал особо впереди великого князя для принятия лагерного места.
Приехав в Мариенберг, я, прежде всего, отыскал квартиру Кроссара и зашел к нему. Во время сражения под Дрезденом Кроссар, по обыкновению своему, метался от одного генерала к другому, кричал, советовал, охрип и, наконец, высунув язык, пыхтел, как бешеная собака. Фигура его служила для всех посмешищем. Он был в треугольной шляпе, которой поля от дождя размокли, опустились и накрыли ему со всех сторон голову до плеч. Когда он скакал, то мокрые поля били его по лицу; когда же он хотел говорить, то открывал правой рукой небритую карикатуру свою, которая после опять закрывалась полями шляпы, из-под коей слышны только были вопли:
– Ah, Jesus Marie, les grandes opérations militaires sont au diable, je n’y vois plus rien![154]
Я застал его в Мариенберге, как обыкновенно его застать можно: в рубашке без порток, со стаканом кофею на столе, с намыленной бородой и бритвой в руках. Увидев меня, он много извинялся, что я застал его в таком положении, и хотел бежать на чердак, но я его удержал, и он успокоился. Не то было, когда к нему вошел квартирмейстерской части поручик Хомутов (которого он мало знал) за каким-то делом. Кроссар уронил бритву, носился по комнате и кричал. Он, наконец, упал в углу, накрылся буркой и пролежал в таком положении, пока Хомутов не ушел. Однако Кроссар обнадеживал меня, что он повезет меня еще в тот же день выбирать позицию для всей армии: так он мало знал о том, что происходило, ибо войска уже были расставлены и отдыхали. Ему не было дела тут вмешиваться; но, не желая дать ему чистый отказ, я скрылся от него на чердак. Он меня отыскал и упросил с ним ехать. Куда он меня ни возил! И по лесам, и по горам, находя одну позицию превосходнее другой. Он все скакал, я же ехал шагом, отчего он вынужден был часто останавливаться и дожидаться меня, ибо он боялся, чтобы я не оставил его. Однако я воспользовался удобной минутой, как он высматривал местность, пришпорил лошадь и ускакал.
На другой день, до рассвета, Курута послал меня и Даненберга с квартирьерами и фуражирами 1-й кирасирской дивизии к Теплицу, где приказал нам принять лагерное место для полков. Мы ехали в туманную погоду в горы, отделявшие нас от Богемии; дорога была ужасная, и мы не понимали, каким образом артиллерия и обозы пройдут этими местами между утесами. Если б неприятель стал с Мариенберга наседать на нас, то не должны ли мы тягости наши оставить в ущельях? Мы ехали, разговаривая с Даненбергом, и не приметили, как около 10 часов начали выезжать из гор, и перед нами стал показываться Теплиц. Но как мы удивились, когда, спускаясь с последней горы, услышали частые пушечные выстрелы, раздававшиеся в близком расстоянии. Сражение близ Теплица, за горами, где мы никак не полагали, чтобы мог находиться неприятель. Скоро мы увидели дым от орудий и, наконец, войска наши, коих было очень мало. Мы прискакали в Теплиц, в котором увидели много раненых солдат и офицеров 1-й гвардейской дивизии; но эти раненые не уподоблялись тем, которые часто встречаются в других сражениях: они шли с возможной бодростью, а те, которые еще не совершенно ослабли, перевязывались и возвращались в дело.
В Теплице была большая тревога; все убиралось, ибо ежечасно ожидали неприятеля. Гвардейские солдаты сказали нам, что сражение происходит верстах в пяти от города, что наших очень мало и что неприятель атакует в больших силах, что гвардия понесла очень большой урон и что от самой Пирны идут сражаясь и пробиваясь на штыках.
Оставив квартирьеров в Теплице, мы поскакали к селению Кульму, где происходило сражение, и явились к Ермолову, который тут начальствовал вместе с Остерманом. Ермолов расспрашивал нас, скоро ли к нему придет подкрепление, где находятся войска наши, государи и проч. Австрийцы, собрав части разбитой армии своей, вместо того чтобы подкрепить Ермолова, ушли, полагая все пропавшим. Остерман и Ермолов были отрезаны от главных сил, когда они дрались под Пирной. Узнав о поражении и отступлении союзников, они общим советом положили отступить к Теплицу по дороге через Петерсвальде и Ноллендорф, по которой пришли. Это было, кажется, 15 августа.
Едва успели они несколько отойти от Пирны и сделать привал, как из соседнего леса дали по ним залп. Они вмиг стали в ружье, и началась перестрелка, между тем как главный отряд пробивался по большой дороге на штыки через неприятельские массы, отрезавшие им дорогу еще накануне. Отряд их состоял из 1-й гвардейской дивизии (8000), двух эскадронов лейб-гусар (120 человек) и нескольких слабых баталионов, оставшихся от сильно пострадавшего корпуса Остермана. Вандам, командовавший неприятельским войском, имел до 40 тысяч людей.[155] С неприятелем на плечах Остерман и Ермолов стали спускаться с гор и решили во что бы ни стало держаться и защищать Теплиц и то ущелье, из которого мы поодиночке выходили. Если б Вандам успел занять это ущелье, то дело наше было бы кончено. 17 августа Ермолов послал брата моего Александра вперед к Кульму по дороге к Теплицу для избрания позиции. Вскоре за тем он сам пришел и занял ее.
Сражение было уже в полном разгаре, когда я и Даненберг явились к Ермолову и просили у него позволения состоять при нем на время дела, ибо нам тогда в Теплице нечего было делать. Ермолов согласился, и мы при нем остались. Если б такой случай ныне представился, то я бы привел к Ермолову человек сто кирасирских квартирьеров, которые со мною были, и они принесли бы пользу; ибо тогда не только ста человекам, даже и малейшему усилению были бы рады. Я застал Ермолова вместе с Остерманом, который ему твердил:
– Приказывайте, а я исполнять буду.
Они стояли несколько влево от большой дороги; перед ними пылало селение (помнится мне, Дален). Селение Кульм лежало с версту впереди и было занято французами. Перед Даленом были рассыпаны наши стрелки; за Ермоловым стояло около пяти гвардейских баталионов в колоннах, и это было все, что у него оставалось в резерве, ибо прочие баталионы вели, несколько налево, жаркую перестрелку. Они сражались в тесной местности, пересеченной болотами и каменными стенками, стояли не цепью, а толпами и дрались отчаянно против превосходных сил. Тут и происходило настоящее дело. Артиллерия наша действовала по неприятельским колоннам, поддерживавшим своих стрелков. Конницы у нас было два эскадрона лейб-гусар, но весьма слабых, и один эскадрон австрийских легкоконных, которые неизвестно откуда взялись и стояли целый день с обнаженными палашами направо от большой дороги.
Мы держались у подошвы гор, а французские резервы стояли частью на полугоре, частью же на спуске близ подошвы гор. Орудия их действовали по нашим колоннам. На правом фланге нашем вовсе не было войск, кроме вышеупомянутого австрийского эскадрона. С этой стороны расстилалась обширная равнина, и прикрывала нас незначительная речка; у французов показывалось с этой стороны несколько конницы. Непонятно, зачем они не послали ее к нам во фланг. И пехота их легко могла бы предупредить нас сим путем в Теплице, отрезать или истребить; но кажется, что Вандам презрел малым числом наших, ибо он постоянно оставался в горах и пускал войско в бой только малыми частями. Сам он находился во время сражения на пригорке, окруженном лесом, на котором стояли развалины рыцарского замка. При сем замке происходил известный поединок между князем Щербатовым и Саксом, в котором Сакс остался на месте.
Спустя час после приезда моего к Ермолову он посылал какое-то приказание на левый фланг. Мы с Даненбергом бросились, чтобы передать оное; но как Даненберг опередил меня, то я возвратился, не отскакав более 20 или 30 сажен. Возвратившись к Ермолову, я застал графа Остермана-Толстого только что раненого. Он не свалился с лошади, но отбитая ядром выше локтя рука его болталась.[156] Он был бледен как смерть. Двое из окружавших поддерживали его на седле под мышками. Его отвезли назад, где отрезали ему руку. Однако он через несколько недель выздоровел. После графа Остермана Ермолов оставался главным начальником в сем сражении, где, в сущности, участвовала только его гвардейская дивизия, потому что 2-й корпус, изнуренный от трудов и много потерпевший в прежних делах, почти совершенно исчез.
У рассыпавшихся по кустам сзади людей гвардейцы отбирали патроны. Силы наши приметным образом уменьшались, а подкрепления ниоткуда не приходило. Неприятель начал сильно напирать; но Ермолов, разъезжая шагом среди огня, с необыкновенным хладнокровием одушевлял солдат, разговаривал с ними, объяснял им важность удерживаемого пункта, обнадеживал скорым появлением подкрепления и тем поддерживал в них дух.
Несколько раз посылал он в Теплиц узнавать, не идет ли Раевский к нему на помощь, но никто не показывался. Однако при выходе из ущелья засветились медные оклады касок наших кирасир, заиграли трубы, и вместе с сим просияла искра надежды в сердце каждого солдата. Конница наша тянулась из ущелья длинной колонной, коей одна часть заняла равнину, находившуюся на нашем правом фланге, и начала перестрелку с неприятельскими уланами, другая часть расположилась в полковых колоннах за тремя баталионами, оставшимися в резерве. Полки легкой гвардейской кавалерийской дивизии стали за той пехотой, которая вела перестрелку на оконечности нашего левого фланга.
Полки сии стояли без всякого действия под сильнейшим ружейным огнем, так что чрез несколько часов недоставало в каждом из оных по два эскадрона; много было побито офицеров. Наконец Вандам предпринял атаку, которой надеялся решить победу на свою сторону. Он собрал густые колонны и послал их на штыки взять батарею подполковника Бистрома, который с четырьмя орудиями храбро действовал целый день и наносил большой вред неприятелю. Французы опрокинули сперва пехоту нашу, которая побежала на легкую дивизию, потом они бросились к орудиям; тщетно стреляли по ним картечью, ничего не могло их остановить. Казалось, что в сию минуту все должно было рушиться, ибо коннице невозможно было в таких местах действовать.
Ермолов приказал 2-му баталиону лейб-гвардии Семеновского полка идти на защиту орудий. Никогда не видал я что-либо подобного тому, как баталион этот пошел на неприятеля. Небольшая колонна эта хладнокровно двинулась скорым шагом и в ногу. На лице каждого выражалось желание скорее столкнуться с французами. Они отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех своих офицеров, кроме одного прапорщика Якушкина, который остался баталионным командиром.
Между тем приехал генерал Дибич, бывший генералом-квартирмейстером при Барклае. Увидев тесное положение наше, он поскакал к лейб-гвардии Драгунскому полку и велел ему за собою следовать; но драгуны не знали его в лицо, и никто с места не тронулся, пока он не показал звезды своей. Тогда он бросился вперед, закричав:
– За мною, драгуны!
Один драгун поскакал за ним, потом другой, третий, и наконец весь полк пустился в атаку в беспорядке. Ермолов, увидев сию атаку, которая сделалась без его приказания, послал брата моего Александра остановить драгун, но уже было поздно: драгуны опрокинули часть неприятельской пехоты, а другую загнали в болото. Некоторые из драгун завязли в болоте, другие же заскакали французам в тыл за селение Дален, вскакали в селение и выгнали к нам на чистое поле стрелков, которые, увидев, что их готовились встретить, остановились. Драгуны порубили их и присоединились к нам уже спереди.
Удачная атака сия восстановила бой с нашей стороны, ибо пехота наша оправилась и продолжала по-прежнему перестрелку. До вечера огонь был очень сильный на левом фланге, но особых покушений неприятель более не делал: он ожидал, может быть, чтобы мы более ослабли от потери людей. Начальник штаба Вандама, который был взят в плен,[157] сказывал мне, что атака наших драгун причинила им много вреда и что в одном полку утратилось после этой атаки до 900 человек, а в другом до 1200.
Между тем как Ермолов держался с 6000 против 40 тысяч, государи в сопровождении своих главных квартир выбирались из ущелья, в котором остановилась вся артиллерия. Некоторые из них, любопытствуя, подъехали к большой дороге, чтобы видеть ход дела; другие же забрались на Шлосберг (высокая гора с рыцарским замком, лежащая недалеко от Теплица, от Кульма верстах в пяти) и оттуда любовались сражением, потом отправились в Теплиц, где заняли себе квартиры и отдыхали. Многие из них, однако, не остались без награды. Приехал и Милорадович, когда уже миновала критическая минута. Он, помнится мне, был тогда командиром всей гвардейской пехоты. По праву старшего он давал приказания Ермолову, который хотя и молчал, но внутри не мог не досадовать, видя эту налетную личность, совавшуюся в распоряжения, без которых обходились, когда была опасность все потерять. Барклай под конец также приехал и получил за успех дела, в котором он не был участником, Георгия 1-й степени.
В 9 часов вечера пришел гренадерский корпус Раевского, у которого было не более 8000 под ружьем. Хотя Ермолов и был дружен с Раевским, но он не позволил ему занять в ту ночь передовой для того, чтобы в этот знаменитый день не торжествовали другие войска, кроме одних гвардейцев 1-й дивизии, коим исключительно принадлежал успех. Сам он ездил по цепи, уговаривая людей своих терпеливо провести еще сию ночь в караулах.
Слава битвы 17 августа под Кульмом должна бы принадлежать одному Ермолову, но многие воспользовались сим случаем. Милорадович действовал под советами состоявшего при нем какого-то капитана Аракчеева Измайловского полка. Генералы главной квартиры также хлопотали, когда все кончилось; они хвастались своими подвигами и получили награды. Удивительно, что и генерал-интендант Канкрин не получил тоже 1-го Георгия за сие сражение; ибо он, помнится мне, в то время был в Теплице, а многие и в Праге находились.
Из моих знакомых ранен был в сражение под Кульмом Семеновского полка родственник мой Матвей Муравьев-Апостол. Прапорщик Чичерин примером своим ободрял солдат: он влез на пень, надел коротенький плащ свой на конец шпаги и, махая оной, созывал людей своих к бою, как смертоносная пуля поразила его сзади под лопатку плеча; лекаря не могли ее вынуть, и он через несколько недель умер в ужасных страданиях. Чичерин к наружной красоте присоединял отличные качества души. Того же полка был ранен прапорщик Хрущев. В лейб-уланах ранили Васильева, убили князя Эристова и многих других. В гвардейских егерях ранен был Ермолов; в Измайловском полку генерал-майор Храповицкий. Не было ни одного из сих полков, в котором бы не убыло из фронта от 20 до 30 офицеров, а людей от 900 до 1200. Посему можно судить, сколько оставалось под вечер людей в нашем небольшом отряде.
Сражение под Кульмом названо Фермопильским, потому что мы с малым числом войск держались против 40 тысяч, спасая тем весь союз. Прусский король, желая ознаменовать память сего дня, прислал в 1815 году 6000 крестов, сделанных наподобие Железного.[158] Знаки сии не кавалерственные, а заменяют только медали. Их равно роздали генералам, офицерам и солдатам нашей гвардии, участвовавшим в сем сражении.
18 августа гвардия отдыхала, стоя в колоннах, а наши гренадеры продолжали дело артиллерийским огнем и ружейной перестрелкой, не напирая на неприятеля и не уступая места.
Между тем австрийцы, собравшиеся в Дуксе, снова присоединились к нам. Бесконечная белая колонна их вереницей тянулась еще от Теплица, когда голова ее скрывалась уже за высотами впереди нашего правого фланга, а наши гренадеры поднимались лесами в горы с левой стороны. С вечера 17 августа я уже возвратился к прибывшему великому князю.
Непонятно, почему Вандам, видя столь огромные силы, окружающие его, не отступил, а дождался, пока колонны сии, поравнявшись за горами с его тылом и заняв возвышения, поставили свою артиллерию, которая вскоре сбила неприятеля с позиции. При сем наша конница захватила несколько орудий, и тогда во всем французском корпусе сделалось колебание. Говорят, что Вандам сам закричал: «Sauve qui peut!»[159] и с сим словом стрелки его оставили места свои, канониры бросили орудия, и все бросилось бежать в беспорядке на горы к Ноллендорфу. На пути побега они были встречены прусским генералом Клейстом, который в то время спускался с гор по шоссе. Пруссаки шли без предосторожностей и не ожидали себе навстречу французов. Пехота Клейста бросилась в сторону и скрылась в лесах; орудия хотели назад поворотить, но не успели. И лошади, и артиллеристы были частью переколоты польскими уланами, которым они препятствовали в побеге. Между тем мы сильно напирали сзади на укрывающегося неприятеля, так что из французской пехоты едва ли 2000 спаслось по лесам.[160]
Многим еще неизвестно, случай ли привел Клейста в Ноллендорф, или распоряжение главнокомандующего.[161] Я от некоторых слышал, что после поражения нашего под Дрезденом Барклай послал записку к Клейсту с приказанием идти к Ноллендорфу в тыл неприятелю; но сие невероятно: 1) потому что нельзя было предвидеть, чтобы Вандам отрезал Остермана с Ермоловым и чтобы произошло под Кульмом дело; 2) потому что Клейст шел без всякой осторожности, и когда он разминовался с неприятельскими уланами и встретился с Дибичем, то, обняв его, воскликнул: «Ach bester General, sind Sie auch gefangen!».[162]
Когда неприятель тронулся бежать, я поскакал вперед по большой дороге с Алексеем Орловым, адъютантом великого князя. Несколько не доезжая Кульма, нас нагнал Кавалергардский полк. В левой стороне от дороги в кустах попряталось человек пятнадцать французов, которые, выстрелив по нам, хотели бежать. Несколько кавалергардов, отделившись от своего полка, поскакали за нами; я также поскакал за одним из них с обнаженной шпагой и кричал ему: «Rendez-vous!» Уходя он держал ружье свое на плече и не смел оборотиться ко мне лицом, а, приподнимая плечи, закрывал затылок свой ранцем; вместе с тем он обращал штык против меня, так что нельзя было подъехать к нему довольно близко, чтобы ударить шпагой. Наконец француз как-то поскользнулся на траве, и я в эту минуту, заехав к нему с боку, ударил его шпагой по лицу, после чего он упал.
В Кульме я дождался великого князя и поехал за ним шагом. Выезжая из селения, я увидел в переулке брошенный французский ящик с зарядами, увернутыми в пакле, которая горела. Намереваясь выхватить гранату с дымящейся паклей, я подъехал к самому ящику, но, подумав, что рискованный и малополезный подвиг этот останется в безгласности, поспешил отскочить и едва успел за стену скрыться, как ящик взорвало с ужасным треском. Великий князь был недалеко оттуда; он сам только что за сию стену заехал, и если бы он несколькими секундами опоздал, то не избежал бы со всей свитой последствий взрыва.
Я ехал с Курутой и разговаривал с ним о ходе дела; мы считали брошенные неприятелем орудия по дороге и насчитали их уже большое количество, когда я дал Куруте заметить, что орудия эти с синими лафетами и потому должны быть русские. Пока мы их рассматривали, наскакал на нас Клейст, который полагал себя в плену. Корпус его весь рассыпался по лесам, а на большой дороге осталась вся его артиллерия с побитой прислугой и маркитанты, которых разграбили. Тут же случился и один русский полковой казенный денежный ящик, который был раскрыт, но ничего в нем не было тронуто. Этот ящик, как и многие русские повозки, отбившиеся от своих полков после поражения под Дрезденом, пристали к Клейсту и потерпели общую участь его корпуса.
Кавалергардского полка ротмистр Гревс был послан со своим эскадроном на гору к Ноллендорфу. Великий князь уже назад воротился, я же поехал с Гревсом вперед. Мы удивились, увидев двух французских солдат с ружьями, вылезающих из колокольни; но то были не французы, а русские пленные, бежавшие от французов; так они, по крайней мере, объяснились, говоря, что оделись во французские мундиры и скрылись в колокольне, дожидаясь нашего появления.
В виду нашем опомнившиеся прусские егеря Клейста захватили в плен неприятельскую роту, которая скрывалась в лесу, но при этом случае первыми выстрелами французов был убит прусский капитан.
Так как неприятеля не было нигде более видно, то мы с Гревсом возвратились к своему месту.
При начале преследования я был свидетелем, как сдался в плен начальник штаба Вандама. Он вышел из леса, окруженный многими офицерами, и все преклонили колена перед Милорадовичем, который великодушно простил им и был весьма рад сделать театральную сцену. После сей сдачи я ехал несколько времени рядом с начальником штаба Вандама и имел случай расспрашивать его о силах французов и проч. Мне не удалось видеть Вандама, который был также взят в плен. Говорили, что он начал было важничать в Теплице, но что великий князь его унял. Когда его повезли, то в Лауне жители приняли его каменьями, так что фельдъегерь, с ним ехавший, едва мог отделаться от них. Вандам известен был в Германии по своей жестокости; он грабил более других французских маршалов и делал жителям насилия всякого рода. Вандама привезли в Москву, где дворянство наше принимало его с почетом и позволяло ему говорить всякие наглости в обществе. Впоследствии, кажется, отвезли его в Пензу.
Пребывая в Теплице, многие из членов главной квартиры заботились о приписании себе чести победы, тогда как настоящий победитель, Ермолов, оставался с войском на поле сражения и мало беспокоился о том, что говорили.
Не одни генералы домогались названия победителей; два полковника того же добивались. Первый был Кроссар, который уверял, что причиной выигрыша сражения была атака Раевского с гренадерами с левого фланга нашей позиции. Он уверял, что эта атака была сделана по его совету, тогда как его везде принимали, как шута, и что для сей атаки были еще с вечера приведены войска, да другой и не могло там быть. Видя, что никто его не выслушивал, Кроссар обратился к начальнику штаба Вандама и уверял его, что атака Раевского точно была причиной нашей победы, накормил его и стал повсюду водить, заставляя его за себя заступаться; но как и то средство ему не помогло, то он стал ко мне приставать со своими убеждениями, так что я едва мог от него отвязаться. Другой претендент был подполковник квартирмейстерской части Дист, родом голландец. Он прежде многих из товарищей своих главной квартиры приехал к Кульмскому сражению и, видя, что место необходимо было удержать, поскакал назад к Барклаю и доложил ему о своем мнении, утверждая, что Ермолов непременно должен до последнего человека держаться под Кульмом. По уставу Георгиевского ордена он дается и за благой совет: на этом основании назначили Дисту Георгиевский крест 4-й степени, в сущности, за то только, что он советовал разбить неприятеля; но Ермолов остановил дело и требовал, чтобы Дисту дали крест не иначе, как по решению кавалерской думы. Собирали думу, которая решила, что Дисту креста не следует; но Барклай остался этим решением недоволен и сделал о Дисте особое представление государю, который пожаловал ему Георгия 4-й степени, вопреки мнению Ермолова, настоящего героя сего дня.
Квартирмейстерской части подполковник Зуев по приказанию Алексея Петровича представил меня и Даненберга к чинам. Между тем Курута представил нас Его Высочеству к Владимирским крестам. Неизвестно, по какой причине Константину Павловичу надумалось в представлении оставить мне крест, а Даненбергу дать чин, так что я за Кульмское сражение получил чин и крест, а Даненберг два раза один и тот же чин. С этого времени служба моя приняла другой оборот. Я стал получать награды и в скором времени, хотя я не перегнал товарищей своих, по крайней мере, от многих более не отставал.
Шиндлер получил за Кульмское сражение Георгиевский солдатский крест, и я ему в подарок отдал тот крест, который я на пути из Петербурга снял с двоюродного брата моего Мордвинова.
После Кульмского сражения великий князь жил в Теплице в одном дворце с австрийским императором, а государь занимал дом напротив дворца через площадь. Мы квартировали с Даненбергом в небольшой комнате вместе с Мёнье. К нам приходил иногда ночевать Шиндлер, который был уже произведен в офицеры, причем он учил меня борьбе – искусство, в котором он был изощрен, как и в гимнастике, коей правила были ему хорошо знакомы.
Не знаю, по каким причинам меня с Даненбергом назначили состоять при Милорадовиче, который квартировал в селении верстах в двух от Теплица. Итак, я опять попался под начальство полковника Черкасова; но я его мало видел, а зависел более от флигель-адъютанта полковника Сипягина, который был начальником штаба при гвардейском корпусе у Милорадовича. Тут я познакомился с одним его адъютантом, Акуловым, прекрасным молодым человеком, который был после убит в сражении под Лейпцигом. С ним я однажды отправился в полночь на гору Шлосберг, где находились известные развалины рыцарского замка недалеко от Теплица; мы вместе выходили эту романическую местность, перебывав во всех углах и доступных местах замечательных руин. Положение замка Шлосберг очаровательно. Он построен на горе, коей покатости обсажены плодовитыми деревьями, сливами и грушами. Среди этой красивой рощи извиваются остатки старинной вымощенной дороги, подымающейся зигзагами к воротам замка. На стенах замка видно множество надписей, начертанных посетителями. Здание окружено рвом, которого подземельные ходы проводят сквозь гору наружу. Кроме того, во рву поделаны казематы с небольшими в сторону от них подземными же комнатами, где встречаются человеческие кости и железные в стенах кольца. Во времена рыцарства тут приковывали людей и закладывали стеной сии тесные комнаты, в которых узники погибали своею смертью.
Как в Теплице, так и в деревне, где мы жили, обходилось не без нужды в пище, потому что в городе располагались все наши союзные главные квартиры, от многолюдства коих ничего нельзя было на рынке достать в покупку, селения же были все заняты войсками, и многие из нас питались грушами и сливами, в изобилии произраставшими на поле Кульмского сражения, на Шлосберге и почти повсюду. Мы должны были посылать людей своих с фуражирами в отдаленные селения, откуда им удавалось привозить понемногу хлеба, причем случались драки, а иногда жители стреляли по нашим фуражирам.
Мы также терпели недостаток в курительном табаке, которого нельзя было купить в Теплице, потому что табак на откупе у императора, и к торговле табаком приставлены особенные чиновники. Табак, выдававшийся австрийским войскам, хранился в магазине, находившемся в каком-то тесном переулке, куда товар сей привозили на огромных фурах. Табак сей очень дурен, гнилой, завернут в бумаге пачками, залепленными глиной. Все это смотрит настоящей казенщиной. Австрийцы выдавали этот табак своим войскам, а нашим позволили покупать его, но еще с условием, чтобы покупщик имел на то ассигновку из городской ратуши; табак же продавался по сущей безделице. Наши солдаты, смекнув дело, пустились в промысел: они приходили из лагеря в город за ассигновками, скупали множество казенного табаку и по возвращении устраивали в лагерях лавочки, где табак продавался уже по вольной цене, т. е. втрое и вчетверо дороже. Австрийцы и пруссаки, которые ленились ходить в город, приходили покупать австрийский императорский табак по русской таксе, но торг этот был вскоре запрещен. Солдаты наши открыли еще другой промысел: на улице с лавками, на толкучем рынке, где они толпой роились, они уносили вещи из лавок и продавали их прохожим за полцены, так что на улицах торговали более чем в самих лавках.
Теплицкие горячие ванны были отданы австрийским императором нашим солдатам для купания или пользования, но ванны сии в короткое время были обращены в прачечные, ибо солдаты вместо того, чтобы купаться в сей воде, воспользовались готовой горячей водой и стали в ней белье мыть. Я попытался купаться в этих водах, но не мог пользоваться теми выгодами, которые от них прежде получались. Заметно было, что ванны и комнаты были некогда хорошо отделаны, но тут уже надсмотрщиков не было, и ванны остались на произвол судьбы. Двери комнат были выломлены, не было никакой прислуги, и купальни теряли от того свою ценность.
Нередко случались драки между нашими солдатами и австрийскими. Мимо идущие пруссаки всегда вступались в драку за наших, так как и наши вступались за пруссаков; победив общего неприятеля, австрийцев, они отправлялись в кабак, где пруссаки обыкновенно потчевали русских, и когда наши порядком напивались, то они принимались за пруссаков и, в свою очередь, колотили новых камрадов, своих угостителей.
Случилось однажды, что один гвардейский артиллерист, высокого роста и молодец собою, сидел за обедом в харчевне, где он волочился за служанкой. Вошел австрийский офицер, который также волочился за этой девкой. Заметив расположение ее к артиллеристу, он обнажил саблю свою и, ударив нашего, легко ранил его. Артиллерист вырвал у него саблю из рук, бросил ее под стол и продолжал начатый им обед, но разъяренный цесарец вторично бросился на артиллериста, который толчками выпроводил его на улицу. Случившиеся тут русские офицеры, в успокоение австрийца, отдали нашего солдата под караул часовому лейб-гвардии Павловского полка, который стоял при ящике у ворот квартиры артиллерийского генерала Сухозанета, в доме которого все это происшествие случилось. (В Теплице в каждом доме есть трактир, потому что туда приезжает много посетителей для пользования на водах.) Наш артиллерист спокойно сидел за часовым; взбешенный же австриец побежал на гауптвахту квартиры фельдмаршала Шварценберга и привел оттуда команду огромных гренадер в медвежьих шапках; их были 19 человек, 20-й был их офицер, 21-й барабанщик и 22-й побитый офицер, который гордо шел впереди отряда и, дойдя до нашего часового, указал гренадерскому офицеру артиллериста. Тот смело подошел, оттолкнув часового, который случился молодой солдат; затем он хотел арестанта взять за ворот, но получил от него такую пощечину, что на ногах перевернулся.
– Как ты смеешь, проклятый немец, часового трогать? – сказал он ему. – Часовой-то дурак, а был бы я на часах, то просадил бы в тебя штык.
Австрийские гренадеры приступили к нашему артиллеристу, вытащили его на средину улицы и атаковали по всем правилам тактики. Собралось множество народа, но артиллерист не робел; он разгонял толпу, через которую поминутно летали австрийские шапки. Уже нескольких гренадер привел он в такое состояние, что они не могли более драться, и многим из них разбили лица в кровь; но, наконец, упал под повторенными ударами прикладов, которыми его безжалостно били в голову. Он получил также одну рану штыком в бок.
Австрийцы, победив его, нагнулись, чтобы поднять нашего артиллериста и тащить его к себе в караульню; но он как бы ожил и, вскочив весь в крови, схватил обеими руками два ружья за штыки, один штык перегнул пополам, другой же сорвал с ружья и стал им защищаться, ранил офицера и нескольких солдат, но не мог долее устоять против такого большого числа людей, однако пробился еще сквозь толпу и, скрывшись в подъезде дома, прислонился к стене. Австрийцы преследовали, окружили и снова начинали бить его прикладами по голове; но артиллерист, схватив двух из них за галстуки и закрутив их, стал душить врагов своих, несмотря на то, что его продолжали бить. Он, наконец, упал, держа двоих за горло полумертвыми.
Прибежавшие на шум русские офицеры отбили артиллериста. Его принесли без памяти в горницу, голова у него была прошиблена в нескольких местах, и он имел другие раны на теле. Австрийцы возвратились с подбитыми скулами, в крови, без шапок, а иные без ружей. Случившиеся тут офицеры наши дали несколько червонцев раненому артиллеристу, который нисколько не унывал, когда очнулся. Австрийцы часто отплачивали нам в селениях, где у них повсюду были расставлены залоги. Они стреляли по нашим обезоруженным фуражирам, и более одного раза случилось, что убивали их.
Однажды брат мой Александр был послан в Ноллендорф на рекогносцировку. Он проезжал недалеко от нашего лагеря, мимо селения, и увидел человек сто преображенских солдат, вооруженных дубьем, которые спешили в то селение.
– Куда вы, ребята? – спросил их брат.
– Ваше благородие, цесарцы убили одного нашего; он у них в селении лежит; мы его в лагерь принести хотим.
Александр, остановив их, в порыве мщения, сам повел в деревню, где при въезде увидел человек 20 австрийцев, которые на него приложились и кричали ему, чтобы он не подъезжал ближе; но брат махнул им платком и закричал, чтобы они ружья отставили, чему они повиновались. Тогда брат вошел в селение с преображенцами, взял убитого, всех цесарцев и представил их к генералу Розену, шефу Преображенского полка. Не знаю, что с сими австрийцами сделали; но вероятно то, что государь приказал отпустить их без наказания.
Войска находились в необходимости посылать фуражиров, ибо терпели большой недостаток в провианте, неисправно доставляемом от австрийского правительства, отчего происходила в хлебе нужда, вызывавшая насильственные меры и беспорядки.
Вскоре после Кульмского сражения получено было известие, что Блюхер совершенно разбил французов на Кацбахе, взяв у них много орудий и людей в плен.[163] Итак, счастье начало в нашу пользу клониться после целого ряда неудачных сражений.
Дрезденские дожди до такой степени расстроили рану брата Михайлы, что он не в состоянии был сидеть верхом и ходить, и его из Теплица отправили в Прагу, где он пролежал с месяц с Матвеем Муравьевым-Апостолом и Чичериным, оба Семеновского полка и раненые. Потом брат Михайла поехал в Петербург, оттуда на Кавказские воды и более в армию не возвращался. В то же время довелось мне проститься и со старшим братом, которого командировали в отряд к графу Матвею Ивановичу Платову. Итак, мы должны были расстаться, разъехаться все врознь, и Бог знает, когда друг друга опять увидеть. Проводив часть ночи вместе, мы простились и разошлись каждый в свою сторону.
В Теплице сделано несколько парадов. Первый из них был на другой день сражения под Кульмом, когда в слабых гвардейских баталионах взводами командовали унтер-офицеры. Другой парад был при пожаловании государем георгиевских знамен в гвардию. Гул от залпов артиллерии и пехоты, при сем случае произведенных, раздался в горах до Ноллендорфа, где стояли австрийские передовые войска, которые от того встревожились и, полагая, что под Кульмом опять дерутся, стали в ружье. Третий парад был сделан кирасирам на самом поле сражения. Так как я в то время состоял при Милорадовиче, то мне там дела не было, и я взобрался на Шлосберг, откуда любовался движению эскадронов. Говорили, что парад этот был очень неприятен для тех, которые в нем участвовали, по зловонию от мертвых тел, которые еще не все были убраны. Полагали, что под Кульмом легло до 4 тысяч человек. Дни были жаркие, и даже те тела, которые успели похоронить, испускали смрад, потому что их вскорости едва засыпали песком.
Милорадович получил приказание двинуться к Ноллендорфу. Мне положительно неизвестно, с каким намерением было предпринято это движение; но думали, что Шварценберг намеревался другой раз атаковать Дрезден. Передовые посты наши подвинулись к Петерс-вальдау, а мы пришли в Ноллендорф, где простояли не более одних или двух суток, нуждаясь во всем. Тут я в первый раз курил хмель за неимением табаку. Сипягин много суетился на сем переходе, с целью придать более важности званию своему начальника штаба; Даненберга и меня он несколько раз посылал с пустыми поручениями взад и вперед на равнину.
Неприятель несколько раз тревожил нас небольшими перестрелками в лесах, на левом спуске с гор.
По возвращении Милорадовича к Кульму, нас снова перевели к Его Высочеству, чему мы были очень рады.
Так как конница наша нуждалась в кормах около Теплица, то ее поставили на кантонир-квартиры в шести или семи милях от Теплица назад, несколько влево от Пражской дороги. Мы занимали богатые места, и в короткое время конница наша поправилась.
Великий князь стоял в прекрасном замке, окруженном городками, селениями, садами и рыцарскими древними замками, из коих Газенберг отличался от других вышиной одной башни и местоположением своим.
Адъютант князя Голицына Башмаков, ездивший в г. Лейтмериц (что было от нас в трех милях), видел там вновь прибывшее из России Нижегородское ополчение и отца моего, который был начальником штаба при графе Толстом, командовавшим сим ополчением. Батюшка расспрашивал его обо мне и поручил сказать, что желал бы со мною видеться. Я немедленно выпросился у Куруты на три дня и поехал с моим слугой Николаем верхом; но, прибыв в Лейтмериц, я не застал там отца, который уже выступил к Ауссигу. Я отправился нагонять его через городок Ловозиц, известный по сражению в Семилетнюю войну между Фридрихом II и австрийцами. Я продолжал путь свой по берегу Эльбы, бесподобными местами. Обозы ополченных занимали всю дорогу. Странно было видеть бородатых мужиков, имеющих на голове уланские серые шапки и еще с короткими черными султанами. Я спрашивал встречавшихся офицеров, не знают ли они полковника Муравьева? Все его знали. С бьющимся сердцем приближался я к Ауссигу и с особенной радостью въехал ввечеру в городок, в котором отец находился. Вмиг отыскал я квартиру его, но не застал его дома: он разводил передовые посты. Часа через два батюшка возвратился. Мы поужинали и легли спать.
На другой день люди его пришли к нему жаловаться, что австрийцы заняли его конюшню. Я тотчас же сошел вниз, вытолкал австрийцев с их лошадьми и прогнал их офицера, чему батюшка весьма удивился, потому что он еще не видел австрийцев и не знал, как с ними должно было обращаться. Ополченные смотрели удивленными глазами на войска союзных держав. Отец, желая похвалиться своими войсками, показал мне сперва своих ополченных крестьян, а после того артиллерийскую конную роту полковника Ховена, которая в самом деле была в отличном состоянии.
Ввечеру представил он меня графу Толстому, который принял меня ласково.
Отец мой выехал из Москвы с князем Урусовым в Нижний Новгород в то время, когда французы подходили к Москве. При нем находилось человек десять молодых людей, которых он учил и приготовлял на службу. В то время формировались в Нижнем Новгороде ополчения под командой графа Толстого. Желание моего отца было вступить в службу, но князь Урусов, слабый, старый и упрямый, противился тому. Он сердился на батюшку и грозил лишить его наследства, если он вступит в службу и оставит его. Сам отец не имел почти никакого состояния, однако желание участвовать в войне все превозмогло, и его приняли на службу из отставных подполковников полковником по армии. При сем случае он определил на службу и окружил себя своими учениками, коих произвели в свиту по квартирмейстерской части офицерами. В числе их были: Бурцов, Филиппович, Беспальцев, Кек, граф Бутурлин и Рочфорт.
Батюшка обладал необыкновенным трудолюбием и от того не упускал никогда обязанностей своих по службе, коей он принес большую пользу, ибо из окружавших графа Толстого он единственный был деловой, так что дело на нем лежало. Граф был человек благородный, но довольно бестолковый; он видел слабости моего отца, замечал ему, но на него одного полагался, и можно сказать, что ополчения были сформированы заботами батюшки. Рассказывают, что еще при сборе оных однажды дворянство отказалось было служить, и все сказались больными. Тогда отец поспешно отправился в собрание дворян и, обнажив среди них саблю, произнес такую энергическую и даже грозную речь, что всё вмиг изменилось, больные выздоровели и вступили в службу.
В другой раз пензенские ополченцы взбунтовались, перерезали своих офицеров и, назначив своих, разграбили какой-то город, стали разбивать кабаки и собирались идти на Пензу. Батюшка отправился с пензенским конным ополченным полком и въехал один в город Арзамас к бунтовщикам, которые, увидев такую решительность, оробели, выслушали речь отца моего, выдали сперва заключенных офицеров своих, а потом начальников бунта и просили прощения. Их до 200 пересекли кнутом и отправили в Сибирь; а прочим, коих было до 6 тысяч, отец мой тотчас приказал выступить в поход, и они после того сделались совершенно покорными. По переходу ополчений за границу, отец мой исключительно распоряжался ими. Их с места выступило до 70 тысяч, но за границу перешло не более 35 тысяч; прочие люди пострадали от повальной болезни, опустошавшей те губернии, через которые французы отступали, и остались в госпиталях.
Граф Толстой, при отличных свойствах души его, был мало способен для командования, почему отец мой управлял всеми делами в его корпусе. Генерал-лейтенант Николай Селиверстович Муромцов был дивизионным начальником в ополчении и в большом доверии у графа Толстого. Человек он был пустой и много мешал порядливому ходу распоряжений, почему батюшка не мог иметь к нему уважения. Михаил Николаевич Новиков занимал место дежурного штаб-офицера. Хотя он еще был молод, но дворянство пензенское выбрало его в свои предводители. Новиков не получил особенного воспитания, но сам образовался чтением и обращением в обществе. Он был умен, правил благородных и обладал даром слова. Он имел обширные сведения о России, должность свою исправлял отличным образом и был в хороших отношениях с батюшкой.
Из окружавших графа Толстого я видел следующих: адъютанта его Филимонова – чистая Москва, и стихотворец, и сплетник, и любезный малый, и сердечкин; его любили в обществе, но не на деле; адъютантов Муромцова и Керестури (сын доктора в Москве, хитрая и умная особа). Квартирмейстерской части прапорщик граф Бутурлин попал в близкие к графу Толстому со своим неразлучным пестуном англичанином Рочфортом, который также был прапорщиком свиты. При Бутурлине находился также французский эмигрант Жиле, которого приняли в нашу службу штабс-капитаном; он был человек добрый, но принадлежал к числу дармоедов, наполнявших наши главные квартиры. В 1816 году, когда, отправляясь в Пермь, я навестил отца в деревне, Жиле приезжал просить его о представлениях к наградам за прошлое время. Заметив у него в петлице медаль за 1812 год, которую ему вовсе не следовало носить, я с него снял этот знак. То же самое сделал князь Волконский в присутствии многих офицеров с воспитанником Жиле, графом Бутурлиным, который также надел было эту медаль.
После трех дней пребывания в Ауссиге, я поехал назад. Отцу нечего было дать мне, кроме двадцати пяти рублей серебром, и в сих деньгах состояло тогда все мое богатство. Проезжая мимо Ловозица назад, я истратил часть оных на покупку подков, коими запасся: в подковах был большой недостаток в армии, отчего я однажды лишился уже хорошей лошади, которую должен был бросить.
Подъезжая к замку, в котором стоял Константин Павлович, я узнал, что он выступил в поход и что все войска ушли, но куда именно, никто не мог мне объяснить. Я поехал по направлению, в которое пошли войска, расспрашивая поселян. В тот день сделал я очень большой переход. Вечер застал меня в Лауне. Тут я съехался с одним офицером Астраханского гренадерского полка Сухаревым, который, вылечившись от ран, отыскивал свой полк. Мы поехали с ним вместе и поздно приехали в какое-то местечко, в котором было множество австрийцев, так что я не имел надежды подучить квартиру для ночлега, но Сухарев вывел меня из затруднения.
– Я все вам в ратуше достану, – сказал он, – только не показывайте бургмейстеру, что вы по-немецки знаете; а то он разговорится с вами, и мы принуждены будем ночевать на чистом воздухе.
Я послушался его, молчал и был свидетелем его разговора с градоначальником. Сухарев ни слова по-немецки не знал, а немцы таких офицеров боялись. Однако же он растолковался с бургмейстером и, покричав на него, получил хорошую квартиру, на которой мы ночевали. На другой день я с Сухаревым расстался и нагнал великого князя в каком-то большом селении на дневке.
Пока я ездил к отцу, войска получили повеление немедленно выступить в Саксонию, на Мариенбург, и идти через Хемниц и Альтенбург к Лейпцигу. Мы продолжали поход по данному маршруту и опять шли по чудесной Саксонии, где гостеприимство и образование жителей заменили дурной прием, который мы испытывали в Богемии.
Вступив в Саксонию, австрийцы бесщадно грабили жителей. Австрийцев было большое количество, армия их была сильнее прусской в сложности с нашей, но они теряли много народа на переходах по слабой дисциплине в их войске. В ненастную погоду солдаты и даже офицеры отставали от своих полков и рассыпались по окрест лежащим селениям.
Мы шли к Лейпцигу и опять пришли в тот же Пегау, о котором я упоминал, описывая сражение под Люценом. Из Пегау пришли мы ночевать к селению, коего имени не помню. По заведенному порядку, Даненберг и я были посланы для занятия лагерного места близ сего селения. Никакой опасности не могло еще быть, потому что французы были в Лейпциге, который от нас находился верстах в 30, а впереди нас был в авангарде граф Витгенштейн с двумя корпусами и несколько партизан наших и прусских. Нам же не приказано было наблюдать особенной осторожности при назначении лагеря, а занять его как обыкновенно водилось, т. е. выбрать место близкое к воде и селению и расположить полки в колоннах по старшинству их.
Мы сдавали места квартирьерам, как вдруг прилетел сумасшедший Кроссар, который где-то прослышал, что мы готовимся идти в бой.
– Что вы делаете? – закричал он. – Вы хотите, чтобы вся наша армия погибла! В этом селении надобно поставить баталион пехоты, в том два, здесь две роты, тут два полка кирасир, там полуэскадрон гусар, тут шесть орудий и пр., и тогда пускай неприятель на нас наткнется.
Что было делать с этим сумасбродом? Мы с Даненбергом уехали, Кроссар же до самых сумерек скакал с квартирьерами по полю, по деревням и не мог с ними объясниться, потому что не знал по-русски. Уже мы слышали трубы приближающейся конницы, а лагерь еще не был разбит, и мы бы остались виновными в глазах великого князя; но, к счастью нашему, Курута вперед приехал. Мы ему рассказали причины, помешавшие нам исполнить свой долг, и показали ему Кроссара, еще бесновавшегося по чистому полю. Конницу успели поставить без квартирьеров; великий же князь, не доходя места, своротил с дороги и поехал в назначенное для него селение. Это было октября 3-го дня.
1-го или 2-го числа на полях Лейпцига происходили сильные кавалерийские дела, в которых участвовали наши и прусские войска, причем пехоты вовсе не было ни с той, ни с другой стороны.[164] Конница с обеих сторон смешалась и в тесноте рубилась. Уподобляли битву сию сечам древних.
Бывший адъютант великого князя, Конной гвардии полковник князь Кудашев, командуя отрядом, был партизаном; он был ранен в сих делах, отчего и умер. О нем много сожалели.
3-го числа ввечеру получена была диспозиция к генеральному сражению от Барклая де Толли. Радость была всеобщая. Наполеон собрал около Лейпцига свою армию, в коей считалось до 150 тысяч человек, в том числе много артиллерии и довольное количество конницы. Наша диспозиция к атаке, вероятно сделанная австрийским фельдмаршалом Шварценбергом, была такая же, как под Дрезденом, т. е. мы окружали с трех сторон неприятеля и одержали под Лейпцигом победу только оттого, что у нас было 300 тысяч под ружьем; но так как многие корпуса опоздали прийти в назначенное время и русские, прежде всех прибывшие, остались без связи с прочими войсками, то неприятель, сначала атаковавший нас, едва было не разбил нашу армию. Общая линия наша занимала около двадцати верст в длину, почему неприятелю удобно было ударять со всеми силами своими в слабейшее место, что и случилось 4 октября.
По диспозиции Шварценберга, линии наши имели фигуру подковы, коей левый фланг с юга был занят австрийским корпусом под командой генерала Коллоредо; к нему справа примыкал Витгенштейн, к Витгенштейну гренадерский корпус Раевского, за ними стояли великий князь и Милорадович с резервами; к Раевскому примыкал прусский корпус генерала Клейста, к Клейсту австрийский корпус генерала Бубны, подле Бубны стоял граф Бенингсен с восточной стороны; после него находился казачий корпус Платова под командой генерал-майора Кайсарова, при коем состоял брат мой Александр. К Кайсарову примыкала прусская армия под командой генерала Блюхера с северной стороны, а подле Блюхера стояла, на самом конце правого фланга, шведская армия под начальством наследного принца шведского Бернадота, у коего была одна английская артиллерийская рота не с орудиями, но с вновь изобретенными конгревовскими ракетами, которыми они надеялись истребить французскую армию.
Витгенштейн и Раевский первые пришли на свое место 4 октября и вступили в дело против всех сил неприятеля, невзирая на то, что к флангам их еще не примкнули союзные войска. Вскоре к Витгенштейну из нашего резерва послали в подкрепление легкую гвардейскую кавалерийскую дивизию и гвардейскую артиллерию.
4 октября великий князь и Милорадович выступили с резервами и стали приближаться к полю сражения. Сперва увидели мы вдали дым от орудий, потом услышали гром их, и нас остановили верстах в трех, не доходя места, назначенного нам в сражении. Мы стояли в колоннах, конница и пехота, на обширной равнине. От происходившего сражения отделяла нас болотистая вязкая речка, через которую был только один худой мостик.
Государь с главной квартирой, имея в конвое лейб-гвардии Казачий полк, прибыл к корпусам Раевского и Витгенштейна, которые дрались, и остановился за оными на высоте, подле старого редута, построенного еще шведским королем Густавом Адольфом, в Тридцатилетнюю войну тут же сражавшимся.
Перед Витгенштейном и Раевским было небольшое озеро или пруд, на правой стороне которого находилось селение Госсе (Hosse), занятое нашими стрелками. Через сей пруд была переправа в одном только месте, по весьма дурному мостику; за сим мостиком равнина несколько возвышалась, и возвышение сие было занято неприятелем. Впереди мостика поставили 60 орудий гвардейской артиллерии нашей, подкрепленной несколькими баталионами пехоты и легкой гвардейской кавалерийской дивизии. Эта артиллерия долго уже действовала, как она была внезапно атакована массой конницы.
Наша конница не могла устоять против столь превосходного числа и была опрокинута. Артиллерия, имея в тылу озеро, не могла отступить и вся осталась в руках у неприятеля, который начал уже рубить артиллеристов. Раевский был ранен, но, невзирая на то, перевязался и остался в сражении. Ермолов переехал было за пруд, не имея при себе никаких войск, ибо дивизия его стояла с резервами; но, видя общее поражение, ему ничего не оставалось более делать, как самому спасаться. Он поскакал назад и на мостике едва не был сброшен в воду ящиками, которые на оном теснились, так что он с трудом успел добраться до своего места.
Между тем государь, который находился в опасности быть схваченным, послал конвойный лейб-казачий полк свой в атаку. Казаки храбро ударили на неприятельскую конницу, опрокинули ее, отбили орудия, дали время разбитой нашей коннице оправиться, также и пехоте, которую сильно было помяли, и преследовали французов до картечных выстрелов неприятельской артиллерии, причем лишились они полковника Чеботарева.
3-я кирасирская дивизия успела прискакать и сделала несколько атак, которые способствовали к восстановлению сражения; но была минута, в которую все на волоске держалось, и мы потеряли первую позицию свою за озером.
Государь, видя тесное положение, в котором находился Витгенштейн, послал великому князю приказание немедленно подвинуться с резервами вперед. С сим приказанием приезжал товарищ мой Щербинин-старший.
Мостик, через который нам следовало перейти, был загроможден орудиями, ящиками и ранеными, так что нам не оставалось другого пути, как проходить болотом. Пехота кое-как перебралась и выстроила баталионные колонны впереди редута Густава Адольфа; но кирасирам не так легко было это сделать. Они быстро двинулись с места, рассыпались и с большим трудом переправились поодиночке через болото, в котором увязли. Но наконец и они, переехав, выстроились за гвардейской пехотой.
Селение Госсе было немедленно занято гвардейской егерской бригадой, т. е. лейб-гвардии Егерским и Финляндским полками. Тут полки сии потеряли много офицеров. Неприятель, увидев вновь прибывшие силы, несколько отступил, но продолжал сильную канонаду, причинившую урон в наших гвардейских колоннах. Под вечер великому князю вздумалось подъехать ближе к озеру и выстоять довольно долгое время под сильным пушечным огнем; с ним были Олсуфьев, Даненберг и я. Удивительно, что тогда никого из нас не задало. Константина Павловича нельзя назвать ни храбрым, ни трусом: когда он не в духе, то не отъедет от своей Конной гвардии; когда же в духе, то охотно суется в огонь. 4-го числа ввечеру из свиты его были ранены один прусский и один австрийский офицеры.
Шиндлер не остался без обыкновенных своих проделок. Он поскакал один к неприятельским фланкерам и, приметив двух из них, у которых были хорошие медвежьи шапки на головах, напал на них, обезоружил, схватил и привел к великому князю, но взял при том осторожность заблаговременно спешить их, чтобы воспользоваться лошадьми. Великий князь, расспросив пленных, приказал Шиндлеру отвезти их, но едва они несколько отошли, как лишились своих шапок, которые пошли Шиндлеру на чушки; лошади же их были им немедленно проданы.
Шиндлер также привел в плен одного французского офицера Лафонтена (Lafontaine), который был адъютантом у французского дивизионного генерала Жирарда (Girard). Однако Лафонтен объяснил великому князю, что он по своей охоте перешел к нам. Этот Лафонтен родился в Москве, где он до 10-летнего возраста воспитывался и после уехал во Францию. Он хорошо знал по-русски, человек же был безнравственный. Все его шалости отзывались пошлостью и подлостью. Наружность его была молодецкая. По изъявленному им желанию его приняли в нашу службу ротмистром в лейб-гвардии кирасирский полк Ее Величества, в котором офицеры не решались сделать неудовольствия человеку, поддержанному Его Высочеством, тогда как Лафонтен оскорблял их своим обращением и имел даже влияние на полкового командира. Лафонтен получал содержание свое от великого князя, который платил и за его мотовство. Он не нес иной службы по полку, как только ездил с фуражирами и бесщадно грабил даже во Франции, когда мы перешли Рейн. Лафонтен с особенным увлечением домогался колотить австрийцев и даже их офицеров. Бывало, где он только завидит на стороне белые австрийские мундиры, то немедленно отправлялся туда с кирасирами, и без всякой причины бивал чем ни попало цесарцев, которые терпеливо переносили побои там, где они не в силах были сами бесчинствовать. Порядком помотавши на счет великого князя, Лафонтен, по прибытии нашем в Париж, вышел в отставку и определился снова во французскую службу. При отставке ему подарили лошадь и денег, и он продолжал гулять на наш счет в Париже, насмехаясь милостям Константина Павловича.
4-го числа сражение прекратилось с захождением солнца. Ввечеру пошел дождь. Я забрался ночевать в какой-то сарай на соломе и, на другой день проснувшись, неожиданно увидел вылезающих из-под меня нескольких раненых солдат, которые до меня забрались в солому и провели ночь подо мной.
5-го числа рано поутру войска стали в ружье на поле сражения и провели целый день на дожде подле разоренного редута. Кроме нескольких ружейных выстрелов между стрелками ничего не происходило. Мы дожидались прибытия союзных войск, которые пришли около полудня. Коллоредо занял наш левый фланг, а Клейст правый; к сему последнему пристроился и Бубна.
В этот день был убит адъютант Милорадовича Акулов, о котором я прежде упоминал, – хороший молодой человек и исправный офицер; он из любопытства подъехал слишком близко к неприятелю и был изрублен.
Настоящее сражение под Лейпцигом, решившее судьбу Европы, произошло 6 октября. В этот день бездействие продолжалось до полудня, когда мы заметили почти по другую сторону Лейпцига выстрелы Блюхера. Наполеон был принужден вывести против него значительные силы, а от нас прикрылся конницей, которую растянул по высотам, заняв массами пехоты селение Либерт-Волковиц (Libert Wolkowitz), находившееся среди его линий, впереди селения Госсе и против позиции корпуса генерала Бубны. Другое селение Пробст-Гейда (Probst-Heyda), лежащее верстах в трех впереди Лейпцига по большой дороге, было также занято колоннами французской пехоты с сильными позади резервами. Многочисленная артиллерия охраняла с обеих сторон фланги сих деревень. Австрийцы начали атаку, и Коллоредо скоро взял селение, перед ним лежащее. Говорили, что великий князь при сем случае лично повел австрийский гренадерский баталион на штыки в селение; но я сего не видел, потому что я был в то время занят при движении наших колонн, которые подвигались вперед по мере того, как неприятель отступал.
Генерал Бубна атаковал Либерт-Волковиц, в котором французы упорно держались, но, наконец, число превозмогло храбрость, и Бубна занял Либерт-Волковиц, потеряв в оном множества народа. Тут всего более действовали австрийцы, они одолели неприятеля только часа за два до захождения солнца. Они впоследствии без ужаса не вспоминали о сем месте и, коль скоро разговор шел о Лейпцигском сражении, то у них слово было Либерт-Волковиц.
Между тем Раевский, Витгенштейн и Клейст, занимавшие центр, быстро подвигались вперед густыми колоннами и вышли на большую дорогу к Лейпцигу. Наши резервы шли вслед за ними и остановились на большой дороге подле берега, в полуверсте или ближе от селения Пробст-Гейды, в котором были собраны последние силы Наполеона для защиты Лейпцига.
Дорогой наехали мы на раздетое догола тело убитого лейб-казачьего полковника Чеботарева; он имел в боку рану картечью. Казаки узнали его и тут же похоронили.
По мере того как мы приближались к Лейпцигу, растянутые силы наши стали собираться, и линии сгущаться. Обширная равнина покрылась нашими войсками, а интервал, находившийся между нашим правым флангом, Кайсаровым и Блюхером, наполнился корпусом Бенингсена, который только что пришел из-под Дрездена. Многочисленные колонны его тянулись к нам чрез гору, наводя ужас на неприятеля, который не был более в силах против нас держаться. Бенингсен, спустившись с высот, примкнул к нам, выстроился и выставил свою артиллерию.
Витгенштейн, который находился впереди всех, хотел штурмом взять селение Пробст-Гейду и сделал несколько атак, но неприятель удержался в селении, и нам не удалось.
По чьему-то безрассудному приказанию Псковский кирасирский полк был послан в Пробст-Гейду для вытеснения оттуда неприятельской пехоты. Храбрый полк этот проскакал деревню насквозь, потерял много народа и, не причинив французам никакого вреда, выехал на неприятельскую сторону, где встретил их резервы и принужден был возвратиться без всякого успеха. Наконец, приступили к решительной атаке Пробст-Гейды.
Витгенштейн подошел к селению со всей своей пехотой и вступил в дело, а Клейст поддержал его. Каждый двор, каждый сад брали приступом; несколько раз удавалось нам овладеть селением, но нас опять вытесняли из оного новыми подкреплениями, которыми усиливались французы.
Жаркий происходил бой в Пробст-Гейде, где с нашей только стороны участвовали два русских корпуса под командой Витгенштейна и третий прусский под командой Клейста. Убитых и раненых было несметное число, и так как австрийцы, называя Лейпциг, вспоминают о Либерт-Волковице, так и нам вспоминается Пробст-Гейда, где мы много пролили крови и где окончательно решилось Лейпцигское сражение.
Между тем как Витгенштейн наступал на Пробст-Гейду, резервную конницу нашу подвинули несколько вперед; она стояла, как 4-го числа, под сильным пушечным огнем без действия: обыкновенная участь резервов, которые ударяют только в крайней опасности или тогда, когда хотят решить сражение. Мы некоторое время терпели от неприятельской артиллерии, которая стояла по сторонам от Пробст-Гейды; но после мы поставили свою артиллерию и стали действовать по орудиям неприятеля, нанося им большой вред.
Все три государя остановились со своими главными квартирами на небольшом бугре, откуда смотрели на сражение.
Нам несколько способствовал к победе поступок виртембергского генерала, который во время сражения перешел от Наполеона со своим корпусом на нашу сторону, за каковую измену он был заточен в крепости своим королем, по поступлении уже сего последнего в наш союз.[165]
При наступлении ночи, после огромного урона, мы еще не обладали селением Пробст-Гейдой. Курута послал меня в темную ночь с одним казаком для отыскания на всякий случай проводников. Я поехал назад, сам не зная куда, и приехал в селение Либерт-Волковиц, которое еще догорало и в коем кроме убитых и раненых никого не нашел. Я продолжал путь свой и прибыл наконец к какому-то загородному дому, в котором было также множество раненых. Тут я нашел каких-то двух дворецких, которых захватил, привязав на чумбур,[166] и повел их к Куруте.
Но трудно было отыскать квартиру великого князя. Огням конца не было видно; я долго шатался по лагерю и слез отдохнуть у одного прусского огня. Я не надеялся прежде рассвета найти квартиру Его Высочества, как увидел за огнем какой-то красный лик, среди морщин коего сверкали из-под густых седых бровей совиные глаза. Огонь бивуака отражался на обширной лысине этой головы. Вглядевшись в густые, белые, серебристые усы и бороду, осенявшиеся горбатым носом, я узнал командира прусской гвардейской конной артиллерии. Старик был мне очень рад, дал поужинать и показал квартиру великого князя, которая вблизи находилась в каком-то замке. Я разбудил Куруту, представил ему своих проводников и, отыскав Даненберга, постлал подле него свою шинель и уснул.
6-го числа убит генерал-майор Шевич, командовавший легкой гвардейской кавалерийской дивизией. Из офицеров квартирмейстерской части ранены капитан Мандерштерн, состоявший при сей же дивизии, и прапорщик Бурнашев, находившийся при 1-й кирасирской дивизии. Потеря со стороны союзников могла состоять из 40 тысяч или более; со стороны неприятельской надобно ее полагать до 80 тысяч, в том числе и те, которые в плен взяты после сражения. Французы лишились сверх того большого количества орудий.[167]
7 октября узнали, что неприятель оставил селение Пробст-Гейду ночью и выступил из Лейпцига в большом беспорядке. Генерал-майор Ланской, командовавший русским отрядом в армии Блюхера, старался ворваться в город. Блюхер туда же напрягал все свои силы. Мы, наконец, заняли Лейпциг, где захватили у французов множество артиллерии и обозов. Польский генерал Понятовский, переправляясь при ретираде через реку Эльстер, утонул. Государь въехал, как говорили, со стрелками в город, в котором оставался. Несчастный саксонский король без царства; он хотел оставаться верным Наполеону и пожертвовал для сего народом своим, ибо союзники в Саксонии обходились с жителями, как в неприятельской земле. Видя, что ему более ничего не оставалось делать, он просил у государя свидания, но государь отказал ему в сем и приказал отвезти его в Берлин, где он находился во все время войны. Саксонский баталион, составлявший его караул в Лейпциге, отдал государю честь. В Саксонии поставлен был военным губернатором князь Репнин,[168] и сформированы были саксонские полки и ополчения, которые участвовали в осадах французских крепостей на Рейне.
Наполеон отступил из-под Лейпцига с разбитой армией по дороге к Вейсенфельсу.
7-го числа мы лишились в воротах города достойного штаб-офицера Преображенского полка полковника Рахманова, о котором упомянуто в первой части сих записок. Он командовал отрядом казаков и был в числе тех, которые прежде других хотели ворваться в Лейпциг. Рахманов уже был в воротах города, когда его убило пулей.
7 октября, когда великий князь узнал об отступлении неприятеля, он поскакал со своей свитой в Пробст-Гейду, где представилось нам ужасное зрелище. Я никогда не видел такого множества раненых и убитых, собранных в одном селении. Витгенштейновы солдаты давно уже ходили между ними, топтали их, раздевали и докалывали без всякого сожаления. На поле места, которые были заняты французскими батареями, означались побитыми лошадьми, подбитыми и брошенными орудиями, которых неприятель не мог увезти.
Лейпциг был у нас в виду, и мы надеялись отдохнуть в нем, но не удалось, ибо вскоре получена была диспозиция идти с поля сражения влево через Пегау и Наумбург, дабы служить резервом австрийскому корпусу генерала Юлая (Giulai), который должен был отрезать отступление неприятелю к Ауерштеду.
Перед выступлением я встретил Муромцова около маркитантов; мы вместе позавтракали, и я по неосторожности выпил лишнее, так что на лошади качался. Однако я приехал к огню, у которого великий князь завтракал, и имел смелость в таком положении стать еще против Его Высочества и с ним отзавтракать. В таких случаях первая мысль приходит в голову, чтобы показаться исправным и всех разуверить в подозрении на свой счет. Эта самая мысль и придает хмельному смелость. Не знаю, удалось ли мне в сем случае или великий князь и Курута из снисхождения промолчали; только я поел как должно и ушел благополучно.
Даненберг получил приказание от Куруты ехать вперед в Пегау для занятия лагерного места. Я с ним вместе поехал, но как нас поздно отправили и войска поздно выступили, то все прибыли в Пегау ночью и не успели сделать распоряжений для занятия лагеря.
Продолжая поход, мы 8-го числа пришли на ночлег в город Наумбург; неприятель шел близко от нас в правой стороне, и разъезды наши приводили много пленных, потому что часть французской армии разбрелась после поражения под Лейпцигом.
9-го числа мы выступили весьма рано; густой туман покрывал все поле. Нам назначено было соединиться с Юлаем и вступить в бой для преграждения пути неприятелю. Мы уже довольно далеко отошли от Наумбурга, но не находили Юлая, почему великий князь приказал резервам остановиться на большой дороге близ одной разоренной корчмы, в которой он заметил несколько австрийских офицеров. Корпус Юлая в сем месте был расположен на полях по сторонам от дороги. Туман мешал нам видеть союзное войско. Великий князь рассердился, узнав, что Юлай сам в этой корчме и еще с ночлега не подымался. Он послал Куруту с приказанием заметить ему медленность, с которою он двигался.
Грек Курута знал генерала Юлая в лицо. Юлай, узнав о прибытии великого князя, вышел из корчмы и наткнулся на Куруту, который притворился, будто его не узнал, и стал спрашивать его, где бы найти этого Юлая, который так поздно встает и не исполняет приказаний начальства.
– Я сам генерал Юлай, – отвечал цесарец.
– Ах, извините меня, генерал, – продолжал Курута, – я не имел чести вас знать в лицо; но вот уже Его Высочество прибыл с резервами; мы полагали, что вы уже давно вступили в дело и отрезали неприятелю путь к отступлению.
Туман стал подыматься, и мы увидели австрийский корпус, расположенный на бивуаках за котлами. Один эскадрон кирасир только сидел на коне и охранял корчму от внезапного нападения неприятеля. Между тем французы проходили через Ауерштед, который находился от нас только в двух или трех милях.
Великий князь пылал от гнева. Он подскакал к австрийскому эскадрону и, прокомандовав ему по-немецки, чтобы он вперед шел, сам поскакал к Ауерштеду. Эскадрон двинулся за ним на рысях. Юлай испугался и совсем потерялся. Константин Павлович наделал бы тут большого шума, если б в то самое время не приехал Барклай со своей главной квартирой. Он послал воротить великого князя, который по долгу службы явился к главнокомандующему. Немец пожурил нашего цесаревича за его запальчивость и даже напомнил ему, что он ему начальник. Константин Павлович, как добрый подчиненный, терпеливо перенес выговор. Неприятель уже прошел через Ауерштед, когда Барклай дал приказание войскам идти туда, и мы в городе нашли только французских мародеров, усталых и раненых. В тот день мы остановились для ночлега около какого-то селения.
За Лейпцигское сражение я был награжден чином поручика, который получил по прибытии нашем во Франкфурт-на-Майне.
Казачий корпус графа Платова преследовал французскую армию по пятам. Наша армия пошла стороной на Веймар, где владел муж великой княгини Марии Павловны. В герцогстве ее мы были везде отлично приняты. Австрийцы только себя дурно вели. Они наложили на Веймар разные контрибуции, как на неприятельскую землю. Может быть, хотели они этим показать русским свое значение в союзе. Государь с терпением переносил подобные дерзости от австрийцев, дабы удержать их в общем союзе и дабы не поселить раздора, тогда как владычество Наполеона в Европе начинало уже упадать пред многочисленными силами, против него собранными. Веймар один из красивейших городов, виденных мною в Германии. Саксен-Веймарское герцогство содержит до 2000 пехоты, которые вступили в общий союз, но мы их в армии не видели, потому что все союзные войска княжеств германских находились при осаде крепостей на Рейне во время французской кампании в 1814 году.
За городом у большой дороги я видел в первый раз повешенного человека. В Германии у каждого города есть виселица, и преступник остается на оной, пока тело его совершенно не сгниет. Тот, которого я видел, уже был снят с виселицы и сидел на горизонтальном колесе, возвышенном от земли сажени на полторы. Голова его была отрублена и наколота на острый шпиль над туловищем. Он был уже отчасти сгнивши, так что нельзя было рассмотреть черты лица его, и служил пищей для ворон. Зрелище весьма отвратительное и непозволительное в таком просвещенном крае, как Германия.
Из Веймара прошли мы в великое герцогство Вюрцбургское, где, кажется, владел тогда эрцгерцог Иоанн, брат императора австрийского. Сие герцогство содержало также до 2000 пехоты. В Вюрцбурге мы не останавливались, а следовали далее. Переход был очень большой, и мы пришли на ночлег очень поздно.
На сем переходе верховые лошади и обоз великого князя отстали и ночевали на дороге. За лошадьми великого князя смотрел один офицер 14-го класса, произведенный из вахмистров Конной гвардии, Белоусов, который часто получал побои от Константина Павловича. Случилось по несчастию, что то селение, в котором он остановился, ночью загорелось, и несколько лошадей великого князя сгорело, в том числе и любимая верховая его. Белоусов, опасаясь наказания, бежал и явился к Его Высочеству уже во Франции, в городе Шомоне (Chaumont), когда его никак не ожидали, и он бросился на колени и просил помилования. Он был так перепуган, что в рассказе о своем побеге рассмешил Константина Павловича, который простил его и определил к прежней должности. Случай этот указывает, что великий князь совсем не имел такого злого нрава, как многие полагали.
По прибытии на ночлег все устали от продолжительного перехода; невзирая на это, мне досталось ехать с важными бумагами к князю Голицыну. Полагаю, что великий князь приказал отправить их с кем-либо из своих адъютантов и что адъютант этот просил Куруту послать которого-нибудь из нас: греческая штука, которую он иногда с нами делал. Мне пальцем указали сторону, в которой князь Голицын должен был находиться, и отправили в темную ночь с одним казаком.
Я ехал лесами с обнаженной саблей, потому что жители предупредили меня, что в лесах этих скрывались разбойники. Проехав миль шесть и придерживаясь берега реки, я прибыл на рассвете против городка, который на том берегу лежал. Мне сказали, что тут стоял князь Голицын, но я попал туда не иначе, как окружным объездом, потому что в этом месте не было брода, и отдал бумаги князю Голицыну. Полагаю, что в ней заключалось приказание идти форсированными маршами к Франкфурту-на-Майне, с намерением достичь сего города прежде спешивших туда австрийцев. Мы уже сделали утомительный переход, и нам еще два таких оставалось до Франкфурта.
Конница, состоявшая под начальством князя Голицына, немедленно выступила и пришла в тот же день к Ашафенбургу, где я нашел великого князя и явился к Куруте. Великий князь занимал дворец, а нас разместили по городу. Мне с Даненбергом досталась хорошая квартира, на которой стоял один раненый баварский офицер.
После Лейпцигского сражения баварский король присоединился к нашему союзу и послал 40-тысячную армию свою под начальством генерала барона Вреде к Ганау (Hanau), дабы отрезать неприятелю дорогу. Баварцы дрались отчаянно, но не могли устоять против превосходных сил Наполеона. Они нанесли ему жестокий урон, отбили много обозов, артиллерии, но принуждены были отступить и пропустить неприятеля. Барон Вреде был ранен. Баварцам содействовали в сем сражении наши казаки, которые преследовали Наполеона от самого Лейпцига. Прочие союзные войска шли стороною; нам же путь лежал через Тюрингинский лес, известный своей обширностью еще с древних времен.
Случилось, что на той самой квартире, которую я занимал в Ашафенбурге, стоял тоже раненый под Ганау баварский офицер. Я с ним познакомился и, разговаривая о прежних делах, выхвалял ему храбрость соотечественников его под Бауценом, где они под начальством Удино атаковали наш левый фланг в горах. Они занимали тогда опушку леса в близком от нас расстоянии и стрелками своими наносили нам значительный урон. Этот самый баварец участвовал в том деле и сказал мне, что он приметил одного из наших всадников, в бурке, который устанавливал артиллерию (прусскую), причинившую им много вреда. В бурке никого там не было, кроме меня, и так мы назвались старыми знакомыми, которых случай нечаянно привел свидеться в Ашафенбурге. Баварец уехал в отпуск после Бауценского сражения и попался во вновь сформированные королем войска, которые дрались под Ганау. Баварское войско было одно из лучших союзных: офицеры порядочные, народ храбрый; но они особенно отличались склонностью к грабительству и в нем превзошли даже австрийцев, которых, однако, не жаловали баварцы. Одеты они были в светло-синие мундиры с черными кожаными касками на головах, и на каске черный султан из гривы, щетиной перегнутый по хребту каски. Обмундирование нарядное.
На другой день оставался нам еще один большой переход до Франкфурта. Курута не дал нам во всю ночь уснуть, боясь опоздать в распоряжениях своих. Он продержал нас всю ночь ни за чем подле своей кровати, сам дремал, спал… и, просыпаясь каждые пять минут, спрашивал тихим сипучим голосом, тут ли мы; потом просил извинения за то, что нас задерживал и что… Как нам ни хотелось спать, но мы не могли сердиться на сего доброго старика и только пересмеивались с Даненбергом. Куруте не один раз случалось держаться такой проделки, когда он ожидал большого перехода на другой день. Бугский казак Мавридов обыкновенно приходил нас по ночам будить, постукивал в воротах и, когда на спрос наш «кто там?» слышалось в ответ протяжным и гробовым голосом: «Мавридов!», то мы немедленно одевались и знали, что на ту ночь должно уже проститься со сном и просидеть у кровати Куруты. В этот раз мы на рассвете разбудили своего старика, который было крепко уснул, и он нам дал приказание ехать вперед во Франкфурт для заготовления дислокации, не сказав ничего обстоятельного, потому что он сам не знал, в городе ли, в селениях или на бивуаках будут расположены полки. Мы поехали во Франкфурт через Офенбах и предместье Саксенгаузен.
Едва мы успели взять в ратуше билет на квартиру, как войска начали вступать в город, но они так утомились на последних переходах, что из кавалерийских полков отстало много людей; однако мы прежде австрийцев заняли Франкфурт с резервами. Австрийцы, кажется, на другой день пришли и пошли далее к Рейну, где имели удачное дело с неприятелем под Гохштедом. На другой или третий день нашего прибытия во Франкфурт войска были расположены за рекой Майн по селениям, занимая большое пространство. Мы простояли во Франкфурте до половины декабря месяца, всего с месяц; в это время велись переговоры с Наполеоном. Государи, короли и князья союзные, все съехались во Франкфурте, где проводили время в веселиях, на коих особенно отличался наш государь… В одном доме с ним жил сверженный с престола шведский король Густав Адольф, который ходил инкогнито по Франкфурту и терпел недостаток. Государь, как слышно было, великодушно помог ему несколькими стами рублей, тогда как жена одного банкира получала от него несметные суммы денег и богатства. Австрийский император занимал особенную часть города.
Мне с Даненбергом досталась квартира в улице Фридбергской, в бывшем трактире Штат-Карлсру (Friedberger-Gasse-Stadt-Karlsruhe). Хозяин наш был француз, служивший некогда берейтором у прусского принца Людвига, которого убили в сражении под Иеной в 1807 году. Он обязан был кормить нас, и мы имели всегда порядочный обед, и люди наши, и казаки были сыты.
Когда во Франкфурте стало умножаться число войск, тогда на нашу квартиру стали прибавлять постояльцев, русских гвардейцев, австрийцев и прочего народа, так что под конец monsieur André содержал 14 человек, из коих каждый имел свои прихоти. Не менее того он не переставал быть веселым и всегда ходил к нам рассказывать разные забавные приключения старинного века. Он был гасконец и имел особый дар заставлять всех слушающих его смеяться. Я ни имел занятий по службе и проводил большую часть времени дома без всякого дела. По вечерам я ходил к адъютантам князя Голицына, с которыми был хорошо знаком; там были Неклюдов, Башмаков, Ланской и наши офицеры квартирмейстерской части, Апраксин и Мейндорф, все порядочные молодые люди. Они квартировали в доме еврея, у которого были хорошенькие дочери и с воспитанием. Во Франкфурте много евреев, но они живут по-европейски. Мы занимались музыкой и проводили довольно приятно вечера. В театре я был только один раз, потому что не имел больших достатков. Во Франкфурте я виделся с лейб-драгуном Н. П. Черкесовым, старым приятелем моим; он только что прибыл с резервными эскадронами и прожил у меня дня два.
Австрийский император приехал во Франкфурт после всех государей; для него был сделан большой парад. На сем параде случилось два происшествия, коим причиной был офицер, находившийся накануне на ординарцах у великого князя. Наш дежурный генерал Потапов дал ему предписания в полки гвардии, которые стояли в селениях, чтобы они на другой день прибыли в город к параду. Офицер этот, вместо того чтобы немедленно ехать, остался ночевать в городе и доставил предписание только на другой день, уже тогда, как прочие войска выстроились. Иные полки поспели к параду, но Литовский и Лейб-уланский не прибыли. Великий князь арестовал за это Потапова на несколько часов. Генерал-майора же Удома, который командовал Литовским полком, великий князь приказал арестовать Алексею Петровичу Ермолову. Но Ермолов отвечал цесаревичу, что он его не арестует, а пошлет к нему сам саблю свою и не будет иметь подлости взять ее назад. Великий князь замолчал и дело так оставил.
Чаликов командовал легкой гвардейской кавалерийской дивизией, которую мне поручили расставить.
Лейб-гвардии Уланского полка не было. Чаликов, убоясь великого князя, бросил свою дивизию и поскакал с обнаженной саблей назад в город; парад был за городом. Он скакал как сумасшедший по улицам. Мне также могло достаться, хотя я ни в чем не был виноват; при том же мне не след было отставать от своего дивизионного командира. Я за ним поскакал и прибыл благополучно домой, где провел все время парада. Так все с рук и сошло.
Мы брали сено без платежа с чердака хозяина нашего, monsieur André. С целью сберечь собственность, он показал нам другой чердак, полный сена, принадлежавшего его соседу, и дал нам ключ от оного. Сено сие давно уже было у австрийцев на примете. Ночью люди мои подставили лестницу, и Артемий мой полез; но едва он вошел в окно, как один из австрийцев, квартировавший в одном с нами доме, выстрелил в него из пистолета; пуля мимо пролетела. Другой слуга мой, Николай, побежал к австрийцу, который обнажил саблю, легко ранил его в бок, побежал за ним и бросил в него саблей. Это случилось поздно вечером, я уже был в постели. Услыхав шум, я выскочил и двумя ударами руки сбил двух австрийцев с ног; прочие оробели и сдались. Вооружив двух казаков плетьми, я разобрал дело, велел раздеть виновных цесарцев и, порядочно наказав их, отправил на русскую гауптвахту, где им еще досталось.
В другой раз, в отсутствие мое, австрийцы отдали на свою гауптвахту хозяина нашего m-r Андре за то, что он подсвечником ударил в голову одного австрийского гренадера, который со своей пьяной женой к нему за что-то приставал. Я с трудом выручил его по записке от коменданта нашей главной квартиры Ставракова.
В деревнях происходили большие драки между австрийцами и нашими за фуражировки; тут дело доходило иногда и до смертоубийства. Рассказывали, что и жена Барклая де Толли Елена Ивановна подралась со своей хозяйкой за квартиру или за кофе.
Переговоры с Наполеоном прекратились. Австрийская армия, Раевский, Витгенштейн и гвардии прусская и русская должны были переправиться через Рейн в Базеле. Блюхер с прусской армией и наши корпуса, Сент-Приеста и Сакена, должны были переправиться через Рейн, кажется около Мангейма. Войска наши были усилены. К пехотным полкам присоединилось по баталиону, а к кавалерийским – по два эскадрона. Кроме того, приходило еще много партий выздоровевших людей. В Базеле гвардейский корпус усилился еще Баденским гвардейским баталионом, состоявшим из 1000 человек, при семи орудиях Баденской гвардейской конной артиллерии.
Наполеон со своей стороны также усиливался. Он собрал новые войска и ожидал нас внутри своего государства, но армия его большей частью состояла из молодых солдат.
Швейцария держала нейтралитет, но не менее того мы переправились через Рейн в Базеле и прошли более одной мили их землей при вступлении в пределы Франции.
Часть пятая Со времени выступления в поход из Франкфурта до выступления в поход из Петербурга в Вильну в 1815 году Четвертая кампания, во Франции
Мы выступили из Франкфурта в начале декабря месяца. Даненберг и я ехали во все время одним переходом впереди войск, заготовляя дислокации. Поход этот был очень приятный, потому что войска успели оправиться во Франкфурте; мы шли по богатым местам и везде пользовались прекрасными квартирами.
Мы вскоре вступили в королевство Виртембергское. Король[169] не хотел, чтобы войска наши имели квартиры в городе Гейльброне и даже, чтобы они через этот город проходили. Он велел даже силой не пускать нас; но видя, что великий князь мало обращал внимания на его угрозы, он пропустил нас, и мы благополучно расположились дневать в Гейльброне. Курута послал меня с поручением к Депрерадовичу в Кавалергардский полк, который был расположен в селении Вейнсберге, недалеко от города. При этом селении находится гора, на которой стоит рыцарский замок, замечательный по историческому событию, в старину там свершившемуся. Когда цесарцы брали его и осажденные стали нуждаться в продовольствии, то женщины просили позволения у осаждающих выйти из крепости, унося с собою то, что у них всего драгоценнее. Получив такое позволение, они вышли из крепости, унося на плечах своих мужей. Картина, изображающая сие событие, до сих пор хранится у жителей Вейнсберга в церкви.
В Штутгарте захотели тоже сделать, как в Гейльброне: не впускать нас в город. Пошли переговоры, и начальство наше согласилось на то, чтобы войска наши обошли город. Однако Даненбергу и мне хотелось видеть город, который известен своей красотой. Рогатка у заставы неисправно запиралась; мы сперва разговорились с часовым, а потом проехали сквозь город.
Со следующего перехода я был командирован к 1-й кирасирской дивизии, к Депрерадовичу, откуда через три дня опять был возвращен к великому князю, которого застал уже в Лудвигсбурге, где он несколько дней останавливался для отдыха войск. Лудвигсбург, где находится загородный дворец короля, отстоит от Штутгарта в 4 или 6 милях. Там имеется клуб или дворянское собрание, которое называли казино. Хотя Даненберг был человек степенный, но ему хотелось непременно посмеяться над немцами, к роду которых он себя не причислял, называя себя шведского или финского происхождения. Под нами в нижнем этаже жил богатый купец, торговавший сукном. Так как Даненберг уже несколько дней жил в доме, то он познакомился с ним и его женой, которую просил переодеть его в женское платье, чтобы идти в казино, на что она согласилась, невзирая на то, что Даненберг был очень высокого роста и особенно дурен лицом, отчего женское платье ему вовсе не пристало. Он в такой одежде имел самую уродливую фигуру и был более похож на развратную женщину.
Нарядившись, он ввечеру пошел со мною к Мёнье, который жил вместе с Лафонтеном, надел крестьянский праздничный кафтан, наложил в один карман грецких орехов, а в другой огромную двухстороннюю табакерку, в которой с одной стороны был насыпан табак, а с другой зола с сажей. На Мёнье надели сюртук Даненберга навыворот, с подкладкой наружу, так что он казался в красном платье с белыми рукавами. Полы сюртука подобрали под широкий пояс; надели ему на голову чалму и дали обнаженный поваренный нож в руки. Я оставался в своем сюртуке, дабы в случае нападения со стороны полиции оградить товарищей официальной своей одеждой.
В сем наряде мы пошли в казино с фонарем. Даненберг на улице кривлялся, и виртембергские офицеры, принимая его за уличную женщину, приставали к нему, а мы их отгоняли. Окна казино были ярко освещены. Даненберг смело вошел. Немцы встали. Бургмейстер города подошел к нему и спросил, кто она такая?
– Я бедная женщина из соседнего селения, – отвечал Даненберг, – пришла к вам с жалобой: к нам наставили русских кирасир, у которых лошади так велики, что они не могут в ворота на двор пройти, отчего русские стали у нас ворота ломать.
– Ja, ja, – закричал повеса Лафонтен с угрозой на бургмейстера, – и если вы не исполните просьбы моей жены, так я на вас просьбу подам.
Между тем дамы собрались в дверях около бургмейстера; они скорее его смекнули, в чем дело, взяли Даненберга за руку, посадили его между собой и начали с ним шутить. Тут был адъютант великого князя Колзаков, который тоже узнал Даненберга и смеялся; но бургмейстер никак не мог постичь, что за посольство к нему пришло, рассердился и закричал слуге, чтобы он позвал других и чтобы выпроводили непотребную женщину сию с дерзким мужем. Слуга хотел бежать вниз, но я из предосторожности поставил Мёнье с обнаженным ножом его на часы у верха лестницы, сказав ему, чтобы он никого не пропускал. Слуга, увидев его, испугался костюма и воротился, когда Мёнье объявил ему, что он мамлюк великого князя, поставленный тут на часах, чтобы никого не пропускать, потому что в казино сделался шум и что сейчас придет караул. Я был в сюртуке и подтвердил слова эти. Между тем Лафонтен продолжал разговаривать с бургмейстером, которого он потчевал грецкими орехами. Ошеломленный бургмейстер принимал их и еще благодарил за угощение. Он совсем одурел, потому что все дамы обступили его и смеялись над ним. Лафонтен сим не довольствовался: он вынул из кармана огромную табакерку и предложил бургмейстеру табаку, понюхав прежде сам. Бургмейстер не смел отказаться, но вместо табаку ему подали из оборотной табакерки сажу, смешанную с золой и с табаком. Понюхав, он оборотился к дамам. Общий хохот поднялся по всей зале, когда он показал свой испачканный лик. Видя, что пора уходить, я вызвал заговорившегося с дамами Даненберга, отвел Лафонтена и снял часового. Мы вышли и спешили домой. Не знаю, как это дело замяли; вероятно, дамы, не желая накликать беды на Даненберга, их повеселившего, уговорили дурака бургмейстера молчать.
Места, которыми мы проходили в Виртембергском королевстве и в герцогстве Баденском, единственны. Большое население, прекрасные деревни, окруженные садами, полями, коих обработанность не может сравниться ни с какой в другой стране. Виртембергцы жаловались на свои бедствия: король их был самовластный и злодей: всякий опасался за свою собственность, говорили даже, за жизнь. Рассказывали, что король многих без явного повода отправлял в особо на тот предмет построенную крепость, где в темницах заключались сотни несчастных, часто там и погибавших. Когда король ездил на охоту, то он приказывал сбирать земледельцев, отрывая их от работ, для того, чтобы сгонять дичь, и кроме того, поля земледельцев стаптывали для увеселения. Если же он узнавал, что кто-нибудь из пострадавших чрез его забавы осмеливался жаловаться, то просителя заключали в крепость. Пышность Виртембергского двора не уступала пышности больших европейских дворов, на что истрачивалось множество денег и отчего народ был обременен налогами. Виртембергский король был необыкновенно толст и в летах. Говорили, что он предавался всяким порокам…
Под таким правлением жили в Германии, в краю просвещенном, тогда как природа наделила его всеми своими богатствами. Народ очень роптал. Я особливо имел случай слышать этот ропот между студентами в Тюбингене, в университете. Они не хотели оставаться в своем отечестве по окончании курсов.
В Тюбингене я познакомился с одним из студентов, который показал мне кабинет натуральной истории. Он показал мне также одного профессора математики, который сидел в особенной комнате за стеклянными дверями, запершись. Студент постучал в стекло, и к дверям подбежал молодой человек в крестьянской одежде, который поклонился нам несколько раз самым неловким образом, посмеялся и опять ушел и сел за работу. Студент сказал мне, что человек сей имеет отличные познания, что он из земледельцев, сам собою выучился, превзошел всех других профессоров в математике и проводит жизнь таким образом взаперти, не занимаясь ничем более, как математикой; он был похож на сумасшедшего.
При вступлении нашем в Виртембергское королевство я, как и прежде, ехал за день вперед колонны. Проезжая через большое селение, в котором стояла прусская легкая гвардейская конница, я был обступлен офицерами, которые меня несколько в лицо знали. Они остановили мою лошадь, упросили слезть и пригласили присутствовать на балу, который они хотели в тот вечер дать дамам окрестностей их селения. «Мы это делаем, любезный товарищ, – говорили они, – с тем, чтобы доказать виртембергцам, что не помним зла, которое причинили они в нашем отечестве; ибо изо всех союзных войск Наполеона ни одни так не грабили нас, как виртембергцы. Но если бы которая-нибудь из званых шлюх осмелилась отказаться, то мы отправимся к ее дому и выбелим все стекла в окнах». Пруссаки выражались с озлоблением, потому что они виртембергцев терпеть не могли.
Каждому из них поручена была какая-нибудь должность. Поручик Панневиц, которому меня отдали на руки, занимался заготовлением пуншевой эссенции, потому что он стоял в аптеке. Дочь аптекаря Каролина была прекрасна собою, и Панневиц успел на дневке в нее влюбиться. Другой был занят освещением, и как подсвечников не было, то он заменил их большими картофелинами, в которые воткнул свечи. Поручик Лон, родом венгр, служивший прежде в английской и в разных других службах, служил ныне в прусских гусарах. Ему поручено было сзывать и принимать дам. Он разослал по всем дорогам разъезды с приказанием встречать и конвоировать кареты и коляски, которые будут проезжать, а при заставах селений поставил трубачей, чтобы возвещать о прибытии дам. Недоставало безделицы: дома, в котором можно бы дать бал; но пруссаки долго о том не думали: в их селении был большой помещичий дом, в котором жил только один дворецкий. Вмиг полетели замки с дверей, и дом был во владении пруссаков. Новый прусский пристав дома распорядился комнатами и оставил одну маленькую, в которой постлали постель. Ключ от сей комнаты был у Панневица, которому сказано было давать его в случае надобности товарищам.
Мы уже давно были в сборе в танцевальной зале, а из дам ни одной еще не было. Пруссаки взбесились и начали совещаться, как и когда ехать им, чтобы у дам стекла выбить в домах. Лон настаивал, чтобы сейчас же разъезжаться по окрестностям и приниматься за дело; мнение его было принято, и разъяренные пруссаки готовились уже в ночную экспедицию, как позыв их был остановлен звуком трубы-возвестительницы. Все выбежали на двор и приняли несколько дам из одной кареты; за нею ехала другая, там третья, четвертая и так далее. Бал начался; сначала все порядочно шло, но под конец многие подпили и стали забываться перед женщинами. Прекрасная Каролина, дочь хозяина Панневица, тут же находилась. Заметив, что мне приятно было с нею танцевать, он сам приглашал ее для меня и подводил ее ко мне, с целью угостить меня как можно лучше. Между тем он следил за нами в танцах и с завистливыми глазами смотрел на жертву, приносимую им гостеприимству. Повеселившись до 2-го или 3-го часа утра, мы разошлись по домам, и Панневиц опять дал мне свою Каролину под руку до дома довести. Она была так хороша и так мила, что я объяснился бы с ней, если б не боялся оскорбить Панневица, который вслед за нами шел.
На другой день был поход, и я нагнал Даненберга. Мы вступили в Баденское герцогство и пришли в город Фройбург, где находились главные квартиры. До переправы через Рейн дали войскам около недели времени для отдыха. Великий князь остановился в городке Мюльгейме, а я послан вперед на границу Швейцарии с поручением заготовить дислокацию.
От городка Лёрраха, последнего в Баденском владении, в который я приехал, оставалось около шести верст до Базеля, что в Швейцарии. Между Лёррахом и Базелем находилось одно большое швейцарское селение Рихен на правом берегу Рейна, которое не должно было заниматься нашими войсками. Дорога, ведущая от Мюльгейма к Базелю, шла в одном месте по берегу Рейна. Против сего места, на левом берегу реки, находилась французская крепость Гюнпинг, которую осаждали баварцы. Хлопоты, вызванные из главной квартиры насчет опасности в сем проезде, не имели конца. Опасались проезжать под выстрелами столь сильной крепости, тогда как едва ли ядро могло долететь до дороги, а если б и долетело, то стали ли бы французы терять снаряды на такие неверные выстрелы? Офицеры были разосланы для открытия новых дорог, и получено было радостное известие, что найдена безопасная дорога. Удивляюсь, как по сему случаю не отслужили еще благодарственного молебствия Господу Сил, ведущему нас в безопасности, яко Израиля к пустыне.
Из Фрейбурга главная квартира пришла почивать в Лёррах, а из Лёрраха она прошла в Базель, где и пировала.
Я оставался в Лёррахе с квартирьерами; а как из них только я один знал по-немецки и разные команды австрийцев приходили грабить окрестности и требовали квартир в городе, то меня в ратуше немцы провозгласили комендантом города и никому не давали квартир без билета от меня. Между тем я разослал квартирьеров по селениям и занял оные до прибытия наших войск. Мне отдавали все должные почести, как то славная квартира, и во всякое время к услугам моим был в готовности форшпан и даже почтовая коляска без уплаты прогонов. Таким образом прожил я более недели в Лёррахе, ибо Курута не приказал мне возвращаться в Мюльгейм. По ночам меня пробуждал гул баварских осадных орудий, действовавших по крепости Гюнпинга. До прибытия войск в Лёррах я был два раза в Базеле: первый раз я ездил туда по приказанию Куруты для закупки географических карт, но не нашел их; другой же раз ездил по своей надобности.
Селение Рихен, которое не следовало занимать, было, однако же, занято мною для войск по недостатку квартир в других селениях. Швейцарское Базельское правление присылало ко мне в Лёррах одного офицера, чтобы объяснить мне свои права; но я их не признал, и войска остались в Рихене.
30 или 31 декабря гвардейский корпус собрался около Рихена и в окрестностях Лёрраха. Государю хотелось, чтобы мы перешли Рейн с большим парадом 1 января 1814 года. Холод был весьма сильный, и снег выпал глубокий. Невзирая на сии неудобства, государь настоял на своем, и 1814 года 1 января мы перешли через Рейн по мосту парадом, прошли через Базель около 6 верст швейцарскими владениями и вступили во Францию. Переход был большой; холод усиливался, так что войска пришли весьма поздно на ночлег. Люди падали на пути, и несколько человек дорогой умерло. Ночлег наш был около Алт-Кирхена, в селении Лаферте.
Я не встретил во Франции того, чего ожидал по впечатлениям, полученным о сей стране при изучении географии в годы первой молодости. Жители были бедны, необходительны, ленивы и в особенности неприятны. Француз в состоянии просидеть целые сутки у огня без всякого занятия и за работу вяло принимается. Едят они весьма дурно вообще, как поселяне, так и жители городов; скряжничество их доходит до крайней степени; нечистота же отвратительная, как у богатых, так и у бедных людей. Народ вообще мало образован, немногие знают грамоте, и то нетвердо и неправильно пишут, даже городские жители. Они кроме своего селения ничего не знают и не знают местности и дорог далее пяти верст от своего жилища. Дома поселян выстроены мазанками без полов. Я спрашивал, где та очаровательная Франция, о которой нам гувернеры говорили, и меня обнадеживали тем, что впереди будет, но мы подвигались вперед и везде видели то же самое.
Мы покойно подвигались через города Порентруи, Монбелияр и Везуль, и пришли к городу Лангру, из которого авангард наш вытеснил французские войска после небольшого дела. Мы расположились в селениях около Лангра на неделю. Квартира великого князя была в селении Апре, лежащем в 10 верстах от города, несколько в стороне от большой дороги, ведущей в Дижон. Корпус австрийских войск пошел к Лиону, с нами же оставался генерал Юлай и другие отряды, но полки их очень поредили от побегов и самовольных отлучек. Массы цесарцев как бы таяли, и корпус Юлая крайне обессилился. Между тем обозы австрийские не уменьшались. Они как бы собирались увезти всю Францию на своих фурах и нагружали в них все, что им под руку попадалось: мебель, посуду, перины и пр. Другого средства не было, как сбрасывать сии фуры в канавы, дабы войска могли проходить. Этих больших австрийских фур считалось в армии до 12 000. Французы много их истребили при ретираде после случившейся во Франции неудачи союзных войск.
По прибытии нашем в Апре Курута послал меня в ночь через селение Сент-Жом (S-t Geomes) для отыскания Лейб-кирасирского полка Его Величества, о котором никакого известия не было с самого утра, как он выступил с квартир своих. Ночь была очень темная, на полях лежало много снега, и мне надобно было ехать семь верст проселком. Мне сказано было отыскать древнее Римское шоссе, которого оставались следы, и держаться его для отыскания дороги. Накануне еще прибытия нашего в Апре происходила стычка между нашей авангардной конницей и неприятельской, к коей присоединились вооруженные крестьяне. Я взял у хозяина своего какую-то маленькую лошаденку и отправился в поле; вьюга занесла дорогу снегом и продолжалась во все время моей поездки. Я сбился с дороги и стал отыскивать шоссе, придерживаясь вправо. Заметив, что снег грудой примело к ряду камней и предполагая, что это отыскиваемое шоссе, я следовал по оному, но скоро потерял этот след и въехал в небольшой лес по открывшейся просеке. По дороге не было ни одного селения, и я словно видел один пустой дом, который находился в левой стороне. Миновав его, я увидел впереди огонь и, направясь к оному, прибыл в Сент-Жом, в котором было множество австрийцев. Тут я узнал, что за два часа до меня Лейб-кирасирский полк прошел через это селение, и поехал назад.
Я ехал медленно по своим старым следам и, приближаясь к лесу, заметил в прежде виденном мною домике огонь. Я так озяб, что захотелось погреться, и я вошел. Хотя был я один и ехал в разоренных местах, среди озлобленных жителей, но я так озяб, что решился войти, чтобы обогреться. Мертвая тишина царствовала в сем месте, прерываясь только мерным боем маятника стенных часов и мяуканьем кота, который сидел на поваленном шкапе. В камине был разведен большой огонь, у которого сидел нагнувшись старик без всякого движения. Я остановился в дверях, пораженный ужасной картиной разорения. Старик, услышав шум, хладнокровно повернул голову и, увидев меня, пригласил сесть к огню. Я сел, и он, не обращая взгляда на меня, продолжал греться. Мы несколько времени оставались в таком положении, не говоря ни слова. Я, наконец, прервал молчание и спросил, кто он таков?
– Хозяин здешнего дома.
– Как тебя зовут?
– Бонне.
– Какого ты звания?
– Я арендатор (fermier).
– Где же твое семейство?
– Не знаю.
– Как не знаешь, где ж ты был?
– Я ходил в Шатильон и не более часа тому, как возвратился и нашел свой дом в том положении, как вы его теперь видите, но семейства своего я более не нашел. У меня была жена, две взрослые дочери, два небольших сына; куда же они девались, не знаю; их, может быть, убили союзники, да и меня скоро туда же приберут. – Тут старик оборотился ко мне и, осмотрев меня пристально с головы до ног, спросил, француз ли я или союзник?
– Союзник, – отвечал я.
– Ах! – сказал спокойно старик. – Много вы нам зла наделали, – и задумался.
– Старик, – сказал я ему, – огонь твой гаснет в камине, подложи дров.
– Сейчас, сударь. – Он встал, поднял стул, на котором сам сидел и, с силой ударив его о землю, разбил его вдребезги, потом стал собирать куски и класть их в огонь. – Пускай горит, – приговаривал он с досадой, – по крайней мере, лишил я союзников удовольствия разбить этот стул; таким образом, сожгу я и все остатки своего имущества. На что мне оно, когда я семейства лишился?
– Нет ли у тебя табаку? – спросил я. – Мне хочется трубку набить.
– Был, сударь, спрятан табак за шкафом; не знаю, тут ли он еще; я поищу. – Он нашел табак, я закурил трубку и поехал.
Прибыв в Апре, я осведомился у своего хозяина о сем старике, и мне сказали, что его во всем околотке уважали и что семейство его было прекрасное. Никто еще не знал о постигшем его несчастии; когда же я рассказал об оном, то соседи сбежались, много сожалели о нем и хотели ему помочь.
Из Лангра мы пришли в один переход к городу Шомон. Первый ночлег наш был в селении Ролампоант (Rollampoint).
Мы провели несколько дней в Апре. Гвардейская легкая кавалерийская дивизия стояла недалеко от Шатильона. Шиндлер находился при своем полку. Ему надоело жить на квартирах, и он приехал к великому князю, умоляя послать его в авангард, дабы он мог иметь случай подраться; всего более хотелось ему пограбить. Великий князь рассердился на него, раскричался, стращал его арестом и прогнал его. Шиндлер пришел к нам в слезах, с горя напился пьян и стал буянить, так что его с трудом могли унять.
Из Шомона мы пришли к селению Жоншери, которое было верстах в трех впереди города, и, тут расположившись лагерем, провели ночь. Потом заняли город Бар-сюр-Об, откуда прошли еще один переход и остановились. Неприятель был около Шато-Бриена. Здесь получены были известия об армии Блюхера, который недалеко от нас находился и имел уже несколько стычек с неприятелем.
При начале сражения под Бриеном гвардейский корпус получил приказание стать в резерве, но мы стояли очень далеко от поля битвы и могли только слышать повторенные пушечные выстрелы. Сражался Сакен. К нему послали в подкрепление из нашего корпуса одну кирасирскую дивизию. К вечеру нас подвинули ближе, и мы ночевали недалеко от того места, где ложились неприятельские ядра. Сражение продолжалось ночью, и наши взяли штурмом город, почему драка продолжалась на улицах. Потеря с нашей стороны была довольно велика, но она была гораздо менее чем у французов, которые потеряли до 80 орудий.[170]
Великий князь поскакал в дело один из любопытства и, как я от иных слышал, сам ввел австрийцев во дворец Шато-Бриена. Дворец был великолепный; он заключал в себе славную библиотеку и кабинет натуральной истории. В Бриене находилось училище, в котором Наполеон воспитывался и из которого он был выпущен офицером в артиллерию. В сем сражении участвовали все союзные войска, и гусары наши ошибкой порубили несколько виртембергцев, приняв их за французов. Дабы сего впредь не могло случиться, государь приказал всем союзникам повязать себе левую руку выше локтя белым платком, кроме зеленой ветки, которую мы на голове носили. По прибытии нашем в Труа из сей повязки сделали наряд, и в главной квартире показались повязки с бантами, которые стали перенимать и в войсках.
Я застал ночью конец сражения под Бриеном, куда поехал из любопытства, потому что резервы наши не вступали в дело. Ночлег главной квартиры и великого князя был в селении Ком (Comes), где мы кое-как разместились.
Из знакомых моих был взят в плен в сем сражении полковник Фон Визин, славный человек, бывший прежде адъютантом у Алексея Петровича, а тогда командовавший Малороссийским гренадерским полком.
Сражение под Бриеном продолжалось полутора суток, после которых мы одержали победу. Когда великий князь ночевал в Коме, то пришли к нему на квартиру нечаянным образом два раненых солдата. Упоминаю о них здесь, как о примере необыкновенного терпения. Константин Павлович сидел у камина и, подозвав к себе солдат, расспрашивал их о ранах и о сражении, и как они пришли в полной амуниции и отвечали бойко, то они понравились великому князю, который велел доктору своему Кучковскому перевязать их. У одного (он был Крымского пехотного полка) сидела пуля во лбу, так что больше половины оной застряло в кости. Кучковский прежде всего разрезал и взодрал ему в четыре стороны кожу на лбу и, оголив таким образом кость, схватил в острые клещи пулю, которую стал тащить, но не вытащил. Пуля шевелилась, но не отделялась от кости. Тогда Кучковский приказал двум человекам держать раненого за голову, а сам с помощью фельдшера воткнул по острому кривому шилу с каждой стороны в пулю, и, упирая шилами в лоб, они оба стали всеми силами выламывать ее; но и этот способ не удался, и солдат остался с пулей. Во все время операции, раненый не показал вида страдания, а только просил лекаря:
– Ваше благородие, не замай; у меня будет лоб свинцовый.
Кучковский оставил его и обещался ему на другой день вынуть пулю. Солдат лег в каком-то холодном чуланчике, положив себе под голову ранец. На другой день, взяв ружье свое, он стал перед Кучковским и просил его исполнить данное обещание. Лекарь приказал ему лечь, выпилил ему лобовую кость около пули кругом и вынул ее с частью кости, причем раненого никто не держал, и он не испустил ни малейшего крика. Он встал, поблагодарил лекаря и пошел к казенным ящикам, около которых собирались раненые.
Другой солдат был рекрут. С ним варварски поступили. Пуля попала ему в руку пониже плеча и остановилась в кости, которую она раздробила. Кучковский сперва прорезал ему руку с одной стороны до кости и запустил два пальца в новую рану, схватил пулю, но не мог ее вынуть.
– Экая шельма, – сказал он, – не хочет выходить; постой же, я ее с другой стороны достану, – и вмиг прорезал такую же рану с противной стороны. Запустив в обе раны пальцы, долго копался он, хватаясь за пулю, но не мог ее достать. – Постой же, негодная, – сказал он, – ты и сюда лезть не хочешь, так выходи же сама. – Он тогда перевязал солдату раздробленную руку и отпустил его.
Солдат казался довольным, поблагодарил лекаря и пошел. Но мне Кучковский сказал, что он должен умереть от этой раны. Я удивлялся терпению обоих раненых, от которых во время операции не было слышно ни малейшей жалобы.
Из Ком мы пошли на Вандёвр, на Бар-сюр-Сен, и пришли в Труа, столицу Шампании. Труа большой и многолюдный город, но дурно выстроен и местами похож на большую деревню.
Войска наши дневали в 20 верстах не доходя Труа, в селении, называвшемся, помнится мне, Ренн. Тут я имел ссору с Тимирязевым, адъютантом великого князя: он хотел занять нашу квартиру, но я ему напомнил, что не позволю против меня забываться, и советовал ему быть осторожнее. Тимирязев пожаловался Куруте, который приказал мне уступить ему квартиру, и я принужден был сие сделать, но дав ему при этом изустное наставление, и уверил его, что уступил квартиру единственно из повиновения начальству, чем он остался доволен.
В 1801 году жил у нас в доме в Петербурге и в Москве один французский эмигрант Деклозе (Declauzet), который служил прежде в армии Конде капитаном и после был сослан в числе многих в Сибирь при императоре Павле. По возвращении его оттуда в царствование Александра он случайно определился к нам в дом и учил нас французскому языку, в грамматических правилах коего он, впрочем, не был совсем тверд, как и многие лица из французского дворянства королевских времен. В 1802 году он уехал от нас в свое отечество и оставался с нами в переписке. Мы узнали, что он женился и жил в Бар-сюр-Обе. По занятии сего города я о нем справлялся, и мне указали дом одного родственника его де Лаколомбьера, который сказал мне, что Деклозе переехал на жительство в Труа, присовокупив, что несколько дней тому назад стоял у него, де Лаколомбьера, на квартире один капитан Муравьев, пришедший с казаками, который также осведомлялся о Деклозе. Легко было догадаться, что то был брат Александр, состоявший при казачьем отряде графа Платова под командой генерал-майора Кайсарова и о котором я давно не имел известия.
Когда войска пришли на дневку в селение Ренн, я отпросился у Куруты в Труа, чтобы отыскать Деклозе. Долго я ездил по улицам, расспрашивая о нем, но никто не мог мне дать требуемых сведений. Наконец, обратившись к одному человеку, хорошо одетому, я спросил его о Деклозе.
– Я его доктор, – отвечал он, – и иду теперь к нему. Если угодно, отправимся вместе. Он живет на площади, напротив тюремной решетки.
Я следовал за ним и едва только успел выехать на площадь, как приметил на другом конце оной Деклозе, стоявшего у ворот хорошенького домика, в той самой енотовой шапке, которую я на нем в России видел. Я подъезжал шагом и не хотел сначала себя обнаружить, но он меня издали узнал и бросился ко мне.
– Mon cher Nicolas, je vous revois donc avant de mourir![171] – сказал он, и слезы радости полились из глаз старика.
Удивляюсь, как он меня мог узнать после 13 лет разлуки, тогда как он меня знал 6-ти или 7-летним мальчиком.
– Mais avant de monter chez moi, – продолжал Деклозе. – Sauvez mon voisin, се pauvre menuisier auquel on pille le foin.[172]
Я отвечал, что этого запретить нельзя, потому что казакам нечем кормить лошадей.
– Si cela est ainsi, – сказал он, – je m’en vais prendre quelques bottes de foin pour vos chevaux,[173] – и побежал в сарай, принес две кидки сена и повел меня наверх.
Он был женат на двоюродной сестре своей Боссанкур, владевшей порядочным имением недалеко от Труа, которое разорили; но Деклозе не жаловался и готов был жизнью жертвовать, чтобы Наполеон был свержен и чтобы Бурбоны снова заняли французский престол. И в самом деле, он стал так смело говорить в ратуше, что, когда французы выгнали нас из Труа, на него сделан был донос, и его хотели расстрелять; но он спасся тогда на чердаке, где спрятался в сено. Двое из товарищей его были в то время расстреляны. Жена Деклозе была немолодая женщина, упрямого нрава и делала из него, что хотела, наставляла его ловить собачку свою по саду и кричала на него, как на мальчика. Деклозе показал мне письмо от брата Александра, посланное с аванпостов недалеко от Труа; брат приглашал его выехать к нему, но старику нельзя было сего сделать, потому что в городе находились еще французские войска и за ним строго наблюдали. Я провел дня два в доме Деклозе, оказавшего мне самый дружеский прием.
Из Труа мы двинулись к Мальмезону и пришли через два дня к Ножан-сюр-Сен (Nogen-sur-Seine). Авангард на пути сем имел дела с неприятелем. Наполеон получил в подкрепление 6000 старой конницы своей, пришедшей из Испании.[174] Подкрепление сие сделало перевес в силах. Великий князь готовился было идти в атаку с 1-й кирасирской дивизией. Главная квартира расположилась в городе Pont-sur-Seine, а гвардейский корпус около Брея (Bray) на реке Сене. Ножан был совсем разорен, потому что Витгенштейн дрался в самом городе и вытеснил из оного неприятеля; город дымился, а на улицах лежали трупы убитых. Витгенштейн подвинулся вперед и был уже близ Фонтенбло, верстах в 70 или 80 от Парижа. Гвардейский корпус получил повеление идти в Мерри (Merry), город, лежащий направо от нас в 50 верстах.
Даненберга с вечера послали вперед для принятия лагерного места; с ним были квартирьеры и офицеры 1-й кирасирской дивизии и прусской кавалерийской гвардейской бригады, так что в сем отряде состояло более 150 всадников при 7 или 8 офицерах. Мне никакого назначения не было и, как я полагал на другой же день по прибытии войск увидеться с Курутой, то поехал с Даненбергом, не спрося на то позволения. Мы ехали всю ночь и приехали на другой день к назначенному месту. Мы немедленно приняли лагерное место от подполковника Диеста, присланного на сей предмет из главной квартиры.
Чиновники главной квартиры то приезжали, то отъезжали. Иные говорили, что поход войскам в Мерри отменен и что они возвратятся в Труа; другие, что это несправедливо. В городе был большой беспорядок. Не зная, кому верить, мы провели там двое суток, стоя на квартире у одного бывшего адъютанта Бернадота. На третий день никого из русских не оставалось в городе, кроме нас. Слухи носились, что гвардия переправилась за Сену и шла к Парижу, и Даненберг повел весь отряд ближайшей дорогой к Ножану, далеко вправо от большой дороги, местами, где еще ни одного русского не видали. Мы легко могли встретиться с неприятелем и потому приняли возможные предосторожности. Офицеры радовались случаю, надеясь действовать отдельным отрядом, как партизаны.
Общество наше было живое, и мы завели настоящий порядок; осрамился только поручик Кроут, адъютант полковника Лароша, который командовал прусской гвардейской конной бригадой. Отъезжая из Мерри, он увез у хозяина шерстяное одеяло; когда же у всех стали делать обыск, то он отправил свои вьюки вперед, и хозяин, имея на него подозрение, просил Даненберга возвратить выехавший вьюк и обыскать его. Кроут уверял нас, что мы ничего не найдем. В самом деле, во вьюке ничего не было, но одеяло нашлось у него под седлом, и он терпеливо перенес выговоры своих товарищей.
К обеду мы пришли в большое селение, в котором был замок маршала Брюни. Увидев нас, жители испугались, особливо когда им сказали, что тут сам великий князь и что за нами идет колонна. Нам накрыли стол, и мы славно отобедали на счет маршала, коего имением управлял в отсутствие его приказчик. Кирасиров развели по деревне, накормили их и взяли у жителей овса в запас. После обеда мы пошли все осматривать и увидели отличных жеребцов на конюшне. Кроут хотел одного из них увести, но товарищи не дали ему сделать сего. Не менее того, едва мы две версты отъехали, как он воротился и нагнал нас на том жеребце, который ему более всех понравился в конюшне маршала Брюни. Его провожал один из конюших, которому он сперва обещался отдать лошадь по прибытии в Ножан, после он обещался ему подарить два луидора, а кончилось тем, что, прибыв в Ножан, он прогнал конюшего домой и оставил себе жеребца ценой тысячи в две франков. Сколько мы не осуждали такой поступок, но Кроут был равнодушен к оказываемому ему презрению и остался с добычей.
Мы переправились через Сену и к вечеру прибыли в селение, лежащее за рекой напротив Пон-сюр-Сен. Мы узнали от жителей, что французы заняли деревни верстах в четырех от нас. Витгенштейн имел неудачное дело и должен был отступить.
Ночь была темная, лошади устали после большего перехода, и потому мы решились переночевать в сем селении, приняв нужные предосторожности. Даненберга, как старшего, признали мы начальником отряда. Он учредил разъезды, караулы и запретил выпускать жителей из деревни. Он также устроил очередь между офицерами, дабы каждому по два часа объезжать посты; но так как после ужина все уснули, то он сам ночью разъезжал. Кирасиров не расквартировали по домам, а поставили на бивуаках на дворе большого замка, в котором мы остановились, и приказали жителям доставить им продовольствие на людей и лошадей.
Замок был очень велик и, верно, принадлежал знатной особе. Мы в нем нашли только управителя с женой, которые подали нам хороший ужин. После ужина мы пошли осматривать комнаты, которые были великолепно убраны. Богатая библиотека занимала обширную залу. Мы расположились для отдыха в отдельных комнатах. На другой день мы встали рано и, пока лошадей седлали, осмотрели библиотеку. Я нашел за книгами свиток венгерского курительного табаку, который я объявил de bonne prise.[175] Прусский уланский офицер нашел Кассиниевскую карту Франции,[176] о которой он промолчал, и объявил нам о своей находке только тогда, когда мы уже версты две отъехали. Он хотел непременно возвратиться, чтобы ее взять. Приобретение Кассиниевской карты было дело законное, но мы его отговаривали за нею ехать, потому что он легко мог в плен попасться. Невзирая на то, он нас не послушался, поехал со своими уланами и возвратился благополучно с картой.
Приближаясь к Ножану из-за Сены, чрез которую мы прежде переправились, мы увидели большую колонну конницы, которая тянулась к Ножану с нами рядом, не в далеком расстоянии. По словам жителей можно было полагать, что то были французы. Мы остановили свой маленький отряд, и я поехал узнавать, какое виделось войско, но вскоре увидел, что то были наши кирасиры, и мы подвинулись к плотине, которая связывалась на середине мостом. Плотина была перекопана бруствером и, как мы ехали с неприятельской стороны, то нас приняли с приложенными ружьями, но скоро узнали своих и пропустили.
Гвардейский корпус вышел из Брея (Bray), где он прежде стоял, и расположился близ селения неподалеку от своего прежнего лагеря. Тут мы нашли великого князя и Куруту; последний заметил мне, что не должно было ехать с Даненбергом без спроса. В тот же вечер мы выступили в поход назад по дороге в Труа; переход был очень большой, люди и лошади утомились. Мы пришли в селение Colombe des deux eglises,[177] в котором оставалось едва несколько домов; замок или дворец был занят для великого князя, но не без шума, потому что австрийские квартирьеры, прибывшие после наших, хотели занять этот замок для Шварценберга, который был главнокомандующим союзных войск, в числе коих было очень много австрийских; армия их двинулась к Лиону, а из наличных много людей разбрелось. Оставалось более всего обозных фур. Цесарских квартирьеров, однако, отбили, великий князь завладел замком, а штаб его разместился, как кто знал.
Все кроме нас двух предались сну; мы же не могли отдохнуть, потому что должны были ожидать прибытия войск к лагерю и расставить их: но не более двух часов продолжалась наша надежда уснуть. Снова был объявлен поход, и мы пришли ночью к какому-то селению, где я должен был разбить лагерь; ночь была очень темная, а требовались обыкновенная правильность и порядок в линиях. Я долго бился с квартирьерами, и, наконец, удалось мне разбить лагерь посредством огней, которые я велел развести и по которым давал направление линиям. Но и тут недолго удалось нам отдохнуть, ибо войска, пришедшие уже по полуночи, на другой день с рассветом опять поднялись в поход. Мы пришли к ночи в Труа, где австрийские обозы предупредили нас и успели разграбить лавки и сжечь предместье города.
В Colombe des deux eglises великий князь имел ссору с полковником Ларошем, который командовал прусской гвардейской кавалерийской бригадой, состоявшей тоже под начальством Его Высочества. Великий князь выговаривал ему, что он переходы сделал на рысях, отчего изнуряются у него лошади, на что Ларош дерзко отвечал ему, что за исправность полков он не ему отвечает, а своему королю. Великий князь приказал также, чтобы прусские полки по очереди с нашими давали по известному числу рядовых при офицере, дабы блюсти за порядком во время переходов по большой дороге и сворачивать в канавы австрийские обозы, препятствовавшие движению войск. Но Ларош и в этом случае воспротивился, когда до него очередь дошла, и должность сия пала бессменно на кирасирский полк Ее Величества. Не знаю, чем это неудовольствие кончилось.
По возвращении нашем в Труа мне совестно было остановиться у Деклозе. Я ввел лошадей своих в какую-то разграбленную суконную лавку, а сам расположился наверху с хозяином. Я сходил к Деклозе, который погружен был в глубокую печаль, видя, что мы оставляем Труа: он должен был ожидать мщения от Наполеона эмигрантам, которые русских хорошо принимали. Он не ошибся в своем расчете и спасся только случайно; другие же были расстреляны.
Переночевав в Труа, мы тронулись на другой день очень рано в поход к Шомону. Французы при сем отступлении нашем побили много австрийцев. Жители города вбежали вооруженные в госпитали и перебили больных и на проходящих по улицам кидали камнями, причем русских, однако же, не тронули. Из Шомона мы пошли было назад к Лангру, но воротились, и главная квартира осталась в Шомоне; войска же расположились около города по селениям.
Мы провели около двух недель в Шомоне. В это время я оставался совершенно без денег и обошелся в нуждах своих только благодаря моему кучеру Артемию, который, видя мое безденежье, выдал себя за кузнеца, достал где-то молоток, в другом месте клещи, в третьем гвозди, в четвертом подковы и стал перебивать хлеб у кузнеца великого князя, который брал по рублю серебром за подковку одной ноги, а Артемий стал дешевле ковать. Я ничего не знал о сем, как он мне неожиданно высыпал из кожаного кошелька своего около 7 рублей серебром; деньги эти несколько поддержали меня. Между тем другой слуга продал моего ослепшего французского старого коня, которого я купил в Борисове. Он цыганил на нем несколько дней и спустил его в сумерки австрийскому офицеру довольно дорого, так что я в состоянии был купить другую лошадь, весьма порядочную, которую назвал Баронессой.
Ожидались значительные подкрепления от австрийцев, которые уверяли, что уже давно выступило с берегов Рейна 50 000 войска и что все беглые их и разбредшиеся люди собраны в особенный корпус, направленный к армии; но вместо того мы видели только эскадрона два венгерских гусар и две роты артиллерийские, к нам присоединившиеся. Главные силы их подвигались к Иону.
В течение двух недель, проведенных нами в Шомоне, с обеих сторон воюющих держав назначены были должностные лица, которые вели переговоры о мире. Я слышал, что в переговорах сих государь много уступал Наполеону, но требования сего последнего были столь велики, что государь прервал переговоры и издал прокламацию, которую он объявил народу французскому о решении не прежде сложить оружие, как по возвращении Бурбонов на престол Франции. Вместе с сей прокламацией было приказано Вреде, главнокомандующему баварских войск, и Витгенштейну, которые стояли впереди, взять Бар-сюр-Об приступом, что было исполнено с быстротой, и французская армия отступила. Бар-сюр-Об не пощадили, потому что жители оного вооружились и дрались против нас. Говорят, что баварцы (известные по их грабительству, когда они были еще в союзе с французами) делали непомерные ужасы на сем приступе, без уважения к летам, полу или званию: ничего не спасло жителей и имущества их. Я слышал от одного очевидца, что они, схватив одну старуху, подняли ее вверх, а один баварец подлез ей под юбки и достал у нее между ногами кошелек, в котором нашел несколько франков. Не ручаюсь, однако, за справедливость сего рассказа.
После покорения Бар-сюр-Оба Витгенштейн сказался больным и не командовал корпусом, потому что его отдали под начальство Вреде.
Вслед за сим делом армия наша тронулась вперед опять к Труа. Под Шато-Бриеном мы заняли позицию, полагая, что неприятель будет нас атаковать, ибо были известия, что он потянулся вправо. В этот раз замок в Шато-Бриене много потерпел; знаменитая библиотека и редкий кабинет натуральной истории были разрушены, разбиты и приведены в жалостное состояние. Сперва принялись за работу наши солдаты; несколько офицеров, заехавших из любопытства, увидели беспорядок, разогнали солдат, но сами были прельщены книгами и минералами: за ними пришли товарищи их, и через несколько часов в библиотеке и кабинете натуральной истории находилось около сотни охотников из гвардейских офицеров. Я в это время ехал мимо с Даненбергом: увидев множество лошадей пред входом во дворец, мы слезли с коней и вошли.
Круглая комната, в которой был кабинет естественной истории, содержала в себе человек шестьдесят обер-офицеров, полковников и генералов, которые трудились около минералов. Они рассматривали переломанные штуфы, передавали их из рук в руки, сожалели о порче их, ругали несчастных солдат, на счет которых отнесли весь беспорядок, и, наконец, с целью спасти сии драгоценные штуфы от большего изъяна лучшие клали к себе в карман, а дурные на пол бросали. Стены в сей комнате были уставлены шкафами, в которых содержались лучшие издания отборных учебных книг в прекрасных переплетах. Комната была очень высокая, и книги стояли до потолка в двухъярусной галерее, со вкусом убранной. На перилах галерей расположены были набитые чучела редких зверей и птиц. Любопытствовавшие, забравшись на галереи и рассматривая книги, отвязывали зверей и птиц и пускали их вниз.
Смотря на других, я также занялся сперва минералами и поднял два брошенных горных кристалла призматического вида, сросшихся вместе на основании, окрашенном охрой, и на которых было множество мелких кристаллов. Большие кристаллы были длиной вершка в три, а толщиной в вершок. Хотя я был в шинели, но штука была слишком велика, чтобы ее можно было прибрать. Мне хотелось отколоть один из больших кристаллов, чтобы из обломков сделать себе кремни в пистолеты, но, сколько я о том ни старался, кристаллы не подавались. Выйдя в соседнюю комнату, я бросил штуку изо всей силы о камин, чтобы ее разбить; камень разбился надвое, но с тем вместе разбился и уголок изящного камина, и я получил половину большого кристалла, которую привез в Париж, где подарил ее хозяину, у которого квартировал.
После сего захотелось мне приобрести походную библиотеку. Войдя в круглую комнату, я стал пробираться в тесноте (тогда уже тут до 150 человек было) к крыльцу, ведущему на галереи. Под моими ногами трещали стекла, камни, энциклопедии, чучела зверей и птиц, и все эти вещи прилетали сверху, задевая иногда тех, которые находились внизу. Таким образом, ринулся у ног моих крокодил аршина в два длины; я его поднял и хотел было тащить к своему казаку, но вспомнил, что его нельзя было спрятать, и бросил на дороге. Наконец я добрался до крылечка и пошел наверх. Я осмотрел все книги и сожалел, что не мог всех с собою увезти. Надобно было несколько из них взять для чтения, сидя у огня на бивуаках. В то время учебные книги не могли мне ни к чему служить, и потому я выбрал несколько романов, с коих сорвал переплеты для большей вместимости. Наполнив карманы свои и с двумя книгами в руках, я спустился и пошел по другим комнатам; нашел еще большую залу, занятую библиотекой, но уже некуда было девать книг, и я прошел мимо. Романы, которые я набрал, служили мне по ночам для чтения; а когда один был прочитан, то для избавления себя от лишней тяжести книга поступала на подтопки в огонь.
Князь П. М. Волконский, который видел библиотеку в Chatesu-Brienne, испросил у государя позволения взять ее для дома Главного штаба в Петербурге, о коем он постоянно заботился; ему позволили, и он приказал подполковнику Сахновскому заняться вывозом книг. Сахновский навалил множество подвод книгами, но бросил их в Шомоне (Chaumont), когда французы отрезали нас от Рейна.
Мы вошли с Даненбергом в темный коридор, где нашли узкую лестницу, обвивающуюся вверх улиткой около столба; взойдя по ней, мы пришли к запертой двери, в которую постучались. Человек, порядочно одетый, отпер двери и провел нас в небольшую угловую комнату, где он, как видно, занимался. То был смотритель замка, который, хотя и знал, что его опустошают, но в надежде, что его не найдут, скрылся и спокойно сидел в своем углу. Мы с ним раскланялись и пошли далее. В сем же коридоре нашли другую лестницу, ведущую вниз; спустились и очутились в прекрасных комнатах, убранных с роскошью наподобие древних бань. Ванны были металлические, в стенах были ниши, убранные статуями и вазами, в иных же стояли пышные кровати. Комнаты сии были под сводами, опиравшимися на красивых колоннах, и находились ниже горизонта земли; ибо свет в них доходил через отверстия, проведенные в сад. Недоставало только красавиц для полного украшения сего роскошного подземного убежища. Затем мы пошли осматривать самый верхний этаж, в котором жило несколько семейств. Я зашел в одну комнату, где находилось около 30 человек; они просили взять их под мое покровительство, потому что дворец наполнился множеством народа и они за свою жизнь страшились. Я успокоил их и хотел уйти, но казак мой остановил меня и показал мне лайковую пуховую подушку, которую мне предложил взять.
– Ничего здесь не трогать, – сказал я ему и ушел.
Казак следовал за мною, но с половины крыльца он исчез и нашел меня на дворе подле лошадей, когда я хотел садиться верхом. Запрещенная подушка была у него в руках.
– Ваше благородие, – сказал он, – это я для вас взял, чтобы вам покойнее было почивать, – и он выразился с таким плутовским взглядом, что я засмеялся и ничего не отвечал. Да ведь и не ворочаться же было назад, чтобы отнести подушку хозяевам!
Мы сели на лошадей и поехали шагом. Карманы моей шинели были набиты книгами; а казак мой сидел на своем седле так высоко, что едва доставал ногами до путлицы. Этим кончилось мое похождение по Chatesu-Brienne.
Выехав из замка и из города, мы с Даненбергом продолжили путь свой небольшим лесом, в коем лежали еще тела побитых во время сражения.
От Chatesu-Brienne мы подвинулись вперед, ночью же опять возвратились; на другой день пошли вправо, на третий назад, на четвертый опять вперед. Тут мы узнали, что Наполеон прошел между нашей армией и армией Блюхера, истребил 7-тысячный корпус графа Сент-Приеста в Реймсе, и что он намеревался отрезать нас от Рейна.[178] Граф Сент-Приест был ранен ядром в плечо и умер; корпус же его, соединявший нас с Блюхером, вконец был истреблен после упорного боя. Мы находились по правую сторону от главного пути и снова отступили. Легкая гвардейская кавалерийская дивизия была послана в отряд под командой генерал-адъютанта Ожаровского, и она настигала с фланга хвост французской армии, нас обходившей. Два или три эскадрона лейб-улан в удачной атаке взяли 18 орудий у французов под селением Sommepuis.
В одном из сих эскадронов служили три брата Болшвинги и товарищ их Торнау. Одного из Болшвингов убили в сей атаке, другого в плен взяли, а третьего ранили; Торнау был также убит и привезен на французском лафете. Однако частная удача сия не могла иметь влияния на общий ход дела, и мы поспешили к Арси (Arcis), чтобы встретить неприятеля, который дрался накануне, имев дело со слабым отрядом казаков под начальством Кайсарова и несколькими эскадронами венгерцев. Часть гренадер наших вскоре подкрепила их с 3-й кирасирской дивизией. Мы же пришли на другой день, и как на сем месте ожидали генерального сражения, то мы стали в резерве за высотами.
Неприятельская армия расположилась за Арси на высотах, занимая сильным авангардом город Арси; густые колонны пехоты и конницы построились на равнине и выслали стрелков, которые изредка перестреливались с нашими. Мы дожидались Раевского и наследного принца Виртембергского с корпусами, чтобы начать атаку. Казачий корпус Кайсарова, накануне много потерпевший, был сменен регулярной легкой конницей и поставлен верстах в двух от нас. Я знал, что брат Александр находился при сем отряде и осведомлялся о нем у казачьих офицеров, которые приезжали за приказанием. Я узнал от них, что он остался жив и здоров, но мне хотелось с ним повидаться, и я пустился рысью к казакам; но едва только несколько отъехал, как увидел, что они тронулись с места и рысью; оставалось до них не более полуверсты; я старался нагнать их, но не мог и принужден был воротиться, не видав брата. Я ехал обратно по конной цепи нашей и был несколько времени с фланкерами. Когда я возвратился к своему месту, Курута послал меня с Даненбергом для узнания местности между нами и неприятелем.
Часу около 1-го показались на левом фланге нашем две огромные колонны, и мы узнали, что то были ожидаемые войска. Вскоре принц Виртембергский прискакал молодцом к Шварценбергу и, получив приказание к атаке, поспешно возвратился к своему войску.
Величественно зрелище начала генерального сражения по сигналу.[179] Пушка, которая стояла подле Шварценберга, выпалила, и вмиг все высоты покрылись колоннами, которые за оными были выстроены. Колонны сии, не останавливаясь, стали спускаться на равнину, и с такою правильностью, как это бывает на маневрах. Неприятельские фланкеры уступили место, и колонны наши, подойдя на пушечный выстрел к французам, открыли сильный артиллерийский огонь. Неприятель, после слабой защиты, отступил. Артиллерия, поддержанная пехотой, быстро преследовала его, останавливаясь и возобновляя огонь. Таким образом, французов скоро приперли к городу Арси, откуда им уже нельзя было более отступать в порядке, потому что войска их теснились в городе. Наши войска преследовали французов по улицам на штыках, и город запылал. Говорили, что при этом случае прусские офицеры делали неистовства с французами, которые не хотели сдаваться или дерзко отвечали, когда в плен попадались. Рассказывали, будто их сажали в горевшие дома, как бы в отмщение за неистовства, деланные французами в Пруссии. Впрочем, рассказу сему трудно вполне поверить.
Когда французы оставили город и отступили за реку, вся армия их потянулась левым флангом, чтобы обойти нас. Движение сие совершалось в виду нас. На собранном военном совете Шварценберг был того мнения, чтобы отойти к Рейну и не дать себя отрезать; но государь, следуя правилу, что когда целая армия обходит другую, то она сама обойдена, не согласился с мнением Шварценберга. Мы в ту пору были сильнее австрийцев, у которых главная часть войск находилась в то время на юге Франции; в наличности же имели они только два небольших корпуса, пеший генерала Юлая и конный генерала Фримона. Мнение государя превозмогло, и австрийцы принуждены были, оставив свои обозы, следовать за нами к Парижу.
С истреблением корпуса Сент-Приеста Сакен тоже пострадал: внезапное нападение, которое на него Наполеон сделал с целой армией своей, расстроило его; он потерял одну дивизию, в которой едва ли оставалось 2000 человек (с сей дивизией были взяты в плен генералы Олсуфьев и Полторацкий). Сакен принужден был отступить. Армия Блюхера действовала отдельно от нас, и пока мы дрались под Chatesu-Brienne и под Arcis, Блюхер имел два сильных дела под Лаоном и под Краоном. В одном из сих сражений был убит квартирмейстерской части подпоручик граф Строганов, один из бывших моих колонновожатых в Петербурге в 1811 году.
До бывшего у нас военного совета движения большой действующей армии показывали большую нерешимость со стороны наших главнокомандующих: сколько раз мы проходили взад и вперед по одним и тем же местам, сколько времени мы кружились между Chaumont, Nogent и Troyes. Страна была совсем разорена, многие селения сожжены, жители разбежались. Наши фуражиры принуждены были ездить за сеном на дальнее расстояние, конница наша начинала изнуряться, а пехота Витгенштейна, которая бессменно находилась в авангарде и постоянно в делах, часто без хлеба, была в жалком положении. Большая часть солдат не имела мундиров; они одевались чем попало и были более похожи на нищих: иные ходили в круглых шляпах, другие во французском мундире, многие же в крестьянских кафтанах и обувались башмаками. На их неумытых лицах выражались усталость и голод; при взгляде на них нельзя было подумать, что эта самая пехота везде так славно дралась. Французские войска находились не в лучшем состоянии: старые солдаты у них вывелись, а на место их поступили молодые рекруты, которые с трудом переносили холод и нужды, заболевали или отставали от армии. Лучшее войско Наполеона состояло тогда из 6000 старой конницы, которая к нему пришла из Испании, и из остатков его гвардии.
Театр войны столько же терпел от французов, как и от нас. Шампания была совсем разграблена. Солдаты наши имели дар находить зарытое вино в огородах разоренных селений. Тогда славилось во всей Франции вино 1811 года, которое они называли vin de la comete,[180] по причине кометы, показавшейся в том году. Найденные бочки развозились по эскадронам или по ротам, ставились стоймя, дно вышибалось обухом топора, и всякий приходил черпать вино, чем ни попало; оставшееся же разливалось по лагерю.
Когда Наполеон обходил нас и государь решился идти к Парижу, кавалерийский корпус Винценгероде был назначен для следования за французской армией, дабы скрыть наше движение. И пока Наполеон поспешно, большими переходами, шел к Шалону, мы за ними же приближались к Парижу.
Мы встретили на пути своем корпус генерала Мармона, который шел на присоединение к главной французской армии. Встреча сия случилась на переходе неожиданным образом, и австрийский генерал Фримон первый вступил в дело. Мы подвигались равнинами, без дорог, почти до самого Парижа с музыкой и песельниками. Как скоро мы услышали выстрелы, конница прибавила шагу, но пехота отстала и не участвовала в славном сражении под Фер-Шампенуазом, где одна действовала только конница наша.[181]
Когда неприятель стал показываться, Курута приказал мне находиться при легкой гвардейской кавалерийской дивизии, которая вступала в бой. Я примкнул к лейб-гвардии Драгунскому полку, который поэскадронно шел в атаку под пушечным огнем. Я поместился перед эскадроном у знакомого капитана и скакал вместе, но схватки не было, и полк остановился под выстрелами.
Между тем на нашем левом фланге показались неприятельские фланкеры, которые прикрывали большую колонну пехоты, отступавшую к Фер-Шампенуазу. Против них драгуны выслали своих фланкеров, с которыми и я выехал, и завязалась перестрелка. Неприятельские фланкеры были многочисленнее наших; но они несмело поступали, потому что видели большие резервы наши. Ободренный их нерешительностью, я поскакал во весь дух на одного французского офицера, который все время впереди разъезжал и ругался.
– Tiens… le Russe, – кричал он мне. – Poltron, tu ne t’aviseras jamais de me combattre tête-à-tête; viens voir la route de Paris,[182] – продолжал он, указывая на нее саблей.
Я скакал с одним драгуном; он же был окружен многими всадниками, которые стали объезжать меня. Я бы непременно попался в плен или был бы изрублен, если бы не нагнал меня драгунский Н. П. Черкесов с четырьмя солдатами. Поравнявшись со мной, он закричал: «Ура, Муравьев!» Все наши фланкеры тоже закричали «ура», и вмиг вся французская цепь поворотилась к нам задом и поскакала от нас. Мы погнались за французами. Приметив, что правый фланговый их не мог поспеть за цепью и что он отставал, я поскакал на него. Увидев меня, он решился сдаться, потому что лошадь его не была более в состоянии бежать. Он остановился, слез с нее и бросил пику и саблю; я его схватил и отправил с одним драгуном назад.
Когда мы заехали за небольшое возвышение, нам открылась сильная колонна пехоты, которая отступала через Фер-Шампенуаз. Неприятельские фланкеры получили подкрепление и снова построились цепью. Наши резервы подвинулись вперед, и опять завязалась перестрелка, продолжавшаяся часа два. Драгунский штабс-капитан Шембель, который командовал фланкерами, напился пьян и ехал шагах в пятидесяти позади цепи; два драгуна заряжали ему пистолеты, и он стрелял, куда ни попало, через своих солдат, кричал, бранился, шатался на коне и очень струсил, так что солдаты его не слушались и смеялись над ним.
Видя, что тут не было начальника, я стал распоряжаться, и хотя драгуны меня не знали, но они ко мне пристали и повиновались мне. Я отдал одному из них свою шпагу, которая мне мешала, а у него взял ружье и несколько патронов. Спешившись, я стрелял через седло и сам не приметил, как убил одного из французов; драгун мой поскакал к нему и привез мне французскую шинель, говоря, что он ее снял с убитого мною солдата. Цепь наша была растянута на полверсты, и мне нельзя было хорошо распоряжаться без трубача; я поехал назад и встретил Потапова, дежурного генерала великого князя. Я просил его, чтобы он приказал выслать ко мне трубача; но он отвечал, что это не от него зависит, а только спрашивал о ходе дела для доклада Его Высочеству. Я представил также Потапову драгуна Зуева, который меня отбил от нескольких кирасир французских, проскакав между ними и мною, когда они от меня были уже в нескольких шагах; но Потапов отозвался, чтобы я о том лично доложил великому князю. Видя такое равнодушие со стороны дежурного генерала, я оставил его и поскакал опять к фланкерам. У нас недоставало более патронов, и я просил их у одного поручика Конной гвардии Беклемишева, которой стоял со взводом за нами; он не смел ими поделиться с нами и не смел даже идти во фланкеры, потому что получил приказание от великого князя стоять в безопасном месте и не вступать в дело, а только угрожать неприятелю.
Мы находились в таком близком расстоянии от неприятеля, что пули наши попадали в отступавшую пехотную колонну, из коей изредка вылетали к нам пули. Наконец колонна исчезла, но перестрелка наша продолжалась. Французы получили еще несколько подкрепления; им показывал пример смелости один генерал, который выехал из колонны и пустился во фланкеры. Ругательные слова сего генерала возбудили гнев мой, и я решился истребить его.
– Attendez, général, – закричал я ему, – ne vaudrait-il pas mieux nous arranger a nous deux; approchez-vous et tirez-moi votre coup, je vous répondrai.[183]
– C’est bon,[184] – отвечал он и, остановив окружавших его солдат, подъехал ко мне на расстояние 30 шагов, вынул нарядный пистолет с орлиными головками на прикладах и долго целился по мне; я стоял недвижимо с драгунским заряженным ружьем. Он спустил курок, и пистолет его осекся.
– Сеlа ne vaut rien, – закричал я ему, – recommencez! Il me semble que vos pistolets n’ont encore jamais vu le feu.[185]
– F… – отвечал он, – tu vas l’éprouver![186] – Достав из кармана порошницу, он насыпал пороху на полку и выстрелил по мне. Пуля его просвистала мимо моих ушей.
– A mon tour, – закричал я, но генерал уже поворотил лыжи и скакал во весь дух назад. – Poltrou… fuyard, – кричал я ему вслед, нагоняя его, – je m’en vais t’assommer de la crosse de mon fusil.[187]
Я почти на нем сидел, держа в обеих руках ружье прикладом вверх, но двое огромных французских карабинеров оборотились и угрожали мне палашами. Безрассудно было бы броситься на них. Я закричал своим фланкерам:
– Ура, драгуны! за мной!
Крик сей передался по всей цепи; все вперед бросились, и неприятель обратился в бегство. Французам надобно было выехать в улицу Фер-Шампенуаза; они теснились, но умели убраться. Я почти вслед за ними ехал по сей улице; со мной было человека два наших драгун, один конный австриец и один виртембергец, которые неизвестно откуда взялись. Виртембергца я застал уже у въезда в город заряжавшим ружье. Он был обращен к нам задом; приняв его за француза, я приказал изрубить его, и драгун мой ударил его палашом по затылку. Раненый упрекал нам нашу неосторожность, показывая нам перевязку на левой руке. Но тут не было времени им заниматься; я отправил его с драгуном назад.
Въехав в улицу рядом с австрийцем, я увидел всех французских фланкеров, собранных вместе за мостиком, шагах в двадцати от меня. Они дали залп по нас, меня не задели, но австрийца свалили с лошадью так, что он в падении своем сильно толкнул меня. Я осадил свою лошадь за угол дома и, прислонив ружье к углу, выстрелил в толпу французов. Полагаю, что которого-нибудь из них задел, потому что я хорошо прицелился и стрелял очень близко; но едва я успел выстрелить, как из садов прилетела с правой стороны пуля, которая попала лошади моей в пах. Я сначала не приметил сего и, желая довершить свою победу, стал шпорить лошадь, чтобы броситься на французов (около меня уже собралось человек десять драгун), но несчастный конь мой не подвигался вперед и зашатался. Оглянувшись, я увидел, что при каждом толчке, который я ему давал, вытекала у него кровь. По двум причинам было это мне очень досадно, как потому, что я должен был оставить начатое дело тогда, как я надеялся всех этих французов захватить в плен, так и потому, что лошадь сию я только за два дня перед тем купил, заплатив за нее почти последние мои деньги, 300 рублей, и что она была очень порядочная. Делать было нечего; драгуны очистили город, и я остался у въезда, слез с лошади и сел на камень, ожидая случая, чтобы у кого-нибудь достать другого коня. После долгого ожидания я, наконец, увидел Кавалергардский полк, вступавший в Фер-Шампенуаз, и я надеялся выпросить лошадь у которого-нибудь из знакомых офицеров. Но знакомые здоровались со мною и, видя, что у меня лошадь ранена, и ожидая предвидимой просьбы моей, спешили удаляться. Не предвидя более способа достать себе лошадь, я решился отыскивать великого князя пешком. Бросив с седлом на дороге свою Мишку (так называлась моя лошадь), я пошел назад с ружьем в руках в надежде встретить Его Высочество и получить от него лошадь.
Отойдя с полверсты, я встретил того драгуна, у которого была моя шпага; я ее взял и отдал ему ружье. Драгун сказал мне, что назади никого более не было и что великий князь пошел с Конной гвардией в другую сторону. Я опять возвратился к своему камню и стал дожидаться случая. Последняя моя надежда основывалась на колонне вьюков, которую я приметил вдали и которая тянулась прямо на меня. В то самое время скакал мимо меня кавалергардский поручик Языков-старший, который нагонял полк. Узнав меня, он остановился и сам предложил мне лошадь, обождал прибытия вьюков и приказал дать мне небольшую молодую лошадь, которая с трудом выносила меня; раненую же лошадь мою приказал взять (она в ту же ночь издохла).
Как я не мог отыскать великого князя, то нагнал Кавалергардский полк, который, выехав за город, повернул в левую сторону и несся поэскадронно на больших дистанциях. Депрерадович ехал впереди. Неожиданно понеслось на него человек 20 конных французов разных полков и войск. Они были пьяны и кричали:
– Rendez-vous, rendez-vous![188]
За ними гналось человек 15 казаков. Эти французы проскакали сквозь интервалы кавалергардов, отчего полк несколько смешался, конечно, не от испуга, а потому что бросились ловить их. Кирасиры и офицеры погнались за французами; чистое поле покрылось множеством скачущих всадников; была совершенная травля: где только останавливались, и пыль взвивалась, там был изловлен или убит один из французов. Под одним garde d’honneur[189] в красном кивере был куцый серый конь. Как мне нужно было добыть лошадь, то я погнался за ним. Garde d’honneur скакал во весь дух, удирал во все лопатки, а я за ним с обнаженной шпагой, но не мог нагнать его.
Вскоре обскакал нас обоих один кавалергардский унтер-офицер; он был Уварова эскадрона и назывался Чугунным. Имя сие приличествовало его росту и удару, который он нанес французу. Поравнявшись с ним, он ударил его палашом по лицу так, что разрубил ему кивер и сделал на лице глубокую рану от правого виска вниз к левой стороне подбородка. Француз свалился без чувств, а нога его осталась в стремени. Лошадь его стала бить и измяла раненого. Лицо его было так изуродовано, что нельзя было ни носа, ни глаз различить. Собравшиеся кавалергарды смеялись и издевались, смотря, как лошадь его била, и, наконец, вынув ногу его из стремени, прикололи его палашом. Я дал два червонца унтер-офицеру и взял лошадь. Тут же отдал я ему лошадь Языкова и поехал к Депрерадовичу уже на своем собственном новом коне.
В это самое время прискакал к нему адъютант от главнокомандующего с приказанием идти атаковать отступавшую пехотную колонну, ту же самую, которую я видел перед вступлением ее в Фер-Шампенуаз; колонну сию с утра еще атаковала наша конница, но она постоянно отстреливалась. Кавалергардский полк тронулся рысью, и мы скоро нагнали колонну; она остановилась, потому что ее окружили с трех сторон многие другие кавалерийские полки; с противной стороны нашей атаковала ее только что прибывшая кавалерия Блюхера. По нашу сторону находилось при колонне четыре орудия, которые действовали по нас картечью, между тем как пехота открыла сильный батальный огонь. Несмотря на осыпавшие нас пули, Депрерадович скомандовал двум эскадронам идти в атаку; эскадроны пустились, но, подъезжая к самой колонне, они несколько замялись и приняли вправо, однако опять бросились на неприятеля и врубились в пехоту. Другие полки, с разных сторон атаковавшие, то же сделали, и вмиг 6-тысячная колонна пехоты легла пораженной на дороге, в том строю, как она двигалась: люди лежали грудами, по которым разъезжали наши всадники и топтали их. Среди самой колонны мы встретились с конницей Блюхера. Французский генерал Мармон, который тут же был, ускакал; за ним погнались, но не могли схватить его. В сей атаке кавалергарды потеряли человек 15 убитыми, в числе коих был корнет Шепелев, молодой, красивый собой и хороший офицер; пуля, минуя кирасу, поразила его под мышку.
Слух носился, и вся главная квартира утверждала, что государь сам был в сей атаке; но это несправедливо, чему я свидетель. Когда уже вся колонна лежала пораженная, государь прискакал с главной квартирой, остановился шагах в 20 от места побоища и смотрел в лорнет на груды побитых, а некоторые из окружающих его поскакали с обнаженными саблями по раненым и убитым и топтали их. Я именно видел Дурново, который хлопотал и кричал около коляски Мармона тогда уже, как трубили сбор.
– Что ты тут делаешь? – спросил я его.
– Да видишь, любезный Муравьев, – отвечал он встревоженным голосом, и опять стал кричать «ура!», и ободрять всадников разъезжавшихся на звук трубы по своим местам.
«И мы пахали!» – подумал я. Случай хотел, чтобы несчастная пуля, вылетевшая из ружья одного раненого, задела немца Габбе (адъютанта Толя) в ногу, и все провозглашали его подвиг.
Вся колонна, из 6000 состоящая, была истреблена. Едва ли когда были примеры такой удачной атаки против пехоты. Сим побоищем кончилось сражение под Фер-Шампенуазом, в котором не могло быть распоряжения главнокомандующего, потому что каждый полк особенно действовал и уничтожал часть, которая ему попадалась. У нас не было ни позиции, ни линий, ни батарей, а дрались на походе отрядами на обширных равнинах.
Великий князь с Конной гвардией ходил влево за другой колонной, атаковал ее, истребил и взял орудия одним эскадроном из среды превосходных сил неприятельских. Так рассказывали.
Дело под Фер-Шампенуазом уподоблялось травле. Оно почти во все время происходило на рысях, так что к вечеру мы отошли большой переход, и пехота, которая не участвовала в сражении, далеко отстала.
Последнюю колонну, которую мы истребили, преследовали и атаковали с самого утра, но она все отбивалась. Я видел Шварценберга между скачущими нашими эскадронами и неприятелем в сильном огне; он был один и ободрял наших солдат. Шварценберг лично был храбр, но говорили, что он ограниченных способностей и не был решителен.
Сражение под Фер-Шампенуазом соединило нас с Блюхером, который прискакал со своею конницей из Шалона. Потеря наша была незначительна, неприятель же мог иметь до 10 000 человек урона.
После последней атаки стало смеркаться, и Депрерадович расположился с полком на бивуаках подле пораженной неприятельской пехоты.
Депрерадович похвалил меня, хотя я не более других сделал, и хотел представить меня к награждению. Когда мы были в Париже, он сказывал мне, что я был им представлен, но что, к сожалению его, ничего не вышло; не знаю, правду ли он говорил или нет, только за Фер-Шампенуазское сражение я получил по представлению великого князя Анненский крест 2-й степени на шею.
Мы не знали, где находился великий князь и где остановилась главная квартира. Депрерадович послал меня отыскивать их, но так как мне должно было остаться у Его Высочества, то он послал со мной двух ординарцев, чтобы дать ему известие. Ночь была темная; я поехал дорогой, по которой тянулись раненые французы, и приехал в то селение, в котором расположилась главная квартира. Я зашел на квартиру к Щербинину-старшему, где находился раненный в ногу Габбе (sic); но в главной квартире не встречается того гостеприимства, которое в войсках бывает. Меня ничем не приветствовали, и я выехал голодный от старых товарищей своих и поехал далее. Отъехав версты три, я случайно попал в селение, в котором находился великий князь. Я донес Куруте о том, что видел; но он уже обо всем знал, как и о моем участии в сражении. Отыскав Даненберга, я рассказывал ему, сидя у огня, о случившемся в сей день. В этой деревне был небольшой пруд, в котором лежали трупы французских солдат и лошадей; но мы пили из него воду за неимением другой.
На следующий день меня послали вперед через город Сезан (Sezanne) для занятия лагерного места на ночлег. Мне должно было ехать через то селение, около которого стоял Кавалергардский полк. В то время как я тут проезжал, офицеры хоронили Шепелева; я проводил похороны. Зрелище было трогательное, потому что Шепелева любили в полку. Генерал обнял покойника, которого на бурке опустили в могилу, при отдании последней чести на трубах и залпами из пистолетов.
Проехав Сезан, я искал на полях Гартинга, который должен был показать мне лагерное место, но не нашел его. Я увидел двух французских солдат, выходивших из леса; они остались после поражения под Фер-Шампенуазом; один из них имел дубину в руках. Я поскакал к ним, и как я был в белой шинели и треугольной шляпе без султана, они приняли меня было за французского офицера. Один из них сидел на лошади верхом; он тотчас стал извиняться передо мной, говоря, что он не украл этой лошади, а нашел ее в поле. Намереваясь схватить их, я его побранил и приказал ему слезть; лошадь его убежала, у другого же я потребовал дубину. Когда они все сделали, что мне надобно было, то я объявил им, что они военнопленные и повел их к большой дороге. В то время проходила тут баварская артиллерийская рота. Сдав их капитану той роты, я дождался полков, с которыми продолжал переход.
Курута, в сущности, был суетливый хлопотун и всегда посылал нас занимать лагерь, тогда как еще никому неизвестно было, куда назначался поход и где будет ночлег. То самое и здесь случилось. Впереди нас продолжались еще небольшие перестрелки с остатками корпуса Мармона, и мы расположились лагерем там, где нас ночь застала.
Не помню, сколько мы сделали переходов от этого ночлега до Парижа, но кажется мне, что мы не более как через два или через три дня прибыли к столице Франции.[190] Под городом Мо (Meaux) собрались все наши силы. Французы взорвали ночью каменный мост в сем городе. Наш гвардейский корпус был тогда расположен верстах в шестнадцати от этого места. Взрыв был так силен, что от него встревожился у нас весь лагерь. Говорили, что среди нашего лагеря разорвало неприятельскую гранату. Егеря послали стрелков в лес, но ничего не нашли. Кирасиры стали трубить и верхом садиться. Депрерадович, дивизионный командир их, спал в палатке. Он засуетился, повалил на себя палатку, не мог выпутаться из-под нее и продолжал биться под пеленами, пока все не утихло.
Мы прошли Мо и прибыли в Кле (Clayes), небольшой городок верстах в тридцати от Парижа. Великий князь остановился во дворце, который там находился. На другой день нам следовало быть под Парижем. Курута так потерялся, что с вечера приказал Даненбергу и мне отправиться до рассвета в главную квартиру, которая впереди ночевала, чтобы получить лагерное место от Дибича, и как можно чаще выезжать навстречу полкам. Мы посмеялись такому нелепому приказанию, однако надобно было ехать. Куруте хотелось только узнать, что будет делаться.
Как мы рано ни встали, чтобы ехать, но опоздали: великий князь и Курута уже уехали. Мы этого не знали, ехали с раскуренными трубками вперед, разговаривая, как вдруг услышали перед собой хриплый кашель Куруты и увидели в темноте белого коня его (Мальчика), на котором он ехал. Мы взяли вправо, обскакали его, полагая, что все сделали, и продолжали путь свой покойным образом, как во второй раз остановил нас охриплый голос великого князя, который впереди нас ехал. Мы и его обскакали. Главная квартира еще спала, войска не сбирались. Мы обернулись назад и встретили великого князя, как нам Курута то приказывал. Рассвет застал нас при небольшом постоялом дворе, который назывался Le Point du Jour.
Войска наши стали сбираться и обложили окрестности Парижа, который скрывался от нас высотами Бельвиля и Монмартра. Гвардия и резервы стояли около селения Пантен; Блюхер и Сакен пришли по дороге из Сен-Дени и стали перед Монмартром.
Французы занимали высоты, закрывающие их столицу. Они были гораздо слабее нас, имея не более 30 тысяч человек войска.[191] Тут находились остатки корпуса Мармона, который [был] разбит под Фер-Шампенуазом, несколько партий необмундированных конскриптов, инвалиды, l’ecole militaire, или воспитанники военного училища, несколько обывателей и часть национальной гвардии, которая накануне выступила из города против нас и оставила по дороге следы своих ночлегов. Войско сие, состоящее из жителей Парижа, никогда не выходило за заставу; их, вероятно, провожали друзья и товарищи, с которыми они пировали, пили, ели и веселились в ожидании неприятеля. Путь их означался разбитыми бутылками и сломанными стульями, и они возвратились в Париж, не видав нас.
С такими силами хотели французы воспрепятствовать победоносным войскам нашим вступление в их столицу! Если бы они до следующего дня удержались в городе, то Наполеон успел бы приехать к ним, возбудить народ и удержать столицу за собой; но мы в первый же день заключили перемирие с Талейраном, военным министром, которого поэтому подозревают в измене.[192] Наполеон уже находился тогда в Фонтенбло, но он не успел прибыть на помощь Парижа. По вступлении его в Труа он узнал, что мы под стенами его столицы, но тогда уже было поздно, ибо войска за ним не поспели. Гвардия его прибыла к нему и далее Фонтенбло уже не ходила.
Нам предстояло занять высоты Монмартра и Бельвиля, дабы овладеть городом. Бывший корпус Витгенштейна и гренадерский корпус Раевского атаковали Бельвиль. Четыре раза уже были они у французских орудий, занимая гору с боя на штыках; четыре раза их опрокидывали назад. Государь решился употребить в дело гвардию. Прусская и баденская гвардии под командой полковника Авенслебена пошли влево, выбили из лесу неприятельских стрелков холодным оружием и ударили французам во фланг. Атака сия была поддержана нами, и высоты Бельвиля остались в наших руках. Между тем полки лейб-гвардии Гренадерский и лейб-гвардии Павловский быстро двинулись по большой дороге прямо к заставе Сен-Шомон, сбили внезапным нападением своим неприятеля и приступили к городской заставе под сильным ружейным огнем национальной гвардии. В то же время Блюхер штурмовал гору Монмартра и был уже почти на вершине оной. Французы, видя, что мы неминуемо и вскоре овладеем городом, и опасаясь грабежа, заключили с нами перемирие, чем и прекратилось сражение.
Однако нам весьма дорого досталось овладение высотами. Два полка прусской гвардии потеряли убитыми и ранеными более 80 офицеров, а у баденцов из числа 800 человек в баталионе осталось налицо только 80. Государь в самое время дела скинул с себя Георгиевский крест и послал его к полковнику Авенслебену. Пруссаки дрались как львы. Уцелевшие не уводили раненых из дела. Я видел, как человек 18 раненых пруссаков тащили одну французскую пушку, которую они взяли.
Корпус бывший Витгенштейна и корпус Раевского тоже потеряли много людей, так что на другой день, при вступлении в Париж, под ружьем не было более как по 200 или 300 человек в гренадерских полках. Многие офицеры шли перед своими взводами с подвязанными руками. Для овладения заставой лейб-гренадеры и павловские послали человек по 150 охотников. Мне известно, что в числе их было четыре лейб-гренадерских офицера, а рядовых 160 и что изо всех их возвратилось только шесть рядовых здоровых. Блюхер должен был иметь также большую потерю. Все союзные войска в сем сражении лишились не менее 15 тысяч человек. Неприятель гораздо менее нашего потерял, но он лишился почти всей своей артиллерии. Мы взяли много пленных, в числе коих встречались напудренные граждане, инвалиды, школьники и проч.
В сражении под Парижем был убит из квартирмейстерских офицеров капитан Кноринг; поручик Лютинский был ранен и голову и чрез несколько дней умер от раны.
Когда государь послал Ермолову приказание остановить дело, потому что уже перемирие было заключено, то последний не вытерпел, чтобы не пустить навесно в город еще два ядра. Я слышал это от него лично.
Французы назвали сражение под Парижем la bataille à la butte de St Chaumont,[193] потому что застава, перед которой мы дрались, называлась S-t Chaumont.
Я не был в огне во все время дела, потому что наша 1-я кирасирская дивизия не вступала в бой, и великий князь не был в огне, но мы были свидетелями всего дела. Несколько ядер только пролетало мимо нас.
Когда перемирие было заключено, государь в сопровождении главной квартиры поскакал на высоту Бельвиля, оттуда город открылся у наших ног. Торжество и радость, которую произвело на нас сие зрелище, невыразимы. Мы не верили глазам своим. Я думал, не сон ли вижу, и опасался пробуждения. Государь тут же поздравил Барклая де Толли фельдмаршалом.
После перемирия начались переговоры о сдаче города. Для лучшего успеха в сих переговорах обставили высоты Бельвиля орудиями, так что при первом сигнале Париж засыпали бы ядрами. Я был с великим князем около государя. Государь сделал окружающим его знак, чтобы они остались, а сам спустился несколько вперед и говорил с одним французским генералом, который из Парижа вышел с Михайлом Орловым. Я мог заметить, что государь на что-то не соглашался, после чего французский генерал возвратился в город, но вскоре он опять пришел с Орловым и говорил с государем, который остался доволен.
Военный министр Наполеона Талейран, который в то время находился в Париже, сдал город, как я слышал, изменническим образом. В договоре значилось, что французские войска выступят из города и что на другой день войска наши займут Париж.
Главная квартира расположилась ночевать частью в Бельвиле, а частью в деревне Пантен, около которой стояла гвардия. Великий князь со своим штабом расположился в Пантене. Войска занялись несколько грабежом и достали славных вин, которых и мне довелось отведать; но сим более промышляли пруссаки. Русские не имели столько воли и занимались во всю ночь чисткой амуниции, дабы вступить на другой день в параде в город.
К утру лагерь наш был наполнен парижанами, особливо парижанками, которые приходили продавать водку à boire la goutte,[194] и промышляли… Наши солдаты скоро стали называть водку берлагутом, полагая, что это слово есть настоящий перевод сивухи на французском языке. Вино красное они называли вайном и говорили, что оно гораздо хуже нашего зелена вина. Любовные хождения назывались у них триктрак, и с сим словом достигали они исполнения своих желаний.
19 марта было торжественное наше вшествие в Париж. Войска были в параде, восклицания радости непостоянного народа провожали нас до самых Елисейских полей; тут войска повзводно проходили церемониальным маршем мимо государя. Народ толпился около него и удивлялся величественному виду и устройству наших войск. Когда же показался несчастный корпус Юлая, то в народе сделался общий хохот.
Не стану описывать обстоятельств, сопровождавших вступление наше в Париж, потому что они довольно известны, как и народный дух французов, а ограничусь описанием своих собственных происшествий.
Государь остановился в доме Талейрана; после он жил во дворце Elysee Bourbon; но, кажется, что мало заботились о войсках, которые провели первую ночь на Елисейских полях без пищи и без квартир. На другой день их развели кое-как по казармам, где их держали, как под арестом, также при весьма скудной пище.
Великий князь остановился в доме маршала Даву, hôtel du prince d’Eckmtihl, близ Corps Législatif,[195] за Pont Louis, № 16. После парада я с трудом отыскал его квартиру и не знал бы, где мне переночевать, если б не встретил унтер-офицера Пасюка, который разводил наши квартиры. Он показал мне двух хозяев в одном доме. Даненберг стал к нижнему, а я к верхнему. Даненберг попался к одному члену du Corps Législatif, а я к бывшему доктору принца Бурбонского. Даненберг скоро съехал со своей квартиры, и мы с ним жили врознь.
Уже было довольно поздно, когда мне показали квартиру. Я вошел к своему хозяину и нашел многочисленное семейство, состоящее из старика, мужчины и женщины среднего возраста, одного молодого человека и двух молодых девушек недурных собою. Все встали, когда я взошел. Старик играл со своим внучком в тавлеи (tric-trac). Они полагали, что я по-французски ничего не знаю, и не знали, как угостить меня, но весьма удивились и обрадовались, когда услышали, что я говорю по-французски. Подали ужин и стали разговаривать со мной, после чего показали мне особую комнату, в которой я славно отдохнул.
Вот описание того честного семейства, у которого мне довелось квартировать. Дед и отец всех был мосье Бриллоне (Brillonnet), бывший прежде доктор принца Бурбонского; ему было за 70 лет, он был хозяин дома и большой чудак. Прочие принадлежали к его семейству и, как они имели жительство в faubourg de la rue Poissonnière[196] около Монмартра, близ которого происходило сражение, то они удалились оттуда и остановились у своего старика. Бриллоне был некогда эмигрантом, но, проведя весьма короткое время за границей, возвратился в свое отечество. Воспитание его было вроде древних французских дворян, то есть он знал грамоте и писал неправильно. Старик был упрям, большой спорщик и бранился, иногда за обедом подпивал и тогда в присутствии женщин отпускал довольно наглые выражения и готов был пустить тарелкой в того, который бы дал заметить ему, что он завирался. Он никого не щадил в своих речах, кроме меня; меня же он полюбил и тогда только сердился, когда я у него выигрывал игру в tric-trac; когда же он выигрывал, тогда превозносил меня до небес, утверждал, что нет подобного мне человека, начинал бранить своего внука, ставил меня в пример ему, называл меня сыном своим и назначал меня наследником небольшого участка земли, которым он владел за Парижем, отказывая внуку своему от наследства, посылал покупать для меня пива и позволял мне курить при себе табак. Это наследство опять переходило внуку, как скоро я выигрывал: он тогда дулся на меня, но бранить не смел.
Дочь его, которой было уже под сорок лет, была замужем за банкиром Маритоном (Mariton) – честным, образованным, всеми уважаемым человеком; разговор его был приятный, и правила вселяли доверие. Кроме детей своих, воспитанием коих он много занимался, он еще принимал и воспитывал в доме своем сирот. Состояние его было небольшое, но он жил порядливо и в довольствии. Гостеприимство, столь редкая добродетель у французов, усвоилось в доме его. Маритон скоро переехал с семейством на прежнюю квартиру свою, где у него собирались на обед и вечер по четвергам и воскресеньям. В числе семейных посетителей его находился и я постоянно, потому что дом его был приятный.
Сын его назывался Paul Emile, молодой человек с дарованиями, сведениями и воспитанием. Он был годом или двумя старше меня, и мы с ним скоро подружились. Дочь Зоя имела такие же хорошие свойства, как и брат; ей было около 18 лет, она была недурна собою и, что редко встречалось у французов, в обхождении скромная. Мне казалось, что она не была равнодушна ко мне, но я никогда не имел с нею никаких объяснений. Приятельница ее, которая в доме воспитывалась, была сирота лет 17-ти, прекрасная собой и также скромная. Я любил проводить время среди сего доброго семейства, где меня принимали как домашнего; воспоминания о них мне будут всегда приятны.
Позже, когда я уже хорошо познакомился со своими хозяевами, старик Бриллоне вынул однажды несколько книг из своей библиотеки и показал мне спрятанное за ними двуствольное заряженное ружье.
– Tiens, mon che r Mourawiow, – говорил он, – si vous eussiez pris notre bonne ville de Paris d’assaut, j’aurais ajusté de ma fenêtre avec ce fusil le premier des vôtres qui se serait présenté a la place du Corps Législatif, et si le malheur eut voulu que ce fut toi, j’aurais tué alors mon petit-fils,[197] – так он меня еще о сю пору в письмах называет.
Маритон-отец сказывал мне о разнесшихся слухах: ожидали, что русские будут делать всякого рода насилие при вступлении в Париж, и что когда он в первый раз услышал шаги мои при входе в дом Бриллоне, то ожидал, что я брошусь на девушек, почему и приготовился до смерти защищать тех, и что все обрадовались, когда увидели меня и услышали, что я говорю по-французски.
На другой день вступления нашего в Париж народ толпился по улицам и кричал: «Vive le Roi!»[198] Многие надели белые бурбонские кокарды. Старые роялисты бегали по улицам с белыми знаменами и жали руки русским офицерам, которых они встречали. Легковерный французский народ приставал к ним, сам не зная для чего, но их радовала только новизна. Они требовали короля, не зная, зачем им император более не годился; ибо заметно было, что французы, в сущности, были расположены в пользу Наполеона. Не менее того народ толпился на Вандомской площади, около статуи его, поставленной на бронзовом столбе, названном по подобию Трояновым. Статуе накинули на шею веревки и стащили ее сверху, а на место ее водрузили белое знамя с тремя лилиями. Мальчишки бегали по улицам и пели куплеты, сочиненные во славу Александра и Бурбонов, а через несколько дней из куплетов сих сделали пародии на счет союзных государей. Вскоре появились и карикатуры, а там и брошюрки, которые разносились на улицах и продавались с криком. По всему городу в то же время слышны были органы, на которых наигрывали песни: «Vive Henri Quatre!»[199] Валики для сего напева успели заготовить через день после нашего вступления в Париж. Куплеты переделывались на счет кого угодно; между прочими пели:
Que le bon Dieu maintienne Alexandre et ses descendants Jusqu’a ce qu’on ne prenne.[200]Но все сие также скоро изменилось, когда в 1815 году Наполеон явился в Париж, и опять пошло на прежний лад, когда его разбили в сражении под Ватерлоо.
Все пленные, которые захвачены были в сражении под Парижем, были возвращены; их пригоняли толпами из Мо; иные из них кричали: «Vive la république!»,[201] другие: «Vive le Roi!», третьи: «Vive Alexandre!»[202] Простой народ полагал и желал, чтобы государь назвался королем французским. Государь, занимая дом Талейрана, имел постоянно у себя в карауле целый полк гвардейский и два орудия. Во все время пребывания нашего в Париже часто делались парады, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе. Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам и до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улицах встречали, отчего произошло много драк, в которых большей частью наши оставались победителями. Но такое обращение с солдатами отчасти склонило их к побегам, так что при выступлении нашем из Парижа множество из них осталось во Франции.
Офицеры имели также своих притеснителей. Первый был генерал Сакен, который был назначен военным генерал-губернатором Парижа и всегда держал сторону французов. В благодарность за сие получил он от города, при выезде своем, разные драгоценные вещи и, между прочим, ружье и пару пистолетов, оправленных в золоте.
Комендантом Парижа сделали Рошешуара, флигель-адъютанта государева. Он был родом француз и в числе тех, которые во время революции оставили отечество свое под предлогом преданности к своему изгнанному и неспособному королю, но в сущности, как многие судили, с единственной целью миновать бедствия и труды, которые соотечественники их переносили для спасения Франции. Рошешуар делал всякие неприятности русским офицерам, почему и не терпели его. Он окружился французами, которых поддерживал и давал им всегда преимущество над нашими, так что цель государя была вполне достигнута: он приобрел расположение к себе французов и вместе с тем вызвал на себя ропот победоносного своего войска.
Наполеон находился в Фонтенбло, куда собралась его гвардия. Могли произойти еще большие беспокойства. Оставался, кроме того, у неприятеля еще разбитый корпус Мармона. Против него послан был сильный отряд войск. Против Наполеона же государь хотел сам двинуться со всей армией, почему были посланы офицеры для избрания лагерного места около Виль-Жюив (Ville-Juif), по дороге в Фонтенбло, верстах в четырех от Парижа, и для государя отведены были квартиры в Виль-Жюиве. В числе командированных на сей предмет офицеров находился и я; но ничего этого не состоялось.
Всем чинам французской армии были объявлены отставки и отпуска, и вскорости Париж наполнился французскими солдатами, как армии, так и гвардии. Контора, учрежденная для выдачи увольнительных билетов, помещалась на той же площади, на которой я квартировал (Place du Corps Législatif). Солдат приходило так много, что не успевали им в тот же день выдавать виды, и они проводили ночь на площади. Провозгласили королем французским Людовика XVIII, а Наполеона отвезли на остров Эльбу с титлом ex-empereur.[203] Прекратились беспокойства в народе, привезли короля, и союзные державы заключили с Францией мир.
У меня было мало занятий по службе. Однажды послали меня в Версаль, дабы расположить полки 1-й кирасирской дивизии на квартирах по селениям. Я поехал в Версаль с одним казаком, в тот же день сделал в префектуре дислокацию, роздал ее квартирьерам и остановился в городе на квартире. На другой день поутру префект прислал просить меня к себе, чтобы унять драку, которая сделалась между поселянами и австрийцами, в одном селении, лежащем верстах в двух от Версаля. Я потребовал небольшой отряд национальной гвардии, и мне дали 30 человек с поручиком, подпоручиком и барабанщиком и двух жандармов. Помещик того селения тоже поехал со мной, Вскоре увидел я селение, о котором шла речь, и человек до 30 австрийцев, которые около оного суетились. Мой поручик был немолодой человек, лысый, в очках и с красным султаном. Он воображал себе, что послан с целию немедленно напасть на австрийцев. На всякий случай я спросил, есть ли у людей боевые патроны?
– Nous en avons, monsieur, – отвечал он, – faut-il avancer et arranger d’une jolie manière ces pleutres d’Impériaux? En avant, mes camarades, marche![204] – С сим словом он вспыхнул и поскакал вперед, но я его воротил, заметив ему, что он не знает порядка военной службы, по коему младший должен повиноваться старшему, почему я строжайше запрещал кому-либо из отряда сходить со своего места.
К этой мере вынуждало меня замеченное расположение их броситься на ненавидимых ими австрийцев без всякого рассмотрения дела, тогда как, напротив того, мне французы нужнее были против поселян. В предупреждение нового порыва горячего поручика я взял его с собой, как равно и двух жандармов с владельцем. Я приехал в селение в то самое время, как вступал в оное отряд 40 гренадер австрийских, которых успели привести для усмирения поселян. Озлобленные австрийцы хотели тотчас же вступить в бой с собравшейся толпой поселян, но я их остановил, вошел в первый дом и начал расспрашивать, как дело было? Человек двадцать австрийских фурлейтов приехало за соломой на фуражировку. Поселяне заперли тот двор, на который они хотели идти; австрийцы начали разбирать стог хлеба, который стоял в поле близ сего двора, а поселяне, взобравшись на стену с ружьями, дали по ним залп и ранили двух. Австрийцы убежали, оставив на месте одного тяжелораненого; ударили в набат, вся деревня вооружилась, жители окрестных селений также взялись за оружие и бежали на помощь к дерущимся. Австрийцы со своей стороны известили о сем происшествии стоявший неподалеку отряд, и гренадеры их, как выше сказано, вступили в селение в одно время со мною.
Мэр встретил меня в своем красном шарфе и старался замять дело. Австрийцы окружили меня и требовали отмщения. Прежде всего приказал я принести раненого, осмотрел его и кое-как перевязал. Землевладелец, приехавший со мною, взялся лечить раненого на свой счет и велел принести нам завтрак. Я разыскивал между французами виновных, чтобы отдать их под стражу австрийцам, но австрийский офицер не того добивался: он соглашался все дело замять, если землевладелец даст ему денег; для сего он отозвал его в сторону и говорил с ним наедине, но, не зная по-французски, объяснялся с ним знаками. Однако хозяин, поняв цель цесарца, сказал мне о том. Когда я узнал о подлом домогательстве австрийского офицера, нисколько не заботившегося об умирающем, то я прекратил свое разыскание.
В то самое время один из гренадеров прибежал ко мне с известием, что все селение окружено вооруженными поселянами. Я вышел на улицу, отворив калитку, и едва показался в оную, как увидел человек 20 поселян с приложенными на меня ружьями. Я отошел, запер калитку и стал распоряжаться с гренадерами, чтобы употребить силу выбраться из селения к отряду национальной гвардии; но мне не удалось бы присоединиться к оному, потому что густая колонна вооруженных жителей из другого селения неслась на нас бегом. Защищаться было не с чем, почему я решился ехать к ним навстречу и попытаться словами их остановить, для чего и поскакал к ним. Я махал им белым платком и кричал: «Vive le Roi!» Сумасшедшие французы отвечали мне тем же восклицанием, стали кидать вверх шляпами и приветливо обступили меня. Я воспользовался этой минутой и прочел им речь о повиновении начальству, представляя, какое они на себя несчастие могут навлечь, вооружаясь таким образом без надобности; я объяснил им, что поселяне были неправы в том, что стреляли по австрийцам, ибо могли их связать, если они грабили, и представить начальству и пр. Моя речь подействовала.
– Tiens, notre commandant, s’il a raison, et nous avons tort, vive notre commandant! Commandant qu’ordonnez-vous que nous fassions actuellement?
– Allez-vous en chez vous et couchez-vous; j’aurai soin de tout.[205]
С этим словом все разошлись по домам с криком, песнями и хохотом. Однако я с собой взял двух мэров, которые ехали верхами и вели мужиков; но они, заметив мое намерение, вдруг среди разговора ускакали. Поселяне, собравшиеся на другой стороне селения, видя, что первая колонна воротилась, рассыпались тоже по полю и ушли. Таким образом, все утихло, раненый был отдан на попечение хозяина, мы позавтракали и разъехались.
Вечер того же дня я провел еще в Версале и от нечего делать пошел по улицам шататься. Я встретил квартирьерного офицера Баденской гвардейской конной артиллерии, с которым один раз только прежде сего где-то виделся. Мы вошли в хорошо освещенный кофейный дом, где я нашел несколько знакомых офицеров кирасирских, которые приехали с квартирьерами. Я потребовал для каждого из них по стакану пунша; за первым стаканом последовал другой, и я несколько повеселел, баденец же совсем взбесился. Когда дело дошло до платежа, то я достал свой тощий кошелек, в котором едва было нужное для расчета количество денег, но баденец не дал мне расплатиться.
– Nein, Camrad, – сказал он, – du bezahlst nicht.
– Wie das?
– Ich bezahle’s: gestern bekamm ich noch 700 Dukaten aus dem Hause.[206]
Я думаю, что он врал, но мне не шло допускать, чтобы он за меня заплатил; а как он от меня не отвязывался, то я ему предложил, чтобы первая кровь заплатила. Мы обнажили оружие. У меня была шпага, у него сабля; я был подгулявши, он же пьян; мы разгорячились и порядком старались задеть друг друга. Я нанес ему удар вдоль по всей правой руке, но плашмя, крови не было; однако удар был так силен, что он от боли опустил руку. Потом он поднял ее и в сердцах размахнулся, чтобы меня ударить саблей, но задел саблей за люстру, которая кусками на нас посыпалась; меня же ударил по пальцу: кровь показалась. Мы положили оружие, мне перевязали руку, он заплатил за люстру, а я за угощение. После того мы опять пошли по улицам Версаля. Баденец пристал к одному дому, утверждая, что в нем живет какая-то знакомая ему женщина, и стал стучаться в окно; народ выбежал, он всех разогнал и хотел уже вломиться в дом, когда пришел обход национальной гвардии с офицером. Баденец разбранил офицера и бросился было на людей, но я его удержал и, кое-как успокоив его, остановил начинавшуюся ссору. Баденец непременно хотел проводить меня домой; я его сперва привел к его квартире, но он не хотел войти в нее, не проводив меня; проводы же были такого рода, что мне доводилось его вести. Наконец мы пришли к воротам моей квартиры, где он на улице упал; мы с ним расстались, и я его после сего больше не видал. Не знаю и имени его.
На другой день я возвратился в Париж, где, однако же, не воспользовался удовольствиями, которыми наслаждались мои товарищи. Я только один раз был в театре и один раз обедал у Вери,[207] чтобы иметь понятие о сих местах; впрочем, я себе во всем отказывал, потому что у меня денег не было. Получив жалованье, я отдал часть оного Куруте, которому я был должен, а на остальные деньги сшил себе несколько платья и пару сапог; но зато я не сделал ни копейки долгу, что было бы предосудительно, потому что отец мой ничего не имел и я бы не был в состоянии заплатить своего долга.
Теперь назову еще некоторые случаи, повстречавшиеся мне в Париже, и тогда, к черту этот город, в котором я был только свидетелем всех удовольствий, не будучи в состоянии ими наслаждаться. Я навещал некоторые публичные места, в которые вход был безденежен. Я часто прогуливался в Палерояле. Там из любопытства посетил Salon des Etrangers,[208] где производится публичная игра в банк и где я из приличия спустил пять франков в карты. Тут я видел Блюхера, ставившего кучи золота на одну карту. Прусский король платил за его проигрыши, а выигрыш оставался ему в пользу. С такими способами можно пускаться в большую игру. Я бывал довольно часто по вечерам в Тюльерийском саду и не нашел в нем десятой доли того великолепия и той красоты, которыми сей сад славится. Французы удивлялись, что мы не дивились сему гулянью. Много было между ними пустых голов. Люди, хорошо одетые, видя, что я остановился перед лебедем, спрашивали меня, есть ли в России лебеди?
– Нет, – отвечал я им, – как у нас лебедям быть, когда воды целый год во льду и покрыты снегом?!
– Как же у вас пашут и сеют?
– Пашут снег, сеют в снегу, и хлеб родится на снегу.
– Ah! mon Dieu, quel pays![209]
Они не имеют понятия о том, что за Парижем находится. Некоторые, желая объяснить мне географию Европы (потому что они считали нас непросвещенными), говорили, что за Парижем течет Рейн, а там находится Австрия, потом река Эльба, после того море, и там есть песчаная земля, называющаяся Пруссией, которая граничит с Россией лесами. Вот образчик понятий многих парижан и их просвещения!
Я ходил также смотреть Дом Инвалидов, который находился близко от моей квартиры. В величественном здании сем инвалиды живут гораздо лучше нашего брата. Дворы, коих много, именуются по названиям сражений и побед Наполеона, что видно по доскам с надписанными названиями, прибитыми над воротами. Помещение под большим куполом, который отовсюду виден, разделено на две части: в одной половине находится церковь инвалидов, в другой же большая зала, посвященная всем убитым генералам, прославившимся во французской армии. Посетитель с уважением вступает в сию залу, где совершенная тишина прерывается только раздающимся стуком от шагов идущего. Направо в стене видна с изваяниями гробница маршала Тюрення, где он сам изображен лежащим под осеняющими его знаменами и со всех сторон видны гробницы бывших предводителей. В самой глубине залы видна небольшая дверь, у которой сидит часовой, инвалидный солдат без ноги или без руки. Войдя в эту дверь, я очутился в маленькой комнате, сплошь обтянутой черным бархатом и обитой серебряными галунами. В средине сей комнаты стоял гроб на подножии. Комната освещалась только двумя лампами, которые темно горели. Невыразимо впечатление, производимое сим зрелищем. Как бы опасаешься громко говорить, дабы не потревожить покойника. Тут похоронен генерал Дюрок, который был убит подле Наполеона в сражении под Бауценом. Говорят, однако, что этот человек не был достоин таких почестей.
Я был в Musée Napoléon,[210] в Gallerie des Tableaux,[211] измерил шагами залу в сей галерее; она имеет более 300 шагов в длину. Я не был в состоянии судить о красоте картин и статуй, но невольным образом останавливался пред лучшими и восхищался ими. Видел знаменитого Аполлона Бельведерского и Венеру и множество древних статуй, привезенных из Рима. С особенным уважением внимал я искусству, создавшему такие красоты. Я навестил тоже Musée d’Artillerie,[212] в котором собраны всевозможные оружия. В обширных залах расположены вооружения славнейших французских рыцарей, замененных под бронями деревянными истуканами. Из них замечательнее прочих Франциск, король французский и Монморанси. Первый изображен на коне. Так как я тогда уже имел страсть к оружию, то собрание сие мне очень понравилось. Новейшее оружие также не забыто; я тут видел собрание ружей со времен изобретения пороха до нынешнего версальского двуствольного ружья. Каждый год прибавляется к сему собранию по одному ружью самой лучшей работы. Начинали тогда делать собрание русского оружия, и наш пехотный тесак лежал в одной комнате с мечами рыцарей.
Я не посетил Grand-Opéra за неимением денег, дабы заплатить десять франков за вход. Я был в Люксембургском саду, ездил однажды с Даненбергом в Булонский лес, где совершаются все поединки. Накануне нашего посещения тут был убит один баварский офицер французским на поединке.
Бывая в Палерояле, я с любопытством проходил мимо небольшой колоннады, расположенной полукругом и вдавшейся несколько во двор здания. Место это называлось прусской ротондой и было всегда наполнено прусскими офицерами, которые не давали прохода французским. Были молодцы из последних, которые нарочно мимо ходили и не миновали поединка. Говорили, что пруссаки составили на сей предмет между собою общество со статутом. Они ходили по галереям Палерояля не иначе как с заряженными пистолетами в карманах, когда заметили, что французские офицеры также стали собираться. Прусский гвардейский поручик Кнобельсдорф, сын бывшего прусского посла при Турецком дворе, считался в этом обществе, и так как я был с ним знаком, то, встретив его однажды на улице, просил его принять меня в это общество. Сперва он соглашался, потом стал затрудняться и, наконец, решительно сказал, что это сделать будет можно, но что мы о том в другой раз поговорим. Я полагал, что у них была тут какая-нибудь тайная цель, особые законы и знаки, как то водится в студенческих обществах немецких университетов. После того я Кнобельсдорфа более не видел.
Поединки часто случались в Париже. Наши русские тоже дрались и более с французскими офицерами армии Наполеона, которые не могли нас равнодушно видеть в Париже. Близок был я и к такой встрече, накликав сам поединок с французом. Бывший в 1811 году колонновожатый Грибовский служил в пионерах, а наконец в гусарах. Он был в театре и попал как-то в круг французских офицеров, которые окружили его и обселись около него со всех сторон. Один из французских офицеров встал, прошел мимо Грибовского, задел его ногой и тотчас извинился, но товарищи его стали перешептываться, и один из них спросил Грибовского, доволен ли он извинением.
– Доволен, – отвечал Грибовский.
– А я бы этим остался недоволен.
– Какое мне до вас дело? Будьте недовольны, чем хотите; только оставьте меня в покое.
– Я бы никак не вытерпел этого и вызвал бы его на поединок.
– Чего вы от меня хотите? Отстаньте от меня, или я вас научу, как себя вести.
– А я добиваюсь, чтобы вас научить; мы можем завтра видеться в Булонском лесу, а рандеву наше будет в Палерояле около прусской ротонды, откуда мы пойдем вместе; у меня будут два секунданта, вот вам адрес мой, чтобы найти мою квартиру, имя мое Паренс (Parence), я живу в Hôtel St Joseph под таким-то номером. Где ваша квартира?
Грибовский дал ему свой адрес.
– На чем вы деретесь, господин русский офицер?
– Разумеется не иначе, как на пистолетах.
– А я не иначе как на шпагах.
– Да я вас заставлю драться на пистолетах или всажу вам пулю в брюхо.
– А я вас заставлю драться на шпагах или всажу вам свою шпагу в задницу. Завтра мы с вами увидимся в Ротонде в одиннадцать часов утра.
– Очень хорошо, не забудьте приходить.
На другой день Грибовский приехал ко мне с Мейндорфом, который у него был секундантом; они просили меня принять это звание. Я охотно согласился, и мы поехали в 11-м часу в Ротонду, ждали до 12 часов, но никого из названных не нашли. Я предложил отыскать квартиру Паренса и разругать его или поколотить. Мы отыскали Hôtel St Joseph. Паренса не было дома; я написал ему самую оскорбительную записку, называя его подлецом и трусом, если он не явится в 6-м часу после полдня в Ротонду, и обещая ему побоев, если он сего не сделает. Оставив записку привратнице, мы уехали. Вечером мы опять собрались в Ротонду; с нами был хозяин Мейндорфа, который был родственник Паренсу. Узнав о происшествии, он хотел их помирить или заставить родственника вести себя честным образом. Мы два часа битых искали Паренса по всему Палероялю, не нашли его и поехали опять Hôtel St Joseph. Привратница сказала мне, что она отдала записку, что Паренс ее прочел и тотчас после сего выехал из Парижа. Тем все дело и кончилось.
Я имел случай видеть некоторые окрестности Парижа. Мой старик Бриллоне возил меня в Мели (Mesly), небольшой участок земли, которым он владел, и коего наследство переходило от внука его Эмиля ежедневно ко мне и к нему обратно. Мы ехали чрез Шарантон по красивым берегам Сены. В другой раз я ездил с Вермутом, братом Маритона, в его участок. Загородный домик, им на том месте построенный, был совершенно разорен нашими фуражирами.
В Париже виделся я опять с Деклозе, который поспешил из Труа приехать, коль скоро узнал о возвращении короля. Он приехал в своем эмигрантском мундире, и на него по улицам показывали пальцем, потому что мундир этот был для французов ненавистнее мундиров иностранных войск, покоривших Париж.
В Париже я получил австрийский орден Леопольда 3-й степени по представлению великого князя.
Давно не получая известий о братьях и отце, я однажды получил жалованье за старшего брата Александра, который не являлся. Возвращаясь домой и задумавшись о том, что с ним случиться могло, я неожиданно встретился с ним в воротах дома, где я квартировал. Велика была взаимная радость наша. Он не остановился у меня, потому что с ним было двое товарищей, с которыми он расстаться не хотел. Александр состоял при казачьем отряде под начальством генерал-майора Кайсарова, который занял город Мелюн, верстах в 50-ти от Парижа, и оставался там во все время нашего пребывания в Париже. Брат был отпущен на короткое время в Париж и получил от меня свое жалованье, в котором нуждался. Он познакомил меня с товарищами своими. Один из них был Александр Раевский, капитан гвардии, молодой человек, сын генерала Раевского. Я с ним прежде виделся, и он мне не нравился. Брат с ним был дружен, но я его никогда не любил. Заметно было, что он показывал брату такую дружбу единственно с целью, чтобы Александр его превозносил. Другой товарищ брата был Азбукин,[213] адъютант Кайсарова. Этот мне весьма понравился, и я с ним несколько сблизился.
Александр несколько раз приезжал в Париж, и после заключения мира он отпросился в Гамбург, где отец мой находился начальником Главного штаба в корпусе графа Толстого. Я провожал брата до Мелюна, где провел с ним одни сутки самым приятным образом. Он прожил все свои деньги в Париже, и ему не с чем было ехать в Гамбург. Надобно было что-нибудь придумать. Он намеревался ехать на своих лошадях, но я присоветовал ему продать их, так как не было другого средства выехать ему из Мелюна. На другой же день приступили мы к продаже лошадей и выручили за них более 1200 франков, от которых у брата осталось около 900 на дорогу. С этим он поехал странствовать по Германии для отыскания отца; я же возвратился в свой Париж, который мне не терпелось скорее оставить.
Однажды мы с братом зашли к хозяину моей квартиры, который был лекарь и у которого часто собирались лекаря. Мы спросили их, не знают ли они Метивье (Mestivier), лекаря Наполеона, который в 1809 году находился в Москве. Мы его тогда знали по тому случаю, что он вылечил брата Александра от жестокой горячки. Слышно было, что Метивье был шпионом Наполеона, и это вероятно потому, что он выехал из России перед самою войной и опять был в Москве с Наполеоном. Лекарь, которого мы спросили, показал нам квартиру Метивье; мы его отыскали и с удовольствием встретились с ним. Он нам рассказывал свое несчастное похождение в Москву.
– Je ne dois mon salut dans cette malheureuse retraite qu’a une plante, sans laquelle j’avais, a coup sûr, péri.
– Quelle plante était-ce donc, monsieur Mestivier?
– Messieurs, – продолжал он, – c’est la plante de mes pieds.[214]
Однажды, прогуливаясь с Азбукиным в Тюльерийском саду, мы увидели двух прекрасных женщин, из коих одна мне весьма понравилась. Я старался ее несколько раз встретить и поклонился ей. Она улыбнулась. Я стал смелее и изъявил ей свои чувства; она оставила подругу свою, а я Азбукина, и мы, прогуливаясь, условились сойтись в 9-м часу вечера в саду у назначенного дерева. Женщина эта приятно разговаривала и не принадлежала к сословию тех, которые на каждом шагу встречаются в Палерояле; скорее можно было полагать ее в числе молодых вдов, отыскивающих себе в Тюльерийском саду любовников и покровителей. В назначенное время я явился к своему месту, ходил, дожидался, но красавицы моей не было; наконец я сел на скамейку и не видал, как настало время зари, после которой никто не должен оставаться в сем саду. Национальные гвардейцы, которые были в карауле, пошли рундами по аллеям и сначала просмотрели меня. Возвращаясь назад, один из них удивился, найдя меня еще тут, и, приставив ко мне штык, грубым образом требовал, чтобы я из сада вышел. Не опасаясь штыка, которым он никогда не осмелился бы меня тронуть, я назвался русским офицером и сказал, что сейчас же дам ему урок, как должно себя вести. С сим словом я встал, чтобы схватить его за ворот, но он предупредил меня: сперва отскочил, а потом извинился. Я сделал ему изустное наставление о должности его как члена национальной гвардии и простил его. Таким образом кончилось происшествие, от которого я ожидал более чем быть наставником француза, и я возвратился домой без успеха в начавшемся любовном происшествии.
Мой старый хозяин был смолоду большим волокитой; к нему езжали женщины с некоторым образованием, но уже не в молодых летах, с которыми он прежде имел близкие сношения. Между прочими была г-жа Делиль (Délisle), к которой он показывал особенное уважение. Когда они уезжали, он рассказывал мне происшествия своей молодости и любовные подвиги с сими женщинами, но он был уже в таких летах, что волочиться ему более не приходилось. Однако ему хотелось, чтобы молодежь следовала его прежнему примеру, и как он меня полюбил, то взялся познакомить меня, или, лучше сказать, свести меня, с одной молодой женщиной, которую он называл прелестной.
– Она любит музыку, – говорил он, – вы с нею сойдетесь. Chantez-lui votre Tyrolienne, et elle sera enchantee de vous. Madame Frocheaux est une jeune femme, son mari était colonel de génie; je ne sais s’il est mort, on s’il est a l’armée; mais elle est votre voisine, et demain vous la verrez a déjeuner chez moi.[215]
В добрый час, подумал я и ожидал следующего утра. Я увидал г-жу Фрошо; она была недурна собою, лет 25-ти, ловка, мила, весела, прикидывалась в движениях своих ветреницей, музыкантша, чего более? Она начинала мне нравиться, но я почувствовал отвращение к ней, когда увидел, что она из табакерки моего старика взяла добрую щепотку табаку и испачкала себе весь нос. С меня было довольно этого, и сколько она ни старалась, пела, играла на гитаре, на фортепиано, в песнях своих выражала страсть, старалась сломить мое равнодушие, ничего не помогло: я смотрел на ее нос ежеминутно и ожидал увидеть вытекающую из него струю табачного сока. Наконец, она мне надоела, и я ушел к себе.
– Comment la trouvez-vous, mon cher Mourawiow,[216] – спросил меня после обеда старик.
– N’est-ce pas que с’est un ange?[217]
– Grand père, – отвечал я ему, – les anges ne se barbouillent pas le museau avec le tabac d’Espagne.[218]
Бриллоне рассердился, лишил меня наследства и сказал:
– Vas, tu n’es qu’un barbare; tu sens le Nord et les frimas; ce n’est pas une aimable française qu’il te faut: tu aimes mieux ta pipe. Si tu savais seulement la qualité de mon bon tabac d’Espagne, tu en parlerais autrement. Jamais je ne te ferai plus faire la connaissance d’une si charmante personne. Ah! Que n’ai-je ton âge? Madame Frocheaux t’a trouve bien aimable; elle vient de me dire tout à l’heure tons les sentiments qu’elle a pour toi![219]
Я совсем забыл думать про г-жу Фрошо, когда однажды шел по rue de Bourgogne вечером и увидел большой магазин, прекрасно освещенный. Я вошел и что-то спросил у хозяйки магазина, которая была прекрасна собою; между тем как я с нею разговаривал, вбежала в комнату Фрошо и пустилась со мною в разговор, спрашивая, где я все время скрывался, что делал, зачем я ее видеть не хотел. Она была сестра торговщицы в магазине, и хотя последняя мне нравилась более первой, я принужден был по ее приглашению идти наверх. Мы вошли в прекрасный будуар, в котором стояло фортепиано. Фрошо тотчас заперла дверь на крючок, и я остался с нею наедине. Я сел к фортепиано, она взяла гитару, и мы повторили все то, что у моего хозяина играли. Но сколько она ни вздыхала, я был нечувствителен!.. Кроме отвращения, которое я в первый раз к ней получил, я опасался связи со всеми ее последствиями и увлечения. Оставшись с нею около получаса, я вышел; она меня провожала со вздохами, но я был к ним глух и с меньшими хлопотами довершил свой вечер в Палерояле.
На другой день 1а petite poste[220] принесла мне записку в сих словах: «Je vous croyais plus sensible aux charmes d’un coeur qui s’est indiscrètement voue a vous; mais le votre, glace par les neiges du Nord, n’a pas su répondre aux élans de ma passion. Oubliez-moi; je n’aurais jamais voulu vous connaitre. Je me flatte d’ailleurs que vous n’avez vu dans ma conduite qu’une passion que je n’ai pu retenir. Je ne vois pas que je n’aye pas de droit a votre estime. Je vous connais un coeur noble et honnête».[221] Записка не была подписана, однако я мог догадаться, что я ее получил от Фрошо; я, может быть, несколько и сожалел, что упустил случай, но остался доволен своею твердостью.
Я провел два месяца в Париже, где скучал, потому что не имел средств пользоваться тамошними увеселениями. После долгой и кровопролитной войны мир был восстановлен. Нам предстояло возвратиться в Россию. Гвардейская пехота пошла в Шербур, где она села на корабли и прибыла в Петербург; конница же и другие войска пошли через Германию. Великий князь уехал по почте и взял с собою Даненберга; меня же прикомандировали к легкой гвардейской кавалерийской дивизии, которая стояла в Понтуазе (Pont-Oise). При ней был обер-квартирмейстером подполковник Мандерштерн, который отпросился для женитьбы во Франкфурт, где он во время последнего нашего пребывания влюбился в одну русую, но добрую немочку. Мандерштерн был крайне обрадован моему приезду в Понтуаз и тотчас же уехал. Чаликов и офицеры сей дивизии, которые меня все знали, были также довольны моим появлением; я провел с ними два дня в Понтуазе, а на третий войска выступили в поход.
Колонна наша состояла из следующих войск. Кавалерийский корпус, состоявший из 1-й кирасирской дивизии, и легкая гвардейская кавалерийская дивизия, шли впереди; из чинов квартирмейстерской части находились при кавалерии подполковник Иван Иванович Шиц, я и поручик Михайло Петрович Окунев. В двух переходах за конницей шел гренадерский корпус, при котором находились подполковник Григорий Тимофеевич Иванов, штабс-капитан Глазов и поручик Николай Евгеньевич Лукаш. Шиц, я и Окунев, мы постоянно ехали только днем впереди колонны, заготовляя дислокации.
Не могу жаловаться на скуку во время этого похода, но я гораздо приятнее провел бы время, если б имел лучших товарищей. Оба они, в сущности, не были дурные люди, но Шиц был вечно пьян, а Окунев иногда, оба довольно глупы и без образования, так что разговор их не мог быть приятен для меня. Впрочем, мы жили согласно во все время похода. Шиц был довольно бестолков и не умел сделать порядочной дислокации; при том же он другого языка, кроме русского, не знал. Когда он бывал пьян, то ускакивал один вперед в следующий город, где словами оскорблял добрых немцев в ратуше, и кончалось тем, что ему отводили хорошую квартиру, где он высыпался. Вставши от сна, он непременно влюблялся в дочь своей хозяйки или в самую хозяйку, когда дочери не было, волочился за нею, опять напивался и всех задирал, чтобы иметь повод заступиться за честь хозяйки, что нам дало несколько раз случай посмеяться над ним. Окунев был также «господин любкин»: он влюблялся в каждом городе, но не в хозяйку свою, а в ту, коей окна были напротив его, просиживал целыми днями у окошка, вздыхая, и от этого отставал иногда на два перехода от нас, чтобы перемигиваться с соседкой, и, не достигнув цели, напивался; потом, нагнав нас, хвастался успехом, вопреки показаний денщика его, не скрывавшего поведения своего барина. С такими чудаками случай свел меня, чтобы пропутешествовать с ними верхами по всей Германии. Дело у нас в один час кончалось, остальное время мы были праздны. Мы ехали впереди и следственно никому не были подчинены. С нами находился еще Викентий Григорьевич Палевич, пьяный провиантский комиссионер, и один кирасирский офицер, для содержания порядка между квартирьерами.
Первый переход наш был до селения Кле (Clayes), где надлежало Шицу давно уже находиться. Я прибыл с квартирьерами своей дивизии вечером и не нашел никого, кроме Окунева, которому поручено было от Шица сделать дислокацию. Он суетился, потел и не умел ничего сделать, однако кое-как роздал билеты квартирьерам, и мы разошлись по своим квартирам. На другой день поутру мне пришли сказать, что подполковник прибыл. Я явился к нему и нашел его крепко подгулявшим, в объятиях Окунева, и обоих в горьких слезах. Окунев отвел меня в сторону и сказал, что я сему не должен удивляться, потому что Шиц влюбился в Париже в одну девушку.
– Она против него жила, – продолжал Окунев, – и все время его пребывания в Париже они любили друг друга, как только страстные любовники могли любить друг друга, без совместия чувственных наслаждений. Когда настал час горькой разлуки и Шиц садился на лошадь, девица остановила его и упала, говоря, что она умрет, если он ее оставит. Но Шиц ускакал к нам, с намерением возвратиться в Париж, чтобы увезти свою красавицу и на ней жениться. Употребляю теперь все усилия свои, чтобы удержать его от сего. Не удивляйтесь, Муравьев, если он теперь пьян, потому что он с горя дорогой выпил.
Едва не расхохотался я, услышав сей рассказ, от которого Окунев сам взгрустнул, и мне оставалось только сожалеть о том, что не был свидетелем столь забавных происшествий нарезавшегося Шица. Однако Шиц остался грустить с Окуневым в Кле, а меня послал на второй переход в город Мо (Meaux), чтобы заготовить дислокацию. Он сам приехал ко мне вечером, опять пьяный, перепутал все, что я сделал, и нашумел в своей квартире.
Во все время похода до своей границы у нас было много беглых во всех полках. Люди уходили, иные с лошадьми и с амуницией. Зная трудное положение нашего солдата в России, это бы и не странно казалось, но удивительно то, что в числе беглых были старые унтер-офицеры, имеющие кресты и медали. Побегов всего более оказывалось в пехоте. Вообще в этом походе от Парижа до своей границы мы лишились около 6000 беглыми, из которых впоследствии многих возвратили нам союзные державы.
Мы шли через Шато-Тьери в Эперне, где дневали. Мне досталась квартира в большом доме, где хозяйка была умная и любезная женщина и содержала погреб со славными винами. Понравилось мне ее шампанское вино, коим я порядочно попользовался. Мы продолжали поход через Шалон, Бар-ле-Дюк, Туль, Нанси, Сарбург и Саверн. Мы переправились через Рейн близ крепости Пор-Луи (Port-Louis). Страсбург оставался в правой стороне и был издали виден. Некоторые из офицеров нашей колонны ездили в Страсбург, но я не мог сего сделать, потому что был занят должностью. Мы пришли в Вюрцбург через Брухзаль и Мюльбах. Из Брухзаля я послал письмо к Маритону в Париж и получил ответ уже в Петербурге. В Вюрцбурге я виделся с моим родственником Сергеем Муравьевым-Апостолом, который тогда служил в егерском баталионе великой княгини Екатерины Павловны.
Шиц познакомил меня тоже с одним понтонным майором Арцыбашевым, который был под судом за сожжение мостов под Фридландом в 1807 году. Арцыбашев был развратного поведения; он подпил с Шицом и, узнав, что я Муравьев, спросил меня, не знаю ли я полковника Муравьева, который служит начальником Главного штаба в корпусе графа Толстого, говоря, что он с ним недавно под Гамбургом виделся.
Мы пришли в Йену через Шлейсинген. Я удивлялся, увидев в Йене молодых людей, носивших шляпу под мышкой, когда они по улице ходили, и надевавших ее на голову, когда входили в комнату. То были студенты, народ известный в Германии своими странностями. В Йене я познакомился со Спечинским, майором Белорусского гусарского полка, переведенным в сей полк из Лейб-уланского. Красавец собой и лихой офицер, но большой повеса.
В Йене располагали показать войска великой княгине Марии Павловне, которая находилась в Веймаре, но местоположение около города не позволяло расстановить войска в желаемом порядке, и для того надобно было выбрать другое. Я был на сей предмет послан Чаликовым вперед и нашел довольно пространное поле, верстах в семи от Йены, но место сие было возвышено, и подъем на оное был с одной стороны неудобен для движения артиллерии: дабы объехать сие место, надобно было сделать две версты с лишком. Возвратившись в Йену, я донес о найденном мною Чаликову, и в присутствии всех полковых командиров, которые обедали в тот день у конно-артиллериста Бистрома, я предложил Чаликову приказать артиллерии идти в объезд; но Дмитрий С…ин, который ею командовал, вступился в разговор и, подойдя ко мне, довольно смело требовал у меня ответа, каким я образом осмеливаюсь распоряжаться вверенными ему ротами. Я ему отвечал, что долг мой требовал того, чтобы я донес о сем генералу и что воля его превосходительства будет приказать артиллерии идти по прямой дороге, где ящик легко мог с горы свалиться.
– Ваше дело, – продолжал я, – состоит в том, чтобы исполнить приказание генерала и не вмешиваться в то, что до вас не касается.
– Как вы смели подумать, – сказал он мне, – что гвардейская артиллерия не пройдет там, где конница может пройти?
– Господин С…ин,[222] – отвечал я, – прошу вас не учить меня, а заниматься тем, что до вас касается; отстаньте от меня, или я вас учить буду. – Я произнес последние слова сии с жаром и подошел к нему.
Он стал отступать, и когда я его прижал к окошку, он начал извиняться, прося, чтобы я не сердился, ибо если он мне что-нибудь неприятное сказал, то это было без всякого намерения оскорбить меня.
– Будьте вперед осторожнее, – отвечал я и оставил его.
Между тем Чаликов встревожился и, кружась около меня, просил оставить сие дело, в коем он, впрочем, находил меня правым и потому заступался за меня. Бистром пригласил меня отобедать, но я был в сердцах, не остался и вышел. Дело сделалось по-моему, и артиллерия пошла в объезд, а при свидании с С…ным о том речи более не было.
На сем параде я имел случай познакомиться с полковником Энгельгардом, какого-то уланского полка, который состоял при дворе Марии Павловны, и с адъютантом его Мердером.
Из Йены мы пошли на Мерзебург и Галле. Мы проходили чрез городок Бернбург, в котором мне назначили квартиру у тамошнего ландрата. Он жил в древнем рыцарском замке, в котором все сохранялось по обычаю старых времен. На воротах гербы, стены строения необыкновенной толщины. Главная лестница вела прямо в рыцарскую залу (Rittersaal), в которой по стенам висели старинные картины, писанные в человеческий рост и изображающие подвиги бывшего владельца. Огромный камин занимал третью часть стены; тут, около огня, собирались знаменитые витязи, гуляли, пьянствовали, ссорились, дрались; тут на совещаниях решались поиски, предпринимаемые для ограбления соседей. Тут совершались подвиги, воспеваемые ныне в балладах. Мой хозяин рассказывал мне содержание картин. Я остановился пред одной, которая изображала людей, дерущихся за столом: бутылки, стулья, посуда, все через стол летело, и один рыцарь лежал на полу.
– Это, – сказал мне хозяин, – изображает истинное происшествие, случившееся здесь в последние времена рыцарства. Старый рыцарь, хозяин сего дома, был ein ponfifan (bon vivant);[223] он любил общество приятелей и с ними вместе подпивал. Однажды к нему собрались окрестные рыцари на праздник; все уселись около сего же самого камина, у которого мы теперь сидим. Стали разносить бокал в круговую; все перепились, начали в карты играть, и один из гостей обыграл хозяина бесчестным образом. Вместо денег он получил пустую бутылку в лоб, но не потерялся от сего удара. Он был так силен, что переколотил всех в сем честном доме, успел выбежать на двор, сесть на своего коня, затем выломал ворота и перескочил верхом через ров, мимо подъемного моста. Чрез сие возгорелась война между домами сих господ. Происшествия, в сей войне случившиеся, было бы слишком долго вам рассказывать; подвиги, оказанные с обеих сторон, описаны в какой-то книге.
– Посмотрите, – продолжал хозяин мой, – на эту башню, которая среди двора стоит; тут заключались увезенные девицы и пленные. Полюбопытствуйте сходить в нее; там теперь живет городовой трубач уже пятнадцать лет; должность его состоит в том, чтобы часы трубить днем и ночью.
Башня сия стояла среди двора; она могла иметь от 15 до 20 сажен в вышину. Двери, служащие входом в нее, были на возвышении четырех или пяти сажен от земли; к ним пристроена плохая деревянная лестница, которую можно было легко снять. Я влез по этой лестнице в башню и стал подыматься по разваленным каменным ступеням, идущим улиткой по внутренней стене башни. В стороне видны были небольшие чуланы, вероятно служившие темницами. Я лез вверх, пока не ударился головой в дверь, которая горизонтально лежала западней и была заперта на замок. Я постучался, но никто не отпирал, и я принужден был воротиться. Спустя несколько часов я опять полез в башню; горизонтальные двери были отперты, и я вошел в маленькую горницу, которая находилась на самой вершине башни, где меня принял с веселым видом поднебесный пустынник и долго рассказывал о разных сражениях французов с немцами, в которых он участвовал, служа в то время жандармом.
– Выйдя в отставку, – говорил он, – я женился и получил здесь место городового трубача. Должность моя не трудная, но беспокойная; однако я к ней привык. Я уже давно овдовел, имею дочь лет восемнадцати и сожалею, что вам не удалось ее видеть; она ходит каждый день за покупками в город и теперь тоже ушла, а я никогда почти не выхожу из сей горницы, занимаюсь музыкой и доволен своим состоянием.
Меня удивило, что люди соглашаются жить в 20 саженях от горизонта земли, не беспокоясь о том, чтобы когда-нибудь коснуться ее ногами.
Вечер я провел в саду, принадлежащем к сему замку. Говорят, что сад этот был насажен старым рыцарем, бывшим в замке хозяином; он находился в большом запустении: дорожек следов не оставалось, везде означались только остатки террас, но и те были почти разрушены.
В Галле мне понадобилось сходить в ратушу к бургомистру. Я нашел его в больших хлопотах, потому что он не мог объясниться с одним офицером какого-то ополченного казачьего полка, который возвращался в Гамбург. Расспросив офицера о корпусе, в котором он числился, я осведомился, что он знал отца моего, начальника Главного штаба тех войск, и на всякий случай просил его доставить записку к батюшке. Он взялся за сие, но я сомневался, чтобы записка моя дошла, потому что офицер был хмелен.
По прибытии в Потсдам, прогуливаясь по улице, я встретил общество прусских офицеров, которые увещевали одного из товарищей своих дать им обед ради его дня рождения и тащили его в трактир; они стали и меня приглашать.
– Sester Kamrad, – говорили они, – Sie werden heute ein vorteffliches Mittagessen haben wegen des Geburst-Tag’s unseres Landmannes.[224]
Я пошел с ними и хорошо отобедал; все подпили. Я воротился на свою квартиру, лег и уснул. Мне снились отец и брат Александр; казалось даже, что последний подле меня стоял, что я его обнимаю. Я проснулся и действительно был в объятиях Александра, который с трудом мог меня разбудить и не понимал, что со мной делалось, потому что я сонный на него бросался. Александр передал мне, что батюшка находился в Вандсбеке, что около Гамбурга, желал меня видеть и прислал 80 червонцев, которые Александр мне вручил. Вслед за этим пришел ко мне один из прусских офицеров, с которыми я обедал, и купил за 25 червонцев серую лошадь, которую я добыл в сражении под Фер-Шампенуазом. Итак, после крайней нужды, которую я терпел, у меня вдруг стало довольно денег, и нужды всякого рода миновались. Оставалось только проситься в отпуск к отцу. К счастию, случилось на то время, что Милорадович, корпусный наш командир, проезжал через Потсдам в Берлин с обер-квартирмейстером полковником Черкасовым, тем самым, с которым я имел несчастие служить в походе 1812 года. Я получил от него позволение ехать. Брат Александр на всякий случай взял из Гамбурга открытый лист для меня от генерал-майора Инзова, дежурного генерала у Бенингсена, и я с сим открытым листом проехал в Гамбург.
14 июля, в день моего рождения, я приехал в Вандсбек, где находился граф Толстой со своим штабом. Вандсбек от Гамбурга в четырех верстах и состоит весь из загородных домов. Я приехал довольно поздно вечером. Отец обрадовался мне. Я ездил из любопытства в Гамбург, где провел не более двух часов. В Вандсбеке заведена была между офицерами кегельная игра, в которой и я участвовал по утрам. Я завел по вечерам игру в бары, на которую штабные офицеры собирались по приглашению батюшки. Игра сия осталась у них в обыкновении и после моего выезда оттуда. Проведя пять дней в Вандсбеке, я поехал назад; дорогой заболел, но перемогся и продолжал путь свой. Я нагнал колонну в Бромберге. Мандерштерн уже прибыл к своему месту, привез жену свою из Франкфурта и следовал вместе с войсками.
Прусский король назначил на время обратного следования нашего через его владения сумму для привета нас балами и праздниками на дневках. В Грауденце нам дали бал, достойный замечания; на нем находились все генералы, штаб– и обер-офицеры легкой гвардейской кавалерийской дивизии. Приставом при нас со стороны прусского правительства был старый жандармский майор по имени Гейденброк.
Заготовляя дислокации для войск, я прежде всех прибыл в Грауденц, коего жители намеревались угостить нас как можно приветливее, к чему побуждал их старый комендант, полковник прусской службы, кавалер нашего Георгиевского креста. У ворот при въезде в город остановил меня часовой от караула, набранного из раненых гвардейских прусских солдат. Унтер-офицер вышел и спросил меня, кто я таков и как моя фамилия.
– Муравьев, – отвечал я.
– Wie? Murawieff! (Ему послышалось Major) Major, ja Major Herr Major, also ein Stabs-officier; deswegen belieben Sie ein klein Augenbliek zu warten. Schild-wache, ein Stabs-officier, also heraus soil geschriehen sein.[225]
Часовой закричал «heraus»,[226] и когда мне честь отдали, тогда унтер-офицер отпустил меня. Едва я остановился на квартире, как был атакован посланцами от коменданта, которые требовали от меня всех примет генерала Чаликова и сведений, в котором часу он въедет в город.
– Чаликов, – отвечал я им, – барон (потому что он имел австрийский крест Леопольда на шее); не делайте ему парадного приема, а отведите ему только покойную квартиру, и он будет доволен.
– Мы его примем по-своему, как сами знаем, – отвечали они, – а вас приглашаем сегодня на бал, который дается здешними жителями прибывшим из похода нашим вольноопределившимся егерям.
Я принужден был идти на бал. Вина лились в изобилии; дам мне не позволяли приглашать на танцы, а прусские офицеры спрашивали у меня, которая мне более всех нравилась; я им показывал красную или голубую, и тотчас отправлялся с их стороны посланец, который повещал даму, чтобы она ни с кем другим танцевать не смела, потому что господин русский товарищ, der Herr russische Kamrad, хочет ей честь сделать с ней танцевать. Однажды случилось, что я без их участия пригласил даму, которая не была из числа лучших собою. Пруссаки тотчас отказали ей и привели мне другую, прекрасную, с которой они просили меня протанцевать мазурку, о которой слыхали, но не знали фигур. Собрали еще три пары и стали в тесный кружок, который еще более стеснялся от напиравших зрителей; за мною стоял один офицер с бутылкой шампанского, беспрестанно наливая и заставляя меня пить, так что у меня начала голова кружиться. Я был в первой паре, а другие от меня фигуры перенимали. Когда я стал на колени, то, потеряв от шампанского равновесие, невольно нагнулся и упер рукой об пол, чтобы не растянуться. Пруссаки, думая, что это настоящая фигура, перенимали за мною.
Шиц по обыкновению своему напился как должно, чем-то обиделся и ушел; избегая дальнейших угощений, и я ушел, зазвав к себе человек пять прусских офицеров. Они оставили бал, пришли ко мне и нагулялись до такой степени, что их увели домой пришедшие за ними вестовые. На другой день был большой бал, о котором выше сказано. В самое время бала старый прусский комендант получил известие о производстве его из подполковников в полковники. По сему случаю Чаликов возобновил тост с поздравлениями. Полилось вино, и по данному каким-то уланским офицером примеру все опорожненные стаканы и рюмки вдребезги рассыпались у ног Чаликова, который кричал и по своей привычке много дурачился.
Из Грауденца мы следовали по театру войны 1807 года, через Гейльсберг, Гутштат, Фридланд. Мандерштерн, который в ту войну служил, рассказывал мне сражения на самых местах, где оные происходили. Под Фридландом, на самом поле сражения, выстроили для нас триумфальные ворота. В городе я видел дом, на стене которого изображен был год сего сражения ядрами, влепленными в стену, из числа подобранных на поле битвы.
Мы миновали Кёнигсберг и пришли к Тильзиту, где переправились через Неман и перешли свою границу. Я уже имел откомандировку в Петербург для приготовления дислокации войскам около Стрельны. Как ощутительна была разница при переходе в наши границы! Деревни были разорены и неприятелем, и помещиками; жители разбежались, бедность и нищета ознаменовали несчастную Литву. Несмотря на то, меня радовала мысль, что достиг родины, и я с нетерпением желал скорее возвратиться в Петербург, чтобы приступить к давно занимавшему меня делу.
Нашей колонне должно было идти через Митаву и Ригу, и я поехал по сей дороге. Хотя и предстояли большие затруднения в добывании лошадей по проселочным дорогам, однако я кое-как добрался на обывательских лошадях до Митавы и доехал до Риги, где вытребовал себе прогоны для дальнейшего следования.
В Риге я остановился в трактире «Лондон», в верхнем этаже. Ввечеру вошел ко мне человек, который просил меня от имени своего барина зайти к нему вниз.
– Кто твой барин? – спросил я.
– Поручик Кардо-Сысоев, лейб-гвардии Драгунского полка, который был ранен в сражении под Фер-Шампенуазом и теперь при смерти; он знаком с вами.
Я поспешил сойти вниз. Кардо-Сысоев сидел на канапе и был более похож на мертвеца, чем на живого человека. Он был ранен палашом в левую сторону груди близ сердца, и рана его была очень глубокая; в нее вставляли зонды, которые уходили вершка на два в тело. Когда он кашлял, то гной пузырями выходил из раны; нельзя было сомневаться в том, что ему оставалось мало времени прожить. Лекари от него уже отказывались, и мне оставалось только приготовить к смерти человека, который, казалось, сам не надеялся жить. Прежде всего, пришло мне на мысль удостовериться, имел ли он хотя еще искру надежды, в то время как он совершенно отчаивался.
– Вы мучаетесь, любезный, – сказал я ему, – завтра ожидаете смерти. Рассудите, не выгоднее ли вам было бы застрелиться. Я сейчас пошлю за своими пистолетами и дам вам средство прекратить свои страдания, которые, по словам вашим, должны непременно прекратиться смертию завтрашний же день.
Слова сии произнес я с решительным видом. Он посмотрел на меня, опустил голову и задумался.
– О чем вы думаете? – сказал я ему. – Вы только длите свои страдания; решитесь поскорее!
Он посмотрел опять на меня, улыбнулся и отвечал:
– Не могу на это решиться, хотя и уверял вас, что желаю в сию же минуту смерти.
– Мне только этого и надобно было, – сказал я ему. – Теперь успокойтесь: вам пистолеты не нужны; ваши собственные слова доказывают вам, что вы имеете надежду ожить; пускай эта надежда служит вам способом к исцелению. Положитесь на Бога: Бог вас спасет, и мы с вами в скором времени будем видеться.
Сысоев, доселе мрачный и задумчивый, с последних слов моих повеселел. Он называл меня добрым товарищем и искренно сожалел, что мне на другой день надобно было уехать. Он был один, без знакомых, среди немецкого народа, где не встречается гостеприимства. Я уехал из Риги с полным уверением, что Кардо-Сысоев на другой же день умрет; но вышло противное: в походе 1815 года, когда я был в Вильне дивизионным квартирмейстером легкой гвардейской кавалерийской дивизии, вбежал в мою комнату драгунский офицер, полный, красный, здоровый и стал меня обнимать. Я сперва удивился такому обращению незнакомого человека, но еще более удивился, когда он мне сказал с упреком, что не хочу более знаться со своими старыми товарищами, но что он никогда не забудет того приятного вечера, который я ему в Риге доставил своим посещением и как я его побуждал застрелиться.
– С тех пор, – продолжал он, – надежда истинно поселилась во мне; я почувствовал облегчение на другой же день, уверился, что выздоровею, и, как видите, я выздоровел.
Приехав в Стрельню, я пошел к Куруте, который приказал мне явиться к великому князю. Константин Павлович обошелся со мной приветливо и спросил с жаром, в каком состоянии я оставил полки?
– Лошади едва тащатся, ваше высочество.
– Как! Что это такое? От чего?
– От жира, ваше высочество.
Константин Павлович остался доволен и опять спросил меня, много ли в полках беглых. В Конной гвардии их всего более было. Когда я ему это сказал, он отвечал:
– Неправда, сударь; в Конной гвардии менее бежало, чем в других полках, а из Кавалергардского полка бежало шестьдесят человек. Садитесь со мной, мы поедем к Дмитрию Дмитриевичу.
Он взял меня в свою коляску, приехал к Куруте и пересказал ему все мои слова, был очень весел, шутил, называл меня своим домашним.
Мне надобно было ехать в Петербург. Я отпросился у Куруты на три дня и отправился. Крепко билось сердце мое, въезжая в заставу. Я почти не верил, что я в Петербурге. Остановившись под горкой, в доме дяди моего Николая Михайловича Мордвинова, который тогда в деревне был, первая забота моя была узнать, в городе ли адмирал с семейством, и я узнал, что он приехал в Петербург из Пензы накануне моего приезда. Я поспешил к нему и увидел прелестную дочь его, которая меня так сильно занимала и которой я давно не видал. Я нашел ее еще лучше прежнего и еще более прежнего полюбил ее, но, по застенчивому нраву моему и кратковременному пребыванию в Петербурге, я не нашел случая объяснить ей мою страсть и намерение. Мне казалось, что она была неравнодушна ко мне, и я не ошибался, но по скромности я не мог в том убедиться.
Забыл, между прочим, сказать, что, по первом прибытии моем в Стрельню товарищ мой Даненберг поздравил меня гвардейским офицером. Государю угодно было основать Гвардейский генеральный штаб из 25 человек штаб– и обер-офицеров, в числе коих были мы три брата и Даненберг.
Я прожил две недели в Стрельне, в маленькой каморке с Даненбергом, на антресолях над комнатой Куруты и более ничего не видал, как ежедневные учения. Ужасная скука меня обуяла, и я дожидался только отъезда Его Высочества в Варшаву, чтобы самому уехать в Петербург. Даненберг готовился, напротив того, остаться при великом князе и занимался с утра до вечера. Ему поручено было обучать человек 15 из дворянского полка и начертить все построения кавалерии (те самые, которые ныне напечатаны). Он с большим прилежанием исполнял возложенное на него поручение. Великий князь его любил и был к нему особенно милостив.
Из Стрельны я был командирован на четыре дня в деревни Его Высочества для обозрения оных и приготовления дислокации для легкой гвардейской кавалерийской дивизии, которая постоянно там на квартирах стояла. Селения сии находились в крайнем положении; крестьяне были разорены от беспрерывных работ в Стреленском саду. При всем этом великий князь был добр и многим помогал. Получая от государя 850 000 рублей в год, у него никогда недоставало сих денег, не от того, чтоб он мотал (ибо он жил скромно), но он содержал всю Стрельну своими собственными доходами, населив ее бедными отставными офицерами, унтер-офицерами, вдовами и сиротами, и делал им, кроме годовой положенной пенсии, пособие деньгами из суммы, хранившейся у Даненберга. Когда я ездил по деревням великого князя, я нашел селения, где выстроились на иждивение Его Высочества полумызки, в которых жили отставные раненые из военнослужащих, получавшие от 300 до 500 рублей пенсии. Люди сии благословляли Константина Павловича и принимали меня наилучшим образом, желая тем доказать свою преданность к нему. Не должно верить всем слухам, распущенным на счет его гвардейскими офицерами, которые сердились на него более за то, что он не любил упущений по службе. Его представляли извергом, но Константин Павлович имеет добрую душу…
Во время проезда моего через деревни великого князя я был в Ропше и ночевал у тамошнего управляющего армянина Лалаева.
Великий князь уехал из Стрельны в Варшаву, помнится мне, 7 сентября. Накануне того дня Курута призвал меня к себе и уговаривал ехать с великим князем в Варшаву. Я отказывался, прося его более о том не настаивать, дабы не склонить меня, по чувству благодарности, коей я был обязан Его Высочеству.
– Константин Павлович, – сказал Курута, – считал на вас, как на каменную гору, полагая вас своим домашним, но если вы ехать не хотите, то будьте не менее того уверены, что мы к вам будем всегда хорошо расположены. Прошу вас, однако же, по-дружески объяснить мне причину тому, что вы нас оставляете.
Я долго не решался объясниться ему, но, наконец, тронутый его ласками, обнаружил намерение мое жениться.
– Вы еще так молоды, – сказал Курута, – но делать нечего, и не должно вам препятствовать в таком деле.
На другой день Курута отпустил меня в Петербург, приказав явиться к генерал-адъютанту Сипягину, который был тогда начальником штаба отдельного гвардейского корпуса.
Гвардейских полков еще не было в Петербурге. Сипягин старался вступить во все права, принадлежавшие званию начальника штаба, и с полной властию управлял гвардейским корпусом. Обер-квартирмейстером при корпусе был полковник Черкасов, тот же самый, с которым я имел несчастье служить в 1812 году. Глаза мои не терпели его; никто из офицеров и после собравшихся не мог видеть его. Не знаю, какими судьбами случилось, что его вскоре откомандировали на съемку в Финляндию, где он еще до сих пор находится. На место Черкасова поступил сначала полковник Гартинг, которого сменил подполковник Мандерштерн, добрейший человек и храбрейший офицер, но отчасти бестолковый. Наши русские офицеры Генерального штаба охотно помогали ему, потому что его любили. Напротив того, немцы, которые у нас в корпусе были, видя слабость Мандерштерна, пользуясь ею, уклонялись от своего дела и не пропускали случая воспользоваться ошибками человека, который по душевным свойствам своим заслуживал всякого уважения.
Русское общество офицеров состояло из: 1) старшего брата моего Александра, который был капитаном гвардии и приехал осенью из Любека на корабле; 2) капитана гвардии Траскина, доброго, но простого малого, который вышел подполковником в Серпуховской уланский полк в 1815 году; 3) капитана гвардии Глазова из бывших моих колонновожатых, в сущности доброго малого, но, находившись при 1-й уланской дивизии в местечке Невеле, где он был лишен нашего общества и по примеру уланских офицеров стал пить и повесничать; он кончил тем, что его перевели тем же чином в армию; 4) гвардейского поручика Лукаша, опередившего меня старшинством по службе, хотя был также из числа моих колонновожатых, добрейшего товарища и хорошего офицера; 5) гвардейского прапорщика Бурцова, теперь штабс-капитана, прибывшего с братом Александром на корабле из Любека; 6) Свиты Его Величества поручика Окунева, доброго малого, но простого. Круг немцев состоял из гвардейского штабс-капитана Берга, человека неглупого, но для службы бесполезного и дурного товарища; барона Деллинсгаузена, Ревельского уроженца, человека неприятного, и Мейендорфа Рыжего; он был в начале 1812 года в звании колонновожатого моим учеником и приятелем. Когда он был к нам назначен, то пристал к партии Берга и не хотел более со мной знаться.
Русские были всегда вместе и не жаловали немецких сослуживцев своих, особливо Берга, который постоянно уклонялся от службы, вышел в чины побочными путями, ничего не делая, и мало беспокоился о том, что товарищи несли за него службу.
Занятия наши по службе состояли в черчении планов для кампании 1812 года, которую Сипягин хотел описывать, и в беспрерывных парадах, которые государь делал, маневрируя по всему городу. Мы должны были соображать сии маневры, рассчитывать время движений с местностью, то есть с направлением и длиной улиц, предварительно расставить раза два квартирьеров по площадям и улицам, после того поставить войска и, наконец, пропарадировать перед дивизиями, при коих состояли. Каждый парад занимал у нас три дня; надобно было писать дислокацию, представить проект государю, участвовать в параде и, наконец, занести планы оного в журнал парадов, который велся для государя. Мне поручена была описательная часть, и я имел дар употребить для трех парадов две дести[227] бумаги: труд, который мне поставили в заслугу. Наши русские офицеры, которые исключительно исправляли сии должности, наметались к ней, и государь за то полюбил наш корпус. Другое занятие наше по службе было – дворец, в котором мы должны были часто показываться на выходах, и, наконец, развод с церемонией.
Когда я приехал в Петербург, брат Михайла находился на Кавказских водах, где он лечился от раны. Дядя Мордвинов был в деревне, и так как у меня не было денег, то я решился написать к Булатову, управляющему делами отца в Москве. Он прислал мне тысячу рублей, с коими я начал устраиваться. Я переехал на казенную квартиру в Кушелева дом и вел умеренную жизнь; ездил довольно часто к адмиралу, коего вторая дочь Вера была уже выдана замуж за Столыпина Аркадия Алексеевича. По природной застенчивости моей, я не объяснился с Натальей Николаевной, да и не мог ни к чему приступить, не зная еще, что мне отец даст, и не имея никого из близких в Петербурге, чтобы помочь мне в предстоявшем деле.
Вскоре я был командирован с Сипягиным на встречу полкам легкой гвардейской кавалерийской дивизии и для расквартирования лейб-гвардии Конно-егерского полка в Старорусском уезде. Дивизия возвращалась через Ригу, а Конно-егерский полк через Псков. Я встретил дивизию, не доезжая несколькими станциями Риги, отдал бумаги и дислокацию Чаликову, возвратился в Нарву, а из Нарвы поехал в Псков через Гдов малой почтовой дорогой. Дорога сия была совсем почти глухая и вела через дремучий лес, называющийся Сороковым бором, наполненный зверями и, говорили, беглыми солдатами, которые разбойничали и из коих мне удалось одного схватить. Выезжая из Нарвы, я увидел человека, который пробирался садами и лазил через изгороди, чтобы миновать улицу и выйти на Гдовскую дорогу. Он был в рекрутском платье. Я нагнал его и остановил. Он говорил, что имеет паспорт, но на место оного показал мне запечатанное письмо, адресованное в Шлюссельбург; он же шел из Петербурга. Когда я его стал расспрашивать, то он путался в речах, почему я схватил его и отдал в Нарвский магистрат.
Прибыв в Псков, я узнал, что генерал-майор Потапов уже прошел со своим Конно-егерским полком через город. Я нагнал его на второй станции по Петербургской дороге, отдал повеление идти в Старую Русу, а сам поскакал в Новгород к губернатору, Николаю Назаровичу Муравьеву, чтобы устроить с ним расквартирование полка в уезде. Из Новгорода я проехал в Старую Русу, где сделал дислокацию с помощью тамошнего землемера, Силы Семеновича Рудометова; потом, дождавшись квартирьеров, возвратился в Петербург через Лугу.
Когда брат Александр приехал с Бурцовым из Любека, он сперва жил особо от меня. С ними приехал некий Оксфорд с семейством, бывший органист в Лейпциге, у которого были три прекрасные дочери; из них в меньшую был страстно влюблен младший брат Бурцова, который впоследствии и женился на ней тайным образом и увез все немецкое семейство к себе в деревню, через что произошло в семействе их расстройство. Теперь, однако же, все помирились и живут согласно.
Однажды, сидя с братом и Бурцовым, нам пришло на мысль жить вместе, нанять общую квартиру, держать общий стол и продолжать заниматься для образования себя. С другого же дня все отправились ходить по улицам для отыскания удобного помещения. Бурцов нашел квартиру в Средней Мещанской улице, где мы и поместились. Каждый из нас имел особую комнату, а одна была общая; в хозяйстве соблюдался порядок под моим управлением в звании артельщика. Мы старались исполнять службу свою самым ревностным образом, занимались между тем и дома в свободные часы. В таком положении мы приятно проводили время до выступления в поход в 1815 году. Мы постоянно обедали дома, имея за столом нашим всегда место для двух гостей. Стол был не роскошный по ограниченности наших средств, но мы жили порядливо и соразмерно своим доходам. Когда брат Михайла приехал с Кавказских вод, он поселился вместе с нами. Появились у нас учителя. Александр и Бурцов взяли турецкого учителя, но скоро бросили его; они же двое и я стали учиться по-итальянски. Михайла стал со мною учиться латыни, но я сбил оба языка вместе, спрягал итальянскому учителю по-латыни, а латинскому по-итальянски и не выучился ни которому из них. От общества нашего получал я иногда замечания за нерадение к занятиям и лень, но мысли мои в то время обращены были к иному предмету.
Я часто ходил к адмиралу, и старания мои не были тщетны, как я то впоследствии узнал, но скромность дочери его была причиной, что я тогда оставался в недоумении. Решившись приступить к делу, я предположил, прежде всего, увидеться с отцом, чтобы узнать, сколько он мог уделить мне для женитьбы. Батюшка к тому времени только что приехал в Москву из Гамбурга и был произведен в генерал-майоры. Между тем я должен был также хлопотать о братьях, ибо мы все были без средств к жизни. Собрали мне денег на прогоны; я взял отпуск и был готов к отъезду, как узнал, что Н. Н., которая за несколько дней перед тем заболела, была уже при смерти. Я был в отчаянии, мне хотелось увидеть ее, но это было невозможно. Я решился остаться в Петербурге и не ехать в Москву, но Бурцов уговорил меня, обещаясь присылать ко мне частые и верные известия о ее болезни. Отъезжая, я запечатал бумаги свои и надписал их на имя брата Михайлы, потому что думал лишить себя жизни при известии о ее смерти. Бурцов сдержал свое слово и извещал меня. Н. Н. выздоровела, но долго еще оправлялась от своей болезни.
По приезде моем в Москву я был холодно принят отцом. Он находил имение свое расстроенным от управления поверенного его Булатова. Батюшка был, однако же, обязан ему тем, что, когда князь Урусов умер, что случилось во время отсутствия батюшки с ополчением в Германии, родственники покойного скрыли его духовное завещание; но Булатов, как ловкий человек, добился и обнаружил завещание, через что доставил батюшке назначенную ему часть наследства, благоприобретенного имения. Завелся процесс касательно серебра, которого было на 120 000 рублей. В завещании князя было сказано, что весь московский дом и все, что в оном находится или к оному принадлежит, назначается Муравьеву. Завещание было писано в Москве, а князь умер в Нижнем Новгороде, куда он переселился в 1812 году, и все серебро было туда же вывезено из Москвы по случаю нашествия неприятеля. Родственники его придрались к этому обстоятельству и требовали серебра себе, потому что оно не находилось уже в московском доме. Процесс этот и дело о наследстве стоили батюшке уже до 40 000 рублей, когда он возвратился в Москву. Желая прекратить процесс, он повидался с родственниками князя Урусова и уговорил их на медиаторской суд. Избрали в медиаторы Львова, который решил, чтобы спорное серебро разделить на три части между тремя истцами. Итак, отец мой остался при процентах, которые он должен был платить за сделанные Булатовым 40 000 рублей долгу. Не менее того Булатов достигнул полного доверия батюшки и, вмешиваясь в семейные наши дела, навлек на нас неудовольствие отца. Он уверял батюшку, что мы мотаем, и до такой степени сделался нагл, что подал отцу большой счет денег, издержанных будто меньшим братом Михайлой во время пребывания его в Москве, когда он проезжал на Кавказские воды. Счет сей был написан без всякого соображения, и всем предметам выставлены ни с чем несообразные цены; впоследствии оказалось, что брат ничего об оном не знал.
Когда батюшка возвратился из армии в Москву, он собрал своих учеников и начал по-прежнему преподавать им математику. К нему вступило много и новых учеников, в числе коих был молодой человек Н. Ф. Бахметьев, внук Нарышкиной Елены Николаевны, старой московской барыни. Батюшка непременно хотел, чтобы я ей представился; я исполнил его желание и был очень ласково принят. Старуха желала меня чаще у себя видеть, возила меня по вечерам и рассказывала о достоинствах своей внучки, сестры Бахметьева, которая у нее жила. Явно было, что ей хотелось выдать внучку свою за меня замуж, как то в Москве водится. Анна Федоровна Бахметьева была не дурна собою, 16-ти лет, имела 500 или 600 душ и получила хорошее воспитание, но у меня не она на сердце была, и я старался отделываться. Дело до того было дошло, что Азбукин, бывший товарищ брата Александра, возвратившийся к тому времени из похода в Москву и коротко знакомый в доме Нарышкиной, объявил мне однажды, что если я хочу на Бахметьевой жениться, то мне стоило только слово сказать; но я уклонился от сих предложений. Перед выездом моим из Москвы я был на свадьбе Азбукина, который женился на Юшковой, родственнице Нарышкиной. Я с удовольствием проводил вечера у Азбукина, где познакомился с Жуковским, его родственником.
В бытность мою в Москве я часто бывал у Колошиных, которые принимали меня как родного. Тут я познакомился с фон Менгденом, полковником лейб-гвардии Финляндского полка, которому мать Колошиных была тетка. Меня поневоле возили по балам. Наконец, когда срок моего отпуска прошел, я поторопился уехать, ибо мне в Москве становилось скучно. В Твери я разъехался с братом Михайлой, который во второй раз ехал на Кавказские воды; но он, узнав на станции, что я проехал, возвратился в Тверь, где мы провели ночь вместе.
Н. Н. оправлялась от своей болезни. Я решился приступить к предложениям. Я просил батюшку написать к адмиралу письмо, что он сделал, а дядю Мордвинова просил изустно объявить адмиралу мои намерения. Адмирал не отвечал на письмо моего дяди, а обещался приехать к нему в назначенное время и объяснить ему свои мысли по сему предмету. При свидании с дядей он сказал, что ему весьма приятно было бы видеть дочь свою в супружестве со мною, но что для сего надобно бы еще несколько подождать, ибо мы оба были еще очень молоды; впрочем, он просил меня чаще к нему в дом ездить, дабы я мог короче с его дочерью познакомиться и дабы он сам мог бы меня короче узнать. Отцу моему он отвечал письмом.
Это было в начале 1815 года, когда гвардия выступила в поход по случаю войны, вновь возгоревшейся между Францией и Европой, по возвращении с острова Эльбы Наполеона. Мне также предстоял поход с легкой дивизией. Ответ адмирала и жены обнадеживали меня в успехе. Я почти каждый день бывал у них, и они принимали меня ласково и давали мне книги для чтения и образования моего. Причудливо казалось мне видимое намерение их, но я повиновался им с удовольствием, ибо видел доброе расположение и оказываемое мне доверие. Дочь их знала о сделанном мною предложении и краснела всякий раз, как я к ней подходил; старшие же ее сестры улыбались и тем увеличивали ее замешательство. Жена адмирала, Генриетта Александровна, несколько раз поручала Корсакову сказать мне, чтобы я себя берег в предстоявшем походе и что если я возвращусь тем же чином, то сие не послужит препятствием к достижению моей цели.
Накануне выезда моего из Петербурга я провел вечер у адмирала. Я тогда помышлял более о тех очаровательных минутах, которые я мог провести в разговоре с нею. Меня смущала только мысль, что должен надолго расстаться с той, которая одна могла составить мое счастие. Желая скрыть свое смущение, я сел к фортепиано и долго играл на них, не вставая с места. Сердце мое сжималось, и я боялся голову поднять, чтобы не обнаружить волнения души моей. Казалось, что все семейство принимало во мне участие. Молча собирались около меня или ходили по комнате. В таком положении я дождался сумерек, чтобы лучше скрыть печаль, выражавшуюся у меня на лице, и, тогда удерживая слезы, встал, в коротких словах простился со всеми и хотел выйти, но адмирал удержал меня за руку, сказав:
– Partez, m-r Mouravieff; soyez heureux, revenez plus tôt et soyez sûr que vous emportez notre estime, c’est tout ce que je puis vous dire.[228]
Я не мог ни слова отвечать, потому что был слишком смущен. Жена его хотела тоже что-то сказать, но была тронута и промолчала. Я был уже в дверях, когда Николай Семенович опять остановил меня.
– Николай Николаевич, – сказал он, – прошу вас беречь себя; будьте уверены в нашем уважении к вам. Прощайте, желаю вам всех возможных благ, – и в другой раз обнял меня.
Все семейство около меня собралось. Мы простояли еще несколько времени в глубоком молчании, после чего я вышел. Корсаков проводил меня, и мы пришли вместе домой. Я просил его доставить своей тетке письмо, которое я при нем же написал.
Написав сие письмо, я несколько успокоился. Корсаков вышел от меня в полночь. Я не мог уснуть до рассвета и, встав с постели, приказал лошадей вьючить, чтобы выехать.
Часть шестая Со времени выступления в поход в Вильну до выезда моего из Петербурга в посольство Персидское Пятая кампания до Вильны
Гвардейский корпус, выступая в поход, был разделен на несколько колонн, при каждой из коих находили сь наши офицеры. Брат Александр, я и Бурцов, мы были прикомандированы ко второй колонне, которая шла через Нарву, Гдов и Псков до Вильны. Александр был старший, он поехал вперед с Бурцовым для заготовления дислокации войскам, а меня оставил в Петербурге на один день для окончания некоторых дел. Прощание мое с адмиралом и семейством его случилось в этот самый день.
Прибыв в Красное Село 28 мая в 7-м часу вечера, я приказал кормить лошадей, а сам растянулся на лугу. До тех пор воображение мое развлекалось движением, но коль скоро телесное спокойствие позволило ему действовать, оно начало блуждать. Красоты природы, закатывающееся солнце, жалостный крик кулика, отдаленный звук барабана на заре, ничего не могло произвести во мне той тихой меланхолии, которая часто услаждает встревоженную душу Мне представлялись ужасные картины. Мне в мысль приходило возвратиться в Петербург и увезти ее, куда и как сам не знал. В 11 часов вечера я поехал далее, крайне расстроенный сердечной тоской своею и в полночь прибыл на станцию Кипень. Под самый бой стенных часов вошел в комнату Петр Колошин, который выехал из Петербурга в один день со мной, следуя по почте в Париж, но по свойственной ему беспечности не заметил, как пьяный извозчик его проблуждал в проселочных дорогах и, наконец, попал в Кипень. Я был чрезвычайно обрадован его приезду, бросился обнимать его как избавителя моего одиночества и, рассказав ему все со мною случившееся, немедленно отправился нагонять брата, которого настиг в тот же день уже во 106 верстах от Петербурга на ночлеге. Тут я стал покойнее и продолжил с ним путь вместе до Нарвы. Мы ехали двумя днями впереди войск, заготовляя для них дислокации. Мне предстояло мало дела, и потому и занимался охотой, имея товарищем славного Бурцова, с которым я пришел в три перехода пешком из Нарвы в Гдов. Охота наша нам немного приносила, но мы соревновали друг другу в бодрости. Неутомимый товарищ мой, по прибытии на ночлеги, не упускал из виду обычного своего волокитства, которое ему также не удавалось, как нам обоим охота.
Не доходя еще Пскова, мы следовали через Сороковой бор, обширный лес, о котором я уже упоминал. На ночлеге в селении Яме мы узнали, что верстах в пятнадцати в лесу была деревня Платона Ивановича Муравьева, нашего дальнего родственника, там проживавшего. Я его никогда не видел, но так как у нас был недостаток в съестных припасах, то я письмом просил его прислать нам оных. Муравьев сам приехал и звал меня к себе ночевать. Мне совсем не хотелось после большого перехода еще ехать за 15 верст, чтобы уснуть, но я принужден был сие сделать из признательности за припасы, которые мы получили. На другой же день мне довелось проехать одному более сорока верст лесом и песками, чтобы нагнать брата на следующем ночлеге.
По прибытии нашем в Псков я, с согласия брата Александра, поехал к дяде Николаю Михайловичу Мордвинову, который проводил лето в деревне в Порховском уезде; я провел у него дня три и нагнал брата в Острове. Из Острова мы следовали на Люцин и Режицу. В Режице присоединился к нам молодой человек Каменской с повозкой и вещами Берга, который письмом просил брата взять на свое попечение сего Каменского, имевшего по прибытии в Вильну определиться на службу под покровительством Берга.
Из Режицы брат Александр поехал вперед в Вильну, чтобы приготовить там с обер-квартирмейстером Мандерштерном дислокации для своей колонны, а мне поручил исправление его должности при колонне. Мы следовали через Динабург, где Бурцов познакомил меня с одним пионерным капитаном Шевичем, который был известен по буянству и храбрости и о котором я упомянул при описании Бородинского сражения.
В Динабурге встретил нас адъютант Сипягина Леман, который ехал из Варшавы в Петербург и известил нас о победе, одержанной союзными войсками под Ватерлоо, о занятии Парижа и о прекращении военных действий. Нам прискорбно было узнать, что гвардия не перейдет границ наших.
Переправившись через Двину, я заехал на мызу к одному курляндскому помещику Кайзерлингу, с которым познакомился, и, позавтракав у него, поехал далее. Со следующей станции Бурцов тоже оставил меня и уехал для размещения 2-й гвардейской дивизии около Свециян. И так я остался один с Каменским. Я поспешил приехать в Козачизну, где мне был несколько знаком помещик Каминской, о котором я упомянул в сих записках при начале кампании 1812 года. Он узнал меня и принял самым гостеприимным образом. Мне отвели квартиру в беседке в саду, где я провел дней пять весьма приятным образом. Тут, в тишине и уединении, старался я с памяти изобразить кистью черты той, которой лик не оставлял моего воображения. Терпение мое не истощилось после многих испытаний, и мне наконец удалось нарисовать на кости тот образ, с коим мысли мои не разлучались. Я оставил Козачизну с приятным воспоминанием, как о пребывании в сем месте, так и об удаче, коей достиг в предпринятом мною заочно миниатюрном портрете, и спешил соединиться с товарищами.
Бурцов был в Вильне свидетелем поединка, случившегося между нашим капитаном Глазовым и поручиком Литовского уланского полка Леслеем. В начале 1812 года Глазов, находясь в Вильне, был знаком с одной девушкой, которую он и посетил в 1815 году, только чтобы видеть ее. Он был во фраке. Выходя от нее, он встретился с тремя уланскими офицерами 1-й уланской дивизии, при которой он находился, двумя братьями Степановыми и Леслеем, которые его только в лицо знали. Леслей был когда-то знаком по пансиону с Бурцовым, вступил после в военную службу, никогда при полку не находился, а все шатался по столицам и играл в карты. Глазов уступил им место; они раскланялись и разошлись. На другой день Леслей встретил Бурцова на гулянье, они узнали друг друга. Бурцов позвал Леслея к себе, и между разговором Леслей стал хвалиться, что накануне вытолкал Глазова из непотребного дома так, что он пересчитал лбом все ступени лестницы. Бурцова поразил этот рассказ.
– Не может быть, – отвечал он, – наши офицеры не бывают в таких домах и никогда не позволяют себя вытолкать, откуда бы то ни было.
– Уверяю тебя, – сказал Леслей, – я это Глазову самому в глаза скажу.
Они разошлись. Бурцов поспешил к брату моему и передал ему слова Леслея. Александр, как старший в товарищеском обществе нашем, послал за Глазовым, который, удивляясь слышанному, оправдывался перед товарищами, требовал, чтобы Леслей ему это в глаза сказал, и просил брата доставить ему от Леслея удовлетворение за такую обиду. Александр, Бурцов и Глазов пошли отыскивать Леслея и нашли его в трактире пьяного, со многими офицерами своего полка. Бурцов подошел к Леслею и потребовал, чтобы он при Глазове пересказал то, что он от него наедине слышал.
– Где он? – закричал Леслей. – Покажите мне эту каналью, чтобы мне его в глаза разругать, как следует, – и начал бранить Глазова самыми мерзкими словами.
Тут Александр вступился и, обратясь ко всему обществу офицеров, представил им неприличие такого поступка, когда можно было дело кончить по порядку, как между благородными людьми водится. Офицеры хотели унять Леслея, но не могли. Брат удержал Глазова, который также пустился было в бранные слова; он сказал уланским офицерам, что он постарается застать Леслея в трезвом положении, чтобы сделать ему предложение о поединке, которое он не понял бы в пьяном виде, и ушел. Леслей провожал Глазова с ругательствами, повторяя их даже в окошко на улицу. Глазов возвратился в сильном огорчении, но был утешен товарищами, которые обещались доставить ему требуемое удовлетворение. Ввечеру Александр отыскал квартиру Леслея, застал его дома и объявил ему, чтобы он готовился на другой день с рассветом быть на Маркуцишках, за городом, с секундантами и пистолетами.
– Я не дерусь на пистолетах, – отвечал Леслей. – Мое оружие сабля, и вы можете сказать Глазову, что ею я отрублю ему уши.
Леслей был еще в пансионе известен ловкостью своей в фехтовании на саблях, Глазов же не имел о том понятия.
– Обида слишком значительна, – отвечал брат Александр, – и не может удовлетвориться столь слабым оружием. Господин Глазов готов с вами насмерть драться; он избирает сильнейшее оружие, и вы должны на то согласиться по принятым правилам поединка.
– А я не соглашаюсь, – отвечал Леслей.
– Хорошо, – сказал Александр, – если вы боитесь стреляться, так я скажу о том Глазову и передам вам ответ его, – и вышел от него к ожидавшим его товарищам, которым передал слова Леслея.
Глазов настаивал, чтобы поединок был на пистолетах, но как противник его никак не соглашался, то уговорили Глазова удовольствоваться саблями и Леслею в тот же вечер объявили, чтобы он на другой день явился на рассвете к назначенному месту с двумя секундантами и сколько ему угодно будет свидетелями из офицеров его полка.
На другой день Глазов пришел на назначенное для поединка место с братом моим Александром, Бурцовым и офицерами Генерального штаба как свидетелями; в числе последних был Берг, которого не любили и от которого можно было ожидать того поступка, коим он вскоре заявил свое предательское направление. Избранное место было за городом, близ одного эскадронного двора Литовского уланского полка, который в тот день из Вильны выступал. Уланские офицеры подали завтрак и угощали наших, но Глазов ничего не касался, дабы быть в себе более уверенным. Через час прискакал Леслей в четвероместной карете с двумя братьями Степановыми, которые были его секунданты.
– Где он? – закричал Леслей, выскочив из кареты.
– Я здесь, – отвечал Глазов хладнокровно, – и дожидаюсь вас более часа. Вы боялись со мной стреляться; снисхожу вам и дерусь с вами на саблях насмерть.
Хладнокровие Глазова изумило Леслея, который выпил водки и стал против Глазова, подняв саблю. Глазов не пошевелился и, посмотрев на Леслея, сказал ему:
– Господин Леслей, вы видите, что я без кафтана, скиньте и вы свой.
Леслей затрясся.
– Я скину, – отвечал он и стал снимать колет. – Мы ведь деремся, – продолжал он, – с уговором, чтобы по лицу не бить?
– Я не делал такого уговора, – отвечал Глазов, – дерусь с вами насмерть и бью по чем мне угодно. Не забудьте, что вы шейного платка еще не скинули, а что я свой скинул; скиньте, сударь, платок.
– Я скину, – отвечал Леслей, причем руки его так задрожали, что он едва мог развязать узел.
– Скиньте, сударь, шапку, – закричал ему Глазов, – вы видите, что я без фуражки.
Леслей так оробел, что не в состоянии был сего сделать; секунданты его Степановы скинули с него шапку и бросили ее в сторону. После всех сих приготовлений Глазов поднял саблю. Леслей размахнулся, чтобы его ударить, но Глазов отвел удар и одним махом разрубил ему палец, локоть и голову. Последняя рана, невзирая на плохую саблю Глазова, была жестокая; головная часть черепа была как бы распилена, от правого уха вверх к левому. Но Леслей, упадая, мог еще произнести:
– Ты бил! – сопровождая слова сии руганиями.
Затем он лишился чувств. Все полагали, что он тут же умрет; однако же его отвезли домой, он долго был болен, страдал припадками падучей болезни, но наконец выздоровел. Наши офицеры, узнав, что он нуждался в деньгах, сделали для него складчину и помогли ему. Берг, который присутствовал на поединке, поспешил к Сипягину и рассказал ему о случившемся, дабы выслужиться перед ним новостью; но Сипягин поступил благородно, скрыв тогда сие происшествие, о котором он позже доложил великому князю и так, что оно не имело никаких последствий; Берг же навлек к себе еще более негодование товарищей. Брат Александр ходил после поединка к дивизионному командиру 1-й уланской дивизии, генерал-майору Крейцу, который, узнав о гнусном поступке своего офицера, сказал, что не оставит его у себя в дивизии. Когда мы выступали из Вильны, то Леслей оставался еще больным. Секунданты его Степановы изъявили перед нашими офицерами негодование свое на Леслея за его гнусное поведение, как до поединка, так и после оного.
В течение похода нашего в Вильну произошло много поединков в гвардейских полках.
Бурцов оставил меня и уехал в Козачизну для размещения войск на кантонир-квартиры, я же поехал в Вильну, где нашел своих товарищей. Мы жили вместе и дружно собирались обедать у Траскина, избранного нами в артельщики. Когда полки легкой гвардейской кавалерийской дивизии начали приближаться к Вильне, Сипягин послал меня чрез Новые Троки в разные местечки и селения для осмотра их и размещения дивизии. Я объездил свою дистанцию в четыре дня и возвратился в Вильну, где продолжал по-прежнему проводить время в кругу товарищей, при весьма малых занятиях по службе.
В то время был комендантом в Вильне нынешний тифлисский военный губернатор Роман Иванович Ховен; он тогда был подполковником. Увидев меня ныне здесь, в Тифлисе, он вспомнил и назвался моим знакомым. Правда, что я его только один раз видел в Вильне и то в чертежной, где мы более занимались рисованием карикатур, нежели черчением планов. В это самое время Ховен зашел к нам по какому-то делу с Мандерштерном. Вмиг явились карикатуры его, которые я роздал товарищам своим и наклеил даже одну на окошко. Ховен, кажется, заметил это, ворочался на все стороны и, везде встречая лик свой как в зеркале, решился уйти. Выходя из комнаты, он произнес с досадой: «Чернильная команда!» – на что ему отвечено было общим хохотом. Более я его тогда не видел. Теперь же, назвавши меня старым своим знакомым, он принимает меня приветливо. Я не участвовал в общих виленских веселиях и был только один раз у Милорадовича на балу, который он давал в доме Миллера, что на углу Немецкой и Троицкой улиц.
Когда гвардия получила повеление возвратиться в Петербург, то корпус опять был разделен на колонны, из коих при первой находились наши офицеры для заготовления дислокаций. Траскин шел с колонной, идущей через Полоцк, Великие Луки, Порхов и Лугу в Петербург. Я просил, чтобы меня к сей колонне прикомандировали, дабы заехать в другой раз в деревню к дяде Мордвинову. Поэтому я ездил в село Никольское, где провел более двух недель у своего дяди. Он возобновил обещание свое принять участие в моем деле по возвращении в Петербург. Я встретил Траскина в Порхове и виделся там с Сипягиным в проезд его через сей город в столицу.
По прибытии нашем в Петербург я нашел брата Александра и Бурцова уже возвратившимися; они уже наняли квартиру для нас всех вместе на Грязной улице, в доме генеральши Христовской. Для порядка в обществе нашем были приняты правила с общего согласия; я был избран в казначеи и артельщики. Мы обедали большей частью дома, жили порядливо, умеренно и были довольны. Занимаясь поутру службой или образованием своим, мы проводили вечера вместе, в беседе. Начальником был у нас человек, любимый своими офицерами. Общество наше состояло из старшего моего брата, меня, Михайлы, который возвратился с Кавказских вод, Бурцова и двух Колошиных. Я первый оставил дружное братство наше, дабы удалиться в Грузию.
Дядя мой Н. М. Мордвинов был у адмирала и говорил с ним, после чего стал от меня уклоняться. Я вскоре увидел, что ожидаемый ответ будет заключаться в отказе, и просил дядю быть со мною искренним. Он, наконец, признался мне, что уже несколько дней тому назад говорил с адмиралом, который дал ему следующий ответ:
– Дочь моя чувствует дружбу и уважение к вашему племяннику, я спрашивал ее на сей счет; но как Николай Николаевич не хотел ждать, а хочет ответа решительного, то объявите ему, что мы ему отказываем в супружестве с Наташей и просим его, чтобы он удалился из Петербурга, потому что обстоятельство это разгласилось по городу и могло бы повредить нашей дочери.
Я был в отчаянии. Можно ли было ожидать такого ответа от людей, которых я привык уважать? На другой день я отправился в штаб, чтобы проситься у Сипягина в отставку, сам не зная для чего. Это было 10 января 1816 года. Сипягин и полковник наш Нейдгарт, не постигая причин, побудивших меня к такому решению, предлагали мне свои услуги, чтобы мне помочь. Когда они стали спрашивать, зачем я хотел оставить службу, я увидел, что и самому себе не мог дать порядочного отчета в своем намерении. Они обещали исполнить мою просьбу, если буду в том настаивать, но убеждали меня еще о том подумать и сказать им, нет ли другого средства удовлетворить меня с тем, чтобы я остался в службе, уверяя, что для достижения сего сделают все, что от них будет зависеть. Больно было для меня слышать приветствие товарищей, которые давно слышали от посторонних людей о моем намерении жениться, и полагая, что я уже устроил свои дела, от чистого сердца поздравляли меня с успехом, тогда как отказ приводил меня в отчаяние.
В крайнем волнении находились тогда мои мысли; я терял все очарования будущности, коими питались мои надежды, и мрачные думы их заменили. Мне приходило на мысль застрелиться. Мне хотелось исчезнуть, удалиться навсегда из отечества. Я думал скрыться в Америке; и так как у меня не было средств предпринять этот путь, думалось определиться весной простым работником или матросом на отплывающем корабле. Долго думал я о сем способе, но оставил это намерение при мысли о бесславии, которое нанесу сим поступком отцу своему и всему семейству. Затем мысли мои приняли иной оборот: я стал искать поединка с кем-нибудь, но домогательства мои к тому в течение двух дней не удались; я одумался и, порицая в мыслях своих посягание на жизнь другого, опять задумал лишить себя жизни без участия другого лица. Может быть, и не остановился бы я в исполнении сего намерения, если б не удерживала меня страстная и нежная любовь к Наталье Николаевне, которую я опасался огорчить сим поступком. Родители ее требовали, чтобы я выехал из Петербурга, и я решился на сие последнее средство не из уважения к ним, а к дочери их. Я объявил о своем желании Сипягину, который хотел меня командировать к войскам, расположенным в Нарве; но мне показалось, что такое отдаление недостаточно. Я написал письмо к Даненбергу в Варшаву, прося его доложить через Куруту великому князю, что я был бы весьма счастлив, если б Его Высочеству угодно было меня к себе по-прежнему взять. В ответ Константин Павлович приказал мне сказать, что теперь уже не от него зависело, чтобы я при нем находился. Ответ этот меня еще более огорчил. Но я еще более утвердился в намерении непременно удалиться от родины.
Мне хотелось путешествовать, чтобы развлечь свою тоску и вместе с тем принести пользу отечеству. Сибирские страны казались для меня того всего удобнее; но каким средством попасть туда? Я сочинил начертание для обозрения сего края, назвал товарищей своих, в числе коих был Бурцов, и требовал от казны 25 000 на три года для совершения сего обозрения. Перечитывая ныне сей проект, я нашел в нем много нелепостей и необдуманных предложений, но тогда я их не замечал. Я сперва подал записку о сем проекте Сипягину, а потом самое начертание Толю, который представлял оный князю Волконскому и возвратил мне его, написав мне в лестных выражениях письмо, которым благодарил меня от имени князя за рвение мое к службе, говоря, что сей новый опыт усугубил доброе мнение, которое начальство обо мне имело; но между тем он ссылался на другие обозрения Сибири, прежде сделанные, которые находил достаточными. До получения сего ответа я ездил в отпуск к отцу в Москву для избрания себе из училища его товарищей на сию поездку, которая, казалось мне, должна была наверное состояться. Батюшка указал мне Воейкова.
По возвращении в Петербург, получив отказ, я уже не знал, куда мне даваться, как стали говорить о готовящемся посольстве в Персию. Мне очень хотелось попасть в оное, но не хотелось проситься, и потому я ожидал, не падет ли на меня жребий. Скоро стала носиться молва, что князь меня назначает в число офицеров квартирмейстерской части, едущих с посольством в Персию. Слух этот подтверждался, и наконец князь Волконский объявил мне, чтобы я готовился ехать. Я с благодарностью принял сделанное мне назначение. К тому времени приехал в Петербург назначенный чрезвычайным послом в Персию А. П. Ермолов. Я с ним видался во дворце; он узнал меня, приласкал и изъявил желание, чтобы я к нему ездил, что я исполнил, посетив его по утрам несколько раз.
Офицеры квартирмейстерские, назначенные для следования с посольством в Персию, были: подполковник Иванов, поручик Коцебу (тогда обоих еще не было в Петербурге), Боборыкин и Гвардейского генерального штаба я, Ренненкампф и Щербинин. Алексей Петрович, желая меня испытать и их несколько узнать, расспрашивал меня о них наедине, показывая как бы мало надежды на некоторых из них, но я одобрял их или отзывался незнанием.
Алексей Петрович, казалось мне, полюбил меня и выпросил у князя Волконского позволение оставить меня при себе в Грузии на несколько времени, по возвращении из посольства, на что князь неохотно дал свое согласие. Для астрономических наблюдений хотели послать с посольством из Академии астронома Панцнера, который уже ходил с посольством в Китай. Алексей Петрович и о нем меня спрашивал, но я его не знал.
– Как бы, братец Муравьев, – спросил меня Ермолов, – избавиться бы нам от этого академика; не можешь ли ты заняться астрономическими наблюдениями на место его?
– Я никогда ими не занимался, – отвечал я, – но если вам угодно, то изучу сие дело и постараюсь исполнить ваше желание; мне только нужны будут помощники, и потому позвольте мне заранее ехать к отцу в деревню, где займусь практикой и выберу двух молодых людей, способных к сему роду занятий.
Генерал согласился. Около того времени приехал в Петербург Иванов, с которым я в 1812-м году был несколько знаком, когда он еще служил поручиком. Я возобновил знакомство с ним; мы бывали друг у друга и находились в хороших между собою сношениях. Он просил меня тоже заняться частью Панцнера и с удовольствием видел, что я из училища отца выберу двух молодых людей себе в помощники.
– Панцнер нехороший человек, – говорил мне Иванов; – я его знал еще в китайском посольстве.
Иванов также просил о сем Ермолова, говоря, сколько ему будет приятно, чтобы сею частью занимался один из наших офицеров.
Так дело это устроили, и мне позволили заблаговременно ехать в Москву.
Впоследствии узнал я, что Иванов обвинял меня в том, что Панцнер не был назначен в посольство и что это была одна из главных причин его неудовольствий на меня. Он сердился на меня также за Воейкова и Лачинова, которых я с его же согласия пригласил из училища отца моего ехать в Персию. Всему же причиной был, полагаю, Коцебу, который после моего выезда из Петербурга приехал туда и овладел Ивановым.
Перед отъездом моим из Петербурга я получил по линии чин штабс-капитана и Кульмский прусский знак железного креста. Знаки сии были привезены прусским гвардейским полковником Лукаду. Мне бы не следовало иметь сего знака, потому что он раздавался только одним гвардейским войскам, находившимся в сражении под Кульмом; во время же Кульмского сражения еще не было Гвардейского генерального штаба, но государю угодно было, чтобы и офицеры квартирмейстерской части, участвовавшие в сей знаменитой битве, надели сей крест, почему некоторые из наших офицеров, в том числе и я, получили этот знак.
Тетка моя Катерина Сергеевна Мордвинова скончалась перед моим выездом из Петербурга. На нее одну я мог иметь некоторую надежду в поправлении дел моих в доме адмирала, но я о том не хотел более стараться: я был оскорблен, огорчен, обижен, и мысли мои ни к чему более не стремились, как к тому, чтобы оставить отечество и расстаться с теми людьми, с теми предметами, коих присутствие ежечасно напоминало о понесенной мною утрате.
25 июня я оставил родных и друзей своих с тем намерением, чтобы их никогда более не видеть, но едва ли устою в таком решении. Пребываю здесь в одиночестве, без друзей, но мысли мои не разлучаются с теми, которых я покинул. Привязанность к родине влечет меня домой, и меня здесь удерживают только воспоминания о горестном событии, меня оттуда устранившем. Братья мои, Александр и Михайла, против ожидания моего, женились, и по нынешнему состоянию домашних дел я должен забыть прежнюю страсть свою, в то время как проявляются новые надежды к достижению цели, к которой клонились все помышления моей жизни. Но я смирился. Да наслаждаются жизнью те, которым суждено вкусить счастие; да смирятся те, которым суждено променять красную будущность на пребывание в отдалении от своих и родины.
При выезде из Петербурга братья и товарищи проводили меня до Средней Рогатки; сердце мое было сжато, когда я простился с друзьями. Они не знали моего намерения навсегда от них удалиться.
Тружусь и стараюсь усовершенствовать себя; вижу свои недостатки, испытываю себя. Таким образом провел я уже более двух лет.
Именной список
А
Авенслебен (Альвенслебен) Карл фон (1778–1831), прусский полковник, командир бригады прусской пешей гвардии
Ага-Магомет-хан (1741–1797), беглербег (наместник) Азербайджана, с 1796 – шах Персии, основатель династии Каджаров
Адам, гренадер наполеоновской Cтарой гвардии
Адамович, станционный смотритель
Азбукин Василий Андреевич, адъютант генерала П. С. Кайсарова
Акулов (Окулов) (?–1813), штабс-ротмистр Сумского гусарского полка, адъютант генерала М. А. Милорадовича
Александр I (1777–1825), российский император с 1801
Александров Павел Константинович (1808–1857), незаконнорожденный сын великого князя Константина Павловича
Альбединский (Альбедильский) Павел Петрович (1791–?), корнет лейб-гвардии Уланского полка, побочный сын гофмаршала барона П. Р. Альбедиля
Андре (André), домовладелец
Андреев, обер-офицер Донской конной артиллерии
Андреевский Степан Степанович (1782–1842), полковник лейб-гвардии Конного полка
Андрианов, урядник лейб-гвардии Казачьего полка
Апраксин Владимир Степанович (1796–1833), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 произведен в первый офицерский чин, за отличие в битве под Лейпцигом награжден чином подпоручика
Аракчеев Николай Васильевич, капитан лейб-гвардии Измайловского полка, адъютант генерала М. А. Милорадовича
Арбуэ (Harbouer), племянник лекаря Санкт-Петербургского училища колонновожатых
Арсеньев 1-й Михаил Андреевич (1779/1780–1838), полковник лейб-гвардии Конного полка, командующий полком
Арцыбашев, майор
Ахвердова Нина Федоровна (1805–1828), первая жена князя А. Б. Голицына
Б
Багговут Карл Федорович (1761–1812), генерал-лейтенант, в 1812 – командир 2-го пехотного корпуса 1-й Западной армии
Багратион Петр Иванович (1769–1812), князь, генерал от инфантерии, в 1812 – главнокомандующий 2-й Западной армии
Балла Адам Иванович (1764–1812), генерал-майор, в 1812 – командир бригады 7-й пехотной дивизии в составе 1-й Западной армии
Барклай де Толли Елена Ивановна (Елена Августа Элеонора) (1770–1828), урожденная фон Смиттен, жена М. Б. Барклая де Толли, статс-дама
Барклай де Толли Михаил Богданович (1757–1818), генерал от инфантерии, в 1812 – военный министр и главнокомандующий 1-й Западной армией, с мая 1813 – главнокомандующий русско-прусскими войсками, за победу при Лейпциге возведен в графское достоинство, в награду за взятие Парижа пожалован в генерал-фельдмаршалы
Баррюель – см. Бервиль
Барятинский, князь – вероятно, Барятинский Иван Иванович (1767–1830)
Бахметьев Николай Федорович, ученик Н. Н. Муравьева-старшего
Бахметьева Анна Федоровна, сестра Н. Ф. Бахметьева
Башмаков Дмитрий Евлампиевич (1792–1835), поручик Кавалергардского полка, адъютант князя Д. В. Голицына
Безобразов, поручик гвардейской артиллерии
Беклемишев, обер-офицер лейб-гвардии Конного полка. В 1812–1814 в полку служили два поручика Беклемишевых: Андрей Николаевич и Дмитрий Николаевич
Белавин, дуэльный противник М. С. Лу нина
Белла, дочь корчмаря из Вильно
Белоусов, офицер
Бенингсен (Беннигсен) Левин Август Готлиб (Леонтий Леонтьевич) фон (1745–1826), барон, уроженец Брауншвейга. В 1773 принят в российскую службу. В 1812 – генерал от кавалерии, с конца августа до середины ноября исполнял обязанности начальника Главного штаба всех действующих армий, в 1813 – главнокомандующий Польской армией, за отличие при Лейпциге удостоился графского титула
Бервиль Александр Юзефович фон, корнет Ахтырского гусарского полка
Берг, сын генерал-майора Б. М. Берга, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Берг, гвардейский штабс-капитан
Бергенштраль (Бергенштроль) Петр Иванович (1787–?), в марте 1812 принят из шведской службы в Невский пехотный полк, в апреле переведен в Свиту Е. И. В. по квартирмейстерской части в чине подпоручика
Бергман (Берхман), штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Бернадот Жан Батист Жюль (1763–1844), князь Понте Корво, французский маршал, с 1810 – наследный шведский принц Карл Юхан, впоследствии король Швеции Карл XIV
Беспальцев, офицер Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Бетанкур (Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария де Бетанкур и Молина) Августин Августинович (1758–1824), в 1808 принят в российскую службу в чине генерал-майора, причислен к Корпусу инженеров путей сообщения, с 1809 – генерал-лейтенант, по его проекту был основан Институт Корпуса инженеров путей сообщения, где он был инспектором
Бибиков Василий Александрович, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, впоследствии офицер Инженерного корпуса
Бибиков Большой, штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Бистром 2-й Адам Иванович (1774–1828), в 1812 – полковник, шеф 33-го егерского полка, командир егерской бригады 11-й пехотной дивизии в составе 1-й Западной армии
Бистром Филипп Антонович, капитан гвардейской конной артиллерии, командир 1-й батареи
Блюхер Гебгард Леберехт фон (1742–1819), прусский генерал от кавалерии, с августа 1813 – главнокомандующий Силезской армии, за боевые отличия произведен в генерал-фельдмаршалы
Боборыкин Дмитрий Александрович (ок. 1790–1820), поручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Богданов Денис Сергеевич (?–1814), поручик лейб-гвардии Драгунского полка
Болшвинги (Большвинги) – Большвинг 1-й Константин Иванович (1788–?), барон, принят из прусской службы, поручик лейб-гвардии Уланского полка; Большвинг 2-й Александр Иванович (1795–?), барон, юнкер лейб-гвардии Уланского полка, в мае 1814 произведен в корнеты
Бонами (Бонами де Бельфонтен) Шарль Огюст Жан Батист Луи Жозеф (1764–1830), в 1812 – французский бригадный генерал, командир 3-й бригады 1-й дивизии 1-го армейского корпуса Великой армии Наполеона
Бонапарт Жозеф (1768–1844), старший брат Наполеона, король Неаполя в 1806–1808, король Испании в 1808–1813, затем наместник империи, главнокомандующий Национальной гвардией
Бороздин 1-й Николай Михайлович (1777–1830), в 1812 – генерал-майор, шеф Астраханского кирасирского полка, командир 1-й бригады 1-й кирасирской дивизии
Босезон (Боассезон) Иосиф Павлович де (1783–?), маркиз, французский эмигрант на русской службе, ротмистр лейб-гвардии Уланского полка
Боссанкур, жена Деклозе
Брадке Егор Федорович (1796–1861), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Брежинский, офицер лейб-гвардии Драгунского полка
Брейткопф Анна Ивановна фон (1747–1823), начальница Санкт-Петербургского и Московского училищ ордена св. Екатерины
Бриллоне (Brillonnet) Эмиль, доктор принца Бурбонского
Брозин 1-й Павел Иванович (1787–1845), в 1812 – капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1813 – полковник и флигель-адъютант, начальник секретной канцелярии Главного штаба Главной армии
Брозин 2-й Николай Иванович, брат П. И. Брозина, штабс-капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, дивизионный квартирмейстер 24-й пехотной дивизии
Брюни (Брюн) Гийом Мари Анн (1763–1815), французский маршал
Бубна фон Литтиц Фердинанд (1768–1825), граф, австрийский фельдмаршал-лейтенант
Будберг 2-й Карл Васильевич (1775–1829), барон, полковник, шеф лейб-кирасирского Его Величества полка
Булатов, управляющий делами Н. Н. Муравьева-старшего
Булгаков, штабс-капитан Черниговского драгунского полка
Бурбонский принц – Бурбон Конде Луи Анри Жозеф де (1756–1830), принц французского королевского дома
Бурбоны, королевская династия во Франции
Бурнашев (Бурнашов) Федор Алексеевич, колонновожатый, затем прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, исполняющий должность дивизионного квартирмейстера 1-й кирасирской дивизии
Бурцов Иван Григорьевич (1795–1829), в 1813 – прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Бурцов 1-й Константин Евтихиевич, поручик лейб-гвардии Драгунского полка
Бурцов 2-й Павел Евтихиевич, прапорщик лейб-гвардии Драгунского полка
Бурцов Петр Григорьевич (1797–?), обер-офицер, брат И. Г. Бурцова
Бутовский, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Бутурлин Михаил Петрович (1786–1860), поручик Кавалергардского полка, старший адъютант 1-й кирасирской дивизии
Бутурлин Петр Дмитриевич (1794–1853), граф, прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
В
Вандам Жозеф Доминик Рене (1770–1830), граф д’Юнсебург, французский дивизионный генерал, в 1813 – командир 1-го корпуса Великой армии Наполеона
Васильев Петр Алексеевич, обер-офицер лейб-гвардии Уланского полка
Васильчиков 1-й Илларион Васильевич, (1775–1847), генерал-майор, генерал-адъютант, в 1812 командовал бригадой 4-го кавалерийского корпуса 2-й Западной армии, затем кавалерийским корпусом
Васмут (Ваксмут) Андрей Яковлевич, подпоручик легкой роты № 2 лейб-гвардии Артиллерийской бригады
Вейс Андрей, виленский полицмейстер
Вейс Софья Андреевна (1796–1848), в замужестве Трубецкая, дочь виленского полицмейстера
Вейс Александр Андреевич (1789–?), корнет лейб-гвардии Уланского полка, сын виленского полицмейстера
Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812), сын московского купца 2-й гильдии
Вери, хозяин парижского ресторана
Вермут, брат Маритона
Вернгард Пауль, барон, австрийский полковник, флигель-адъютант императора Франца I
Виктор (Виктор-Перрен) Клод (1764–1841), герцог Беллюнский, французский маршал, в 1812 – командир 9-го армейского корпуса Великой армии
Вильдеман Владимир Христофорович (1791–?), прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Вилье (Виллие) Яков Васильевич (1768–1854), действительный статский советник, главный медицинский инспектор армии
Вильгельм (Фридрих Вильгельм Карл) Вюртембергский (1781–1864), наследный принц, в 1814 – генерал от кавалерии, командир 4-го корпуса Богемской армии
Винценгероде (Винцингероде) Фердинанд Федорович (1770–1818), барон, генерал-майор, генерал-адъютант, в сентябре 1812 произведен в генерал-лейтенанты
Виртембергский (Вюртембергский) Е. – см. Евгений Вюртембергский
Виртембергский (Вюртембергский) король – см. Фридрих I
Виртембергский принц – см. Вильгельм Вюртембергский
Висковатов Василий Иванович (1779–1812), русский математик, профессор чистой и прикладной математики в Институте Корпуса инженеров путей сообщения
Вистицкий 2-й Михаил Степанович (1768–1832), в 1812 – генерал-майор Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, генерал-квартирмейстер 2-й Западной армии, с конца августа до начала октября – генерал-квартирмейстер соединенных армий
Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842), граф, генерал-лейтенант, в 1812 – командир 1-го отдельного пехотного корпуса, за боевые отличия в декабре 1812 произведен в генералы от кавалерии, с апреля по май 1813 – главнокомандующий российско-прусскими армиями
Владимир, слуга А. Н. Муравьева, старшего брата автора
Воеводский (1787–?) Николай Аркадьевич, капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Воейков Петр Иванович (1787–?), штабс-ротмистр лейб-гвардии Уланского полка
Волк, помещик Смоленской губернии
Волков Александр Александрович (1779–1833), московский полицеймейстер, двоюродный брат автора
Волков Николай Аполлонович (1795–1858), троюродный брат автора, в 1812 – поручик 6-го егерского полка
Волкова Анна Андреевна (1748–1804), бабка автора, в первом браке за Н. Е. Муравьевым, во втором – за князем А. В. Урусовым
Волконский 2-й Петр Михайлович (1776–1852), князь, генерал-майор Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, генерал-адъютант, управляющий квартирмейстерской частью, с декабря 1812 – начальник Главного штаба действующей армии, за боевые отличия в апреле 1813 произведен в генерал-лейтенанты
Вольцоген Людвиг фон (1774–1845), барон, полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, флигель-адъютант
Воронин Николай, слуга автора
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), граф, генерал-майор, в 1812 – командир 2-й сводно-гренадерской дивизии 2-й Западной армии
Вреде Карл Филипп Йозеф (1767–1839), барон, генерал от кавалерии, в 1812–1813 командовал баварскими войсками в армии Наполеона, с октября 1813 – командующий австро-баварской армии
Г
Габбе 3-й Михаил Андреевич (1794–1834) – прапорщик лейб-гвардии Литовского полка; в октябре 1813 произведен в поручики
Гавердовский Яков Петрович (1780–1812), полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Гальзадо, австрийский офицер, прикомандированный к великому князю Константину Павловичу
Гамалей
Га р т, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Гартинг Мартын Николаевич (1785–1824), в 1812 – подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, обер-квартирмейстер 3-го пехотного корпуса, в феврале 1813 за боевые отличия произведен в полковники, находился при Главном штабе действующей армии, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Гейдеке – см. Годеин
Гейденброк, прусский жандармский майор
Гекель (Геккель) Егор Федорович (Георг Генрих) (1763–1832), инженер генерал-майор
Генрих IV (1553–1610), французский король с 1589
Гернгрос Владимир Федорович (1790–1813), поручик Свиты Е. И. В. квартирмейстерской части
Гертиг, капитан прусской артиллерии
Геслинг (Гесслинг) Николай Филиппович (1778–1851), коллежский советник, полевой генерал-штаб-доктор 1-й Западной армии
Гессен-Гомбургский Леопольд (1787–1813), принц, младший сын ландграфа Фридриха V
Гессен-Филиппстальский Карл Адамович, принц, полковник лейб-гвардии Уланского полка
Ге ч Александр Иванович, капитан, командир пионерной роты 1-го пионерного полка
Гиулай (Дьюлаи) фон Марош-Немет и Надашки Игнатий (1763–1831), граф, австрийский генерал-фельдцейхмейстер
Глазенап 2-й Вильгельм Отто Григорьевич (1786–?), ротмистр лейб-гвардии Уланского полка
Глазов Иван Яковлевич (1793–?), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в офицеры, за боевые отличия в сентябре 1813 награжден чином поручика, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поручик Апшеронского пехотного полка, шефский адъютант М. А. Милорадовича
Гогиус (Гозиуш), инженер-капитан
Годеин Николай Петрович (1790–1856), офицер лейб-гвардии Измайловского полка
Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший князь, генерал от инфантерии, главнокомандующий всех русских армий, за Бородинское сражение пожалован в генерал-фельдмаршалы
Голицын Александр Сергеевич (1789–1858), князь, поручик лейб-гвардии Семеновского полка
Голицын Андрей Борисович (1791–1861), князь, обер-офицер лейб-гвардии Конного полка
Голицын 1-й Андрей Михайлович (1791–1863), князь, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в прапорщики, в августе 1814 в чине поручика переведен в Гвардейский генеральный штаб
Голицын 5-й Дмитрий Владимирович (1771–1844), князь, генерал-лейтенант
Голицын Иван Александрович (1783–1852), князь, камергер, состоявший при великом князе Константина Павловича
Голицын 2-й Михаил Михайлович (1793–1856), князь, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 вместе со старшим братом произведен в прапорщики, в августе 1814 в чине подпоручика переведен в Гвардейский генеральный штаб
Голицыны, князья, обер-офицеры лейб-гвардии Конного полка – Голицын 2-й Николай Яковлевич, поручик; Голицын 3-й Григорий Яковлевич, корнет; Голицын 4-й Петр Яковлевич, корнет; Голицын 5-й Сергей Яковлевич, корнет
Горданов (Гарданов) Алексей Алексеевич, поручик легкой роты № 1 лейб-гвардии Артиллерийской бригады
Готберг, прусский кирасирский офицер
Гофман Карл Христианович (р. 1792), корнет лейб-гвардии Уланского полка
Гревс 1-й Алексей Александрович (1779–?), ротмистр Кавалергардского полка
Грибовский Николай Адрианович (1793 – после 1840), офицер Изюмского гусарского полка
Грузинский Петр Яковлевич (? – 1812), князь, штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка
Гундиус Вилим (Велимир) Антонович (1777–1821), полковник лейб-гвардии Уланского полка
Гурецки, унтер-офицер прусской армии
Густав II Адольф (1594–1632), король Швеции, вступил на престол в 1611
Густав IV Адольф (1778–1837), король Швеции (1792–1809)
Д
д’Алонвиль, граф, французский эмигрант в России
Даву Луи Никола (1770–1823), герцог Ауэрштедский, князь Экмюльский, французский маршал, в 1813–1814 – командир 13-го армейского корпуса, возглавлял оборону Гамбурга
Давыдов Евдоким Васильевич (1786–1843), ротмистр Кавалергардского полка, младший брат Дениса Давыдова
Дамаскин Петр, слуга М. Н. Муравьева, младшего брата автора
Данилевский А. И. – см. Михайловский-Данилевский А. И.
Даненберг (Данненберг) 2-й Петр Андреевич (1792–1872), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в прапорщики, за боевые отличия произведен в подпоручики, в сентябре 1813 повышен в чине, в августе 1814 в чине штабс-капитана переведен в Гвардейский генеральный штаб
Деклозе (Declauzet), французский эмигрант
Делагард Август Осипович (1780–1834), полковник лейб-гвардии Егерского полка
Делагард (De la Garde), бургомистр
Делиль (Delisle), парижанка
Денасс (De Nass), французский эмигрант
Десезар, обер-офицер
Деллингсгаузен Иван Федорович (1795–1845), барон, прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1814 произведен в штабс-капитаны
Депрерадович Николай Иванович (1767–1843), генерал-майор, командир 1-й кирасирской дивизии, в 1813 за боевое отличие произведен в генерал-лейтенанты
Дербенцов, урядник лейб-гвардии Казачьего полка
Дери Пьер Сезар (1768–1812), французский бригадный генерал, адъютант И. Мюрата
Дибич Иван Иванович (1785–1831), барон, генерал-майор Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1813 – генерал-квартирмейстер российской армии, за успешные действия в сражении при Лейпциге произведен в генерал-лейтенанты
Диест (Дист) Генрих, барон, обер-офицер Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Дитмар Евгард Антонович (1792–?), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в офицеры
Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1790–1863), граф, в 1812 вступил в Московское ополчение и формировал на собственные средства конно-казачий полк, получивший его имя, в 1813 произведен в генерал-майоры
Дорохов Иван Семенович (1762–1815), генерал-майор, шеф Изюмского гусарского полка
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759–1816), генерал от инфантерии, в 1812 – командир 6-го пехотного корпуса 1-й Западной армии
Дурново Николай Дмитриевич (1792–1828), прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, адъютант П. М. Волконского, в 1814 произведен в штабс-капитаны и в августе переведен в Гвардейский генеральный штаб
Дьяконов, офицер Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Дюлоран Анри Жозеф (1719–1793), французский писатель
Дюрок Жеро Кристоф Мишель (1772–1813), герцог Фриульский, французский дивизионный генерал, обер-гофмаршал двора императора Наполеона
Е
Евгений Вюртембергский (1787–1857), принц, племянник императрицы Марии Федоровны, в 1812 – генерал-майор, начальник 4-й пехотной дивизии, с октября 1812 – генерал-лейтенант и командир 2-го пехотного корпуса
Евсей Никитич, повар
Екатерина II (1729–1796), российская императрица с 1762
Екатерина Павловна (1788–1818), великая княгиня, любимая сестра Александра I
Ермолов Алексей Петрович (1772–1861), генерал-майор, в 1812 – начальник Главного штаба 1-й Западной армии, за отличие в Бородинском сражениии произведен в генерал-лейтенанты, в 1813–1814 командовал гвардейскими пехотными дивизиями; в 1816 – главноуправляющий в Грузии, командир Отдельного Грузинского корпуса
Ермолов Михаил Александрович (1794–1850), прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в октябре 1812 произведен в подпоручики, в декабре того же года переведен в лейб-гвардии Егерский полк
Ермолов Петр Николаевич (1787–1844), двоюродный брат А. П. Ермолова, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка
Ж
Жаке 2-й Николай Николаевич (1781–?), французский эмигрант на русской службе, штабс-ротмистр лейб-гвардии Уланского полка
Жандр Александр Андреевич (1780–1830), полковник лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Константина Павловича, в июне 1813 произведен в генерал-майоры
Жером (Иероним Наполеон) Бонапарт (1784–1860), младший брат Наполеона, король Вестфалии (1807–1813)
Жиле (Жилле) Реми, французский эмигрант, офицер Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Жилинский, капитан-исправник
Жирар (Жирард) Жан Батист (1775–1815), барон, французский дивизионный генерал
Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779–1869), известный военный теоретик и историк, в 1813 – французский бригадный генерал, перешедший на сторону союзников, был принят в российскую службу генерал-лейтенантом, состоял в свите Александра I
Жуковский, родственник В. А. Азбукина
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт
З
Заборинские – Заборинский 1-й Александр Никифорович (1786–1853) и Заборинский 2-й Семен Никифорович (р. 1782), ротмистры лейб-гвардии Уланского полка
Заборский, польский шляхтич
Загряжская Софья Ивановна (1778–1851), фрейлина, жена К. де Местра
Заневский, польский помещик
Заневская Нина, дочь помещика Заневского
Зигнер (Sugner), чиновник в канцелярии великого князя Константина Павловича
Зигрот, штаб-офицер
Зинкевич, трактирщик
Зуев, рядовой лейб-гвардии Драгунского полка
Зуев Сергей Харитонович, подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, обер-квартирмейстер 4-го пехотного корпуса
И
Иванов, юнкер, позднее прапорщик лейб-гвардии Драгунского полка, адъютант генерала П. А. Чичерина
Иванов Григорий Тимофеевич, штаб-офицер Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Иевлич (Ивелич) Петр Иванович (1772 – после 1818), генерал-майор, в 1812 – командир бригады 17-й пехотной дивизии
Иероним – см. Жером Бонапарт
Иловайский 5-й Николай Васильевич (1772–1838), генерал-майор Войска Донского
Инзов Иван Никитич (1768–1845), генерал-майор, дежурный генерал Польской армии
Иоанн Бабтист Иосиф (1782–1859), австрийский эрцгерцог, генерал-фельдмаршал
Иоселиян (Иоселиан) Захар Анисимович (1786–1866), поручик лейб-гвардии Уланского полка
Й
Йорк Ганс Давид Людвиг фон (1756–1828), прусский генерал-лейтенант, в 1812 – командир прусского вспомогательного корпуса, за победу при Вартенбурге в 1813 возведен в графское достоинство
К
Кайзерлинг, курляндский помещик
Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844), генерал-майор
Каменский, артиллерийский офицер
Каменский 1-й Сергей Михайлович (1771–1834), граф, генерал от инфантерии
Каменской
Каминский, помещик
Канкрин Егор Францевич (1774–1845), действительный статский советник, генерал-интендант 1-й Западной армии, в 1813–1814 – генерал-интендант объединенных российско-прусских армий
Кардо-Сысоев, поручик лейб-гвардии Драгунского полка
Кариов, рядовой лейб-гвардии Уланского полка
Каролина, дочь немецкого аптекаря
Карпов 2-й Еким Екимович (Аким Акимович) (1762–1837), генерал-майор Войска Донского
Катаржи 1-й Григорий Ильич, капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Квитницкий Ксенофонт Федорович (?–1849), полковник лейб-гвардии Драгунского полка
Кек, офицер Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Керестури Николай Францевич, офицер
Кикин Петр Андреевич (1775–1834), полковник, флигель-адъютант, дежурный генерал 1-й Западной армии
Киреевская-Елагина Авдотья Петровна (1789–1877), урожденная Юшкова, хозяйка общественно-литературного салона, племянница В. А. Жуковского
Кирьяков старший
Кирьяков младший
Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872), поручик Кавалергардского полка
Кларк Анри Жак Гийом (1765–1818), французский дивизионный генерал, герцог Фельтрский
Клейст Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль фон (1762–1823), прусский генерал-лейтенант, за успешные действия при Кульме удостоился титула графа фон Ноллендорфа
Климовский Лев Васильевич (?–1821), ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка
Клюпфель, прапорщик лейб-гвардии Драгунского полка
Кнобельсдорф, прусский гвардейский лейтенант
Кнорринг Петр Астафьевич, капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Кнорринг Карл Федорович (?–1813), поручик лейб-гвардии Драгунского полка
Козлов, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Колзаков Павел Андреевич (1779–1864), капитан-лейтенант Гвардейского экипажа, адъютант великого князя Константина Павловича, за отличие в сражении при Бородино произведен в капитаны 2-го ранга
Коллевино (Collevino), жительница Кёнигсберга
Колоредо (Коллоредо) Мансфельд Иероним Карл фон (1775–1822), граф, австрийский фельдмаршал-лейтенант, за отличие при Кульме произведен в генерал-фельдцейхмейстеры
Колонтаев, лакей А. В. Урусова
Колошин Михаил Иванович (?–1812), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, состоял при Гвардейской кавалерийской дивизии
Колошин Павел Иванович (1799–1854), колонновожатый, затем прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Колошин Петр Иванович (1794–1848), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в мае 1813 произведен в прапорщики
Колошина Елена Ивановна
Колошина Мария Николаевна (1759–1826), мать братьев Колошиных
Колычев Сергей Васильевич (1791–1836), прапорщик, затем поручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в июле 1813 переведен в чине штабс-ротмистра в Александрийский гусарский полк
Колчевской (Колчевский) Василий Иванович (1783–?), ротмистр лейб-гвардии Уланского полка
Конде Луи Жозеф де Бурбон де (1736–1818), французский принц
Коновницын Петр Петрович (1764–1822), генерал-лейтенант, в 1812 – начальник 3-й пехотной дивизии в составе 1-й Западной армии, с сентября – дежурный генерал Главного штаба М. В. Кутузова, за боевые отличия пожалован в генерал-адъютанты, в кампанию 1813 командовал Гренадерским корпусом
Константин Павлович (1779–1831), великий князь и цесаревич
Коробьин Григорий Николаевич, поручик батарейной роты № 2 лейб-гвардии Артиллерийской бригады
Коронелли Иосиф Яковлевич де, майор Московского гренадерского полка
Корсаков Алексей Иванович (1751–1821), генерал-лейтенант, сенатор
Корсаков П. А. – см. Римский-Корсаков П. А.
Корсаков Семен Николаевич (1787–1853), племянник адмирала Н. С. Мордвинова, в 1812 вступил в Петербургское ополчение
Корф Федор Карлович (1773–1823), генерал-майор, генерал-адъютант, в 1812 – командир 2-го кавалерийского корпуса в составе 1-й Западной армии, за отличие в Бородинском сражении награжден чином генерел-лейтенанта
Коцебу 1-й Василий Августович (1784–1812), принят из австрийской службы в российскую, подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Коцебу 2-й Мориц (Маврикий) Августович (1788–1861), принят из австрийской службы в российскую в 1811, поручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Краснов 1-й Иван Козьмич (1752–1812), генерал-майор Войска Донского
Краснов, казачий офицер, внук генерала Краснова
Краут фон, лейтенант, полковой адъютант прусского гвардейского кирасирского полка – Garde du Corps
Крафт фон, майор, командир прусского гвардейского легкокавалерийского полка
Крейц Киприан Антонович (1777–1850), барон, генерал-майор
Крещенский Иван Алексеевич, поручик лейб-гвардии Уланского полка, полковой адъютант
Кривцов Александр Иванович, правитель канцелярии при великом князе Константине Павловиче
Кроссар (Crossard) Жан Батист Луи (1770–1845), барон, французский эмигрант на российской службе, полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Крылов Дмитрий Сергеевич, прапорщик лейб-гвардии Егерского полка
Кудашев Николай Данилович (1784–1813), князь, полковник лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Константина Павловича, за боевые отличия произведен в генерал-майоры
Кузьма, слуга М. И. Колошина
Курута Дмитрий Дмитриевич (1769–1833), полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, адъютант великого князя Константина Павловича, в 1812 – обер-квартирмейстер 5-го пехотного (гвардейского) корпуса, за отличие в кампании в декабре 1812 произведен в генерал-майоры
Кутайсов Александр Иванович (1784–1812), граф, генерал-майор, начальник артиллерии 1-й Западной армии
Кутузов Михаил Илларионович – см. Голенищев-Кутузов М. И.
Кучковский, военный врач
Кучугурный Федор, кирасир
Л
Лавров Николай Иванович (1761–1813), генерал-лейтенант, в августе 1812 после отъезда в Петербург великого князя Константина Павловича назначен командиром 5-го пехотного (гвардейского) корпуса
Лаколомбьер де, житель французского города Бар-сюр-Об
Лалаев, управляющий имением великого князя Константина Павловича в Ропше
Ланге, лейтенант прусской армии
Ланской Сергей Николаевич (1774–1814), генерал-майор, шеф Белорусского гусарского полка, за отличие в сражении при Кацбахе в 1813 произведен в генерал-лейтенанты
Ланской 1-й Алексей Павлович (1789–1855), поручик лейб-гвардии Егерского полка, адъютант князя Д. М. Голицына
Ларош фон Старкенфельс, полковник, командир прусского полка Garde du Corps, затем командир прусской гвардейской кавалерийской дивизии
Лафонтен (Lafontaine), адъютант французского дивизионного генерала Ж. Б. Жирара, в 1813 принят в российскую службу
Лачинов Евдоким Емельянович (1799–1875), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Лебедев Николай Петрович (1750–1813), генерал-лейтенант, в 1812 – начальник Смоленского ополчения
Лежанов, стряпчий
Лежанова Бригитта, жена стряпчего
Леман, обер-офицер
Лемер (Lemaire), французский доктор
Леонтьев Иван Сергеевич (1782–1824), полковник лейб-гвардии Конного полка
Леслей (Лесли), офицер Литовского уланского полка
Лесовский Степан Иванович, майор Мариупольского гусарского полка
Лисаневич – см. Лесовский
Лисаневич 1-й Григорий Иванович (1756–1832), генерал-майор, шеф Чугуевского уланского полка
Лихтенштейн (Lichtenstein), граф
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–1838), князь, генерал от инфантерии, в 1813 – главнокомандующий Резервной армией
Ловейко, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Лон (Lohn), прусский гусарский офицер
Лористон Жак Александр Бернар Ло (1768–1828), граф, французский дивизионный генерал, генерал-адъютан императора Наполеона
Лукаду, прусский гвардейский полковник
Лукаш Николай Евгеньевич (1796–1868), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 – прапорщик, затем подпоручик, в 1813 повышен в чине, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Лунин 1-й Михаил Сергеевич (1787–1845), штабс-ротмистр Кавалергардского полка
Львов Александр Николаевич (1786–1849), тайный советник, камергер
Людвиг Фердинанд Христиан (1772–1806), прусский принц, генерал-лейтенант
Людовик Станислав Ксавье де Бурбон (1755–1824), граф Прованский, брат Людовика XVI, французский король Людовик XVIII с 1814
Лютинский, поручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
М
Мавридов, казак
Макферсон Джеймс (1736–1796), шотландский поэт
Мамонов М. А. – см. ДмитриевМамонов М. А.
Мандерштерн Карл Григорьевич (1785–1862), капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1814 произведен в подполковники
Манучи, граф, предводитель дворянства Виленского повета
Маритон (Mariton), французский банкир
Маритон Зоя, дочь банкира
Маритон Поль Эмиль, сын банкира
Мария Павловна (1786–1859), великая княжна, сестра Александра I, в замужестве великая герцогиня Саксен Веймар Эйзенахская
Марков 1-й Евгений Иванович (1769–1828), генерал-лейтенант, в 1812 – командир 9-го корпуса в 3-й Резервной обсервационной армии
Марков Иван Васильевич (1790–?), поручик лейб-гвардии Уланского полка, в сентябре 1813 произведен в штабс-ротмистры
Мармон Огюст Фредерик Луи Вьесс де (1774–1852), герцог Рагузский, французский маршал
Масловский Николай Васильевич (1795–?), корнет лейб-гвардии Уланского полка
Мезенцов Михаил Иванович (1770–1848), полковник лейб-гвардии Уланского полка, за боевые отличия в сентябре 1813 произведен в генерал-майоры
Мейндорф 1-й Георгий Федорович («Черный») (1794–1879), барон, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 – прапорщик, затем подпоручик
Мейндорф 2-й Георгий Казимирович («Рыжий») (1795–1863), барон, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 – прапорщик, затем подпоручик, в 1813 произведен в поручики
Мелиссино Алексей Петрович (1759–1813), генерал-майор, шеф Лубенского гусарского полка
Меликов (Лорис-Меликов) Моисей Сергеевич, юнкер, затем корнет лейб-гвардии Уланского полка
Менгден Михаил Александрович фон (1781–1855), полковник лейб-гвардии Финляндского полка
Мёнье (Meunier), французский пленный, находившийся при великом князе Константине Павловиче
Мердер, обер-офицер
Мерлин Павел Иванович (1769–1841), полковник, командир 2-й резервной артиллерийской бригады
Мессинг П. И., подпоручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Местр Жозеф де (1753–1821), граф, сардинский посол в России
Местр Ксаверий Ксаверьевич (Франсуа Ксавье) де (1763–1852), граф, принят из сардинской службы в российскую, в 1812 – полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, обер-квартирмейстер корпуса генерала С. М. Каменского в составе 3-й Резервной Обсервационной армии, в 1813 произведен в генерал-майоры
Местр Рудольф Осипович (Родольфо Андре) де (1799–1866), граф, сын Ж. де Местра, поручик Кавалергардского полка —
Метивье (Mestivier) Этьен Огюст, французский врач
Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825), генерал от инфантерии, за отличие в кампанию 1812 награжден титулом графа
Михайлов Александр Михайлович, офицер
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848), в 1812 – поручик Санкт-Петербургского ополчения, адъютант М. И. Кутузова, в августе 1814 а чине капитана переведен в Гвардейский генеральный штаб
Мишо де Боретур Александр Францевич (1774–1841), уроженец Пьемонта, принят из сардинской в российскую службу в 1805, полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Монброн Л. де, французский писатель
Монморанси Анн де (1492–1567), герцог, коннетабль Франции
Мордвинов Александр Михайлович (1792–1869), двоюродный брат автора, в 1812 вступил в 5-ю дружину Санкт-Петербургского ополчения
Мордвинов Александр Николаевич (1799–1858), граф, камергер, коллежский советник
Мордвинов Владимир Михайлович (1775–1819), генерал-майор, дядя автора
Мордвинов Дмитрий Михайлович (1772–1848), действительный камергер, дядя автора, в 1812 – начальник 5-й дружины Санкт-Петербургского ополчения, в 1813 произведен в генерал-майоры
Мордвинов Михаил Иванович (1725–1782), дед автора, инженер генерал-поручик
Мордвинов Николай Владимирович, двоюродный брат автора
Мордвинов Николай Михайлович (1768–1844), генерал-майор, дядя автора
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), адмирал, член Государственного совета
Мордвинов Петр Семенович, брат Н. С. Мордвинова
Мордвинова (в замужестве Муравьева) Александра Михайловна (1770–1809), мать автора, дочь генерал-поручика М. И. Мордвинова
Мордвинова (в замужестве Столыпина) Вера Николаевна (1790–1834), дочь адмирала Н. С. Мордвинова
Мордвинова Генриетта Александровна (1764–1843), урожденная Кобли (Коблей), дочь английского консула в Ливорно, жена адмирала Н. С. Мордвинова
Мордвинова Катерина Сергеевна (1770–1816), жена Н. М. Мордвинова
Мордвинова (в замужестве Львова) Наталья Николаевна (1794–1882), дочь адмирала Н. С. Мордвинова
Моро Жан Виктор (1763–1813), французский дивизионный генерал, в 1804 обвинен в заговоре против Наполеона, изгнан из Франции в США, в 1813 по приглашению Александра I прибыл к союзным армиям и состоял военным советником царя
Морозов Артемий, слуга автора
Морозов Спиридон
Мостовский, помещик
Мудров Матвей Яковлевич (1772–1831), врач, доктор медицины
Муравьев Александр Захарович (1795–1842), прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, младший сын З. М. Муравьева
Муравьев 1-й Александр Николаевич (1792–1863), старший брат автора, подпоручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, за боевые отличия в 1813 произведен в поручики и штабс-капитаны, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Муравьев 3-й Артамон Захарович (1794–1846), старший сын З. М. Муравьева, в службу вступил колонновожатым Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в прапорщики
Муравьев Захар Матвеевич (1759–1832), действительный статский советник
Муравьев 5-й Михаил Николаевич (1796–1866), младший брат автора, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 – прапорщик, в марте 1813 произведен в подпоручики, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Муравьев Михаил Никитич (1757–1807), тайный советник, сенатор
Муравьев 6-й Никита Михайлович (1795–1843), сын сенатора М. Н. Муравьева, коллежский регистратор Министерства юстиции, в июле 1813 – прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Муравьев Николай Ерофеевич (1724–1770), инженер генерал-поручик, сенатор, дед автора
Муравьев Николай Назарович (1775–1845), действительный статский советник, новгородский губернатор, муж Е. Н. Мордвиновой (1791–1819), двоюродной сестры автора
Муравьев Николай Николаевич (1768–1840), отец автора, в 1812 произведен в полковники и назначен начальником штаба ополчения 3-го округа, в 1815 пожалован в генерал-майоры, основал Московское учебное заведение для колонновожатых
Муравьев Петр Семенович, капитан в отставке
Муравьев Платон Иванович, помещик Псковской губернии
Муравьев Сергей Николаевич (1809–1874), брат автора
Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886), подпрапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, в декабре 1812 произведен в прапорщики
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1795–1826), прапорщик Корпуса инженеров путей сообщения, в 1812 дважды повышен в чине, в апреле 1813 переведен в батальон великой княгини Екатерины Павловны
Муравьева А. М. – см. Мордвинова А. М.
Муравьева Елизавета Карловна (1761–1815), урожденная фон Поссе, во втором браке замужем за З. М. Муравьевым
Муравьева Екатерина Захаровна (1796–1879), дочь З. М. Муравьева, замужем за Е. Ф. Канкриным
Муравьева Екатерина Федоровна (1771–1848), урожденная баронесса Колокольцева, жена М. Н. Муравьева
Муравьева Софья Николаевна (1804–1826), сестра автора
Муравьева-Апостол Елизавета Ивановна (1791–1814), жена Ф. П. Ожаровского
Муромцев (Муромцов), обер-офицер
Муромцев (Муромцов) Матвей Матвеевич (1789–1875), подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка, в кампанию 1813 дважды повышен в чине
Муромцев (Муромцов) Николай Селиверстович (1761–1834), генерал-майор в отставке, в 1812 – начальник Казанского и Пензенского ополчений, в 1814 награжден чином генерал-лейтенанта
Мухин Семен Александрович (1771–1828), генерал-майор Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 до середины июня – генерал-квартирмейстер 1-й Западной армии
Мюрат Иоахим (1767–1815), французский маршал, король Неаполя (1808–1815)
Н
Наполеон Бонапарт (1769–1821), император Франции (1804–1814), король Италии (1805–1814)
Нарбонн-Лара Луи Мари Жак (1755–1813), граф, французский дивизионный генерал, адъютант Наполеона
Нарышкина Елена Николаевна (1746–1829), урожденная Юшкова, жена И. И. Нарышкина (1739–1800)
Нассау (Нассау-Зиген) Карл Генрих Николай Оттон (1743–1808), принц, вице-адмирал русского флота
Неверовский Дмитрий Петрович (1771–1813), генерал-майор, в 1812 – начальник 27-й пехотной дивизии в составе 2-й Западной армии
Ней Мишель (1769–1815), герцог Эльхингенский, князь Москворецкий, французский маршал
Нейдгарт 1-й Павел Иванович (1779–1850), подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, за отличие в Бородинском сражении награжден чином полковника, в 1813 произведен в генерал-майоры
Неклюдов Сергей Петрович (1790–1874), штабс-ротмистр Кавалергардского полка, адъютант князя Д. В. Голицына
Нелединская (Нелидова) П. В.
Неаполитанский король – см. Мюрат И.
Новиков Василий, управляющий суконной фабрикой
Новиков Михаил Николаевич, штаб-офицер
Норманн Эренфельс фон Карл Фридрих Лебрехт (1784–1822), генерал-майор вюртембергской кавалерии
Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), прапорщик легкой роты № 2 лейб-гвардии Артиллерийской бригады
Нуазе де Сен-Поль (Noizet de Saint-Paul) Жан Франсуа Гаспар (1749–1837), автор классического труда по фортификации
О
Оде де Сион Карл, прапорщик лейб-гвардии Литовского полка
Ожаровский Адам Петрович (1776–1855), граф, генерал-майор, генерал-адъютант
Ожаровский Франц Петрович (1785–1828), граф, управляющий Царским Селом с октября 1811 по февраль 1817, женат на Е. И. Муравьевой-Апостол
Озерской (Озерский) Иван Герасимович, подпоручик свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Оксфорд, бывший органист в Лейпциге
Окунев Михаил Петрович, подпоручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), тайный советник, статс-секретарь Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета
Оленин Николай Алексеевич (1792–1812), прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка
Оленин Петр Алексеевич (1793–1868), прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка
Олсуфьев 2-й Николай Дмитриевич (1775–1817), полковник лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Константина Павловича, в декабре 1812 произведен в генерал-майоры
Олсуфьев 3-й Захар Дмитриевич (1773–1835), генерал-лейтенант
Оперман (Опперман) Карл Иванович (1766–1831), инженер генерал-лейтенант, инспектор Инженерного корпуса и директор Инженерного департамента Военного министерства
Орлов 1-й Алексей Федорович (1786–1861), ротмистр лейб-гвардии Конного полка
Орлов 3-й Григорий Федорович (1790–1853), поручик Кавалергардского полка
Орлов 2-й Михаил Федорович (1788–1842), поручик Кавалергардского полка, адъютант князя П. М. Волконского, в июле 1812 произведен в штабс-ротмистры и пожалован во флигель-адъютанты, в марте 1813 за боевые отличия произведен в полковники
Орлов 4-й Федор Федорович (1786–?), корнет Сумского гусарского полка
Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775–1843), граф, генерал-майор, генерал-адъютант, командир лейб-гвардии Казачьего полка
Остерман-Толстой Александр Иванович (1771–1857), граф, генерал-лейтенант, в 1812 – командир 4-го пехотного корпуса, в осенней кампании 1813 во главе сводного отряда отличился в сражении при Кульме
П
Павел I (1754–1801), российский император с 1796
Павлов Дмитрий, майор
Павлов М. Г., владелец пансиона в Москве
Палевич Викентий Григорьевич, провиантский комиссионер
Палицын Владимир Иванович, штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Константина Павловича
Панневиц, лейтенант прусской кавалерии
Панцнер, астроном
Панчулидзев 1-й Иван Давыдович (1758–1815), генерал-майор, шеф Черниговского драгунского полка, в 1812 – командир 1-й бригады 4-го кавалерийского корпуса
Парасковья Федоровна, соседка автора по имению
Паренс (Parence), французский офицер
Паренсов Дмитрий Тихонович (1778–1868), полковник Свиты Е. И.В по квартирмейстерской части
Парис Иосиф Петрович, колонновожатый Свиты Е. И.В по квартирмейстерской части, затем определен прапорщиком в 11-й егерский полк
Паскевич Иосиф Федорович, ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, адъютант М. А. Милорадовича
Паскевич Иван Федорович (1782–1856), генерал-майор, в 1812 – начальник 26-й пехотной дивизии в составе 2-й Западной армии, с декабря – командир 7-го пехотного корпуса
Пасюк, гвардейский унтер-офицер
Паулучи (Паулуччи) Филипп Осипович (Филиппо) (1779–1849), маркиз, уроженец Модены, в 1807 принят в российскую службу, в 1812 – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, с 21 по 29 июня состоял начальником Главного штаба 1-й Западной армии
Пейкер, колонновожатый Свиты Е. И.В по квартирмейстерской части
Пенхержевский Александр Лаврентьевич (1787–1851), штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Перовский 2-й Василий Алексеевич (1795–1857), незаконнорожденный сын графа А. К. Разумовского, прапорщик Свиты Е. И.В по квартирмейстерской части, за боевые отличия в июне 1812 произведен в подпоручики, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Перовский 1-й Лев Алексеевич (1792–1856), незаконнорожденный сын графа А. К. Разумовского, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 – прапорщик, позднее подпоручик, в 1813 повышен в чине, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Петр I (1682–1725), царь с 1689, провозглашен императором в 1721
Петрищев Николай Иванович (1790–1874), корнет Кавалергардского полка
Платов Матвей Иванович (1753–1818), генерал от кавалерии, атаман Войска Донского, за боевые отличия в 1812 возведен в графское достоинство
Полторацкий Александр Александрович (1792–1855), обер-офицер батальона великой княгини Екатерины Павловны
Полторацкий Константин Маркович (1782–1858), генерал-майор, шеф Нашебурского пехотного полка, в 1814 – командир бригады 9-й пехотной дивизии
Пономарев, камер-лакей
Понятовский Юзеф Антоний (1763–1813), князь, польский дивизионный генерал, за отличие в сражении при Лейпциге пожалован императором Наполеоном во французские маршалы
Попов, рядовой Харьковского драгунского полка
Потапов Алексей Николаевич (1772–1847), полковник лейб-гвардии Уланского полка, адъютант великого князя Константина Павловича, за отличие в сражении при Кульме произведен в генерал-майоры
Потемкин Яков Алексеевич (1781–1831), полковник, командир егерской бригады 17-й пехотной дивизии, за боевые отличия в ноябре 1812 произведен в генерал-майоры и позднее назначен командиром лейб-гвардии Семеновского полка
Потемкина Татьяна Борисовна (1797/1801–1869), урожденная княжна Голицына, статс-дама
Прокофьев, гардемарин
Протасов Андрей Иванович
Пустошкин Семен Афанасьевич (1759–1846), вице-адмирал
Пустрослев Петр Александрович, приятель Муравьевых
Пушкевич Алексей, прапорщик лейб-гвардии Драгунского полка
Р
Раевский Александр Николаевич (1795–1868), капитан 5-го егерского полка, адъютант графа М. С. Воронцова, старший сын генерала Н. Н. Раевского
Раевский Николай Николаевич (1771–1829), генерал-лейтенант, в 1812 – командир 7-го пехотного корпуса в составе 2-й Западной армии, в 1813–1814 возглавил 3-й гренадерский корпус
Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), граф, камергер, действительный тайный советник, министр народного просвещения (1810–1814), от своей любовницы М. М. Соболевской имел десять внебрачных детей, получивших фамилию Перовские
Рамбург Иван Александрович (1793–?), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Рахманов Александр Иванович (?–1813), капитан Преображенского полка, затем полковник
Реве Жан (1773–1845), в 1813 – французский бригадный генерал, начальник штаба 1-го армейского корпуса армии Наполеона
Рейссиг (Рейсиг), инструментальный мастер в Главном штабе 1-й Западной армии
Рененкампф (Ренненкампф) Карл Фридрих (Карл Павлович) (1788–1848), подпоручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Рененкампф (Ренненкампф) Павел (Андрей Павел) Яковлевич (1790–1857), барон, штабс-капитан Гвардейского генерального штаба
Ренье Шарль Луи (1771–1814), граф, французский дивизионный генерал, в 1812 – командир 7-го армейского корпуса Великой армии Наполеона
Репнин (Репнин-Волконский) Николай Григорьевич (1778–1845), князь, генерал-майор, генерал-адъютант
Репнина Варвара Николаевна (1808–1891), княжна, дочь князя Н. Г. Репнина
Римский-Корсаков Павел Александрович (1785–1812), штабс-ротмистр Кавалергардского полка
Рочфорт (Росшфорд) Осип Осипович, прапорщик Свиты Е. И. В. квартирмейстерской части, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Розен 3-й Александр Владимирович (1779–1832), барон, полковник, шеф Лейб-Кирасирского Ее Величества полка
Розен 2-й Григорий Владимирович (1782–1841), генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Преображенского полка
Роп (Рооп), штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), граф, генерал от инфантерии, военный губернатор и главнокомандующий в Москве
Роткирх Антон Антонович, барон, сосед автора по имению
Рошешуар Луи Виктор Леон (Леонтий Петрович) де (1788–1858), граф, французский эмигрант на российской службе, полковник, флигель-адъютант
Рудаков, домовладелец
Рудометов Сила Семенович, землемер
Руссо Жан Жак (1712–1778), французский писатель и мыслитель
С
Саблуков Александр Александрович (1746–1828), сенатор, муж Е. А. Волковой, сестры бабки автора
Саблуков Николай Александрович (1776–1848), генерал-майор, сын А. А. Саблукова, родственник Муравьевых
Сазонов Николай Васильевич (1773–?), капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Сакен (Остен-Сакен) Фабиан Вильгельмович фон дер (1752–1837), барон, генерал-лейтенант; в 1813–1814 командовал корпусом в Силезской армии, за отличие в сражении при Кацбахе произведен в генералы от инфантерии
Сакс Жозеф Шевалье де (1767–1802), сын принца Франца Ксавера Саксонского от морганатического брака с итальянской графиней Марией Кларой Спинуччи, убит на дуэли князем Н. Г. Щербатовым
Сапега Кирилл Иванович, поручик лейб-гвардии Драгунского полка
Сарачинский (Сарочинский) Илья Степанович (1786–1845), ротмистр лейб-гвардии Конного полка
Сахновский, подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Свеяский, военный врач
Сегюр Октав Анри Габриель де (1779–1818), граф, капитан 8-го гусарского полка
Сен-При (Сент-Приест) Эммануил Францевич (1776–1814), граф, французский эмигрант на российской службе, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, командир 8-го пехотного корпуса в составе Силезской армии
Сен-Сир (Гувьон Сен-Сир) Лоран (1764–1830), граф, французский дивизионный генерал, в 1812 – командир 6-го армейского корпуса Великой армии
Сердюков Алексей Михайлович, офицер Донского войска
Сиверс, офицер лейб-гвардии Драгунского полка
Сиверс 3-й Георгий Карлович (1778–1827), граф, инженер генерал-майор, младший брат К. К. Сиверса
Сиверс 1-й Карл Карлович (1772–1856), граф, генерал-майор, шеф Новороссийского драгунского полка, в 1812 – командир 4-го кавалерийского корпуса 2-й Западной армии
Сиверс Петр Петрович, граф, штабс-ротмистр Ахтырского гусарского полка, старший адъютант 4-го кавалерийского корпуса
Синявин (Сенявин) Алексей Григорьевич, штандарт-юнкер лейб-гвардии Конного полка, в октябре 1812 произведен в корнеты
Сион – см. Оде де Сион
Сипягин Николай Мартемьянович (1783–1828), капитан лейб-гвардии Семеновского полка, флигель-адъютант, в декабре 1812 произведен в полковники, в сентябре 1813 за боевые отличия награжден чином генерал-майора, в апреле 1814 пожалован в генерал-адъютанты и назначен начальником штаба Гвардейского корпуса
Скалон Антон Антонович (1767–1812), генерал-майор, шеф Иркутского драгунского полка, в 1812 – командир бригады 3-го кавалерийского корпуса
Солдан (Солдаен) Христофор Федорович (1784 – после 1830), полковник лейб-гвардии Конного полка
Спечинский Владимир Николаевич (1788–?), майор Белорусского гусарского полка
Спрунглен Эммануэль Фредерик де (1773–1844), в 1813 – штабной полковник и начальник штаба 2-й пехотной дивизии в составе 1-го армейского корпуса армии Наполеона
Ставраков Семен Христофорович (1764–1819), генерал-майор, комендант Главной квартиры главнокомандующего М. Б. Барклай де Толли
Сталь 1-й Карл Густавович (1778–1853), полковник лейб-гвардии Драгунского полка, адъютант великого князя Константина Павловича
Станкевич (Станкович) Дмитрий Михайлович, капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Стаховский, квартирный хозяин в Вильне
Степановы, братья, обер-офицеры Литовского уланского полка: Степанов 2-й Владимир Петрович, Степанов 3-й Всеволод Петрович
Столыпин Аркадий Алексеевич (1778–1825), сенатор
Столыпин Афанасий Алексеевич (1788–1864), поручик легкой роты № 2 лейб-гвардии Артиллерийской бригады
Столыпин Дмитрий Алексеевич (1785–1826), штабс-капитан легко-конной батареи № 2 лейб-гвардии Конной артиллерии в кампанию 1812 года, затем полковник лейб-гвардии Конной артиллерии
Строганов Александр Павлович (1794–1814), граф, сын графа А. С. Строганова, колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, затем прапорщик, в ноябре 1813 произведен в подпоручики
Строганов Александр Сергеевич (1771–1815), барон, гофмаршал, муж княжны Софьи Александровны Урусовой (1779–1801), сестры отца автора
Строганов Павел Александрович (1774–1817), граф, генерал-майор, генерал-адъютант, в 1812 – начальник 1-й гренадерской дивизией в составе 1-й Западной армии
Сулима Павел Яковлевич, капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Сухозанет 1-й Иван Онуфриевич (1788–1861), генерал-майор артиллерии, командир 1-й артиллерийской бригады
Сухарев Федор Петрович, обер-офицер Астраханского гренадерского полка
Сысоев 3-й Василий Алексеевич (1772–1839), полковник Войска Донского, за боевые отличия в декабре 1812 произведен в генерал-майоры
Т
Талейран (Талейран-Перигор) Шарль Морис де (1754–1838), князь Беневентский, в апреле 1814 возглавил временное правительство Франции и одновременно занял пост министра иностранных дел, способствовал реставрации Бурбонов
Танкред, прусский жандармский офицер
Теннер Карл Иванович (1783–1860), капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Тидеман фон (?–1812), принят из прусской службы, подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Тимирязев 2-й Иван Семенович (1790–1867), штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Константина Павловича
Титаренко, кирасирский унтер-офицер
Толстой, городничий
Толстой Петр Александрович (1770–1844), граф, генерал-лейтенант, в 1812 – начальник 3-го округа ополчения и Нижегородского ополчения, в августе 1813 его войска составили корпус в Польской армии Л. Л. Беннигсена, в 1814 произведен в генералы от инфантерии
Толь Карл Федорович (1777–1842), полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 – генерал-квартирмейстер 1-й Западной армии, в начале сентября назначен генерал-квартирмейстером Главного штаба М. И. Кутузова, затем генерал-квартирмейстер Главного штаба императора Александра I; с августа 1813 состоял генерал-квартирмейстером при штабе главнокомандующего союзных войск князя К. Ф. Шварценберге
Тормасов Александр Петрович (1752–1819), генерал от кавалерии, главнокомандующий 3-й Обсервационной армией, с октября 1812 – в Главной армии М. В. Кутузова
Торнау Георгий Георгиевич фон (?–1814), барон, корнет лейб-гвардии Уланского полка
Траскин Егор Иванович, поручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, впоследствии капитан, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841), князь, генерал-майор, генерал-адъютант
Трухсес 1-й Генрих Карлович, граф, принят из прусской службы, поручик лейб-гвардии Конного полка, в марте 1813 переведен в Малороссийский кирасирский полк ротмистром
Тучков 1-й Николай Алексеевич (1761–1812), генерал-лейтенант, в 1812 – командир 3-го пехотного корпуса 1-й Западной армии
Тучков 3-й Павел Алексеевич (1778–1858), генерал-майор, командир бригады 17-й пехотной дивизии в составе 2-го пехотного корпуса 1-й Западной армии
Тюренн Анри де Ла Тур д’Овернь де (1611–1675), виконт, французский маршал
У
Уваров Федор Александрович (1780–1827), ротмистр Кавалергардского полка
Уваров Федор Петрович (1769–1824), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, шеф Кавалергардского полка
Удино Никола Шарль (1767–1847), герцог Реджио, французский маршал
Удинцува (Удинцувна), виленская красавица
Удом 1-й Иван Федорович (1768–1821), генерал-майор, командир лейб-гвардии Литовского полка
Урусов Александр Васильевич (1729–1813), князь, генерал-майор в отставке, второй муж Анны Андреевны Муравьевой (урожденной Волковой), бабки автора
Урусов 2-й Александр Петрович (1768–1835), князь, генерал-майор, племянник князя А. В. Урусова, в 1812 – командир бригады 4-го пехотного корпуса
Урусов Петр Васильевич (1733–1813), князь, брат князя А. В. Урусова
Ф
Фаленберг Петр Иванович (1791–1873), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в прапорщики
Фалькланд (Фалкланд), граф, капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Федоров Александр Ильич (1774–1813), полковник лейб-гвардии Егерского полка, командир 4-го егерского полка
Фемистокл (ок. 524–459 до н. э.), афинский государственный деятель и полководец
Ферье – см. Фишер
Фигнер Александр Самойлович (1787–1813), штабс-капитан артиллерии, с сентября 1812 – командир армейского партизанского отряда
Фигнер Николай Самойлович (1785–1813), старший брат А. С. Фигнера, штабс-ротмистр, затем ротмистр Мариупольского гусарского полка
Филимонов, офицер в свите графа П. А. Толстого
Филип (Филипп), литовский шляхтич
Филиппович Владимир Иванович (1796–1862), прапорщик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Филипштальский – см. Гессен-Филиппстальский
Фитингоф, курляндский дворянин, доброволец в прусской армии
Фишер Станислав (1769–1812), польский дивизионный генерал, начальник штаба 5-го армейского корпуса Великой армии
Фон Визин (Фонвизин) Михаил Александрович (1787–1854), поручик лейб-гвардии Измайловского полка, дивизионный адъютант А. П. Ермолова, во время кампании в Германии за боевые отличия дважды повышен в чине, в декабре 1813 произведен в полковники и назначен командиром 4-го егерского полка
Франц I (Франц Йозеф Карл) (1768–1835), последний император Священной Римской империи под именем Франца II, с 1806 – император Австрии
Франциск I (1494–1547), король Франции, вступил на престол в 1515
Фридерикс Жозефина, урожденная Мерсье (1778–1824), любовница великого князя Константина Павловича
Фридрих I (Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский) (1754–1816), король Вюртемберга с 1805
Фридрих II (1712–1786), прусский король, вступил на престол в 1740
Фридрих Август I (1750–1827), король Саксонии с 1806
Фридрих Вильгельм III (1770–1840), прусский король с 1797
Фридрихсша (Фридерикша) – см. Фридерикс
Фримон Иоганн Мария Филипп (1759–1831), австрийский генерал от кавалерии
Фрошо, парижанка
Фуль Карл Людвиг Август (Карл Людвигович) фон (1757–1826), барон, принят из прусской в российскую службу, генерал-майор, военный советник императора Александра I
Х
Хазе, капельмейстер, учитель музыки Ж. Фредерикс
Хатов Александр Ильич (1780–1846), полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, директор Санкт-Петербургского училища колонновожатых
Хованский, князь
Ховен Егор Федорович, полковник, командир роты № 22 конной артиллерии
Ховен Роман Иванович (1775–1861), полковник, комендант в Вильне
Хомутов Сергей Григорьевич (1792–1852), подпоручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в декабре 1813 произведен в поручики, в марте 1814 повышен в чине
Храповицкий Матвей Евграфович (1784–1847), полковник, командир лейб-гвардии Измайловского полка, за отличие в Бородинском сражении награжден чином генерал-майора
Христовская, домовладелица
Хрущев (Хрущов) Николай Николаевич, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка
Ц
Цветков Василий Никитич (1785–?), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в январе 1812 произведен в офицерский чин
Ч
Чаликов Антон Степанович (1754–1821), генерал-майор, командир лейб-гвардии Уланского полка
Чеботарев Алексей Андреевич (ок. 1779–1813), полковник лейб-гвардии Казачьего полка
Черкасов Николай Львович (1790–?), корнет лейб-гвардии Уланского полка, полковой адъютант
Черкасов Петр Петрович (1777–1837), полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в августе 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб
Черкесов Николай Петрович, фанен-юнкер лейб-гвардии Драгунского полка, затем произведен в прапорщики, побочный сын П. С. Мордвинова
Черкесова Любовь Васильевна (урожденная Габбе)
Чернышов Захар Григорьевич (1722–1784), граф, генерал-фельдмаршал
Чернышова (урожденная Видель) Анна Родионовна (1744–1830), супруга графа З. Г. Чернышова
Чичагов Павел Васильевич (1767–1849), адмирал, в 1812 – главнокомандующий Дунайской армией
Чичерин Александр Васильевич (1793–1813), поручик лейб-гвардии Семеновского полка
Чичерин 2-й Петр Александрович (1778–1848), полковник, командир лейб-гвардии Драгунского полка, в декабре 1812 за боевые отличия произведен в генерал-майоры
Чугунный, унтер-офицер Кавалергардского полка
Ш
Шарльмон (Шарлемонт) Иван Осипович, поручик лейб-гвардии Конного полка
Шасслу Лоба Франсуа де (1754–1833), граф, французский дивизионный генерал
Шварценберг Карл Филипп цу (1771–1820), князь, австрийский фельдмаршал
Шевич Иван Георгиевич (1754–1813), генерал-лейтенант, командир Гвардейской кавалерийской дивизии
Шевич 1-й Антон Иванович (?–1812), капитан, майор Либавского пехотного полка
Шевич 2-й Иван Иванович (?–1812), штабс-капитан Либавского пехотного полка
Шевич 3-й Федор Иванович, штабс-капитан, командующий пионерной ротой подполковника Афанасьва
Шембель Александр Иванович, штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Шепелев Александр Иванович, корнет Кавалергардского полка
Шефлер, барон, помещик
Шефлер, подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Шиллер, австрийский офицер
Шиль (Шилль) Фердинанд фон (1773–1809), прусский гусарский майор
Шиндлер Карл Константинович, вахмистр лейб-гвардии Уланского полка, за боевые отличия в августе 1813 произведен в корнеты
Шиц 2-й Иван Иванович (?–1828), подполковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Шишкин Павел Павлович (1793–?), корнет лейб-гвардии Уланского полка
Шперберг Иван Яковлевич (1770–1856), полковник лейб-гвардии Конного полка, адъютант великого князя Константина Павловича
Шрам (Шрамм) Андрей Андреевич (1782–1867), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, затем прапорщик
Шрам (Шрамм) Федор Андреевич (1790–1857), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, затем пехотный прапорщик
Штенгель (Штейнгель) Фаддей Федорович (Фабиан Готгард) (1762–1831), барон, генерал-лейтенант, в 1812 – командир Финляндского корпуса, в августе 1812 возведен в графское достоинство
Шуберт Федор Федорович (1789–1865), капитан Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, в 1812 – обер-квартирмейстер 2-го кавалерийского корпуса 1-й Западной армии, за боевые отличия в ноябре произведен в подполковники
Шувалов Павел Андреевич (1776–1823), граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант
Шульгин Александр Сергеевич (1775–1841), полковник лейб-гвардии Уланского полка, адъютант великого князя Константина Павловича, во время кампании 1812 был помощником генерал-полицмейстера 1-й Западной армии М. И. Левицкого
Щ
Щербатов Николай Григорьевич (1777–1848), князь, в 1802 вызвал на дуэль и убил в Теплице оскорбившего его Шевалье де Сакса
Щербинин Александр Андреевич (1790–1876), колонновожатый Свиты Е. И. В. по квартирмей-стерской части, в 1812 в чине прапорщика состоял при генерал-квартирмейстере 1-й Западной армии К. Ф. Толе, а с сентября – в секретной квартирмейстерской канцелярии Главного штаба, в августе 1814 в чине капитана переведен в Гвардейский генеральный штаб
Щербинин Петр Андреевич (? – 1813), штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка, старший брат А. А. Щербинина
Э
Эйлер Александр Христофорович (1773–1849), полковник, в 1812 – командир батарейной роты № 1 лейб-гвардии Артиллерийской бригады
Эйхен 2-й Федор Яковлевич (1779–1847), полковник Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Эммануель (Эммануэль) Георгий Арсениевич (1775–1837), полковник, шеф Киевского драгунского полка, в декабре 1812 произведен в генерал-майоры
Энгельгард, полковник
Эристов Николай Степанович (1792–1813), князь, поручик лейб-гвардии Уланского полка
Эртель Фридрих (Федор Федорович) (1768–1825), генерал-лейтенант, в 1812 – командир 2-го резервного корпуса, собранного при Мозыре
Эссен 1-й Иван Николаевич (1758–1813), генерал-лейтенант, военный губернатор Риги и главноуправляющий гражданской частью в Лифляндии, Эстляндии и Курляндии
Ю
Юзефович Дмитрий Михайлович (1777–1823), полковник, шеф Харьковского драгунского полка
Юлай – см. Гиулай
Юнг, подпоручик Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части
Юрковский Анастасий Антонович (1755–1831), генерал-майор
Юшкова Екатерина Петровна
Я
Языков 1-й Дмитрий Семенович (1793–1856), поручик Кавалергардского полка
Яковлев Александр Александрович, штабс-капитан лейб-гвардии Драгунского полка
Яковлевы – Яковлев 1-й Александр Савич, поручик лейб-гвардии Драгунского полка; Яковлев 2-й Павел Савич, прапорщик лейб-гвардии Драгунского полка
Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857), прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка
Примечания
1
Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине: Сборник документов. М., 2012. С. 16–17.
(обратно)2
Формулярный список о службе и достоинстве Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части полковника Муравьева. Ноября 30 дня 1820 года. Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 489. Оп. 1. Д. 7065. Л. 7об.
(обратно)3
См. с. 118–119 настоящего издания.
(обратно)4
См. с. 503 настоящего издания.
(обратно)5
Оригинал воспоминаний находится в Отделе письменных источников Государственного исторического музея.
(обратно)6
Пыпин А. Н. Очерки литературы и общественности при Александре I. Пг., 1917. С. 365.
(обратно)7
Николай Самойлович Фигнер – брат знаменитого партизана в Отечественную войну.
(обратно)8
Мой дорогой друг, если хочешь помириться, не надо говорить о прошлом, все должно быть забыто (фр.). – Здесь и далее пер. с фр. О. Андреевой.
(обратно)9
«Кум Матье, или Превратности человеческого ума» А.-Ж. Дюлорана. (Примеч. ред.)
(обратно)10
Быками называется выстроенная на Неве маленькая пристань против Таврического дворца.
(обратно)11
Мой маленький капрал (фр.)
(обратно)12
Брадке, один из лучших воспитанников, отличался постоянным прилежанием и благоразумием. В Польскую войну 1831 года он исправлял должность начальника штаба в корпусе Крейца. Потом перешел в гражданскую службу, был сенатором, попечителем Киевского университета и начальником учебного округа в Остзейских провинциях; всегда пользовался доверием и уважением своего начальства.
(обратно)13
Ныне генерал-адъютант и начальник коннозаводства в империи.
(обратно)14
В 1833 г. командовал у меня в 5-м корпусе 15-й пехотной дивизией; потом был корпусным командиром, а в 1854 г. начальствовал войсками в несчастном сражении в Крыму под Инкерманом.
(обратно)15
До сих пор сохранилась между нами обоюдная дружба молодых лет. В Польскую войну 1831 года он командовал под начальством моим Луцким гренадерским полком и получил на приступе в Варшаве Георгия в петлицу. Во время наместничества моего на Кавказе был назначен губернатором в Тифлисе. Ныне сенатором в Москве.
(обратно)16
Теперь вдова Александра Николаевича Львова. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)17
«Об общественном договоре» (фр.).
(обратно)18
Иначе Сахалин. По занятии реки Амур на сем острове устроились угольные копи, рыбные и звериные промыслы. Находясь в отставке, я приезжал однажды в Петербург, где виделся со старым сослуживцем моим Львом Перовским, который тогда был министром внутренних дел. Перебирая с ним на словах былое, мы вспомнили также о предположенном удалении нашем на остров Чока. Ведь проект наш, так или иначе, но совершился, заметил он, рассмеявшись. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)19
Молодой и старый маленькие Шраммы (нем.).
(обратно)20
Герой поэмы из «Песен Оссиана» Д. Макферсона. (Примеч. ред.)
(обратно)21
Это выражение означает быть навеселе. (Примеч. П. И. Бартенева – далее П. Б.)
(обратно)22
Рассказ этот указывает на настроение польского шляхетства перед войной, равно и расположение к полякам молодых офицеров. Таковы были и порядки между жителями, с которыми военные по-своему расправлялись. (Примеч. 1866 г.).
(обратно)23
Находясь в 1851 году с гренадерским корпусом в Вильне, я тщетно старался найти дом Стаховского. Дома все перестроились, и Стаховского имени никто не помнит.
(обратно)24
Н. Д. Дурново убит в Турецкую войну 1829 года в звании бригадного командира.
(обратно)25
Мемуарист допускает ошибку, называя начальником Главного штаба 1-й Западной армии накануне военных действий в 1812 году генерала от кавалерии Л. Л. Бенигсена. В действительности, этот генерал в то время находился в свите императора Александра. Начальником же Главного штаба 1-й Западной армии первоначально был генерал-лейтенант Н. И. Лавров, затем 21 июня / 3 июля его сменил генерал-адъютант Ф. О. Паулучи, а 30 июня / 12 июля на эту должность назначен генерал-майор А. П. Ермолов.
(обратно)26
Речь идет о мемуаре французского эмигранта графа д’Алонвиля, представленном царю адмиралом графом Н. С. Мордвиновым в январе 1812 года. Документ был составлен годом ранее и представлял собой план действий против армии Наполеона. О сдаче Москвы в мемуаре не упоминалось, но предлагалось отступление главных русских сил по направлению к Москве.
(обратно)27
На самом деле переправа войск Наполеона через Неман началась в ночь на 12 /24 июня 1812 года и не в Ковно, а вблизи этого города.
(обратно)28
Мемуарист ошибается: К. К. де Местр не имел сына, а в Кавалергардском полку служил поручиком его племянник – граф Родольфо де Местр, сын его старшего брата, графа Жозефа де Местра, сардинского посланника в России.
(обратно)29
Прощай, мой милый дом, Мой бедный пес и мой народ; Прощай, я должен умереть: Моя бедная Лиза в могиле. Без радости я смотрю на свет Восходящего солнца. Эта звезда, начиная свой путь, Больше не увидит, как просыпается Лиза. Королевы цветов, очаровательные розы, Вы, служившие ей украшением, Теперь распускаетесь только для того, Чтобы украшать ее памятник (фр.). (обратно)30
В 1812 году лейб-кирасирский Его Величества полк не принадлежал к гвардии, и только в 1813 году за боевые отличия он удостоился наименования лейб-гвардии Кирасирский полк.
(обратно)31
Дурного рода (фр.).
(обратно)32
Убит мятежниками, защищая дверь кабинета Константина Павловича в Бельведере во время восстания в Варшаве в 1830 году.
(обратно)33
Военный порядок (фр.).
(обратно)34
Его преподобие (дословно – почтенный) (фр.).
(обратно)35
Известный под кличкой le prince Macarelly; он впоследствии был флигель-адъютантом и потом генерал-майором. Женился на Нине Федоровне Ахвердовой, сестре от другой матери покойной жены моей. Овдовев, предался мистицизму и начал чудить. Промотал большое состояние, кругом задолжал и лишился всеобщего уважения. Умер почти в нищенстве, поддерживаемый сыном своим и сестрой Татьяной Борисовной Потемкиной. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)36
Здравствуйте, господа! Я давно хотел познакомиться с вами, я князь Андрей Голицын (фр.).
(обратно)37
Бывший в 1856 и 1857 годах министром народного просвещения (Примеч. 1866 г.).
(обратно)38
Бедняк, человек, который не может заплатить подушевой налог (татарск.). (Примеч. ред.)
(обратно)39
Отец или брат Любовь Васильевны Черкесовой. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)40
Враги наступают большими шагами, Прощайте, Смоленск и Россия! Барклай, как и прежде, сраженья бежит, И в отступленье он первый. Нам показал лишь свои семена Этот талант, не сомневайтесь, друзья. Говорят, он хотел, чтоб креветками стала Вся его армия до одного капитана. Его верные слуги, семеня по бокам, Мечтают с ним вместе мчаться в опор, Но Барклай говорит «Дорогие друзья, Помилуйте старость мою!» (фр.) (обратно)41
В указанном бою при деревне Молево Болото 27 июля / 8 августа 1812 года казачьим полкам М. И. Платова не довелось «опрокинуть» французских кирасир, поскольку они сражались с французской легкой кавалерией.
(обратно)42
Этого Геча нашел я в 1832 году в чине подполковника командиром баталиона внутренней стражи в Житомире, где я тогда после Польской войны стоял с командуемой своей 24-й пехотной дивизией. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)43
Н. Н. Муравьев запамятовал отчество своего приятеля кавалергарда Римского-Корсакова. Того звали не Павел Иванович, а Павел Александрович.
(обратно)44
Ночь уступает солнцу (лат.).
(обратно)45
Мемуарист неверно называет номер дивизии, которой командовал генерал-майор Д. П. Неверовский: в его команде состояла не 10-я, а 27-я пехотная дивизия. Столь же ошибочно указывается и ее назначение во время действий под Смоленском. На самом деле отряд Неверовского, усиленный драгунским и тремя казачьими полками, не составлял арьергарда 2-й Западной армии, но, располагаясь в Красном, был предназначен наблюдать дорогу, ведущую из Орши в Смоленск.
(обратно)46
Редан (фр. redan, уступ) – полевое укрепление из двух фасов под углом 60–120º, выступающим в сторону противника. (Примеч. ред.)
(обратно)47
В описании сражения при Валутиной горе 7/19 августа 1812 года автор воспоминаний заслуги генерал-майора П. А. Тучкова 3-го ошибочно приписал генерал-лейтенанту графу А. И. Остерману-Толстому.
(обратно)48
В другом месте она названа Нелединской. (П. Б.)
(обратно)49
Главная квартира М. И. Кутузова на Бородинской позиции располагалась на дворе Татариново.
(обратно)50
Главная квартира князя П. И. Багратиона на левом фланге русской позиции находилось не в Михайловском, а в Семеновском.
(обратно)51
Орел, ах орел! (нем.)
(обратно)52
Молебен на Бородинском поле происходил на день позже, а именно 25 августа / 6 сентября 1812 года.
(обратно)53
Мемуарист ошибается: в тот день войска Наполеона атаковали не батарею Раевского, а Шевардинский редут.
(обратно)54
Сдавайтесь! (фр.)
(обратно)55
Вот он, восход солнца Аустерлица! (фр.)
(обратно)56
Короли, генералы и солдаты! (фр.)
(обратно)57
Генерал Мюрат – король Мюрат (фр.)
(обратно)58
В действительности, число орудий в армии Наполеона в сражении при Бородино было меньше, чем в русской армии: 587 против 624.
(обратно)59
Следует отметить, что в хронологии описания Бородинского сражения Н. Н. Муравьев путает последовательность событий. Особенно наглядно это проявилось в рассказе о бое за батарею Раевского. Мемуарист также преувеличивает число атак французской пехоты на центральное укрепление. На самом деле поутру французская пехота во главе с генералом Бонами смогла захватить укрепление без участия французских кирасир. Взятое неприятелем укрепление отбил генерал А. П. Ермолов совместно с генералами И. Ф. Паскевичем и И. В. Васильчиковым. Около 3 часов дня последовала знаменитая атака французских латников на батарею Раевского, поддержанная успешной атакой французской пехоты Е. Богарне.
(обратно)60
Теперь гораздо более сего расходуется на смотрах и маневрах. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)61
Воинская доблесть, коей не могут хвалиться солдаты нынешнего времени, бросающие ружье свое при легких ранах и даже выкидывающие, в стрелках, из своих сумок боевые патроны. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)62
На Бородинском поле сражения стоит ныне монастырь, сооруженный трудами и иждивением вдовы убитого там генерала Тучкова. Поставлен и чугунный монумент на поле битвы. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)63
По официальным сведениям, которые мне подавно случилось видеть, урон наш показан в меньшем размере; но показанный здесь может быть вернее. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)64
И так вот где зачалась и развилась та героическая настойчивость, которою отличался граф Муравьев-Виленский и в делах межевания, и в управлении министерствами, в борьбе придворной и в великом подвиге 1863 года. (П. Б.)
(обратно)65
Обвинение, как известно, вполне несправедливое и выдуманное бесчисленными врагами графа Ростопчина, которых он себе наживал как бы умышленно. Читатель припомнит, что Н. Н. Муравьев писал эту часть своих Записок в 1818 году, когда не успели еще затихнуть страсти, вызванные лихорадочной деятельностью графа Ростопчина. (П. Б.)
(обратно)66
Стоит уточнить маршрут движения русской армии через Москву на рассвете 2/14 сентября 1812 года. Большая часть войск шла через Дорогомиловскую заставу по одноименной улице, Арбату, Знаменке и Воздвиженке. Далее следовали по Кремлевской и Москворецкой набережным к Яузскому мосту, затем через Швивую горку, Таганскую площадь и Семеновскую улицу к Рязанской заставе. Одна колонна шла от Таганской площади по Николо-Ямской к Владимирской заставе.
(обратно)67
Бывший оренбургский генерал-губернатор. Передаю слышанное об обстоятельствах, сопровождавших полонение Перовского. Обстоятельства сии иначе изложены в Записках его, в журнале «Русский архив», 1865. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)68
Мемуарист ошибочно помещает в состав отряда генерал-адъютанта Ф. Ф. Винцингероде Белорусский гусарский полк. Между тем указанный отряд был усилен Изюмским гусарским полком и лейб-казаками, которые при отходе русского арьергарда от Москвы были отрезаны и поступили в команду генерал-адъютанта. Следует добавить, что, хотя этот отряд и находился у Клина, его отдельные партии посылались к Звенигороду, Рузе, Волоколамску, Гжатску и Дмитрову.
(обратно)69
Слухи, как видно, ложные; ибо в 1820-х годах я встретился с Гогиусом на Кавказе, где он, в чине полковника, управлял округом путей сообщения. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)70
Воровать (фр.).
(обратно)71
Не препятствовать (фр.).
(обратно)72
В 1812–1814 годах в Ахтырском гу сар ском полку не служил офицер, носивший фамилию Баррюель. Но был корнет Александр Юзефович фон Бервиль (см.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2246. Л. 73; Д. 2247. Л. 29 об.; Д. 2249. Л. 148 об.).
(обратно)73
Генерал-майор граф К. К. Сиверс был шефом не Нежинского, а Новороссийского драгунского полка.
(обратно)74
От франц. vedette – конный караул или разъезд.
(обратно)75
Оставившего известные «Воспоминания о кончине Павла Первого», напечатанные в «Русском архиве» 1869 г. (П. Б.)
(обратно)76
Свидание французского генерал-адъютанта графа Ж. А. Б. Л. Лористона с фельдмаршалом М. И. Кутузовым состоялось в Тарутинском лагере 23 сентября / 5 октября 1812 года.
(обратно)77
Указанное успешное дело генерал-майора И. С. Дорохова на можайской дороге произошло 11/23 сентября 1812 года.
(обратно)78
Ошибка мемуариста: честь взятия штурмом Вереи 29 сентября / 11 октября 1812 года принадлежит генералу И. С. Дорохову, а поручик М. Ф. Орлов, находясь в отряде генерала в должности квартирмейстерского офицера, был лишь активным участником этого боя.
(обратно)79
Впоследствии министр внутренних дел. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)80
Автор перепутал фамилию убитого в сражении при Тарутине неприятельского генерала. То был не Ферье, а Станислав Фишер, польский дивизионный генерал. Кроме того, в том бою с французской стороны погиб еще один генерал – Пьер Дери, адъютант неаполитанского короля И. Мюрата.
(обратно)81
Игра слов. Буквально: своими рутинными приемами ты меня обманул (фр.).
(обратно)82
Полоцк был взят войсками графа П. Х. Витгенштейна 8/10 октября 1812 года.
(обратно)83
О, Иисус, Мария! (фр.)
(обратно)84
По впечатлению, до сих пор оставшемуся у меня о сем раненом, помню, что видел обнаженную часть мозга его с кровяными на нем знаками и даже отделившиеся или оторванные частицы мозга, прилипшие к внутренности отбитой череповой чашки. Не понимаю, как человек этот мог выдержать в таком положении и без всякого пособия два морозных утренника, последовавшие за сражением под Тарутиным. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)85
Обстоятельство знакомства моего с Бистромом, вероятно упущенное из виду в том месте, где о нем следовало упомянуть, должно быть помещено здесь, единственно с той целью, чтобы назвать человека сего, пользовавшегося в армии всеобщим уважением по известной храбрости его. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)86
Армия Наполеона выступила из Москвы 7/19 октября 1812 года.
(обратно)87
Князя А. П. Урусов в 1812 году не был шефом Копорского пехотного полка. В 1805 году он был назначен шефом Калужского мушкетерского полка; в 1806 году вышел в отставку; вернулся на службу в июле 1812 года, получив в команду бригаду в составе 4-го пехотного корпуса, а в 1813–1814 годах возглавлял 8-ю пехотную дивизию.
(обратно)88
Рассказ Коронелли – странный; непонятно, как и где он мог быть ранен и брошен среди передовых наших войск. Можно скорее полагать, что он до войны проживал в Москве, где научился по-русски и вышел оттуда с французами. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)89
Бои при Красном происходили с 3/15 по 6/18 ноября 1812 года.
(обратно)90
Фамилия майора гусарского полка Лесовский, а не Лисаневич.
(обратно)91
Генерал-майор граф П. И. Ивелич был шефом не Белостокского, а Брестского пехотного полка.
(обратно)92
Милостивый государь, я офицер; когда несчастные поедят и для меня что-нибудь останется, я тоже поем. Я исполняю мой долг (фр.).
(обратно)93
Слух неосновательный и поступок, несовместный с благородным характером Витгенштейна. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)94
Не во время сражения, а на какой-то мызе, где его застали французские фуражиры. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)95
Отзыв обо мне Черкасова не имел, однако же, влияния на расположение ко мне Толя, который до последних годов своей жизни отличал меня на службе и постоянно показывал мне особое доверие. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)96
Ниже –39º С. (Примеч. ред.)
(обратно)97
Я не сократил пространного описания бедствий, претерпенных в 1812 году французской армией, и оставил даже встречающиеся о том повторения, как свидетельство о впечатлении, оставшемся у меня в памяти, когда я писал сии записки шесть лет спустя после событий, об ужасах, сопровождавших бегство неприятеля из нашего отечества. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)98
В 1812 году серебряные шарфы были заменены по высочайшему повелению нитяными, вероятно, в видах облегчения офицеров в расходах. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)99
Произведение Л. де Монброна. (Примеч. ред.)
(обратно)100
На этих словах король пукнул, и это было последнее, что сделал король (фр.).
(обратно)101
«Отче наш» (лат.).
(обратно)102
Пожалейте, меня, мне осталось жить всего несколько часов. Все что я прошу, это разрешить мне провести четверть часа у вас, а потом я пойду умирать на улицу (фр.).
(обратно)103
– 30-й драгунский временный, командир.
– Ваш полк был велик в начале кампании?
– Командир, в нем была тысяча кавалеристов.
– Почему вы покинули свой полк?
– Я больше не мог терпеть усталость, голод и холод.
– В вашем полку осталось еще много людей?
– Командир, в нем больше нет офицеров, осталось всего четырнадцать пехотинцев.
– Откуда вы сейчас пришли?
– Из Смоленска.
– И вы не видели ваших товарищей?
– Нет, командир, я их не встречал; а вы случайно их не видели?
– Вы прошли мимо них. Они лежат вдоль дороги.
– Командир, вам хорошо шутить. Я вас уверяю, что мечтаю об их участи: они больше не мучаются, а я должен провести еще несколько часов на улице, прежде чем умру.
– Вы действительно хотите умереть?
– Командир, если бы у меня была такая возможность, я бы не медлил ни минуты (фр.).
(обратно)104
Командир, жестоко обманывать меня таким образом! Я с нетерпением ждал конца своих страданий, ждал той минуты, когда вы великодушно предложите мне свое оружие; но оно не заряжено. Ну же! Нехорошо с вашей стороны продлевать мои страдания, отдаляя желанное мгновение моей смерти; я буду замерзать сегодня ночью, хотя все могло бы кончиться прямо в эту минуту (фр.).
(обратно)105
Чтобы зарядить ружье, когда вам в следующий раз вздумается пустить себе пулю в лоб (фр.).
(обратно)106
В сем обширном доме, что на Большой Дмитровке, помещался несколько лет Английский клуб. Дом этот, перешедший по наследству моему отцу, был им продан. (Примеч. 1866 г.) – Дом этот ныне принадлежит г. Рудакову. Впоследствии помещался в нем славный пансион М. Г. Павлова и в наши дни Лицей цесаревича Николая. (П. Б.)
(обратно)107
Автор ошибается: Пустрослев только служил в Московском почтамте. (П. Б.)
(обратно)108
Да, да. (нем.)
(обратно)109
Что, Господи, он мне читает, когда я так хочу есть? (фр.).
(обратно)110
Я раздобуду Вам квартиру с самым лучшим питанием (нем.). – Здесь и далее пер. с нем. В. Акунина.
(обратно)111
…запряженную четверкой конную фуру (нем.).
(обратно)112
Добровольческий (нем.).
(обратно)113
Еще одна паталья! (нем.) (искаженное французское слово «батай!» – сражение, битва).
(обратно)114
Видно, что тогда уже вертелась в головах прусского народа мысль о совершающемся ныне объединении всей Германии под державой их короля. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)115
«Золушка» (нем.).
(обратно)116
Мой лучший камрад (фр. camarade, товарищ) или господин камрад (нем.).
(обратно)117
Господин офицер, вы за это ответите (нем.).
(обратно)118
После этого в подлинной рукописи вырезано целых пол-листа. (П. Б.)
(обратно)119
Этот Кроссар оставил шесть книг своих записок: Memoires militaires et historiques pour servir a l’histoire de la guerre depuis 1792 jusqu’en 1815, par m. le baron de Crossard. Paris 1829–1830. В них много говорится о России. (П. Б.)
(обратно)120
Я их предупреждал, я им говорил. Они не захотели последовать моим советам, и теперь наказаны (фр.).
(обратно)121
Если позиции нет, ее надо создать (фр.).
(обратно)122
Что вы делаете? Город – это ловушка, никогда нельзя рисковать, проводя артиллерию через город (фр.).
(обратно)123
Я, полковник Кроссар, приказываю вам сейчас же развернуться и искать другую дорогу (фр.).
(обратно)124
Я спас всю русскую артиллерию, которая могла оказаться в ловушке из-за оплошности неопытного офицера (фр.).
(обратно)125
«Векфильдский священник» О. Голдсмита. (Примеч. ред.)
(обратно)126
Камер-юнкер (фр.).
(обратно)127
Не рождение, а состояние определяет различия (фр.).
(обратно)128
Сифилис, нарывы. (Примеч. ред.)
(обратно)129
Житель Савойи. (Примеч. ред.)
(обратно)130
Куда вас ранило? (нем.)
(обратно)131
Союзные русско-прусские войска в двухдневном сражении при Бауцене 8/20–9/21 мая 1813 года потеряли 12 тыс. человек, а армия Наполеона – около 20 тыс. человек.
(обратно)132
Лучший камрад (товарищ), господин русский камрад (нем.).
(обратно)133
Господин лейтенант Ланге (нем.).
(обратно)134
Восточно-прусский драгунский, или уланский, полк (нем.).
(обратно)135
Мемуарист ошибается: в составе прусской кавалерии в 1813 году не состоял ни Восточно-Прусский драгунский, ни Восточно-Прусский уланский полк, но были Западно-Прусский драгунский и Западно-Прусский уланский полки.
(обратно)136
«Ах, мой милый Августин» (нем.).
(обратно)137
Иметь, быть, становиться, стал, [я] есть (нем.).
(обратно)138
Господин русский лейтенант (нем.).
(обратно)139
Операционная канцелярия (нем.).
(обратно)140
Будущий князь. (П. Б.)
(обратно)141
Личная стража (фр.).
(обратно)142
Бо-о-ольшие операции (фр.).
(обратно)143
См. примечание 18.
(обратно)144
«За Короля и Отечество» (нем.).
(обратно)145
Согласно Трахенбергскому плану осенней кампании в Германии, союзные силы разделялись на три армии: Северную армию под командованием наследного шведского принца Ж. Б. Ж. Бернадота, которая располагалась в Пруссии между Нижней Эльбой и Берлином, Силезскую армию, возглавляемую прусским генералом Г. Л. Блюхером, и самую крупную – Богемскую армию под началом австрийского фельдмаршала К. Ф. Шварценберга. Исходя из складывавшейся ситуации, Силезская армия должна была присоединиться к Северной или Богемской армии. В случае выступления Наполеона против одной из союзных армий, другой надлежало атаковать его операционную линию. Все союзные армии охватывали расположение войск Наполеона в Саксонии с севера, востока и юго-востока. Кроме того, к основным силам союзников должна была присоединиться Польская армия под командованием генерала Л. Л. Беннигсена, выдвинувшаяся от Вислы к Одеру.
(обратно)146
О, мой Бог, Иисус, Мария! К черту теперь большие операции, эти господа хотят быть опрокинуты врагом, они будут разбиты с фланга (фр.).
(обратно)147
«Я мародер» (нем.).
(обратно)148
18 октября 1813 года шефом Восточно-прусского кирасирского полка был назначен цесаревич и великий князь Константин Павлович. С этого времени полк назывался его именем.
(обратно)149
«Да здравствует император Александр!» (фр.)
(обратно)150
Одет с иголочки (фр.).
(обратно)151
Сражение при Дрездене началось 14/26 августа 1813 года.
(обратно)152
Следует уточнить, что из 14 тысяч солдат и офицеров союзных войск, попавших в плен в сражении при Дрездене, около 10 тысяч приходилось на австрийскую армию.
(обратно)153
В двухдневном сражении при Дрездене 14–15/26–27 августа 1813 года союзники потеряли от 24 до 30 тысяч, в том числе до 14 тысяч пленными. Убыль в армии Наполеона составила 10 тысяч человек.
(обратно)154
О, Иисус, Мария! К черту большие операции, я больше ничего не вижу! (фр.).
(обратно)155
Общая численность отряда графа А. И. Остермана-Толстого достигала 17,5 тысячи, а действующий против русских войск 1-й армейский корпус генерала Ж. Д. Р. Вандама имел в строю 37 тысяч при 84 орудиях.
(обратно)156
Точности ради упомянем, что в первый день сражения при Кульме 17/29 августа 1813 года неприятельское ядро перебило левую руку графа А. И. Остермана.
(обратно)157
Должность начальника штаба 1-го армейского корпуса занимал бригадный генерал Жан Реве (1773–1845). Ему удалось избежать плена в сражении при Кульме, но при капитуляции Дрездена он все же попал в число плененных французских генералов. В сражении при Кульме был ранен и взят в плен начальник штаба 2-й пехотной дивизии штабной полковник Эммануэль Фредерик де Спрунглен (1773–1844). По-видимому, именно он сообщил Н. Н. Муравьеву о больших потерях во французской пехоте, понесенных в результате описанной мемуаристом атаки лейб-драгун.
(обратно)158
Речь идет о Кульмском кресте – награде прусского короля Фридриха Вильгельма III для отличившихся в сражении русских гвардейцев. Официальное его название – «Знак отличия Железного креста». Кульмские кресты доставили в Петербург в апреле 1816 года, а в марте того же года раздали на параде гвардейским офицерам и солдатам, участникам сражения.
(обратно)159
«Спасайся кто может!» (фр.)
(обратно)160
В двухдневном сражении при Кульме Ж. Д. Р. Вандам потерял около 10 тысяч убитыми и ранеными, 12 тысяч пленными. Сумевшие выйти из окружения французские войска насчитывали до 15 тысяч человек. Союзники потеряли убитыми и ранеными 9,5 тысячи человек. Победители захватили 2 неприятельских орлов, 3 знамени и 84 орудия.
(обратно)161
Приказ прусскому корпусу генерала Ф. Г. Ф. Э. Клейста двинуться в тыл войскам Вандама отдал император Александр I.
(обратно)162
«Ах, любезный генерал, и вы тоже в плену!» (нем.)
(обратно)163
В сражении при Кацбахе 14/26 августа 1813 года Силезская армия генерала Г. Л. Блюхера наголову разбила соединенные корпуса маршалов М. Нея, Э. Ж. Макдональда и дивизионного генерала Ж. А. Лористона. Трофеями победы стали 36 орудий, 110 зарядных ящиков, большой обоз и 18 тысяч пленных.
(обратно)164
«Сильные кавалерийские дела» произошли 2/14 октября 1813 года близ Лейпцига у деревни Либертвольквиц.
(обратно)165
Очевидно, речь идет о вюртембергском кавалерийском генерал-майоре К. Ф. Л. фон Норманне Эренфельсе (1784–1822), перешедшим со своей бригадой (около 600 человек) на сторону союзников во время сражения при Лейпциге 6/18 октября 1813 года. Его действия не получили одобрения вюртемберского короля, и он был вынужден отправиться в изгнание в Англию. В то же время надо сказать, что несравненно большее значение имел переход к союзникам контингента саксонских войск: 9 пехотных батальонов (2635 человек), 12 кавалерийских эскадронов (639 человек) и 26 орудий.
(обратно)166
Чумбур – чересседельник, деталь конской амуниции. (Примеч. А. Вальковича)
(обратно)167
В трехдневной Битве народов при Лейпциге союзные войска потеряли около 54 тыс. человек. Потери армии Наполеона составили 45 тыс. убитых и раненых, в плен было взято 15 тыс. Победители захватили более 300 орудий и 900 зарядных ящиков.
(обратно)168
С титулом вице-короля Саксонского, князю Николаю Григорьевичу определено было и королевское содержание, но он отдавал его на нужды, восстановление и украшение Дрездена; даже тратил на то собственные деньги. Ныне Дрезден – маленький всемирный город (eine kleine Weltstadt), как его величают в Германии. Не мешало бы его жителям выразить почтительную признательность к памяти великодушного вице-короля и дочери его, здравствующей в Москве (на радость всех ее знающих) княжне Варваре Николаевне Репниной. (П. Б.)
(обратно)169
Некогда (1786) исключенный из русской службы за злоупотребления и обильно попользовавшийся всякими благами в России, этот первый король Виртембергский был старшим дядей Александра Павловича. (П. Б.)
(обратно)170
Сражение при Бриенне произошло 17/29 января 1814 года.
(обратно)171
Мой дорогой Николай, итак, я снова встретил вас перед тем, как умереть! (фр.)
(обратно)172
Прежде чем войти ко мне, спасите моего соседа, этого несчастного человека, у которого отбирают сено (фр.).
(обратно)173
В таком случае я принесу несколько вязанок сена для ваших лошадей (фр.).
(обратно)174
Верно не помню, точно ли в то время пришли сии 6000 человек конницы или несколько позже. (Примеч. 1866 г.)
(обратно)175
Хорошая добыча (фр.).
(обратно)176
Первая подробная карта Франции, сделанная в XVIII веке семьей Кассини. (Примеч. ред.)
(обратно)177
Буквально: «Голубь двух церквей» (фр.).
(обратно)178
Сражение при Реймсе, где был смертельно ранен граф Э. Ф. Сен-При, командир 8-го пехотного корпуса, состоялось 1/13 марта 1814 года.
(обратно)179
Описываемое сражение при селении Арси-сюр-Об произошло 8/20–9/21 марта 1814 года.
(обратно)180
Вино кометы (т. е. года кометы) (фр.).
(обратно)181
Сражение при селении Фер-Шампенуаз 13/25 марта 1814 года, открывшее дорогу на Париж союзным войскам, состоялось в 120 км от французской столицы.
(обратно)182
Смотрите-ка… русский! Трус, ты никогда не осмелишься сразиться со мной один на один; иди посмотри на дорогу до Парижа (фр.).
(обратно)183
Подождите, генерал, не лучше ли будет нам разобраться один на один; подойдите и выстрелите в меня, я вам отвечу (фр.).
(обратно)184
Хорошо (фр.).
(обратно)185
Так не пойдет, давайте еще раз! Мне кажется, что ваш пистолет никогда раньше не видел огня (фр.).
(обратно)186
Сейчас ты его увидишь! (фр.)
(обратно)187
Моя очередь… Трус, дезертир, я убью тебя прикладом (фр.).
(обратно)188
Сдавайтесь, сдавайтесь! (фр.)
(обратно)189
Рядовым Почетной гвардии (фр.)
(обратно)190
В окрестностях Парижа союзные войска появились вечером 17/29 марта 1814 года.
(обратно)191
Французскую столицу защищали около 41 тыс. человек при 154 орудиях. Им противостояло 118 тыс. союзных войск из состава Богемской и Силезской армий, но непосредственно в сражении за Париж 18/30 марта из них участвовало не более 48 тыс.
(обратно)192
Шарль Морис де Талейран никогда не был военным министром, в описываемое время этот видный сановник империи состоял в Совете регентства, учрежденном в Париже во время отсутствия императора Наполеона. Пост военного министра в то время занимал дивизионный генерал Анри Жак Гийом Кларк (1765–1818), герцог Фельтрский. Решение о вступлении в переговоры с союзниками о перемирии исходило от старшего брата французского императора Жозефа Бонапарта (1768–1844), наместника империи и главнокомандующего Национальной гвардией, возглавлявшего оборону Парижа.
(обратно)193
Битва у холма Сен-Шамон (фр.).
(обратно)194
Чтобы выпить рюмочку (фр.).
(обратно)195
Законодательный корпус (фр.).
(обратно)196
В окрестностях улицы Пуассоньер (фр.).
(обратно)197
Смотри, мой дорогой Муравьев, если вы возьмете штурмом наш славный город Париж, при помощи этого оружия я застрелю из своего окна первого из ваших людей, кто окажется на площади перед Законодательным корпусом, и если, по несчастью, им окажешься ты, значит, я убью своего внука (фр.).
(обратно)198
Да здравствует король! (фр.)
(обратно)199
Да здравствует, Генрих IV! (фр.)
(обратно)200
Пусть Господь хранит Александра и его потомков, Всегда (фр.). (обратно)201
Да здравствует республика! (фр.)
(обратно)202
Да здравствует Александр! (фр.)
(обратно)203
Экс-император (фр.).
(обратно)204
Они есть у нас, следует ли нам отправиться вперед и достойно разобраться с этими императорскими трусами? Вперед, товарищи, марш! (фр.)
(обратно)205
– Командир, если он прав и мы действительно ошибаемся, да здравствует наш командир! Командир, что вы прикажете нам теперь сделать? Идите к себе и выспитесь; я сам обо всем позабочусь (фр.).
(обратно)206
– Нет, товарищ. Вы не платите.
– Как это?
– Я за это заплачу: вчера я получил из дома еще семьсот дукатов (нем.).
(обратно)207
Речь идет о знаменитом парижском ресторане, владельцем которого был г-н Вери. Ресторан открылся в начале XIX века в одном из флигелей, построенных в конце предыдущего столетия вокруг сада дворца Палерояль для размещения магазинов, кафе и т. п.
(обратно)208
Салон для иностранцев (фр.).
(обратно)209
О, мой Бог, что за страна! (фр.)
(обратно)210
Музей Наполеона (фр.).
(обратно)211
Картинная галерея (фр.).
(обратно)212
Музей артиллерии (фр.).
(обратно)213
Василий Андреевич, сын Андрея Ивановича Протасова, женившийся потом на Екатерине Петровне Юшковой (сестре А. Н. Киреевской-Елагиной). (П. Б.)
(обратно)214
– Я обязан своим спасением в этом злосчастном отступлении только одному растению, без которого я бы, конечно, погиб.
– И какое же это было растение, господин Метивье?
– Господа, это растение – мои ноги (фр.).
(обратно)215
Спойте для нее вашу тирольскую, вы ее очаруете. Мадам Фрошо – молодая женщина, ее муж – полковник, очень талантливый; не знаю, умер ли он или еще служит, но она ваша соседка, и вы встретитесь с ней завтра у меня за обедом (фр.).
(обратно)216
Как она вам понравилась, мой дорогой Муравьев? (фр.)
(обратно)217
Не правда ли, она ангел? (фр.)
(обратно)218
Дедушка, у ангелов рожи не измазаны испанским табаком (фр.).
(обратно)219
Да ты просто варвар; ты привык к Северу и зиме. Тебе не нужна прекрасная француженка: ты гораздо больше любишь свою трубку. Если бы ты знал, какого качества мой испанский табак, ты бы говорил иначе. Не буду больше знакомить тебя с такими прекрасными дамами. Почему я не в твоем возрасте? Мадам Фрошо сочла тебя весьма привлекательным и только что наговорила мне тысячи приятных слов о тебе! (фр.)
(обратно)220
Посыльный (фр.).
(обратно)221
«Я считала, что вы более чутки и способны откликнуться на обаяние сердца, открыто признавшегося вам, но ваше сердце, запорошенное снегами Севера, не смогло ответить на порыв моей страсти. Забудьте меня; я не хочу больше вас видеть. Однако мне льстит, что вы не заметили в моем поведении страсти, которую я не могла сдержать. Я считаю, что имею право хотя бы на ваше уважение. Я вижу, у вас благородное и честное сердце» (фр.).
(обратно)222
Имеется в виду Дмитрий Алексеевич Столыпин (1785–1826)..
(обратно)223
Кутила (фр.).
(обратно)224
Дорогой соратник! У Вас сегодня будет превосходный обед по случаю дня рождения нашего земляка! (нем.)
(обратно)225
– Как? Муравиефф? Майор, да, майор, господин майор, то есть штаб-офицер; поэтому будьте любезны совсем немножко подождать, Часовой, это штаб-офицер, значит, надо крикнуть: «На к-раул!» (нем.)
(обратно)226
«На к-раул!» (нем.)
(обратно)227
Десть (устар.) – единица счета писчей бумаги, равная 24 листам. (Примеч. ред.)
(обратно)228
Уезжайте, господин Муравьев, будьте счастливы, возвращайтесь, как можно скорее и будьте уверены в нашем уважении к вам, это все, что я могу сказать (фр.).
(обратно)




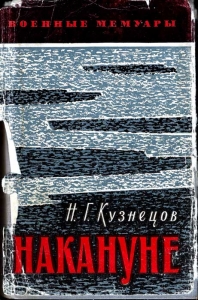
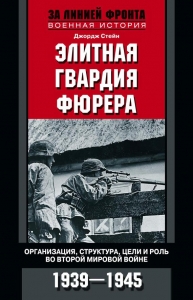



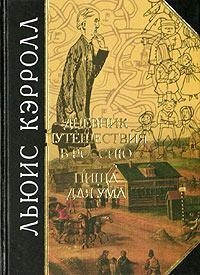
Комментарии к книге «Собственные записки. 1811–1816», Николай Николаевич Муравьев-Карсский
Всего 0 комментариев