Илья Штемлер Война детей
ВОЙНА ДЕТЕЙ Маленькая повесть в семи новеллах
Война – она для всех война. Для взрослых и для детей. Но от детей, если они не испытывают на себе все ужасы войны, она прячет свою бесчеловечность, нередко представляясь игрой, как это кощунственно ни звучит. В этом проявляется еще одна подлость войны – коварство…
Мне было восемь лет, и в ожидании учебы во втором классе я изнывал в июньской жаре моего родного города Баку. Мой папа заведовал литературной частью Русского драматического театра. И в июне 1941 года уехал вместе с театром на гастроли в Кисловодск. Там на курорте отдыхал знаменитый драматург Погодин, в пьесу которого «Кремлевские куранты» мой папа с разрешения драматурга придумал одну картину. И папе было интересно, как драматург к этому отнесется, вот и поехал. А я с мамой и сестрой готовился навестить родителей папы – моих дедушку и бабушку, которые жили в Ленинграде. В предвкушении этой поездки я растрезвонил всем пацанам нашего двора о том, что представляет собой Ленинград и какое удовольствие ждет меня через несколько дней. Долго важничать мне не пришлось. За два дня до отъезда началась война – та самая, с Гитлером. Папа вместе с театром вернулся из Кисловодска и вскоре отправился в военкомат, который находился рядом с нашим домом. Он не был военнообязанным, поэтому записался добровольцем, как и многие его друзья-артисты. Папу обучили санитарному делу, с которым он провоевал санинструктором под командованием знаменитого Цезаря Куникова на Малой Земле, в Крыму. Он вытаскивал раненых с поля боя. Четырежды менялся весь наличный состав наших войск в тех сражениях с немцами, а папа оставался в живых. Лишь в конце войны, в апреле 1945 года, его настиг осколок. Он так и демобилизовался санинструктором, с тем осколком в легких и с медалью «За Победу». И еще ему вручили победных пять тысяч рублей в пятирублевых купюрах. Почему я это запомнил? Деньги хранились в ящике буфета, и я, двенадцатилетний охламон, втихаря пару раз «одалживал» по купюре на свои ребячьи нужды… Все военные годы я и сестра жили под крылом мамы и бабушки. Только взрослея, я стал понимать, какую беду принесла война в, казалось, мирную тыловую жизнь моих близких. Возможно, этими короткими рассказами я в какой-то степени поведаю о той «уходящей натуре», которую оставила в моей памяти печально-веселая игра времен моего детства.
КТО БРОСИТ В НЕЕ КАМЕНЬ?
Каждый из нас подбирал себе камень по вкусу.
А выбор был: в соседний двор с полмесяца как привезли машину камней. Собирались рыть колодец. И вот уже с полмесяца как вечерами спорили жильцы соседнего двора: каждый хотел, чтобы колодец вырыли поближе к его квартире.
Рабочие – губастый Ибрагим и его жена – сидели под тутовником, ели лаваш с виноградом и ждали, когда кончится спор и укажут место, где рыть колодец. Они сидели с шести вечера дотемна, изредка обращая лица в сторону окна, из которого доносились наиболее громкие крики.
– Холера бы взяла этого Гитлера и тебя, Таир! – кричала горбатая Зейнаб. – Был бы мой муж рядом, он бы не допустил, чтобы его жена-инвалид таскала ведро воды почти из Арменикенда. О-о…
– Какой Арменикенд?! Что ты мелешь, глупая женщина? – возражал ей старый Таир, председатель артели по ремонту обуви. – Десять шагов от моей квартиры и двенадцать от твоей. Всего на два шага разница!
Таир выскакивал во двор и отмерял шаги в разные стороны, словно искал место, где зарыли клад. В парусиновых брюках он казался большим белым циркулем.
– Два шага до твоей могилы, Таир! – вопила Зейнаб. – Посмотри, какие шаги ты делаешь для себя и какие для меня, несчастный!
Таир хлопал себя по дряблым ягодицам и нервничал:
– Клянусь жизнью, эта женщина может свести с ума академика из Академии наук! Пойми, женщина: если шагать наоборот, будет центр. А в центре колодец копать нельзя. Постановление исполкома!
Губастый Ибрагим молча жевал свой лаваш с виноградом, щуря черные глаза, разъеденные дымом от кипящего кира, – днем он работал кирщиком, заливал крыши киром. А его жена испуганно замирала, придерживая кусок лаваша у рта.
Груда камней с каждым днем уменьшалась: прекрасный отполированный морем крупный галечник – ребята за ним приходили даже с Бондарной улицы, а это не так уж и близко, надо сказать. Но куда не пойдешь в поисках хорошей биты для игры в цукорий…
Наконец позавчера Ибрагим в разгар перепалки соседей завернул виноград и лаваш в газету «Вышка». Встал. Плюнул в кучку оставшихся камней, закинул на плечи две лопаты и пошел со двора. Жена подхватила большую плетеную корзину – зембиль, плюнула в то же самое место, куда плюнул муж, и выругалась по-русски, как ругался дворник, косой Захар, когда читал сообщение о наступлении немцев…
– Все из-за твоего упрямства, женщина! – кричал Таир. – Они самому председателю суда Алекперову колодец рыли.
– Лучше бы они этому Алекперову что-нибудь другое вырыли, – подхватила Зейнаб. – Моей племяннице два года дал. А за что?! Сколько людей сейчас спекулируют – и ничего! Война, жить трудно. Кто крутится, тот живет…
Итак, выбор у нас был широкий, и каждый мог подобрать себе камень по вкусу. Правда, вкус почти у всех мальчишек совпадал:
бита должна быть некруглая, чтобы не катиться, лучше всего – овальная и тяжелая, чтобы сбить цукорий. Игра заключалась в следующем: в центр очерченного мелом круга ставилась пустая банка с маленьким камешком – цукорием – наверху. Так прозвали камешек в связи с тем, что сахар по-украински назывался цукор. Его до войны продавали в голубых пачках. И заядлые любители чая, после того как осушали стакан, переворачивали его и на дно водружали огрызок сахара, что и напоминало внешне нашу перевернутую банку с камешком на макушке. Вероятно, поэтому и прозвали игру цукорием. И надо отметить, что это была самая популярная игра нашего военного детства, за исключением, пожалуй, другой игры – «Здравствуй, осел!», но не о ней сейчас речь.
Мы играли в цукорий. Мы отступали от круга метров на десять и по очереди швыряли свою биту. Попасть в банку было несложно. Главное – так выбить ее из-под цукория, чтобы камешек свалился в меловой круг. А это было великое искусство, которое давалось немногим. Игра была азартная, она разжигала страсти, сопровождалась криками, спорами, клятвами и мелким плутовством. И нередко прерывалась потасовкой, когда двор шел на двор.
Лично я считался мазилой. Мне редко удавалось даже попасть в банку. Но меня принимали в игру из-за того, что банка принадлежала лично мне – прекрасная желто-красная банка из-под американской тушенки, прозванной дворником Захаром «второй фронт»… Я принял соответствующую позу, свирепо прищурил глаза и отвел руку назад. Камень приятно тяжелил руку и казался теплым, словно обернутый шершавой кожей. Мои приятели нетерпеливо переминались с ноги на ногу: скорей бы я бросил, промазал и за дело принялся следующий, более умелый игрок.
Я бросил. И не промазал. Камень коротко стукнул о банку. Банку выбило, и цукорий упал в круг. В самый центр. Более удачного удара нельзя и представить. Все игроки обомлели. Я выпрямился и стоял, гордый, в ожидании поздравления, еще не веря в свою удачу. Но мне так и не удалось до конца испить сладкую чашу победителя – кто-то крикнул за спиной:
– Дезертирка вышла!
Я тут же был забыт. Все обернулись в сторону крыльца, на котором стояла девчонка в голубой косынке. Черными, чуть навыкате глазами она беспокойно и настороженно ощупывала нас. Все соседи считали, что она красивая девочка, но я был убежден, что красивым человек не может считаться, если у него такие бараньи глаза. И такие волосы, похожие на растрепанную метлу дворника Захара…
Девочка поджала одну ногу, и все увидели протертую насквозь подошву старой туфельки. Губы ее скривились, и она произнесла негромко (вероятно, не хотела, чтобы ее кто-то слышал, кроме нас):
– Мне в школу надо.
Мальчишки многозначительно покачивали в руках тяжелые биты.
– Если я опоздаю, меня будут ругать, – отчаянно добавила она и осторожно, точно пробуя пальцами ног воду, ступила на первую ступеньку.
– Давай! Давай! Спускайся, – злорадно подбадривали ее.
– Вы будете бросать в меня камни? – она шмыгнула носом.
Все молчали. И без слов было ясно, что намерения ватаги в отношении девчонки не слишком миролюбивы.
Я же отчаянно старался схватить за хвост ускользающую удачу, что так внезапно свалилась на меня:
– Эй, Томка, ты видела, кто сейчас сбил цукорий?
– Ты дурак! И все вы дураки…
Она повела худенькими плечиками под стираным-перестираным платьем и спустилась с крыльца, глядя прямо перед собой. Кто-то из нас первым пустил камень по асфальту, прямо под ноги девочке. Второй, третий… Камни, словно трассирующие пули, веером слетались к тому месту, куда ступали ее туфли. Девочка подпрыгивала, пропуская их под собой, и, не выдержав, побежала…
Все началось с того душного вечера, когда во дворе появился высокий мужчина в толстых очках. Это был отец Томки – Спартак Адигезалович Адигезалов. Все знали, что он ушел на фронт в самом начале войны. И он вернулся. В очках и гимнастерке, с латкой на локте. Неизвестно, кто первым пустил слух, что Спартак не вернулся, как возвращались раненые, а убежал с фронта, дезертировал. Потом мы долго гадали, кто же пустил этот слух: то ли горбатая Зейнаб, то ли тетка Марьям, которая продавала соседям вонючее хаши. Но слух такой был. А так как у всех соседей ктото воевал или уже был убит или ранен, то слух этот не оставили без внимания.
– Счастливая Аида, Томкина мать. Умерла, не дожила до черного часа – видеть мужа-дезертира. Подумаешь, близорукий! Кто сейчас здоровый? Все воюют – и ничего, – и горбатая Зейнаб сообщила, что однажды ночью она видела, как Адигезалов шел по двору… без очков. Ночью. Думал, что его никто не видит, все спят. Он шел в уборную без очков. Зейнаб так поразилась, что не могла и слова вымолвить. Тогда ей все стало ясно. Видимо, она и пустила слух, что Адигезалов – дезертир.
– И как его родители таким именем назвали – Спартак? – озадаченно спросил дворник Захар.
– А что родители? – вмешалась Зейнаб. – Как что, родители виноваты. Откуда они знали? Как что, все родители виноваты…
– Нет, не все мне ясно, – сомневалась моя бабушка. – Почему он добровольно ушел на фронт? Я ведь помню: он стоял на призывном пункте на улице Полухина, вместе с моим Женечкой…
– Почему? Чтобы пыль в глаза пустить! – казалось, что горб у Зейнаб еще больше вздулся от негодования.
– Ладно, ладно! – прикрикнула моя бабушка. – У человека, может быть, катаракта обоих глаз. А вы?
Дворник Захар, дремавший под теплым вечерним солнцем, встрепенулся. Он знал все, что происходит на свете. И по каждому поводу имел свою точку зрения.
– Катаракта? Ха-ха… Это же рыба такая, – и уточнил для пущей важности: – В Африке.
– Рыба – каракатица! Катаракта – это болезнь глаз, – поправила бабушка, которая тоже кое-что знала, но редко это показывала.
Дворник Захар тотчас отчаянно заспорил. Но бабушка презрительно оглядела его маленькую фигуру и покачала головой:
– Тебе, Захар, как человеку, тоже имеющему дефект зрения, не мешало бы это знать.
Захар еще отчаяннее заспорил: он не любил, когда намекали на то, что он косой, даже так тонко намекали, как это сделала тогда моя бабушка.
– И девочку жалко, – вздохнула Зейнаб. – Такая красивая.
– Слушай, перестань, да?! Всех жалко! Наоборот, пусть ей будет стыдно за отца. Чтобы тот все понял, – Захар отошел от женщин и принялся подметать двор, хотя только-только закончил уборку… Вообще-то Томка считалась своей девчонкой. Было время, когда мы хотели взять ее с собой, собираясь бежать на фронт. Но потом кто-то нас предал, и затея провалилась, сопровождаемая ревом всех заговорщиков: наказывали при широко распахнутых окнах.
И весь квартал знал, что произошло…
Словом, Томка была своя девчонка. И если бы не загадочное возвращение с фронта ее отца Спартака Адигезаловича, она так бы и оставалась своей. К тому же на нашу улицу принесли подряд три похоронки, и сорок дней, согласно обычаю, все родственники убитых ходили в трауре.
Надо сказать, что и Томка не очень хотела с нами знаться, после того как мы не поверили, что ее отец вернулся с фронта по состоянию здоровья. Она молча терпела наше презрение, и это выводило нас из себя. И лишь когда кто-то первым запустил в нее камень, а потом и все остальные мальчишки, как стая волчат, последовали его примеру, она заплакала…
Я нередко вспоминаю ту историю с Томкой. Даже в другой, взрослой своей жизни приходится сталкиваться с такой слепой неприязнью к существу, которое ничем не виновато в том или ином поступке, имеющем к нему очень отдаленное и чисто условное касательство. Людям порой недосуг разбираться до конца, да и лень. Если это не затрагивает их лично. А несправедливость по отношению к кому-то переносится легко. Скольким людям доставляло наше равнодушие горькие минуты, даже если оно проявлялось не столь бурно, как в той истории моего детства!
Школьная парта, которую занимала Томка, стояла в конце средней колонки. И она сидела одна: никто не хотел с ней сидеть. Когда педагог выуживал из ветхого классного журнала фамилию Адигезалова, Томка проходила через весь класс под мычание учеников. Тогда злились учителя: узнать нельзя, кто мычит, – у всех сомкнуты губы. Поэтому учителя избегали вызывать Томку, благо она готовила все уроки на отлично, в чем учителя были уверены…
Однажды Томка отвечала зоологию. Надо было перечислить все органы чувств окуня. Интересно, какие могут быть чувства у окуня? Чувство горячей сковородки? Мы, тридцать балбесов, слушали, с каким пылом Томка рассказывала про окуня, словно это был ее хороший знакомый. Кое-кто даже перестал мычать. Оказывается, у Томки были рыбки, и она каждый день записывала о них какую-то ерунду: что они едят, как реагируют на разные звуки. Особенно, дескать, их пугает звук, который издает расческа, когда проводишь ею по ребру аквариума. Класс был поражен. В то время как мы гоняем по двору, занимаясь всякой чепухой, Томка, та самая Томка, которую мы презирали, оказалась не зубрилкой, а человеком целеустремленным, вызывающим к себе интерес учителей. И это било по нашему самолюбию.
Месть наша была мелкой. Один из учеников, по фамилии Сеидов, – толстощекий коротыш, слишком сытый на вид по меркам нашего полуголодного военного детства, – выкрикнул с места, что все равно Томка дезертирка и слушать ее ответ ему невыносимо…
Томка покраснела и беспомощно взглянула на учительницу.
– Какие-то глупости! – воскликнула наша добрейшая Гоар Сергеевна. – Очень легко обидеть человека… Если бы и вправду ее отец… – учительница запнулась и покраснела, как Томка. – Давно бы разобрались, – вяло договорила Гоар Сергеевна.
Томка шла на свое место, втянув в тощие плечики маленькую голову. Зоологиня растерянно пыталась внушить нам, что мы возводим напраслину на человека, который, вероятно, – да и наверняка – был отозван с фронта по состоянию здоровья. Что мы жестокие, неумные дети… К тому же мы трусливы – навалились всем классом на своего товарища…
– Да?! А тетка Зейнаб сама видела, как он шел ночью в уборную без очков, – выложил главный козырь Сеидов.
– А у тебя отец заведует рынком! – вдруг перебил Сеидова мой лучший друг Борис.
Было не совсем понятно, какая связь между отцом Сеидова и отцом Томки, но мы почему-то эту связь уловили. Интуитивно.
– Ну и что?! – закричал Сеидов.
– А ничего! – ответил мой лучший друг.
Возможно, Борис и сам пожалел: с чего это он выскочил? Вероятно, оттого, что у Сеидова всегда в сумке были отличные завтраки. А однажды он притащил в школу… кусок шоколада. Об этом долго говорили на всех уроках, а кое-кто из младших даже приходил посмотреть на Сеидова. На большой перемене. Ждали: может быть, он еще раз вытащит кусок шоколада и покажет людям? Так этот самый Сеидов слыл большим правдоискателем. И, честно говоря, если бы не он, мы хотя бы в классе оставили Томку в покое. Нам предостаточно было и своих забот…
Мы сидели на крыше и считали звезды.
Может быть, кому-то это представляется пустым делом, но мне до сих пор это кажется одним из самых азартных занятий. Звезды подмигивали, смеялись, менялись местами – словом, вели себя очень нетерпеливо. Будто наши взгляды их щекотали. Редко кто из ребят мог честно досчитать до ста. Все путалось, перемешивалось, приходилось начинать сначала. Так мы воспитывали волю и терпение – качества, весьма необходимые мужчинам. Какими смешными кажутся нам сейчас многие детские увлечения, и с какой серьезностью мы к ним относились! Вероятно, в этом и заключается вечная загадка детства, выжимающая сентиментальные чувства у весьма суровых людей, уже тертых-перетертых нашей другой, взрослой жизнью…
В просветленной звездами ночи плоские крыши домов казались заплатами на широкой и темной спине города. Лишь кое-где сквозь дружную светомаскировку вдруг прорывался тусклый огонек – кто-то включал лампочку, небрежно занавесив окно. И мы уже были готовы орать: «Свет! Свет!», но огонек, к нашему огорчению, пропадал – видно, хозяин и сам догадывался, что нарушил светомаскировку тылового города, да еще такого, как Баку. Если бы немцы прорвались к нашей нефти, говорил Захар, то стратегически они бы войну выиграли. На что моя бабушка утверждала: «Ничего. Выкрутимся. Сталин что-нибудь придумает». Но Захар в долгу не оставался: «Слушай, Мария, ты умная женщина… Если в керосинке нет керосина, водой ее не разожжешь». Но бабушка не могла допустить, чтобы за кем-то в споре с ней оставалось последнее слово. При этом она пользовалась широким спектром исторических параллелей. «Хорошо, – говорила моя бабушка. – А англичане? В восемнадцатом году захватили Баку. И вылетели отсюда как миленькие».
Посрамленный Захар молчал: он не имел такого арсенала знаний, он был дворником и не собирался баллотироваться в Академию наук. Правда, и моя бабушка не думала выставлять свою кандидатуру в Академию – она продавала керосин на Балаханской улице…
Так вот, мы сидели на крыше и считали звезды. А ноздри наши ловили запахи двора, квартала, улицы. Здесь, на высоте, мы точно знали, в какой квартире что варят, что жарят. В основном варили перловый суп. Или чечевичный, на постном масле. Или пекли пышки из кукурузной муки вперемешку с отрубями…
А наши уши выбирали в приглушенной вечерней колготне опасные для нашего уединения сигналы: вот скрипнула балконная дверь особым ржавым скрипом, а через мгновение раздался голос:
– Борька-а-а!..
Мы сидим не шевелясь, будто Борьки среди нас и не было.
– …Я кому кричу? Или ты уснул, несчастный? – продолжает нестись к нам голос Борькиной матери.
– Сичас, да-а! – не выдерживает напряжения Борис. – Уже подышать свежим воздухом нельзя, да?
– Мой руки, иди спать.
– Я уже мыл руки, – отвечает Борис, не трогаясь с места. – Скоко можно мыть эти руки?
Торг между Борькой и его мамой продолжается… Час растаскивания нас по домам наступил, нас зовут голоса… Точно как предрассветные крики петухов: начал первый, для затравки…
– Ледя! Леонид… Ледик… – вот и моя бабушка вступила.
– Ты не слышишь, да, как зовет тебя твоя бабушка? Тебе что, уши заложило?
– Слышу.
– Иди домой.
– Сичас.
– Не сичас, а сию минуту. Я уже постель нагрела, остынет.
Я краснею. Я чувствую, как сквозь темень ночи проступают светофорным огнем мои щеки и уши. Ах, бабушка, бабушка… Как она меня позорит! Но это начало, настоящий позор впереди.
– Послушай, – невинным тоном начинает дылда Тофик, заядлый второгодник. – Как это она тебе согрела постель? Ты что, с бабушкой спишь?
– Откуда я знаю, что она там болтает? – я отчаянно пытаюсь перевести разговор на другую тему. – По-моему, дождь капает.
– Это не дождь, это Сеидов отошел к стене пописать, – доносится из темноты голос Бориса.
Я счастлив: кажется, товарищи забыли о моем позоре.
Но слишком я плохо изучил характер второгодника Тофика: он пришел в наш класс среди четверти.
– Нет, ты скажи: как это тебе бабушка согрела постель? Ты что, с бабушкой спишь? Один спать боишься, да?
– Что ты ко мне пристал? Пойди у нее спроси. Ты бы лучше меньше двоек хватал.
Ребята смеются. А громче всех хохочет Сеидов, который уже присоединился к компании. Я чувствую, что назревает драка. Честно говоря, драться мне не хочется. Мне охота спать.
Но если я сейчас не подерусь, завтра все будут вспоминать мою бабушку.
– Интересно, кого это больше всех интересует, боюсь я спать один или нет?
– Меня, – отвечает заядлый второгодник Тофик.
Но с ним драться мне ни к чему: он меня отлупит. Правда, мы быстро помиримся: завтра же на арифметике Тофик попросит списать задачу. Но какой толк драться, если заранее знаешь, что тебя отлупят?
И я делаю вид, что не расслышал.
– Кого-кого?
– Мне тоже интересно, – отвечает Сеидов.
Вот это другое дело, Сеидов меня устраивает. Он хоть и сын директора рынка, но драться не может. Как говорит моя бабушка, не в коня корм. А выступил он сейчас потому, что есть люди, которым всегда кажется, что они в центре внимания, что все именно от них ждут решительных поступков, – таких в Баку звали вытыкалами.
Я вскакиваю с места и приближаюсь к Сеидову. Ему тоже не хочется драться, я чувствую, но иначе нельзя: будет подорван престиж.
Мы с ним одного роста, мы стоим, почти приблизив вплотную нос к носу, в соответствии с ритуалом, смотрим друг другу куда-то в область лба, сопя и грозно играя желваками. Очень странный ритуал – я его и сейчас иногда наблюдаю у распетушившихся мальчишек.
Еще мгновение, и мы перейдем ко второй стадии ритуала – отпихиванию. Но тут поспевает мой лучший друг Борис. Нет, он не становится коварно позади Сеидова на четвереньки, с тем чтобы я толкнул вытыкалу и тот грохнулся бы через Бориса. Это было бы несправедливо, а мы только закончили читать «Трех мушкетеров», которых бабушка сменяла у дворника Захара на старую телефонную книгу. Захар нашел «Мушкетеров» в мусорном ящике и обрадовался: будет чем разжигать керосинку через верх. Правда, страницы были толстые, как картон, не совсем удобные. А телефонная книга подходила больше: там листы и длиннее, и тоньше.
Захар давно ее клянчил у бабушки.
Так вот, мой лучший друг Борис подошел и сказал:
– Томка опять плачет. Слышите?
Который вечер мы слышали голоса Томки и ее отца.
Почему-то в памяти моей стерлись более важные для меня истории, иные приняли несколько измененный вид, стали не такими, какими они были на самом деле, но голоса Томки и ее отца, тон их до сих пор звучат в моих ушах, словно все это только что произошло. Почему? Боль другого человека, который чем-то мил тебе, отзывается в сердце страданием раскаяния, если ты в свое время был равнодушен к этой боли. И это не заживает. Потому как собственные неприятности мы не храним – они покрываются слоями других огорчений и других радостей. А в чужой жизни, что прошла мимо нас, память держит что-то одно – или радость, или горе. Так что в истории с Томкой память моя хранила страдание и только страдание.
И я могу почти дословно восстановить тот разговор. Я не видел, где они стояли в своей небольшой комнате или на чем сидели, но это и не столь важно.
Томка. Я не пойду в эту злую школу. Все! Я уеду к тете Жене в деревню.
Отец. Что значит не пойду в школу? Институт кто должен кончать – ты или я?
Томка плачет.
Отец. Почему ты не хочешь идти в школу?
Томка. Все говорят, что ты дезертир… С фронта убежал.
Отец. Глупые дети… Меня комиссовали, бумага есть… Я почти ничего не вижу, нужна операция…
Томка. Почему ты ночью ходил в уборную без очков? Зейнабка тебя видела…
Отец. Послушай, я куда ходил? На бульвар я ходил? Я в уборную ходил. Я туда сто лет хожу. С закрытыми глазами могу ходить…
Томка плачет.
Отец. Ладно, не плачь, ладно… Я что, виноват, что у меня плохое зрение, что я руки своей без очков не вижу?.. Что доктора отказываются меня оперировать уже?..
Томка плачет.
Отец. Завтра пойду в школу, выступлю перед детьми.
Томка. Не надо. Еще хуже будет.
Отец. Хуже не будет.
Томка. Будет, будет, будет…
Они заговорили тише. Лишь изредка прорывался резкий вскрик – это был Томкин голос. Адигезалов отмалчивался. Конечно, что он может сказать? Все ясно…
Мы разошлись по домам.
Бутылка с горячей водой, которую бабушка спрятала в моей постели, уже остыла. А через неплотно закрытую пробку пролилась вода. Я раскричался: мало того что бабушка позорит меня на всю улицу, я должен еще и спать на мокрой простыне. Мама тоже накричала на бабушку: той все кажется, что я маленький, а я уже взрослый, мне скоро пора будет жениться. Бабушка сняла простыню и принялась сушить ее над керосинкой. Я так и не дождался, когда она просохнет, и уснул, сидя на табурете…
Нет, я не был взрослым, мама ошибалась. Был бы я взрослым, я догадался бы рассказать своим родителям о том, что слышал там, на крыше. Возможно, я смог бы кое-что изменить в жизни двух людей – Томки и ее отца. Но я не придал этому значения. И никто из мальчиков не придал этому значения.
После Нового года Спартак Адигезалович Адигезалов исчез. Он и до этого пропадал на неделю-другую, так как работал экспедитором в каком-то учреждении, и все во дворе к этому привыкли. Однако на этот раз прошел куда более длительный срок, а он все не появлялся.
– Наверно, опять дезертировал, – высказала соображение горбатая Зейнаб, которая и дня не могла прожить без новой сплетни. – В Красноводск дезертировал. Боится, что скоро и к Баку немцы подойдут.
– А Томку оставил? – гневно возразил дворник Захар. – Сплетница ты, Зейнаб. Наверно, все сплетни в горбу своем таскаешь. Что-то он у тебя вырос.
Захар очень не любил тетку Зейнаб. И когда подметал двор, мусор сгребал к ее крыльцу. Может быть, так получалось, а может быть, и специально, не знаю.
Услышав замечание Захара, тетка Зейнаб устроилась поудобнее: набросила на колени платок, чтобы не простудиться, положила локти на перила и, подперев голову кулаком, начала проклинать Захара. По-азербайджански. А для тех, кто не знал азербайджанского, например моя бабушка, она все повторяла на русском языке… Ее подруга Марьям, та самая, что продавала вонючее хаши, знала тоже оба языка, поэтому она следила, чтобы перевод был правильный. И исправляла, когда надо.
Остальные соседи сидели каждый на своем крыльце, лузгали семечки, а кто вернулся с работы – обедал, и все вместе слушали подруг. Зейнаб ругалась так громко, что моя собака Дезик спряталась под лестницу, а Дезик считался храброй собакой.
Захар продолжал подметать двор, протаскивая мусор от ворот к крыльцу тетки Зейнаб, что, конечно, не могло быть ею не замеченным. Дворник делал вид, что не слышит Зейнаб. Правда, время от времени он отставлял в сторону метлу и разводил руками, показывая всем, что сказанное женщиной – чепуха и чистый вымысел. Лишь когда Зейнаб, разобрав достоинства всех ближайших родственников дворника, принялась за двоюродного дядю, который жил в Ленкорани и считался долгожителем (об этом даже писали в газете), – только тогда Захар не выдержал. Он отбросил метлу и, глядя в сторону нашего крыльца (Захар был косой и когда смотрел в сторону, то видел все, что делается прямо), начал медленно подниматься по ступенькам к тетке Зейнаб. Тетка завизжала. Спрыгнуть вниз она боялась, а прошмыгнуть мимо Захара не решалась.
Соседи вмешиваться не хотели, потому как все понимали, что Захар поступает справедливо. И таким людям, как Зейнаб, полезно иногда дать по шее: почти о каждом она разносила какую-нибудь сплетню. Ее лучшая подруга Марьям тоже решила не встревать: от Захара зависело, будет ли она торговать своим хаши во дворе или Захар прогонит ее на улицу Полухина, за границу своего участка. Так что Зейнаб осталась с рассвирепевшим дворником лицом к лицу.
Соседи придвинулись ближе к перилам. На крыше смежного дома уже появились первые зрители. Они деловито расселись, свесив ноги в наш двор, и напоминали птиц, что слетаются к водосточному желобу. Многим нравилось быть свидетелями, когда придет участковый. Или, как тогда называли, очевидцами. Мне помнится, не было отбоя от очевидцев, когда проводилось дознание, кто стащил у Фатуллаевых ветхий дырявый палас. Мыто, мальчишки, знали, что описания эти далеки от истины, ибо палас стащили мы сами: не на цементном полу же нам сидеть в школьном подвале, куда мы частенько пробирались на наши нелегальные сходки. Весной, когда стало тепло, мы вернули палас – снесли и повесили на веревку, как он висел пять месяцев назад. Старик Фатуллаев очень огорчился: он никак не мог избавиться от этого рассадника моли, а шум тогда поднял из принципа…
Единственно, на кого в столь критической ситуации могла рассчитывать бедная Зейнаб, это на мою бабушку. Только бабушка имела влияние на дворника и не любила быть в роли очевидца.
Все это знали.
Но бабушка смотрела под арку дома, где в воротах появилась девушка-почтальон – одна из тысяч беженок, что ночевали на бульваре, дожидаясь своей очереди на красноводский пароход. Ее очередь, видно, была неблизко, и девушка днем разносила почту: после двенадцати – газеты, ближе к вечеру – письма. Девушка работала всего неделю, и пока ее никто не боялся: она не успела еще принести ни одной похоронки. А многие даже на нее молились, считая, что у девушки легкая рука. И хотели, чтобы она подольше не уплывала в свой Красноводск. Ей делали подарки: то платок, то подержанное платье или что-нибудь из крупы.
И сейчас на ней были подаренное выцветшее на солнце платье и подаренные туфли со стоптанными каблуками. Волосы девушки, светлые, длинные, были на затылке собраны в пучок и перевязаны лентой, отчего лоб ее казался очень высоким и бледным. Почту она держала в большой корзине.
Теперь ее уже заметили все соседи. Появление почтальона было важнее свары, затеянной горбатой Зейнаб.
Девушка остановилась посредине двора и спросила мягким, непривычным для нашего уха голосом:
– А хде проживают храждане Адихезаловы-е?
Ей указали. Девушка поднялась на крыльцо. Постучала. Дверь приоткрылась, и в проеме появилось Томкино лицо. Почтальон протянула ей желтовато-серый конверт с черными типографскими буквами и, сойдя со ступенек, быстро пошла к воротам.
Двор наш притих.
Зрители на крыше не расходились в терпеливом ожидании. Казалось, что веревки, на которых развешивают белье, сейчас всех нас связали в единый тугой узел. Даже мой пес Дезик сидел тихо под лестницей – собаки обычно чувствуют беду, я где-то читал. Дворник Захар повернулся спиной к Зейнаб и смотрел на зеленое, с облупившейся краской крыльцо Адигезаловых.
В наступившей тишине лишь слышались причитания и бормотания Зейнаб. Но они уже не относились к Захару – все это понимали, да никто к ним и не прислушивался. Все, как и Захар, смотрели на зеленое крыльцо… Удивительно, какой напряженной бывает тишина. Словно сам воздух – прозрачный, бесцветный воздух – состоит из грубой бесформенной глыбы, в которую не то что руку – соломку просунуть невозможно, взгляд от которой отскакивает, не проникая…
Томка вышла на крыльцо.
Ее худое лицо было искажено гримасой. Можно было подумать, что она плачет. Или смеется. Или сдерживает улыбкой слезы. Подумать можно было что угодно. А вот глаза ее сияли, это точно.
Я никогда не видел, чтобы у человека так блестели глаза.
Она подняла руку с зажатым в пальцах конвертом. Показала его всему двору. Молча. Все знали, что означает этот серый фронтовой конверт. Когда его приносили кому-нибудь из соседей, даже из далеких домов приходили люди, чтобы поплакать со всеми, сказать доброе слово. О покойниках всегда говорят добрые слова.
Томка положила конверт на перила и принялась спускаться по ступенькам. Ее прямая спина сейчас была вытянута, лишь лопатки выпирали острыми углами навстречу друг другу, словно пытались прорваться сквозь старое платье.
Она шла через двор, отбрасывая носком круглые глупые камни, оставленные на асфальте после нашей обычной игры.
Ее маленькая голова была высоко поднята…
Столько лет прошло с тех пор, но почти всегда, когда я вспоминаю наш старый двор, я вижу Томку, идущую по его битому, продавленному асфальту и отбрасывающую туфлями круглые камни.
ПРАЗДНИК СОБАК НАШЕГО ДВОРА
По утрам солнце прокладывало вдоль улиц желтые дорожки с серыми узорами теней.
Я сидел на каменной ступеньке и мечтал, кого бы обмануть.
Из ворот нашего дома вышла тетка Марьям. Она тянула за собой тележку с двумя огромными пустыми бидонами.
– Марьям-ханум, у вас деньги упали!
Женщина обернулась и посмотрела на тележку, на желтую солнечную дорожку.
– Первый апрель – никому не верь! – заорал я.
– Чтоб твоя мать не успевала выписывать тебя из больницы, – проворчала женщина и принялась топтать своей тележкой солнечную тропинку.
– Если я не найду Дезика, я выбью вам стекла и позову милиционера! – крикнул я в сутулую ее спину.
– Дезик-мезик… Из-за паршивой собаки всю улицу поставил на голову…
Тетка Марьям ухватила за рукав какого-то прохожего, седого мужчину в галифе и домашних шлепанцах, и показала на меня пальцем:
– Посмотрите на его лицо! Разве это лицо? Это морда маленького шакала, честное слово!
Прохожий посмотрел на меня, потом на тетку Марьям и выдернул свой рукав из цепких пальцев женщины:
– Какое мне дело?! Я иду за хлебом, какое мне дело?..
Я так и не понял, нашел он во мне сходство с маленьким шакалом или нет…
Все началось с того, что у меня пропал Дезик, сын кавказской овчарки Маргошки. Дезик был хорошей собакой. Когда я катался на самокате по школьному двору, Дезик бежал впереди и лаял. Как бы вместо звонка. Одно ухо у него торчало, как вопросительный знак, второе болталось само по себе. Я ему давал есть, а это было нелегко в то время. Официально Дезик ел один раз в день – когда тетка Марьям привозила во двор бидоны с хаши. Конечно, это было не настоящее хаши, что мы ели до войны, а так: среди теплой мутной воды плавало несколько обглоданных костей – для блезира, как говорила моя мама.
Почти все жильцы нашего квартала, за исключением директора рынка Сеидова, покупали это хаши. Литр – десять рублей. Приходили даже из соседних кварталов. Тетка Марьям работала где-то в госпитале, на кухне. И ей как-то удавалось вывезти бидон хаши, а то и два.
Рядом с очередью выстраивались собаки. И я обратил внимание на смешного пса, у которого одно ухо торчало, как вопросительный знак. Песик был очень похож на старую собаку Маргошку, которая спала на школьном дворе. Я и решил, что Дезик – ее сын. Прихватив как-то из дому мисочку, я плеснул Дезику немного хаши – так мы познакомились. Потом я познакомил с Дезиком маму, бабушку и младшую сестру. На моих родственников Дезик не произвел особого впечатления, только сестра сказала радостно:
– Какие у него миленькие блошки! А! Что она понимала? Девчонка…
Дезик сопровождал меня повсюду. Даже когда я ехал в трамвае, Дезик бежал рядом. Трамваи тогда шли медленно, будто их тащили на веревках. Дезика скорость не устраивала, и он то и дело обгонял трамвай. Или специально отставал, чтобы потом догнать. Собачьи хитрости!
Мои мама и бабушка относились к Дезику равнодушно до тех пор, пока не узнали от сестры, что я утаиваю хлеб и разную еду (кроме сыра – сыр Дезик не ел). Странные взрослые: они думают, что собаки воздухом питаются…
– Слушай, Ледя, кругом война. Фашистские самолеты уже к Махачкале летают, – перебивали друг друга бабушка и мама. – Если придется эвакуироваться, куда ты, такой худой, пойдешь? Смотри, сколько на бульваре беженцев. Они знают, что такое кусок хлеба, а ты плохого дня не видел…
Я смотрел в окно и видел, как Дезик, склонив голову, ждет меня во дворе, не обращая внимания на кошку старика Фатуллаева, которая стояла на перевернутом ведре, выгнув спину, и кокетничала с Дезиком кончиком задранного вверх хвоста.
Мама, проследив за моим взглядом, вздохнула и села за швейную машину. Она выстрочила Дезику ошейник и химическим карандашом написала наш адрес. При этом она сказала:
– На всякий случай. Слишком много на базаре появилось мыла…
И я заметил, что теперь, когда раздавался грохот телеги тетки Марьям, в наш двор набегало гораздо меньше собак… Однажды утром, собираясь в школу, я не увидел под окном Дезика. Обычно он вертелся у двери, поджидая меня. Ему нравилось сопровождать меня в школу. Или он пользовался случаем, чтобы погостить у своей мамы, кавказской овчарки Маргошки… На каждой перемене я выбегал во двор, но Дезика не было. Мне это очень не понравилось. А когда и к вечеру Дезик не появился, я просто не знал, что и делать. Решил дождаться приезда тетки Марьям с бидонами. Тогда Дезик обязательно появится…
– Знаешь, Марьямка тоже мыло продает. Сам видел, – сказал мне лучший друг Борис. – За городом, в Бузовнах, у нее дом есть.
Наверно, там варит.
Поначалу я не понял, на что он намекает. И решил, что он возмущен нашей дворовой спекулянткой.
– Надо сообщить милиционеру, – произнес я.
Борис взглянул на меня и усмехнулся. Тем самым он хотел сказать, что я наивный человек. Разве я не знаю, что жена милиционера бесплатно берет кастрюлю хаши каждый день?
– Вот если бы старый милиционер… – вслух проговорил Борис.
Старый милиционер – парень с черными широкими усами – ушел на фронт, а вместо него на участке появился лысый Ровшан. Мы вначале очень удивились этому событию и решили, что Ровшан украл форму во время очередного пребывания в милиции. Но когда он и кобуру нацепил, то пришлось поверить, что Ровшан перевоспитался и теперь сам будет воспитывать. Правда, кобура была пустая, хоть из нее и тянулась цепочка.
– Тебе даже револьвер не доверили, – как-то упрекнула его моя мама.
– Револьвер на фронт отправили. Ничего, у меня кулаки есть, – ответил Ровшан.
Он не любил мою маму за то, что мама не скрывала своего мнения о Ровшане и вслух удивлялась, почему именно Ровшан стал милиционером. Конечно, какой смысл рассказывать лысому Ровшану о том, что тетка Марьям варит мыло? Наверно, она и Ровшану дает кусок…
После школы я принялся обходить соседей, расспрашивать их о Дезике. Но никто не видел моей собаки. Так очередь дошла и до тетки Марьям.
– Слушай, зачем тебе этот пес? – спросила она. – На собаку ведь карточку продуктовую не выдают…
– Дезик – сын кавказской овчарки Маргошки, – перебил я. – Такой собаки ни у кого нет.
– Теперь и у тебя нет такой собаки, ненормальный.
– Значит, вы знаете, где Дезик?
– Дезик-мезик… Откуда я знаю, где эта паршивая собака?
Тетка Марьям попыталась закрыть дверь, но я подставил ногу – я могу так подставить ногу, что и трактором дверь не сдвинуть.
– Может, вы из Дезика мыло сделали?
Тетка Марьям секунду смотрела маленькими глазами, затем ткнула меня пальцем в грудь. Так больно, что я подумал, не удалось ли ей сделать в моей груди дырку. От неожиданности я расслабил ногу, и тетка Марьям захлопнула дверь.
Несколько раз ночью я выходил посмотреть, не видно ли где собаки. И тихонько посвистывал – Дезик обычно откликался на мой свист. Кто-то сверху бросил в меня рваную калошу. Я посмотрел наверх, но никого не увидел, кроме звезд и полумесяца, похожего на Дезикино ухо, что торчало, как вопросительный знак. Утром я уселся на каменную ступеньку перед воротами. Я был первым и занял лучшее место… Ребята еще спали. Или они забыли, что сегодня 1 апреля? Тут я и встретил тетку Марьям с ее тележкой. А когда она ушла, осыпая мою голову различными пожеланиями, у меня уже испортилось настроение и мне расхотелось обманывать.
Первым присоединился ко мне мой лучший друг Борис.
– Обманул кого-нибудь? – с надеждой спросил он.
– Тетку Марьям, – нехотя ответил я.
– Ври больше. Ее обманешь… Слушай, поедем за город, в Бузовны. Я знаю, где ее дом. Посмотрим. Вдруг найдем твою собаку? – оживился мой лучший друг.
Через два часа мы шли по пыльной, узкой бузовнинской улочке.
Дом тетки стоял у самых скал и был похож на старый сарай. Большие ржавые камни забором огораживали этот сарай. Мы бросили в дом несколько камешков – никто не выходил. Перелезть через забор было пустяковым делом.
На грязном цементном полу стоял огромный казан, черный от сажи. В стороне, на досках, лежали ровные коричневые кирпичи.
Я решил, что это кизяк.
Борис тронул рукой кирпич и понюхал пальцы.
– Мыло! – произнес он и дал мне тоже понюхать свои пальцы.
Мы осмотрели весь дом, но ничего не нашли, кроме залатанного тюфяка и рваного паласа.
– Наверно, она их вместе со шкурой… – высказал предположение Борис.
Я не хотел верить. Я продолжал искать. И вдруг во дворе, у самого забора я увидел ошейник с адресом. Тот самый ошейник, который сшила мама на всякий случай…
В город мы вернулись к вечеру. Вряд ли тетка Марьям узнает свой дом после нашего визита. Мы сломали все, что можно было сломать. Колодезный насос утопили. Хотели зашвырнуть его в море, но он был слишком тяжелым – пришлось бросить в колодец. Туда же мы отправили ножницы, кастрюли, зеркало и топор, после того как искромсали им лестницу и пол. Лишь казан и мыло остались в неприкосновенности – как вещественные доказательства.
Лысого Ровшана мы нашли возле базара. Он стоял в тени дома и наблюдал, как инвалиды войны, выставив прямо на асфальт всякие самодельные вещицы, занимались своей медленной торговлей: зажигалки из гильз, кучки табака и махорки, курительная бумага… Ровшан готовился к прыжку, как кошка. Ему такие шутки доставляли удовольствие. Сейчас он выпрыгнет из тени. А инвалиды начнут прятать в шапки-ушанки свой товар и, как утки, разбредутся в разные стороны. Мне всегда было грустно смотреть на эту «облаву». А Ровшан схватит кого-нибудь и начнет выворачивать карманы выгоревшей гимнастерки, нетерпеливо отбрасывая мешающий пустой рукав…
Сколько раз инвалиды, собравшись, его лупили! Но ничего не помогало. Ровшан притихал на день-два и снова принимался за свое, если не было поблизости другого милиционера, чтобы никто не знал о его проделках. Особенно он боялся одного инвалида – маленького, хромого, с палкой. Тот дубасил участкового своей палкой и поносил на весь рынок так, что появлялся сам директор – толстяк Сеидов, отец нашего школьника Вовки Сеидова. Директора все боялись: и Ровшан, и инвалиды. Но с некоторых пор хромой инвалид перестал появляться на рынке. Может быть, вылечился и вернулся на фронт, не знаю. И Ровшан вновь распоясался.
Я дотронулся до цепочки от кобуры.
– Чего тебе? – не отрывая взгляда от инвалидов, недовольно спросил лысый Ровшан. Даже через цепочку чувствовалось, как он напряжен, как он весь готовится к своему знаменитому прыжку из тени.
– У меня собаку украли.
– Потом, потом… Иди гуляй!
Ровшан с силой надавил на мое плечо. Я ему мешал, путался в ногах.
И тут раздался громкий крик моего лучшего друга Бориса:
– Полундра! Ровшан! Ровшан!
Инвалиды тревожно вытянули шеи и смотрели в нашу сторону, как дикие козы при сигнале опасности. Многие торопливо прятали свой товар в шапку.
Цепочка от кобуры – словно кусок телеграфного провода: я почувствовал, как Ровшан размяк, расплылся, напряжение пропало.
Он посмотрел на убегающего Бориса.
– Твой товарищ, да? – Ровшан лениво покинул тень дома и вышел на опустевшую площадь.
Я не отставал:
– У меня собаку украли и убили.
– Ну и что? Сколько людей на фронте убивают!
– Из нее мыло сварили.
– Разве мыло из собак делают? – Ровшан вытянул свою кривую ногу и посмотрел, не сбилась ли обмотка. – Чему вас только учат в школе!..
– Мой Дезик – сын кавказской овчарки Маргошки, – произнес я, когда Ровшан перестал любоваться своими рыжими обмотками.
– Ну и что? Я тоже сын своей мамы.
– Я знаю, кто убил Дезика, – продолжал я. – И мыло сделал.
– Кто?
– Тетка Марьям. И знаю, где она мыло свое варит.
Ровшан достал из кармана кисет – точно такой, какие продают инвалиды.
– Надо еще проверить, кем твоя мама работает, – вдруг заявил Ровшан.
– А что? Она бухгалтером работает, – почему-то растерялся я.
– Возле денег крутится, да?
– Не кассир, а бухгалтер.
– Бухгалтер – тоже человек… Иди гуляй. Еще проверим, какой она бухгалтер.
Ровшан повернулся ко мне спиной, над которой сияла лысина…
За углом меня поджидал Борис. Я рассказал о своем разговоре. Борис ответил, что другого он и не ожидал. Скорей бы окончилась война и вернулся бы старый милиционер, черноусый любимец наших ребят.
Вечером у тутовника выстроилась очередь. Люди держали в руках кастрюли, банки, бутылки. Рядом бродили собаки. Их осталось совсем мало.
Люди молча поглядывали на ворота. К семи часам, как обычно, послышался шум повозки, хоть часы проверяй.
– Всем, всем хватит, – успокаивала людей тетка Марьям, прижимая к животу огромный бидон. Второй бидон ей помогли донести женщины. – Только руки вот помою. Гигиена, да.
Чувствовалось, что она работает в больнице, знает правила.
– Да не оставит тебя Аллах без радости, – донеслось из очереди. – Что бы мы без тебя делали, Марьям-ханум…
Очередь оживленно зашевелилась и вытянулась еще метров на десять – в нее встали те, кто поджидал хаши, сидя на скамейках. Тетка Марьям нацепила серый передник с огромным карманом и вынесла из комнаты литровую кружку. Она оглядела очередь и деловито подвернула рукав, обнажая волосатую тощую руку. Сейчас начнется торговля. Литр – десять рублей. Через час все кончится. Только собаки еще долго будут кружить возле повозки, облизывая черные доски…
Борис толкнул меня локтем: пора. Я взобрался на перевернутый ящик. Я был очень спокоен, ведь всех, кто стоял в очереди, я знал всю жизнь. Они жили в нашем доме, или в соседнем, или через улицу…
– Соседи! Товарищи жильцы! – крикнул я. – Тетка Марьям – спекулянтка и убийца! Она даже мыло варит из собак и продает. Она моего Дезика убила. Знаете, сына кавказской овчарки Маргошки… – я вытянул из кармана ошейник: – Вот! Я и Борис нашли в Бузовнах, у нее дома. Там был целый казан мыла…
Я замолчал. Я не понимал, почему люди молчат. Мне казалось, что сейчас должны опрокинуть телегу, а тетку Марьям связать и отвести в милицию, как тогда, когда поймали у нас во дворе вора – он стащил с веревки белье.
Но люди молчали.
– А это хаши? Откуда она берет по два бидона? И спекулирует.
А вы еще спасибо говорите, не стыдно?
Я не знал, что еще сказать. Вот если бы кто-нибудь меня поддержал. Хотя бы один голос…
– Вай атон… Разве это ребенок? – тетка Марьям засмеялась и хитро повела головой. – Первый апрель. Он с утра всех обманывает.
– Неправда! – закричал я. – Мы были в Бузовнах. Все видели.
Марьям оглядела очередь.
Мы молчали, глядя на толпу. Она стояла возле своей телеги, а я – на перевернутом ящике. Словно мы перетягивали с разных концов длинный канат – этот живой канат, раскинутый под тутовником.
– Слушай, Лятифа, иди, я налью тебе хаши, а то, боюсь, тебе не достанется, – произнесла тетка Марьям добрым усталым голосом. Из очереди вышла жена лысого Ровшана и подала синюю новенькую кастрюлю.
– А нам, а нам?! – из очереди раздались испуганные голоса. – Ты ведь сказала, всем хватит…
Тетка Марьям выпрямилась с кастрюлей в руках:
– Я через весь город тащу эти несчастные бидоны. Для вас! А вы слушаете этого паршивого маленького шакала?
Толпа притихла, но в следующую секунду кто-то крикнул:
– По шее ему надо дать! Чтобы не врал…
Я видел злые глаза и выкрикивающие что-то рты. Но никто не решался покинуть очередь.
И тут мой лучший друг Борис вскочил на телегу и что было сил ударил ногой бидон. Тот свалился. Желтая жирная вода хлынула на землю.
Очередь оцепенела. Борис метнулся к воротам, я – за ним.
И в следующее мгновение толпа бросилась за нами. Многих из них я знал всю жизнь. Они жили в нашем доме, или в соседнем, или через улицу. Они бежали и орали, как тогда, когда ловили вора, что украл с веревки белье. И даже страшнее. Так мне казалось.
Борис выскочил на улицу. Я – за ним. Очутившись на улице, я захлопнул ворота и подставил ногу. Я уже говорил, что могу так подставлять ногу, что и трактором дверь не сдвинуть.
Кто-то уже лез через забор. Но в это время Борис уже скрылся за углом. Я что было сил побежал за ним.
Мы знали, что надо успеть добежать до рынка, где сидят инвалиды войны. Там уже нам никто не страшен, там нас не дадут в обиду. Даже лысый Ровшан ничего не сделает, если инвалиды увидят, что толпа гонится за мной и моим лучшим другом Борисом, – в этом я был уверен.
А по дороге я представил, какой сейчас праздник у собак нашего двора!
ФИК-ТО
На вечернем совещании наш зеленый вещевой мешок заметно вспух за счет банки американской тушенки. Банку принес Борис. Где он достал целую банку, было непонятно.
– Достал, – важно сказал Борис. – Я вам не какой-нибудь Фикто. Этой тушенки нам хватит до города Грозного, а там уже фронт начинается. Говорят, немцы уже Майкоп взяли, надо спешить… К тому же я заметил, что никто не придерживается конспирации.
Думаете, что бежать на фронт – это детские игрушки? – строго добавил мой лучший друг Борис.
– Не привыкли еще, – пробормотал я.
Остальные члены отряда неопределенно молчали.
Принцип конспирации заключался в том, чтобы переставить в наших именах местами слоги. Например, Боря должен называться Ря-бо, а Толя – Ля-то. Идею эту выдвинул Борис.
Не всем она пришлась по душе. Например, Юре Хачатурову.
Ему предстояло носить девчоночье имя – Ра-ю.
И Хачатуров заявил, что забирает свои марки, бежать с нами на фронт отказывается. У него была огромная коллекция марок, на которую мы возлагали серьезные надежды – по дороге их можно было поменять на хлеб или повидло…
– Давайте назовем Юрку Маугли, – предложил я.
– Почему Маугли? – насторожился Борис. Он сразу заметил в этом подкоп под свою систему конспирации. Ведь Маугли звучало не кличкой, а почти музыкой. Заманчиво и романтично. Так и остальные возьмут себе более интересные прозвища.
– Во-первых, у Раи есть… – начал было я.
– Я тебе не Рая, идиот, – разозлился Хачатуров, хотя чувствовалось, что Маугли его устраивает.
– Во-первых, у него был попугай, – продолжал я объяснять.
– Попугай умер! – воскликнул Борис.
– Но был ведь, – возразил я. – Дальше! У него есть собака…
Можно сказать, он воспитывался среди животных, как Маугли.
Ребята молчали. Мои доводы были убедительны, с ними нельзя было не согласиться.
Борис оценивал обстановку. Но он слишком долго ее оценивал.
– Я согласен, пусть Маугли, – важно проговорил Хачатуров, показывая, что он ни в грош не ставит авторитет Бориса.
Второй удар по авторитету Бориса попытался нанести Тофик по прозвищу Фик-то, или, для краткости, просто Фик. Сокращение это его и не устраивало.
– Хорошо, а если я живу во дворе мечети? – произнес он.
– Ну и что? – насторожился Борис.
– Я хочу называться Квазимодо.
– Если бы ты и не жил во дворе мечети, тебя можно было бы так назвать, – разозлился Борис. – Ничего переигрывать не будем! Оставайся в своей мечети, Борис решил принять крутые меры и пресечь бунт. Тем более в отношении Фик-то это было нетрудно. Тот внес в общее дело лишь фонарик без лампочки. А кому нужен такой фонарик? Только старику-утильщику Нури.
Но Тофик, очевидно, не понимал этого. Он был убежден, что фонарик, даже без лампочки, – самый существенный вклад в предстоящую операцию.
– Что ты раскричался? – он повернулся спиной к Борису. – Выберем командиром Маугли, – и Фик-то поспешил поднять руку: – За Маугли! – и посмотрел на меня.
Я тоже решил поднять руку. Мне не нравился диктаторский тон Бориса, хотя из всех нас он был лучший командир.
Борис едва сдерживал слезы.
– А кто первым предложил бежать на фронт? – произнес он.
– Ну и что? – равнодушно проговорил новый командир Хачатуров. – Я давно об этом думал.
Он придвинул к себе зеленый мешок, запустил в него руку, вытащил фонарик и спрятал к себе в карман.
Мы обомлели. Никто из нас, уверен, и не думал о фонарике всерьез (кому он нужен без лампочки?), но поступок нового командира был неожидан, а главное, высокомерен. Он нам сразу дал понять, кто тут главный.
– Э-э-э! – вскрикнул Тофик. – Это мой фонарик.
Он попытался залезть в карман Хачатурова. Тот дернулся в сторону, и карман почти новых штанов затрещал.
В воздухе мелькнул кулак, и тотчас рев Тофика огласил подъезд, в котором мы собрались на совет.
– Плакса, – передразнил Хачатуров и крикнул: – Смирна-а-а!
Тофик вытянул руки и замер, шмыгая носом, пытаясь унять предательские слезы.
– Фонарик будет мой, так как я должен быть впереди отряда. Ясно? Буду освещать дорогу, – соблаговолил объяснить Хачатуров.
– Там же нет лампочки, – уныло возразил Тофик.
– Ничего. Лампочку отберем у убитого немца, – отрезал командир. – Все! Завтра в пять утра, как договорились.
Мы повернулись кругом. А Борис еще приложил ладонь к тюбетейке и четко, по-военному ответил:
– Есть!
На галерее, как всегда в это время, собралось много соседей. Все сидели вокруг круглого ничейного стола и грызли семечки. Разговор шел обычный – о положении на фронте. О каком-то партизанском отряде, что смело воевал где-то в Мелитополе, как передавало радио. Никто не знал, где этот Мелитополь. Одни говорили, на Украине, другие – под Москвой. Больше всех горячился дворник Захар. Он кричал, что Мелитополь в Крыму, что он может на карте показать.
– Откуда ты знаешь? – удивлялась моя бабушка. – Если ты смотришь на Крым, значит, видишь Дальний Восток.
Косой Захар страшно нервничал. Он даже перестал грызть семечки, которые очень любил.
– Я там в санатории лечился! – закричал Захар.
Он и вправду был удивительно косой: один глаз у него смотрел прямо, другой – чуть ли не на девяносто градусов в сторону. Было очень смешно, когда он, глядя прямо перед собой, обращался к тому, кто стоял почти за его спиной. Поэтому Захара и не взяли на фронт: еще в своих будет стрелять…
Мое появление внесло в спор новую струю. Как раз шла такая полоса, когда я получал по географии пятерку за пятеркой. Два раза подряд. И обе пятерки – за животноводство Австралии: учитель забыл, что уже спрашивал меня раз по этому разделу.
– Мой внук скажет. Он сейчас отличник, – проговорила бабушка.
Краем глаза я видел, как соседи ехидно улыбались. Никто не забыл, что я в прошлом году имел переэкзаменовки по двум предметам.
– Что такое? – спросил я, хотя сразу уловил, в чем дело, но пытался потянуть время.
– Где находится Мелитополь? – спросила бабушка.
Я прищурил глаза и сжал скулы, что должно было означать страшное напряжение мысли. Но все почему-то рассмеялись.
– Вам только смеяться, – расстроилась бабушка. – Думаете, так легко пятерки получать? Ребенок переутомляется, жарко…
В это время Захар принес карту и раскинул ее прямо на семечках.
– Спутал с Симферополем, – признался Захар, тыча пальцем в Крым и повернув лицо куда-то в сторону Сахалина.
– Плохо тебя лечили в санатории, – ответила бабушка – и мне: – Спать иди, двоечник. И ноги помой.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Не каждый день убегаешь на фронт. Я трусил. Кроме всего, меня смущала неопределенность: кто нас пустит в вагон, что мы будем есть? Наших запасов не хватит доехать до вокзала. Кто нам даст винтовку, а Хачатурову – наган, как командиру? Все-таки жаль, что не Борис командир.
И я стал думать о Борисе. Он считался моим лучшим другом. Мы жили в одном коридоре и знались чуть ли не с пеленок… И всю жизнь я ему завидовал. Можно ли завидовать лучшему другу? Или это не дружба, а подчинение одного другому? Он был сильным, ловким, ничего не боялся, в то время как я нередко трусил – мог же я признаться в этом хотя бы самому себе. Может, и он, случалось, трусил, но – со стороны – он всегда первым лез в любую свару, даже со старшими мальчишками. И старшие мальчишки здоровались с ним за руку, в то время как мне в лучшем случае кивали. И то из-за того, что я жил с Борисом в одном коридоре.
И однажды я пришел к выводу, что он не считал меня своим лучшим другом. Я считал, а он – нет, ему было скучно со мной. Это открытие угнетало меня. Я даже заболел, а мама думала, что я простудился. Казалось, и повода не было для такого заключения, просто вошла в голову мне такая мысль, и все. Но я заболел от переживаний. И мучил его своим постоянным присутствием. И он терпел меня: он был настоящим мужчиной в свои одиннадцать лет. Теперь-то, по прошествии долгого времени, я понимаю, что это была ревность, именно ревность. Ведь ревновать можно не только женщин. Я ревновал и мстил своему лучшему другу. Мстил злорадно, задыхаясь от трусости, испытывая сладостное удовлетворение, и ненавидя себя, и восхищаясь им. Месть моя была мелка: я не одалживал ему карандаши порисовать, хоть они и лежали у меня в столе без дела. А потом я чуть ли не плача швырял их с ненавистью по комнате. В присутствии Бориса я давал пососать конфету другим мальчишкам, которых презирал. И так страстно желал, чтобы и Борис меня попросил об этом! Но он не просил, а лишь улыбался. Как я тогда страдал! Я даже разрешил какому-то малознакомому мальчишке проглотить конфету, которая до этого шла по кругу. А Борис все улыбался. И в том, что я проголосовал за этого чванливого Хачатурова, была моя месть Борису: я не мог удержаться, даже во вред общему делу. А Борис даже и не взглянул на меня.
Я страдал оттого, что у меня не хватало в том возрасте мудрости. Ведь часто в другой, взрослой жизни к нам приходит эта мудрость, хотя порой обстоятельства ничем не отличаются от нашего далекого детства. С годами мы теряем искренность, мы приобретаем с годами умение скрывать…
Ровно в пять меня будит муэдзин. Тишина. Влажное утро. В комнате едва проступают контуры предметов. И негромкий, чистый голос муэдзина с минарета древней мечети Таза-Пир. Голос то поет, то что-то рассказывает, неторопливо и доверительно, то выкрикивает таинственные заклинания, то смолкает, чтобы через некоторое время вновь возникнуть звенящими звуками, словно щекоча утреннюю тишину. Это воспоминание я сохранил на всю жизнь…
Я встал, оделся, достал из-под кровати рюкзак. Мне почему-то хотелось задеть за что-нибудь, поднять шум, разбудить соседей, чтобы меня поймали и прекратили бы эти страхи и сомнения, которые тянутся вот уже неделю после того, как Борис взбаламутил наших мальчишек своим предложением бежать на фронт. Я не трусил, нет. Мое состояние объяснялось неопределенностью предстоящего, ломкой установившихся привычек. Я и в пионерский лагерь обычно уезжал неохотно и тяжело по этой причине. Просто я был маленький лентяй, пассивно любопытный. Не в пример своему лучшему другу Борису – человеку экзальтированному, живому как ртуть, одним своим присутствием будоражившему всех, кто его окружал…
Привлечь внимание соседей не удавалось – все было аккуратно убрано: и тазы, и кастрюли, и чайник – все, что падает и грохочет, когда в этом нет никакой необходимости. Значит, так надо, решил я, напрасно вчера учил уроки. И вышел на улицу.
Я прошел мимо своей бывшей школы. Там теперь размещался госпиталь. В окне нашего класса сидел мужчина в халате и курил. Интересно, зачем он поднялся в пять утра? Болит что-нибудь? Или сегодня ему будут делать операцию? В госпитале по четвергам операционный день. Правда, теперь у них каждый день операционный – в нашем дворе жила медсестра, она рассказывала.
Я помахал раненому рукой и выпрямился, словно уже чувствовал за спиной винтовку. И настроение стало лучше. Раненый не ответил, он даже не взглянул на меня – он смотрел на крышу противоположного дома и куда-то дальше. Вероятно, на минарет мечети.
В условленном месте уже собрались ребята.
– Привет, Маугли! – сказал я и отдал честь.
Хачатуров важно вскинул ладонь к виску и сказал:
– Вольно!
Хотя я и не стоял смирно. Просто ему не терпелось командовать. Тофик вытащил из портфеля четырехконечный крючок-кошку и показал мне. В случае если придется что-нибудь стащить на базаре, очень удобная вещь. Я было возмутился: как это, что мы, ворюги? Мы на фронт собрались бежать, в Н-ском направлении. Но я ничего не успел сказать – из-за угла показался Борис. Он шел без рюкзака, сунув руки в карманы и опустив голову. Мы поняли: что-то произошло. Заметив нас, Борис подал тревожный знак, но тут из-за угла шагнула его мама и стукнула Бориса по затылку. В это время появились моя бабушка, старший брат Хачатурова Сурен и дворник Захар, который повернул лицо к стене дома, чтобы удобнее было за нами наблюдать.
Родственники растащили нас в разные стороны для расправы. Бабушка залезла в мой рюкзак и принялась выкладывать содержимое на асфальт: семь серебряных ложек (для обмена), пилотку, кусок хлеба с маргарином, трусы, спички, еще трусы…
При этом она приговаривала:
– Это зачем? А это? А это для чего? Ты что, в баню собрался? Я молчал, я еще не мог сообразить, хорошо все закончилось или нет. Неужели сам инициатор нашего побега, Борис, стал предателем? Нет, вероятно, за ним следили – его мать считалась самой хитрой женщиной во дворе.
– Мало мне, что твой отец на фронте, что дядя Женя и дядя Леня на фронте? Тебя еще там не хватало! – бабушка впихивала в рюкзак разбросанные вещи.
– Мало! – выкрикнул я. – Уже немцы Майкоп взяли!
Бабушка стукнула меня по спине.
– Посмотрите на него! – она еще раз стукнула меня по спине, тем самым придавая начальную скорость моему тощему телу.
Я шел и плакал. Обидно. Неужели Борис выдал нас?
Меня заперли в комнате на весь день. Я лежал на диване и размышлял. Кто же нас предал? Я был уверен, что не Борис. Но сердце мое сладко ныло при мысли о том, как мы примемся обвинять Бориса в предательстве, когда нас выпустят из заточения. Я зло радовался тому, что в чем-то можно укорить его гордую натуру, позлословить. Если он станет оправдываться, то ничего не сможет доказать. Но я знал, что он не будет оправдываться, он выслушает нас с усмешкой, гордый человек. Потом он скажет, что не желает знаться с нами, раз мы его подозреваем таким страшным подозрением, как предательство. И горше всех от этого разрыва буду переживать я сам, завистник и мелкий честолюбец.
Противоречивые страсти терзали мою душу, я разрыдался так громко, что бабушка вошла в комнату и принялась меня успокаивать. Она даже сказала от жалости:
– Перестань, успокойся. Ну, в следующий раз убежите, перестань так плакать.
Я уснул.
Через некоторое время мы узнали, что предателем оказался Тофик по прозвищу Фик-то, или просто Фик.
Спустя много лет я встретил Тофика. Стройный мужчина в модном костюме смотрел на меня веселым взглядом черных глаз.
Я вспомнил ту историю из нашего детства. Как ему тогда удалось предать нас, да так, что долгое время мы искренне думали, что это дело рук Бориса? Что побудило его совершить это? Трусость или обида за фонарик без лампочки – тот самый, что принадлежал ему и который взял себе Хачатуров по прозвищу Маугли на правах командира?
Мужчина в модном костюме лишь смеялся и разводил руками. Он совершенно не помнил о той чепуховине. Он удивлялся, как мне удалось сохранить в памяти те наивные истории из нашего детства. Да и были ли они вообще, на самом-то деле? Нет, трусом он никогда не был.
– Значит, из-за фонарика? – допытывался я.
– Господи, далась тебе та история! – с досадой воскликнул мужчина. – Неужели больше не о чем говорить? А что сейчас делает Борис? Работает в Воркуте на шахте? Пусть возвращается в Баку, я его пристрою на хорошее место, на земле. Под землю мы еще успеем…
И он ушел легкой походкой удачливого человека, так ничего и не вспомнив.
СТАРИК НУРИ
Матери моей посвящаю
Со стариком Нури я познакомился при довольно смешных обстоятельствах.
Я сидел на скамейке в тени дерева и ждал, когда откроют окошко под табличкой «Прием и выдача анализов». Мама поручила взять ее анализы, а окошко все не открывали, и я рисковал опоздать в школу.
На длинной скамье сидели люди с банками и бутылками в руках. Ближе всех к окошку сидел одноглазый старик. В ногах у него стояла огромная плетеная корзина – зембиль, из которой торчала литровая бутылка, заткнутая газетной пробкой.
Когда окошко открыли, старик оказался первым.
– Мне только получить надо, – сказал я, протискиваясь к окну.
– Иди, иди, – длинный палец старика, похожий на стручок, уперся мне в грудь. – Очередь становись. Иди.
Я возмутился: получить справку – секундное дело! Достаточно того, что я выстоял три часа вчера, когда сдавал эти анализы.
– Иди, говорю. Такой здоровый! Иди! Становись очередь, – повторил старик и вытащил бутылку.
Медсестра удивленно посмотрела на старика.
– Сколько дней вы собирали?
– Три, – с готовностью ответил старик, затем подумал и накинул еще один день. – А что, мало?
– Много, – ответила медсестра. – Это не годится.
– Как не годится? – возмутился старик, но, видно, решил не обострять отношения с медсестрой – голос его зазвучал просительно: – Почему не годится? Думаешь, старик Нури вылечился? Я воспользовался недоразумением, протиснулся к окну, назвал фамилию и получил справку. Это вывело старика из себя окончательно:
– Без очереди пролез – большой спасибо, да?! А Нури с утра здесь, ему говорят: «Не годится». А что годится? Блат годится?! Мне было интересно, чем закончится эта история, но я опаздывал в школу. Так впервые я встретился с одноглазым Нури.
В нагорной части города, за кладбищем, были разбросаны огороды семей фронтовиков – их называли пригородное хозяйство. И я каждый день трясся в трамвае, чтобы натаскать в огород несколько ведер воды. Вскоре я договорился со своим приятелем Шуриком – их огород был рядом с нашим. Один день ездил я и заодно поливал его огород, на другой день ездил Шурик и заодно поливал мой. На пустыре, отделяющем наши огороды, разместили пункт по сбору утиля – деревянный сарай – и позади него склад.
Как-то у меня пропало ведро. Правда, ведро было старое и ржавое, но воду еще держало и для поливки огорода было самым подходящим ведром. «Может, Шурка оставил на своем участке?» – подумал я и отправился через пустырь.
Проходя мимо склада утиля, я увидел отличное, почти новенькое ведро, правда сильно помятое, с отбитой эмалью. К тому же с деревянной ручкой, чтобы не резало пальцы. Ведро лежало у самого забора, и чтобы его достать, надо было слегка отодвинуть доску.
Я остановился. Ведро мне очень нравилось, но я сильно трусил. А если склад охраняют? Но ведро звало, кричало, поворачивалось ко мне деревянной удобной ручкой. А вдруг и на Шуркином огороде нет нашей старой посудины?
Я достал ключи от квартиры и незаметно подкинул их на территорию склада, в сторону ведра. Потом подошел к забору вплотную и крикнул, правда не очень громко:
– Эй, охранник! Я ключи уронил… Эй!
Никто не откликался. Я постоял минуту, потом, не скрываясь, смело, будто не чувствуя за собой вины, отодвинул доску и шагнул за ограду.
Обратно я шел с двумя ведрами и твердым намерением закинуть одно за ограду, как было. Но затем я передумал – я решил вернуть ведро утильщику, объяснив, что нашел возле склада.
Утильщик сидел за конторкой и держал на вытянутых пальцах блюдце с чаем.
– Слушай, обед, слушай, – произнес он и поставил блюдце на барьер.
Тут я узнал одноглазого старика Нури, которому так не повезло в поликлинике. Наверняка он меня не узнал, и мне захотелось спросить, сдал ли он свои анализы.
– Хорошо, ставь весы, – вдруг согласился старик.
– Я случайно нашел… – начал было я.
– Меньше говори, меньше говори… Два кило! Это стоит тридцать копейка. Иди! Иди! – старик сунул мне в карман тридцать копеек, а ведро бросил в угол, напутствуя меня жестом, который можно увидеть лишь в Баку (правда, через много лет я встретил этот жест в итальянских фильмах).
Все это произошло молниеносно.
– Это ведро я нашел… – начал было я снова.
– Ты что, танк нашел, да? Диражабль нашел? Один ведро нашел ты! Такой ведро стоит тридцать копейка. Не хочешь – бери назад. Иди танк найди, тогда посмотрим… Иди, говорю, обед! А другой ведро? Нет? Иди! – старик презрительно оглядел меня единственным глазом и повторил прежний жест.
Он видел во мне маленького сквалыгу, который за одно ведро хотел получить черт знает что и, считая себя обманутым, передумал сдавать второе.
Я вышел. Я получил тридцать копеек, а за что? Ну и черт с ним, сам не дал мне и слова сказать, ненормальный какой-то старик. Наверняка у него отвратительные анализы, черт бы его взял!
Мне хотелось оправдать себя, свалить все только на старика. Я не хотел себе признаться, что мог же я, в конце концов, ему все объяснить, а не уйти. Однако я все-таки ушел. Подумаешь, тридцать копеек. Один трамвайный билет…
Мой приятель Шурик выслушал сообщение с величайшим вниманием. Он даже вытащил из ушей вату, которую ему всегда туда напихивали (Шурик был склонен к простудам).
– Да, – сказал Шурка после долгой паузы и сунул вату на место.
Я ждал, что он еще произнесет.
– Ну и ну, – сказал Шурик, не отрывая взгляда от тридцати копеек.
Назавтра, вернувшись с огородов, Шурик показал мне шесть рублей и еще похлопал по карману, где звенела мелочь. Я почувствовал себя обманутым. Но Шурик был великодушен, и мы отправились в кино. По дороге он сообщил, что принес старому Нури две тяжелые болванки. В два захода.
Фильм был про партизан. А когда фильм кончился, я сказал, что завтра поливать огород пойдем вместе. На что Шурик ответил:
– Жаль, что сейчас уже не завтра.
Над одноглазым Нури нависла серьезная опасность.
Шурка отличался от меня рассудительностью и аккуратностью. И эти свойства заставили его подойти с полной ответственностью к предстоящей операции.
Выбрав момент, когда на дверях сарая висел огромный амбарный замок, Шурка с моей помощью отодрал в заборе доску, оставив ее висеть на одном гвозде. Доска болталась, как маятник, стоило лишь толкнуть.
Я помогал Шурке нарочито лениво. Мой вид, как мне казалось, должен был говорить о том, как мне не нравится заниматься всем этим делом. И что сюда я попал совершенно случайно, что я понимаю:
это нечестно – и принимаю в этом самое незначительное участие.
А Шурка был тороплив и смел. И этим хотел подчеркнуть свой интерес к игре. И то, что не считает все это серьезным проступком, а только игрой. Увлекательная, новая и опасная игра – вроде того, что происходило, по его мнению, на фронте, в кинофильмах. А деньги – это так, случайность, которой могло и не быть. Так мы обманывали друг друга своим видом и полагали, что это получается. Мы тогда не думали, что и взрослые люди часто играют в такие игры, – нам было по одиннадцать лет, и мы были начинающими подлецами.
Затем мы выкатили вагонное колесо, какой-то липкий тяжелый лом и несколько дырявых тазов. Все это спрятали и стали ждать, когда старый Нури откроет свое заведение.
Назавтра в наших карманах оказалось около двадцати рублей. Вечером мы пошли в летний кинотеатр, где второй месяц показывали «Сильву». А вначале демонстрировали киножурнал о зверствах фашистов на захваченной территории. Потом слушали грустные песенки Сильвы.
Некоторые покидали зал после окончания киножурнала, бесшумно, словно тени, но большинство оставалось, жадно глядя на опереточное великолепие.
Я плохо следил за действием на экране. Я фантазировал, мысленно посылая Эдвина на фронт, где он совершал потрясающие подвиги…
– Я думаю, надо еще кого-нибудь втянуть, – услышал я шепот Шурика.
– Куда? – спросил я, прервав эпизод похищения Эдвином на самолете гада Гитлера.
– Старик может нас приметить. Надо еще кого-нибудь, – ответил Шурка.
Он тоже был далек от всего, что происходило на экране.
– Давай расскажем Тофику, – предложил я, одновременно представляя сцену награждения Эдвина боевым орденом и его встречи с медсестрой Сильвой.
– Тофик – маменькин сынок, – ответил Шурка странным голосом. – Надо кого-нибудь из больших.
Я искоса взглянул на него. В просветленной темноте кинозала его лицо представилось мне незнакомым. Я подумал, что Шурка здорово трусит. Я и сам чувствовал себя не очень бодро. Особенно в тот момент, когда старик Нури, рассматривая вагонное колесо, сказал с непонятной интонацией:
– Из какой трамвай вытащил?..
Я наклонился к закупоренному ватой Шуркиному уху.
– Трусишь? – презрительно ломая голос, спросил первый трус, Шурка.
– Кто, я? – задохнулся от обиды второй трус, я. – Ну, давай Эдьке скажем, если хочешь кого-нибудь из больших пацанов.
С переднего ряда к нам повернулся раненый. Счастливая улыбка крепко держалась на его лице:
– Еще слово – получите по шее!
Фильм продолжался…
Эдька оказался страшным жлобом. Первым долгом он сообщил, что у него есть отличная тачка, которую можно загрузить всяким железным барахлом. И если мы, то есть я и Шурка, не найдем себе такую же тачку, он разрешит любоваться на утильсырье только с почтительного расстояния.
Мы были так поражены Эдькиным коварством, что в первое мгновение не могли произнести и звука. Потом Шурка заплакал и заявил, что все расскажет Нури.
Эдуард щелкнул болезненного Шурку по лбу, затем сказал, что всегда был убежден в невысоких умственных Шуркиных способностях, а без тачки он нас не допустит, ибо не станет терпеть примитивного ручного труда в таком серьезном деле. А главное – старик догадается, что нельзя столько железа таскать из города вручную, и поймет, что дело тут нечистое.
Мы в глубине души согласились с тем, что Эдуард в чем-то прав, ведь ему было уже четырнадцать лет. Но где взять тачку?
Эдька равнодушно пожал плечами. И это его сгубило. Он еще не знал, что нельзя афишировать свое пренебрежение к людям: это разжигает злобу, а не преклонение. Однако тогда равнодушие его сгубило: мы рассказали всем ребятам о существовании одноглазого Нури. Даже непонятно, на что Эдька рассчитывал. Что мы примиримся с потерей концессии? Впрочем, он наверняка ни на что не рассчитывал – просто, как всякая ограниченная личность, он упивался своим физическим превосходством в эту минуту…
Никогда еще в сарае старика Нури не было такого количества мальчишек.
– Слушай, пожар, слушай? – кричал Нури, оглядывая ораву единственным глазом. – Выходи на улица! Становись очередь! Не базар, не базар здэсь!
И ребята, пихая друг друга, становились в очередь, не выпуская из рук металлическую рухлядь.
Свалка утиля напоминала большой холм, разрытый с одного края экскаватором – с того края, что ближе к забору.
Удивительно, как старик не замечал, что одни и те же железки проходят через его руки по нескольку раз. Часто он просил ребят вынести принятый утиль и сбросить на свалку. И ребята, пользуясь официальным разрешением на пребывание на территории склада, подкладывали железный хлам ближе к забору – для удобства.
Однажды мы с Шуркой приволокли старику тяжелый медный подсвечник. Нури долго вертел его в руках и молчал.
– Где взял? – наконец спросил он и подошел к двери.
– Соседка выбросила, – торопливо пояснил Шурка.
Я оценивал расстояние до дверей. Еще секунда, и мы не успеем выскочить из сарая.
Не успели. Старик захлопнул дверь.
Шурка плотнее закупорил уши ватой и принялся всхлипывать, протяжно и жалко. У меня стало покалывать в носу. Неужели до нас уже использовали подсвечник и старик его приметил? А все Шурка! Я говорил, что подсвечник слишком заметен, а он:
– Это ж цветной металл…
В первое мгновение я решил выбежать в дверь, которая вела на склад, но вспомнил, что сейчас там лазают какие-то мальчишки с соседней улицы, и я их тем самым подсеку, так как Нури последует за мной.
– Соседка выбросила, да? – произнес Нури, по-птичьи разглядывая нас с одного боку. – Какой хороший соседка, какой богатый соседка… Слушай, мальчик, ты руски читаешь? Я сапсем плохо читаю. Глаз больной… Прочитай, да! – Нури пристально смотрел на нашу сторону, теребя пальцами газету. – Утром все кричат. Гай-гуй, туда-сюда… Я газета купил. Читай, да, ай балам.
Шурка приободрился и взял газету. Там говорилось, что войска Ленинградского фронта прорвали укрепления немцев и захватили город Выборг.
– Что такой укреплений? – спросил Нури.
Я произнес это слово по-азербайджански. Нури взял газету, сложил.
– Молодес Ленинградский дронт… Мой сын тоже на пронт. Али-ага! Я газет читал мало. Немцы Киев брали, Харьков… Потому настроений нету… Ай молодес Ленинградский пронт! Али-ага орден есть!
Старик засуетился. Достал из ящика два куска желтого сахара и подал нам, причмокивая языком. Потом расплатился за подсвечник, прибавив от себя по пять рублей каждому – на семечки.
Когда мы вышли, Шурка сказал:
– Хороший старик. Надо будет ему в следующий раз пару тачек утиля подбросить.
Шурка не мог простить Нури минут страха, которые он испытал. Мне ужасно захотелось дать Шурке в ухо, но, заметив клочок ваты, я передумал.
– Ну и сволочь ты, – лишь сказал я, но, так и не сумев сформулировать причину столь грубого обобщения, добавил: – Что, я один буду огород поливать? Ты уже неделю волынишь… Целых пять дней на дверях лавки старого Нури висит замок. И все малолетние аферисты ходят без дела. Наверняка со стариком что-то случилось. Ничего удивительного – в таком возрасте… Постепенно мальчишкам надоело ходить на пустырь, за кладбище. Лишь я и Шурка топтали потрескавшуюся от жары тропинку, таскаясь с ведром по огородам.
И однажды мы увидели, что замок на дверях сарая исчез. Я решил зайти и поздороваться со стариком. Шурка меня остановил:
– Погоди. Давай наберем хламу.
– Но я хочу просто поздороваться.
– Да? А потом ты ввалишься к нему со старым тазом?
– Не знаю, – упрямо повторял я. – Хочу поздороваться.
– Так ты и сделаешь, когда войдешь не с пустыми руками. И старику будет приятно… Или ты просто трусишь?
Я поплелся вслед за Шуркой к нашей дыре в заборе. Но едва мы отодвинули доску ограды, как раздался бешеный собачий лай. К нам бежал огромный пес, и если бы не забор, нам не поздоровилось бы, это точно.
Пес задыхался от лая, кидаясь широкой грудью на ограду. Хорошо, что он не знал, где находятся доски, висящие на одном гвозде.
Тут из сарая вышел пожилой мужчина и, заслонившись ладонью от солнца, стал смотреть, на кого так лает собака.
– Чего надо?
– Нам нужен дядя Нури! – крикнул Шурка. – Хотим узнать, как его здоровье. Где он?
– Этот одноглазый? Сняли! В милиции он! Где ему еще быть!
Из-за лая пса мы с трудом понимали, что он кричит.
Потом мужчина еще что-то сказал, махнув при этом в сторону железного хлама, затем прикрыл ладонью один глаз, чтобы стало ясно, кого он имеет в виду, хлопнул себя по заду, очевидно показывая, что сделали с одноглазым, и скрылся в сарае.
Все было понятно.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Я чувствовал себя главным виновником всего, что случилось. И твердо решил пойти и все рассказать. А утром я никуда не пошел. И никому ничего не рассказал. Я трусил! Возможно, и Шурка испытывал то же самое. Потому что он избегал меня. Это было заметно. А может быть, я избегал его? И он это понял? Не знаю.
Потом я заметил, что все мальчишки, которые наведывались к складу старика Нури, избегают друг друга.
И мне казалось иногда: каждый из нас ждет, что кто-нибудь пойдет «туда» и все расскажет. Тогда все перестанут избегать друг друга. И все будет как прежде, до знакомства со стариком Нури.
Но никто не решался это сделать.
Мне захотелось куда-нибудь уехать. Чтобы никого не видеть. Чтобы никто не напоминал мне обо мне. Вскоре так и случилось:
маме выдали для меня путевку, и я уехал в пионерский лагерь.
Через неделю я не выдержал и убежал. Утром. Когда все отряды ушли на пляж.
По-прежнему меня оглушительным лаем встретила огромная собака. Затем появился все тот же пожилой мужчина. Я ушел.
Почти через день я приходил к складу утиля. Собака ко мне привыкла и перестала лаять. Старик Нури все не появлялся. Нет, мужчина не соврал.
– Слушай, ты чего здесь ходишь? – как-то крикнул мне новый утильщик.
– У нас тут огород, – ответил я.
Когда кончилась путевка, я вернулся в город, прямо к новому учебному году. И узнал, что Шурка с семьей переехал в Яламу, на рыбозавод.
Несколько раз осенью я еще приходил к складу. Мне показалось, что внутри меня что-то сдвинулось, сместилось. Я это чувствовал.
Я слышал, как однажды мама сказала соседке, что я очень повзрослел.
Соседка согласилась: война, в военное время дети удивительно быстро взрослеют. И я тогда чуть не расплакался, убежал на улицу и долго сидел там, делая вид, что наблюдаю, как ребята играют в кости…
В тот год рано выпал снег и лежал долго, непривычно долго для Баку.
«ГРИГОРЬЕВ САША ИЩЕТ СВОЮ СЕСТРУ РАЮ»
К вечеру дом наполняется, как таз водой. Постепенно. С первого этажа по четвертый.
На первом живут студенты техникума – они приходят раньше всех, и почему-то одни девочки. Лишь два мальчика в очках. На втором – преподаватели, они приходят позднее. Тоже одни женщины да старики. Затем все остальные.
А к семи часам во дворе стоит шум, как на базаре. Люди перекликаются друг с другом не покидая комнат, прямо через окна. Располагаются обедать на галереях: в комнатах душно. Среди простынь, сохнущих на протянутых от балкона к балкону веревках, люди напоминают матросов на палубе парусника.
В этом доме живет моя бабушка. Вот уже несколько дней я нахожусь у бабушки. Меня укусила собака, и бабушка водит меня на уколы. Вообще-то бабушка работает в керосиновой лавке – продает керосин. Но сейчас у нее отпуск.
Вернувшись из поликлиники, бабушка ставит меня посреди двора, у колодца, и задирает рубашку:
– Посмотрите на его живот! Это разве живот?
У перил балконов появляются соседи. Они отстраняют руками простыни, чтобы удобнее было смотреть вниз, на меня и бабушку.
– Пятнадцать уколов уже сделали! – кричит бабушка.
– Дуршлаг, а не живот, – соглашаются с третьего этажа.
– Мало им, что ребенка собака укусила, они его еще колют, паразиты! – возмущается четвертый этаж.
– Это вместо того, чтобы разыскать собаку и ее колоть. За что они деньги получают? – поддерживает третий этаж.
Я доволен. Приятно, когда тебя жалеют.
Но главное, я не хожу в школу! Хотя доктор ходить в школу не запретил.
– Лечиться так лечиться, – решила за него бабушка. – Ему все равно. Если бы его сына укусила собака…
Весь день я брожу по улицам. Когда я прохожу мимо школы, то слышу, как первоклассники хором тянут: «Ба-о-баб». От этих звуков меня почему-то тянет в школу. Казалось, должно быть наоборот.
Я спускаюсь к морю. Сейчас самое лучшее время года – начало октября. Хотя и считается, что осень, деревья на бульваре не собираются желтеть, лучи солнца растекаются по их пыльным неподвижным листьям. А море – гладкое, ленивое и ненастоящее. По бульвару бродят беженцы. Они ждут парохода на Красноводск. Многие из них ждут второй месяц, а то и больше.
Я подхожу к парашютной вышке, что торчит на бульваре, как гвоздь, высотой в семьдесят пять метров. К ее основанию приклеено множество бумажек.
«Закопанские из Тернополя уехали в Красноводск».
«Григорьев Саша ищет свою сестру Раю».
«Меняю велосипед на три кило хлеба».
Объявлений огромное количество. Я обратил внимание, что «Григорьев Саша…» вначале было написано на тетрадном листке в полоску, потом – в клетку, потом – вообще на нелинованной бумаге.
Вокруг вышки лежат чемоданы, узлы, корзины. Люди переговариваются, играют в шашки, в карты, спят, пьют из кружек кипяток. А чемоданы текут по аллее до поворота и дальше, по всему бульвару.
Я иду к пристани. Только что ушел пароход на Красноводск. Вернется он послезавтра. Какие-то люди проверяют какие-то списки, выкрикивают номера, фамилии. На скамье плачет женщина.
Две другие ее успокаивают.
Если бы я только мог достать пароходы, я бы всех отправил в Красноводск, раз они хотят. Чтобы никто не плакал на скамье. Говорят, немцы потопили транспорт с беженцами где-то возле Махачкалы. Сволочи!
У кустов олеандра сидит мальчик на горшке. Ему скучно. Он водит пальцем по песку и что-то шепчет. Я подумал: все равно горшок выплеснут в кусты – лучше бы мальчика сразу посадить в кусты.
Напротив пристани живет Рита. Раньше она жила у бабушки со всей своей семьей, а теперь Риту взяла к себе моя тетка. Они приехали из Кишинева: Рита, ее мама и младший брат Зорик.
Я смотрел на карте: Кишинев – столица Молдавии.
Сегодня я решил показать Рите нефтяной промысел. Рита не верит, что нефть добывают из земли. Вот уголь – это она верит:
уголь вроде камней.
Рита сидит во дворе и читает «Графа Монте-Кристо». Серые косички тоненькой струйкой сползают между острыми лопатками. Рита предчувствует мой приход. Я обратил на это внимание.
– Я знала, что ты придешь, – как всегда, говорит Рита и закрывает книгу. – Сегодня очередь продвинулась на четыреста человек. Если так будет продолжаться, мы уплывем через пять рейсов.
– Хочешь? – говорю я и кладу на скамейку помидор.
Рита вытирает помидор ладонью и ест. Я стараюсь не смотреть на нее, чтобы не смущать. Потом она заносит «Графа» в комнату, и мы выходим со двора.
Не знаю почему, но как-то получается, что я отодвигаюсь от Риты чуть ли не на всю ширину тротуара. И делаю вид, что не имею к ней никакого отношения. Я ужасно боюсь, что меня увидят знакомые и пришьют мне обидную кличку «девчатник». Рита делает вид, что не замечает маневра. Правда, когда на улице никого нет, я приближаюсь. С таким равнодушным видом, словно сам не замечаю этого.
«Какой я трус, какой я страшный трус!» – мучительно думаю я, вместо того чтобы разговаривать с Ритой, и с тоской вспоминаю все улицы, которые еще впереди. Я иду, молчу и мучаюсь. Но молчать неудобно: Рита может обидеться.
– Ты слышала, как кричит муэдзин с минарета мечети? – спрашиваю я.
Рита покачала головой:
– Нет, не слышала.
– Он кричит так рано! В пять утра. Как-то я проснулся и слышу: кричит. Тоненько-тоненько. С большими паузами. Таинственно. Такое впечатление, что сейчас прилетит на ковре багдадский вор. Или Синдбад-мореход.
– А почему он кричит так рано? Ведь люди еще спят.
– Наверно, у него бессонница. Он старый… У моей бабушки тоже бессонница, так она открывает свою лавку раньше всех.
– Вот я и думаю: он кричит рано, просто чтобы успеть раньше всех, – говорит Рита.
Я молча соглашаюсь.
Вдали показывается какой-то мальчишка, и я замолкаю, проглатывая слова, презирая себя за трусость и ненавидя мальчишку.
«А если, к примеру, она моя сестра?» Мальчишке не до нас: он гонит впереди себя обруч, поддерживая равновесие согнутой железкой. Я тоже люблю гонять обруч… Боковым зрением я вижу: Рита улыбается. Идет, заложив руки за спину и теребя тоненькие косички.
Когда мальчишка прогромыхал мимо нас, Рита объявила, что ей надо купить гребешок или густую расческу. Лучше, конечно, гребешок: у гребешка целых две полезные стороны.
Мы поднимаемся по Малой Морской к Кубинке. Трудно представить более шумный район города, чем Кубинка. Так называется толчок.
Что только тут не продавали! Яичный порошок, алюминиевые ложки, гимнастерки, рыбок для аквариума, матрацы…
Старуха набросила на плечи шинель, в одной руке держит сапоги, в другой – сковородку, на голове у старухи мужская шляпа.
Все это она продает.
– Посмотри! Какой красавец! – выкрикивает парень, поглаживая петуха. – Пятьсот рублей. Какой красавец! Яйца нести будет, себя не пожалеет!
– Средство против вошей! Средство против вошей! – перекрикивает его женщина.
– Песенник! Патриотические песни! Шульженко! Артист Бернес, Марк! Поет про наших смелых летчиков! Двадцать песен – десять рублей! – кричит толстый мужчина. – Налетай – распевай!
У меня такое впечатление, что вся эта многотысячная толпа, словно тесто, поджаривается на солнце.
На участке, заставленном рваной обувью, сидит на корточках старьевщик. Он продает обувь, собранную по дворам. Даже смешно: кто станет покупать, к примеру, туфли со стоптанными задниками или ботинки без подошвы?
– Такой товар – бог давал! – кричит старьевщик. – Эй, куда? Куда, баран? На товар наступил…
Это относится ко мне.
И тут мы увидели женщину, которая продавала гребешки и расчески. Металлические. С узорами. На гребешки садились солнечные зайчики и подмигивали всем.
Мне кажется, что Рита слишком долго выбирает гребешок, разглядывая сквозь щели небо, меня, людей. Поскорей бы выбраться из этой толпы на шоссе, где на разогретый асфальт дышит ленивый ветерок. Женщина равнодушно смотрит в сторону, сплевывая семечные лушпайки. Будто и не она продает гребешки.
Рядом на столбе приклеены бумажки. Я читаю ту, что висит ниже всех. На тетрадном листке в клетку написано химическим карандашом: «Григорьев Саша ищет свою сестру Раю».
Листочек держится на одном уголке. Я отгибаю второй угол и, смочив слюной, прикрепляю к столбу.
Наконец мы выбираемся на улицу.
Чтобы попасть на промысел, надо добраться на трамвае до Сабунчинского вокзала.
Мы стоим и ждем трамвая. Рита пробует гребешок, но тот почему-то никак не хочет погружаться в волосы. Скользит по поверхности, и все. Вероятно, слишком густой.
– Помою голову, и все будет в порядке, – успокаивает себя Рита. А вот и трамвай: два огромных четырехосных вагона. Народу много – наверно, долго не было трамвая.
Ухватившись за свисающую с потолка ручку, я повис всем телом на руке и делаю вид, что смотрю в окно. На самом деле я рассматриваю Риту: ее худенькое лицо, голубые круглые глаза, тонкий нос.
Мы молчим. Вдруг трамвай остановился. Не на остановке, а так, между.
– Слушай, где вожатый? Что случилось? Где вожатый? – забеспокоились в вагоне.
Кондуктор, девушка в берете, читает книгу, сидя среди пассажиров.
– Откуда я знаю, где этот вожатый? – недовольно отвечает кондуктор, не поднимая глаз от книги. – Наверно, в парикмахерскую пошел. Туда ехали – он очередь занял.
– Как в парикмахерскую? А мы?
– А вы стойте, да! Не на солнце ведь, – ответила кондуктор.
Мальчишки, которые ехали в трамвае, вышли из вагона и уселись вдоль тротуара, как воробьи.
В вагоне стало просторно и тихо. Люди переговаривались:
– Вчера у нас рис давали. По июньским карточкам.
– У вас хороший магазин. А я прикреплена к гастроному на Кривой. Ужас, а не магазин!
– Сколько времени прошло, как обещали открыть второй фронт…
– Капиталисты, да! Им что? Наживаются на войне… А булку у вас дают для детей?
Я тоже вышел из вагона. В хвост нашему трамваю уже пристроилось четыре состава. Вот и пятый на подходе…
– Сыграем в орел-решку? – предложил белобрысый паренек. Он выговаривает слова мягко, с незнакомым акцентом. Наверное, беженец.
– Не хочу, – ответил я. – А тебя зовут не Григорьев Саша?
– Нет. Я Кирилл… А может, сыграем? На раз!
Я не успел подумать – из дверей парикмахерской выбежал веселый человечек в толстых очках.
– Садись, садись… Поехали! – прокричал он на ходу. – Станция Березай – кому надо, вылезай!
Мальчишки торопливо попрыгали в вагоны. Едва я успел вскочить, как трамвай тронулся.
– Безобразие! – вдруг завозмущались в вагоне. – Вы находитесь на работе! Такой здоровый лоботряс! А мой на фронте…
Вожатый опять остановил трамвай – теперь чтобы ответить:
– Послушай, мамаша. Я каждый день по девятнадцать часов работаю. Всего пять часов сплю, да. Когда мне бриться? Или когда рабочие домой едут с работы? Или когда всякие спекулянты? Соображаешь? А на фронт меня не взяли – минус шесть зрение имею… Чего и тебе желаю, если на то пошло…
Вожатый гордо еще раз оглядел пассажиров, чтобы кому угодно ответить.
– Ладно, поехали, ладно, – зашумели в вагоне.
– А я что говорю? Разве я говорю, не поехали? – выяснял вожатый, не двигаясь с места.
Тут начали звонить все трамваи, что плелись за нами. Раньше они почему-то не звонили.
Наш вожатый вылез до половины из окна и закричал:
– Сейчас, сейчас, да!
Вместо того чтобы сразу ехать…
И все же мы добрались до вокзала. Было три часа. В четыре мне надо было быть в столовой при школе, где детям фронтовиков дают обеды. А в пять – на уколы.
Рита все понимала. Конечно, если бы не гребешок, то можно было успеть съездить на промысел. Вот если завтра, к примеру?
А пока она попросила:
– Расскажи, что там интересного, на промысле.
Мы возвращаемся на бульвар. И опять я отодвигаюсь от Риты чуть ли не на всю ширину тротуара. Это очень неудобно, когда рассказываешь.
– Представь себе черную жирную землю. И много качалок. Они выкачивают нефть из земли. И трубы, много труб. По ним нефть течет в огромные, как горы, резервуары. И запах – приторный, горьковато-сладкий, что ли…
Рита молчит. Я так и не могу понять, слушает она меня или нет.
О чем она думает?
Мы подходим к дому тети.
– В котором часу он кричит? – спрашивает Рита. – Тот. С минарета.
– Муэдзин? В пять утра, – отвечаю я.
– Когда нас бомбили в Борисоглебске, одна женщина сошла с ума. Я видела. Она выбежала из теплушки и стала кричать, что бог – негодяй, раз он допускает все это… Она так кричала, что заглушала самолеты. Так мне казалось. Потом ее убило осколком… Послушай, как бы мне встать в пять утра? Наверно, это действительно красиво, когда поет муэдзин. Таинственно, да?
Я кивал головой и вспоминал, как по утрам звучит голос старика с минарета древней мечети Таза-Пир… Через длинные паузы.
КАК УБИЛИ МОЕГО ДЯДЮ
Моего дядю убили так.
На Керченском полуострове есть деревня Осовино. Множество раз деревня переходила из рук в руки. Бои шли жестокие – немцы рвались на Кавказ. И редко выпадали минуты, когда примолкали в степи охающие взрывы, не разносили свое тиуканье пули. Люди привыкли к голосам войны, и паузы тишины казались им необычными и грозными.
И вот однажды, 14 января 1944 года, тишину всколыхнул одинокий взрыв, как вздох задремавшей войны. Этот взрыв оповестил, что сейчас погиб лейтенант Евгений Заславский, мой дядя Женя.
Двадцати девяти лет.
В эту минуту захотелось ему напиться воды, умыться, возможно, и побриться. Колодец был метрах в двухстах от землянки. Сперва он хотел попросить старшину, но тот дремал. Дядя взял котелок и небольшими быстрыми пробежками, по всем правилам, как его учили, направился к колодцу. По открытой местности полз, где была возможность – пригибался, где была возможность – бежал. Так учили, чтобы он остался живым. Дядя это хорошо усвоил, даже сам учил солдат.
А когда до колодца оставалось несколько метров, лейтенант Евгений Заславский зацепился за маленький проводок. Так написал бабушке старшина.
Вот как погиб мой дядя.
14 января 1944 года у нас было два урока. Учительница по истории заболела. И это было, как всегда, кстати. Во всяком случае, в соседнем классе болели сразу две учительницы, и ребята дошли до такого состояния, что совершенно не приходили в школу – с утра они отправлялись на бульвар играть в футбол.
Итак, в это великолепное утро от свежеполитого асфальта школьного двора еще пахло каникулами. Впереди целый час беготни за шапкой, заменяющей футбольный мяч, и выкрикивания изумительных слов: пенальти, корнер, офсайд. И еще одного, из-за которого стоило жить на этом свете и которое относилось непосредственно ко мне, – голкипер. К тому же надо было спешить поиграть, потому что могут нагрянуть пацаны из старших классов и прогнать нас со школьного двора: у них были свои команды. А главное, в одной команде играл Витек со своим младшим братом. Все знали, что у того Витька смертельный удар правой ноги. Он вообще был драчун, занимался в секции бокса. С ним избегал связываться даже сторож Муслим. Но никто тогда не знал, что Витек вырастет и станет замечательным художником и гениальным детским писателем Виктором Голявкиным…
А пока я расположился между двумя булыжниками, обозначавшими мои владения голкипера, в повернутой козырьком назад чужой кепке. И хотя сражение происходило у ворот противника, я изображал спортивную бдительность – то и дело демонстрировал потрясающие прыжки, хищно хватая руками воздух и вновь свирепо замирая.
А там, вдали бои за шапку становились все азартнее. Шапка прыгать не хотела. Она лениво, не отрываясь от асфальта, отлетала на несколько метров и терпеливо ждала следующего удара.
Галдеж стоял неимоверный. Иногда он разом стихал на несколько секунд – так получалось, что все вдруг замолкали. Совпадение. Тогда я слышал, как кто-то торопливо выкрикивал из распахнутой форточки: «Я из лесу вышел, был сильный мороз…»
Но в следующее мгновение галдеж вспыхивал с новой силой, будто в костер плеснули керосину. Я увидел, что футболисты приближаются к моим воротам. Наконец-то!
Весь напрягся в ожидании удара и скосил глаза, примериваясь в воротах. Но что это? Одного булыжника не было! Справа есть, а слева нет. Хорошенькие ворота без одного столба! И я тут же завопил:
– Не считается, не считается!
Нападающие остановились. Что такое? Где ворота? Какая собака утащила ворота?!
Я оглядывался. Вокруг стояли несколько ребят из второй смены и прямо-таки падали от смеха. Разве узнаешь, кто из них украл булыжник? Положение спас рыжий первоклассник. Он подбежал и на место пропавшего булыжника бросил свой портфель. Ему не терпелось увидеть мой потрясающий прыжок.
Атака возобновилась. Я сорвал кепку, бросил рядом, чтобы не мешала, и совсем согнулся от напряжения. Еще секунда, еще… Я уже видел, как мой лучший друг Борис занес ногу, чтобы смертельным ударом пробить мяч. Все знали, что правая нога у Бориса «смертельная». Вот я сейчас им покажу, что значит настоящий голкипер, а не просто там вратарь! Ну! Бей!
И вдруг какой-то вытыкала из второй смены подбежал и стукнул по портфелю. В самый критический момент. Все равно что удар в спину. Я замахал руками и закричал. На этот раз меня никто не услышал – такой был азарт. Борис совершил свой знаменитый удар, и шапка, лениво шурша, прошла точно через то место, где секунду назад лежал портфель. Я пытался было объяснить, что произошло. А вытыкала бросился бежать, то и дело падая от смеха на асфальт. По справедливости гола не было: мяч попал в штангу, но Борис думал иначе.
Мгновенно собрался консилиум. Точно так, как собирался консилиум, когда болела толстая Роза, соседка.
– Гол! Гол! – кричал Борис. – Ты – жила. Был гол! Я видел!
– Нет! Нет! – кричал я. – Сам ты жила! Не было!
Спор могла решить только драка. Она назревала. Уже образовался круг. И мы уже начали отпихивать друг друга руками – ритуал, предшествующий драке, особой драке – гибриду бокса и борьбы. Вероятно, американцы позднее переняли эту разновидность у школьников моего города и назвали ее кетч. Но тут появился сторож Муслим. Он подобрал с асфальта шапку и направился к себе в сарай.
Вообще-то драться с Борисом не очень хотелось. И ему, вероятно, тоже. Но надо было выдержать марку. Поэтому появление Муслима было весьма кстати.
– Это моя шапка! – крикнул я и побежал за Муслимом. – Мне дядя Саша подарил!
– Мать приведи. Расскажу, какой ты хулиган, – не оборачивался Муслим. – Тебе шапку подарили, как человеку. А ты мяч сделал. Всей школе учиться мешаешь. Хулиган… – он держал шапку за одно ухо, второе волочилось по асфальту.
В одно мгновение к Муслиму подскочил мой лучший друг Борис и своим смертельным ударом выбил шапку из рук сторожа. Муслим бросился было за шапкой, но ребята его перегнали. Они отпасовывали друг другу шапку, увертываясь от разъяренного сторожа.
Но тут появился наш пионервожатый, товарищ Алик. Он успокоил Муслима, пообещав наказать меня и Бориса по пионерской линии.
Когда Муслим ушел, Алик объявил, что после уроков отправимся в подшефный госпиталь. Он утром заглянул в свои планы и обнаружил, что 14 января в четыре часа дня по графику намечен концерт художественной самодеятельности. А пока надо привести себя в порядок – еще впереди два урока.
Прозвенел звонок, и мы потянулись к дверям школы. Я подобрал шапку и принялся выбивать ее о колено. Шапку действительно мне подарил дядя Саша.
Впервые я увидел его у наших ворот. Я возвращался от бабушки поздно вечером…
Они меня не видели, да и я их не видел, а только слышал голоса. Обладателя одного голоса я узнал без труда. Это была толстая Роза, наша соседка. А второй голос был мне незнаком.
– Не надо, Саша. Соседи увидят, – говорила Роза.
– Люблю тебя, люблю тебя. Пусть видят, – торопливо ответил Саша. – Идем к тебе.
– Ты дурак? Куда ко мне? Опозорить меня хочешь? – засмеялась Роза.
– Скоро я на фронт уйду. Меня убить могут. Тебе не жалко?
– Почему обязательно убьют? Смотри, сколько у тебя орденов! – сказала Роза.
Я подошел к воротам и остановился. Роза меня не видела – она стояла ко мне спиной.
– Что смотришь? Проходи, проходи! – здоровенный высокий военный обнимал Розу и через ее плечо смотрел на меня.
– Сами ворота загородили, а сами… – сказал я.
Услышав мой голос, Роза отшатнулась в сторону. Я прошел. Мне очень хотелось увидеть ордена. Но как это сделать? Я остановился в темноте подъезда, соображая, что предпринять.
– Погуляем, пока соседи уснут, – Роза отошла от ворот.
Надо непременно их дождаться и посмотреть на ордена.
Я поднялся на галерею, придвинул табурет к окну и уселся.
Ждать пришлось недолго: видно, военному не терпелось посмотреть, как живет Роза.
Они осторожно поднимались по лестнице, и лунный свет освещал их фигуры. Ордена скромно звякали в такт шагам.
– Не бойся. С тобой идет разведчик, – сказал военный.
Он хотел что-то еще сказать, но Роза прикрыла ему рот ладонью. И он тут же поцеловал ее ладонь. Я подумал, какой находчивый этот разведчик. Конечно, такая профессия… Однако если я буду сидеть в засаде, то вряд ли что-нибудь увижу. Я поднялся и быстро включил лампочку.
Роза от неожиданности вскрикнула, а военный не знал, что делать, ослепленный ярким светом.
Я же разглядывал ордена. Я ни разу в жизни не видел такого количества орденов. Особенно меня поразил необыкновенный орден, который висел почему-то на животе, – это был не орден, а крест, точно такой, как у дедушки Месропа, который жил через улицу. Только у военного крест был на цветной ленте.
– Опять ты? – удивился военный, заслонив рукой лампочку. – Ты что, шпион?
– Уже и в уборную нельзя, да? – сонно растягивая слова, произнес я, будто только проснулся, а сам не спускал глаз с его живота.
– Какой предатель свет зажег?! – громко крикнул косой Захар, наш дворник. – Или деньги лишние, да? – Захар имел в виду штраф за нарушение светомаскировки.
Роза торопливо шагнула в галерею и выключила свет. Я не двигался. Роза и военный тоже замерли, выжидая. Наконец Роза нагнулась ко мне и прошептала, что я не должен всем рассказывать о том, как в гости к ней пришел ее родственник, затем она что-то сказала военному на ухо.
– На! – военный сунул мне что-то в руки.
Уже в уборной я разглядел, что это была конфета. Большая, липкая. И я съел ее не сходя с места…
Мысль о кресте не покидала меня. Может, разбудить Бориса? Он наверняка придумает способ узнать побольше об этом герое и его орденах. Но руки еще были липкими от платы за молчание, и я вернулся в галерею.
Из-под двери Розиной комнаты пробивался жидкий свет керосиновой лампы. Я осторожно подошел и прислушался: может, сейчас военный и расскажет Розе, как заслужил он эти ордена? Вначале было все тихо, и я уже потерял надежду. И вдруг услышал голос Розы:
– Не надо, Саша, прошу тебя. Не надо, умоляю!
Этот Саша не отвечал.
И мне стало страшно. Может быть, он ее душит? Такому ведь ничего не стоит прикончить человека. Сколько он уничтожил фашистов! С фашистами понятно, но почему Розу?! Добрую толстую Розу. Она ни с кем никогда не ругалась, и все уважали ее за это.
И я принялся колотить в дверь. От страха мои кулаки стали мягкими, поэтому стук выходил еле слышным.
– Кто там? – спросила Роза и приоткрыла дверь.
– Опять он?! – разозлился военный.
– Зачем вы ее душите? – я с трудом ворочал языком.
Роза рассмеялась. Военный тоже засмеялся.
– Гы-гы-гы, – так он смеялся.
Я осмелел и шагнул в комнату. Китель висел на стуле, поэтому крест почти лежал на полу.
– Тебя кто звал? – удивился военный моему нахальству.
– Видишь, какие у меня защитники? – для человека, которого хотели задушить, у Розы был слишком веселый вид. Тогда зачем она кричала? Я чувствовал себя обманутым. И в глупом положении. Но у меня в конечном счете была определенная цель.
Я посмотрел куда-то поверх широких черных усов, над которыми торчал тяжелый нос.
– А что за крест у вас? – кивнул я на китель.
– А?! За храбрость. Это испанский, понял? – небрежно ответил военный.
– Вы что, испанец? – я еще раз посмотрел на его черные усы.
– По-твоему, в Испании не было войны?
– Ты и в Испании был? – удивилась Роза.
– Два ранения.
Я восхищенно смотрел на военного.
– Ну? Иди спать! – крикнул он мне.
Роза улыбнулась. Она обняла Сашу за плечи и сказала таким теплым шепотом:
– Хочу, чтобы сегодняшний вечер был у всех счастливый. Подари что-нибудь ему. Он вырос на моих глазах.
– Что я ему подарю?
Роза топнула ногой и улыбнулась:
– А я хочу! Тебе жалко, да? Для тебя это обыкновенный вечер, да? Конечно, в Испании, наверно, все было легко.
В глазах у Саши что-то поплыло, словно у дворника, косого Захара, когда он напивался чачи. Саша достал с вешалки свою шапку и надел мне на голову:
– На! Эту шапку я купил в Испании. Носи! – он повернул меня к себе спиной и толкнул к двери.
Наутро я первым делом разыскал Бориса и протянул ему шапку.
– Подумаешь, не видел я шапок, – произнес Борис.
– Это из Испании, – объявил я.
Борис взял шапку, вывернул наизнанку. Я увидел ярлык: «Бакинская фабрика имени Володарского».
– У Захара точно такая. Собачий мех, – презрительно проговорил Борис.
Я растерялся. Теперь, если рассказать о кресте, он ни за что не поверит.
После этого я Сашу не видел.
Однажды я спросил Розу, куда делся ее родственник.
– На фронт вызвали. Ты ведь знаешь, какой он герой, – Роза быстро отошла от меня. Переживала она за своего родственника, как бы с ним чего-нибудь не случилось. Каждый день утром Роза выходила на балкон и ждала почтальона. Но писем ей не было.
А через некоторое время весь двор был взбудоражен: Роза умирает. Приходили доктора, один за другим. Потом они собрались все вместе. Это и называется консилиум. Борис сказал мне, что у Розы должен был быть ребенок, но она его куда-то выкинула.
Поэтому и заболела. Консилиум что-то решил, и Роза пошла на поправку. Она стала выходить в галерею. Но даже и не смотрела в сторону почтальона…
К четырем часам мы собрались у нашей бывшей школы, где размещался госпиталь. Товарищ Алик поджидал нас с листком бумаги в руках – он вел учет. Явились все, кто был занят в самодеятельности, так что выговор объявлять будет некому. Я так и не понял, доволен этим Алик или нет.
Мы вошли в длинный, узкий коридор. Я почти его не помнил. Или просто не узнал. Такое ощущение, что я никогда не приходил сюда раньше.
Вот здесь, напротив портрета, стенгазета висела. Портрет был. А на месте стенгазеты прибита доска с противопожарным оборудованием, и под ней ящик с песком. Пока я оглядывался, нам раздали халаты.
– Чтобы вернули лично мне. По счету! – предупредила сестра-хозяйка.
Халаты были длинные, и мы подхватили подолы.
Я заметил, что стараюсь осторожно ступать – как тогда, когда в коридоре лежала широкая зеленая дорожка. Но дорожки не было, и моя нога ступала на бетонный пол.
Пахло солдатским мылом. Пахло борщом. Пахло лекарствами. У стены были свалены матрацы, стояли две тележки на резиновых шинах, валялись куски провода. И все это тускло освещалось лампочками в железных намордниках.
Мы поднялись на второй этаж. И только здесь я узнал нашу бывшую школу. Хоть и жались к стене выставленные в коридор кровати, и торопливо проходили медсестры, это был наш коридор! Свет валил из широких окон. Висели портреты великих ученых во главе с Ломоносовым, а под ними стояли в горшочках цветы.
И дорожка зеленая.
Мы шли осторожно, заглядывая в классы-палаты. Кровати, тумбочки, цветы – много цветов. Их приносили шефы.
Раненых почему-то не было видно.
Свой класс я сразу узнал по здоровенному чернильному пятну рядом с дверью. Никакая известка не помогала – пятно пробивалось. И здесь стояли кровати. А на одной из них лежал раненый в рыжем халате и читал газету. Рядом, на полу, валялись костыли.
– А! Артисты приехали! – сказал он и засмеялся.
Мы засмеялись в ответ.
– Ждем вас, ждем, – он подобрал костыли и попытался было подняться. Лицо его напряглось, так что было непонятно, больно ему или он улыбается.
– Я сам. Спокойно. Спокойно. Сам. Сам! – остановил он нас резким голосом. Тогда стало понятно, что ему не до улыбок. – Идите. Я сам! Сам. Вот так. Сам, – заговаривал он свою боль – мы-то ведь давно отошли.
Черная стеклянная табличка «Директор» блестела, словно ее только протерли. И чуть ниже была прикноплена другая: «Начальник госпиталя». Это было написано тушью на листке. Можно подумать, что наш директор Михаил Семенович еще сидит в своем кабинете.
Пониже таблички «Учительская» висел листочек «Перевязочная». Оказывается, начальник госпиталя специально приказал сохранять в порядке старые надписи. Это был настоящий начальник госпиталя.
Когда мы подошли к физкультурному залу, раздались аплодисменты. Ясно, что встречают нас. Будто мы были настоящие артисты, а не так, школьная самодеятельность. Все ребята немного растерялись, даже товарищ Алик. Он то и дело оправлял рубашку и строго, деловито хмурил лицо. Раненых было очень много, а оттого что некоторые взобрались на шведскую лестницу, казалось, что раненых еще больше – даже «амфитеатр» переполнен.
После приветствия дежурного врача выступил товарищ Алик. Он сообщил, что уполномочен поздравить раненых воинов от лица нашей школы с… А с чем поздравить, так и не мог сообразить.
– С четырнадцатым январем! – выкрикнул какой-то раненый с забинтованной рукой.
Все рассмеялись. Алик еще больше растерялся.
– Мы начинаем наш концерт! – выкрикнул он.
– Начинай-начинай, – весело разрешил зал.
– Сцена из комедии бессмертного Гоголя… Бессмертной комедии писателя Гоголя «Ревизор», – объявил Алик. – Роли исполняют: Хлестаков, чиновник, – Борис Сухаренко. Анна Андреевна, жена Городничего, – Ваня Татевосов.
Зал загоготал.
– Хочу пояснить, – расхрабрился товарищ Алик. – Мы ведь мужская школа. Девочек у нас нет. Ничего не поделаешь…
Если бы они знали, сколько пришлось уговаривать Ваню согласиться на роль жены Городничего! На свое несчастье, Ваня был очень похож лицом на девчонку. А если надеть платок, то и не отличишь совсем.
И вот из коридора, где артисты переодевались, выходит Хлестаков: с усами, наведенными чернильным карандашом, в фетровой шляпе. Из кармана свисает цепочка от настенных ходиков, изображающая брелок.
Следом появляется Aнна Андреевна. В широкой юбке, с огромной подложенной грудью и в чепчике, Ваня был похож на старуху Марьям, которая спекулировала хаши. К тому же ему натерли марганцовкой щеки и губы.
Несколько секунд потрясенный зал молчал. Но в следующее мгновение грохнул такой хохот, что было слышно, вероятно, на бульваре.
Вместе со всеми хохотали Хлестаков и сама жена Городничего. Наши ребята тоже легли. Только товарищ Алик, чуть не плача, требовал начинать. Но стоило Хлестакову раскрыть рот, как зал захлебывался в новом приступе смеха.
– Ах! – выдавила сквозь смех мадам Сквозник-Дмухановская.
– Отчего вы так испугались, сударыня? – пытается войти в роль Борис.
– Нет, я не ис-ис-испугался, – захлебывается Ваня.
– Испугалась, – поправляет Хлестаков и достает брелок, еле справляясь с дыханием. – Помилуйте, сударыня… – но тут оба не выдерживают и откровенно хохочут, сопровождаемые всем залом.
– Ах, идиот я, идиот. Надо было их в конце выпустить, – горевал единственный серьезный человек – товарищ Алик. Он взял за шиворот Бориса и Ваню и вывел их в коридор.
А зал бушевал:
– Давай Гоголя! Давай «Ревизора»!
Алик поднял руку:
– Потом. В конце… Сейчас Леня Козаков споет песню «Бескозырка».
Вышел Леня. Маленький такой – он был меньше всех в классе. На голове у него была бескозырка. Он ее то и дело поправлял:
бескозырка садилась ему на уши.
Ждать, пока зал успокоится, было бессмысленно. И Леня запел. Начала первого куплета было вовсе не слышно. Но вот зал стал стихать. И затих.
Леня пел сильно, размахивая в такт рукой с зажатой в ней бескозыркой. Глаза его пылали неукротимо. Голос звенел. Казалось, нет никакого зала, а Леня один на берегу моря. И что он сам воевал, и был ранен, и знает, что такое «носить чуть-чуть набекрень».
Это исполнение даже меня захватило, хотя я должен был выступать следом за ним и от волнения почти не чувствовал, что происходит. Это было настоящее искусство. Странно, прошло столько лет, а я нет-нет да и вспоминаю маленького Леню Козакова. И зал. И госпиталь в нашей бывшей школе. Может быть, еще оттого, что Леня Козаков нелепо умер, уже будучи взрослым.
И, кстати, он стал военным моряком…
Леня пел, а я слушал и рассматривал своих будущих зрителей. Лысые. Бородатые. Усатые. Безрукие. Безногие. Один даже с завязанными глазами. Он сидел у самого рояля и повернул лицо в сторону, откуда доносилось Ленино пение.
И вдруг в самой глубине зала я увидел дядю Сашу. Того самого военного, с крестом за Гражданскую войну в Испании! Конечно, это он. Только сейчас он был одет в рыжий халат, как все раненые. Ну и новость! Значит, он вернулся на фронт, а после ранения его привезли в этот госпиталь.
Почему же он не сообщил Розе? Наверно, не хотел огорчать. Наверно, у него тяжелое ранение, и ему не хотелось ее огорчать. Но он просто не знает нашу Розу. То-то он сидит такой грустный.
Ничего, я ему помогу.
В это время я услышал свою фамилию, и кто-то из ребят толкнул меня в спину. Все захлопали. Я подошел к роялю.
– Товарищи раненые! – сам того не ожидая, вдруг произнес я. – Я, конечно, буду играть для всех. Музыку композитора Клименти «Сонатина». А также песню «Землянка»… Но я хочу посвятить отдельно эту музыку специально герою войны в Испании и нашей Отечественной войны. Хорошо?
– Идет! Согласны! – закричали в зале. – Петя! Тебе посвящают… И тут поднялся раненый с завязанными глазами и положил руку на сердце в знак признательности.
Я смутился. Я не ожидал, что есть еще один герой Испании.
– Я, правда, не знал, что у вас есть еще один герой из Испании, – пробормотал я, – но это не имеет значения, – и направился к роялю.
– Как еще один? Один и есть! – зашумели в зале. – Ты что-то путаешь, малыш.
– Ничего не путаю. А дядя Саша?
– Какой еще Саша? – заинтересовались в зале. – Покажи! Ох, эти скромняги…
Я показал рукой в глубину зала. Все недоуменно принялись оглядывать друг друга.
– Да этот вот, – подсказал я.
– Кто? Саша? Братцы, Сашка – герой Испании!
Я не мог понять, что тут смешного. И даже обиделся.
Поднялся шум, хохот. Правда, не такой, как при появлении Хлестакова и мадам Дмухановской, но тоже довольно веселый.
К дяде Саше потянулись со всех сторон. Его хлопали по спине, гладили, как маленького, по голове:
– Герой Испании! Саша, где эта Испания?
– Под юбкой его Испания…
– Молодец твой отец!
Неужели они действительно ничего не знают? И шутят над ним. У нас в классе был такой мальчик. Над ним обычно потешались, устраивали разные истории. Почему именно над ним, никто толком и не знал. Впрочем, он был толстяк, а во время войны среди мальчишек подобное считалось особенно дурным тоном. Но не это главное. Всегда и везде есть свои невольные шуты. Почему? Возможно, люди боятся насмешек над собой, поэтому спешат отвести удар на своего ближнего. Шутом становится тот, кто менее расторопен. Вот и дядя Саша, наверное, так.
– Что вы смеетесь?! – закричал я. – У него крест испанский есть. Он мне показывал и тете Розе…
– Крест? – удивился раненый с перевязанной рукой. – Ай паршивец! Вот для чего ты у Петра Александровича крест одолжил, – раненый сильно хлопнул по спине Сашу своей здоровой рукой.
– И у меня взял медаль, – сказал кто-то.
– Орден мне еще не вернул.
– Интересно, зачем ему понадобился мой осоавиахимовский значок?
Саша отбивался от тех, кто цеплялся за подол его халата, кто тащил его за пояс. Наконец ему удалось подняться на ноги.
– Вам обидно, да? – он заспешил к выходу, проталкиваясь между скамьями. – Вам обидно, что я только контужен, да?! Вы хотите, чтобы я был такой, как вы, – безрукий или слепой… Э-э, что с вами разговаривать!
У самого входа его остановил какой-то раненый. Правда, с виду он и не был похож на раненого, только что халат был, как и у всех, рыжий. Он заговорил низким голосом, где нужно, выдерживая эффектную паузу. Как тамада.
– Слушай, Саша… Конечно, не твоя вина, что взорвался какой-то пакет в глубоком тылу и что ты стоял рядом. Ты скажешь, любой из нас мог стоять рядом. Ты ошибаешься. Мы в это время на фронте были, а не в тылу… И ты, конечно, скажешь, что пришло бы твое время – и ты попал бы на фронт. И ты прав будешь. И неправ! Прежде чем ты собрался на фронт, тебя контузили в тылу. Факт, да? Факт!
В зале одобрительно зашумели. Саша попытался освободиться, но его крепко держали.
– Ты думаешь, нам обидно, что мы по-настоящему ранены, а ты – непонятно что такое, да? Очень это напрасно, – важно продолжал «тамада».
– А почему меня не выписывают отсюда? Нет, ты скажи, почему?! – закричал Саша.
– Докторам иногда подсказать надо. Помочь. Они тоже люди, – объяснил «тамада».
Он еще что-то говорил, не выпуская Сашиного халата.
Товарищ Алик делал мне знак, чтобы я начинал играть. Но мне играть не хотелось. Я старался незаметно выйти из зала. И это мне удалось – никто не обратил на меня внимания, все слушали «тамаду». Вероятно, это было для них важнее, чем «Сонатина» композитора Клименти.
Я прошел мимо нашего класса.
– Эй, послушай, почему шум? – спросил раненый. Ему так и не удалось подняться на костыли.
– Разбираются, – вяло ответил я.
Внизу я сдал халат сестре-хозяйке. Она поставила птичку против моей фамилии и удивилась, что я ухожу: ведь нас еще обедом будут кормить.
– Я не голодный, – сказал я.
В этот день, 14 января 1944 года, под Керчью, у деревни Осовино убили моего дядю.
ЛИЗА
– Луна больше не луна. Теперь луна будет называться Сталин, – объявил дворник Захар и посмотрел на луну, словно прощаясь. Правда, казалось, Захар смотрит совсем на другую планету, но он смотрел на луну. Захар был очень косой от рождения – когда он смотрел прямо, он видел все, что сбоку. Поэтому его не взяли на войну с Гитлером: он мог стрелять по своим и был бы не виноват, потому что косой. Это его обижало, и он старался держать все свои дворы на военном положении. Едва стемнеет, как он ходил по домам и орал: «Свет, свет!» Чтобы соседи соблюдали светомаскировку от фашистских самолетов. Пацанам это нравилось, и они с удовольствием присоединялись к Захару, выискивая нарушителей. Хотя за всю войну ни один немецкий самолет не появлялся в небе над моим родным городом. Гитлер рассчитывал взять Баку целым, вместе с нефтяными промыслами. Но Захар знал коварство фашистов и требовал бдительности от жильцов.
– Почему луна больше не луна? – поинтересовалась моя бабушка.
И все соседи, которые собрались на скамейке подышать свежим воздухом после дневного зноя, посмотрели на Захара, ожидая разъяснения.
– Так предложил товарищ Алекперов в связи с победой в Сталинграде, – Захар махнул рукой в знак неоспоримости предложения.
– Какой Алекперов? – забеспокоились соседи. – Мы знаем двух Алекперовых. Один работает в суде, другой – в ЖАКТе.
– Такой, который в ЖАКТе, – ответил Захар и еще раз махнул рукой.
Вообще-то предложение переименовать небесное светило в имя вождя всех народов было несколько запоздалым, потому как разгром фашистов под Сталинградом завершился зимой 1943 года, а сейчас уже на улице заканчивалось лето.
– Не наше дело! – отрезал Захар. – Алекперов передал вам о том, что в конторе решило начальство. Прошу голосовать, поднять руки.
Все, кто сидел во дворе: моя бабушка, тетка Марьям, горбатая Зейнаб, еще две женщины из соседнего переулка, три пацана, я, Борис и девчонка Томка – подняли руки. А Тофик поднял сразу обе руки, оттого что ему, как двоечнику, редко выпадала возможность поднимать руку на уроке.
– Хорошо, – сказала моя бабушка. – А если луна закатится, как это бывает, что люди скажут? Кто закатился?
И все сидящие на совещании во дворе испуганно посмотрели друг на друга. А Захар еще сильнее окосел и сказал, что он передаст о таком сомнении в контору, а там – будь что будет.
Соседи стали торопливо расходиться, тем более что во двор заглянул участковый, лысый Ровшан. Три дня участковый не появлялся на улице, после того как его на базаре избили инвалиды войны и раненые из госпиталя, который теперь в моей бывшей школе. Ровшан порыскал черными, на выкате глазами, увидел мою бабушку, погрозил пальцем, но ничего не сказал. Бабушка тоже промолчала, лишь повела с презрением рукой: мол, иди гуляй! Ровшан покачал башкой и убрался, захлопнув дворовые ворота. Соседи с любопытством посмотрели на мою бабушку. Интересно, почему участковый обратил внимание только на бабушку, не появлявшись три дня во дворе? Даже его жена не приходила за горячим хаши, что каждый день привозила в бидоне Марьям.
Но бабушка никакого внимания не обратила на соседей. Она поднялась с табуретки и приказала мне идти за ней, что я и выполнил без лишних слов. Обычно я оспаривал любое приказание взрослых, но на этот раз понимал, что бабушке может грозить опасность. Я-то знал, в чем дело, – сам был свидетелем всего, что случилось в тот день на базаре. Вообще моя бабушка, Мария Абрамовна Заславская, была довольно известная персона, знакомство с которой считалось большой удачей для многих в нашем районе. И я, признаться, этим гордился…
Бабушка приехала в Баку из города Херсона с четырьмя детьми: старшая дочь, моя мама, и три брата-погодка, мои будущие дядья – Миша, Женя и Леня. Во время голода на Украине, в конце 1920-х годов, овдовев, она собрала детей и переехала в Баку, в тот же «город хлебный». Нашла заброшенный мусорный подвал и получила разрешение жить в этом подвале, если семейство очистит подвал от хлама. Все лето, ночуя во дворе, бабушка и ее дети, даже младший, восьмилетний Ленечка, таскали мусор, готовя к зиме крышу над головой. Не имея никакого образования, бабушка бралась за любую работу: уборщицей, почтальоном, продавцом в керосиновой лавке, кассиром – тянула детей в люди. Отвергая горячих южных женихов, зарившихся на красавицу-дывчину, несмотря на ее детский сад. Но, как это нередко встречается в больших семьях, дети росли «в разные стороны». Мама, закончив финансовый техникум, работала в Институте физкультуры, вышла замуж за моего папу и выбралась из подвала – на второй этаж того же дома. Старший сын, Миша, вымахав в красавца-парня, светловолосого и сероглазого, связался с компанией контрабандистов, имевших дела с иранскими партнерами. Роль была у него небольшая – вспомогательная, внутригородская. Тем не менее он по-дурацки вляпался. Почему по-дурацки? Сидел в комнате, выложив на стол зажигалку, похожую на пистолет. Окно подвала, понятное дело, доступно любому прохожему – загляни не хочу. Кто-то заглянул и донес куда надо. Допросы и следствие привели в городской суд по куда более важному поводу, чем игрушечный пистолет. Потрясенная бабушка на суд и приговор не пришла. Дядя Миша загремел в Магадан. Отсидел, женился, нарожал от двух жен трех мальчиков, моих двоюродных братьев, и, проработав парикмахером, умер своей смертью. Средний сын бабушки, Женя, выучился на шофера, работал, помогая учиться младшему, Лене, а тут – война. И 14 января 1944 года его убило под Керчью, у деревни Осовино. Младший сын бабушки, тот самый, мой любимый дядя Леня, закончил в Курске медицинский институт и ушел на фронт военным врачом. Пройдя всю войну полевым и госпитальным хирургом, вернулся в Баку с ценнейшим опытом. Попасть в руки хирурга-уролога Заславского считалось в Баку большой удачей для больного. Уже в преклонном возрасте дядя с семьей переехал в Израиль, где и умер…Так вот! К чему я рассказал о семье своей бабушки? Часть ее жизни была связана с войной. И когда во дворе зимой 1943 года появился однорукий солдат с тощим вещевым мешком за спиной и в пилотке, соседи заволновались: почему он спрашивает, где проживает Мария Заславская? Не принес ли дурную весть о воюющих сыновьях? Оказалось, что солдат – бывший херсонский сосед бабушки, Арон Гуткин. После госпиталя в Баладжарах, пригороде Баку, где он оставил руку, Арону некуда было деться. Всех его близких немцы расстреляли в том Херсоне, и Арон надеялся немного пожить здесь, если возможно. Когда окончательно заживет культя его бывшей руки, он куда-нибудь пристроится. А что бабушка?! Без лишних слов она впустила этого солдата. Поначалу – к себе, перед углом, который занимали две девушки-молдаванки, ожидавшие пароход на Красноводск. Но вскоре солдата взяла к себе толстая Роза – в галерею перед комнатой. После истории с «героем Испании» Роза жила одна и работала в своей библиотеке имени писателя Короленко. Потом соседи заметили, что Арон уже не ночует в галерее, где холодно, а перебрался в комнату Розы… Арон оказался очень рукастым мужчиной, несмотря на одну руку. Он наловчился делать зажигалки из гильз и еще что-то. Продавал это на базаре. Вообще он пользовался на базаре, среди инвалидов, большим авторитетом. И научился разговаривать по-азербайджански, молодец. Хотя всевсе в Баку говорили на русском языке, даже старьевщики, которые по утрам кричали на улице: «Вещь покупаем! Ста-а-арый вещь покупаем!» Такой был наш замечательный город!
Надо сказать, что и сама бабушка приторговывала на базаре. А что делать? Мама в своем институте, бухгалтером, получала мало, а тут – я и младшая сестра. Надо было крутиться – почти все крутились и выкручивались. Так и бабушка. На базаре она держала свой «магазин» с одним прилавком – старой табуреткой с широким сиденьем и маленькой скамеечкой для продавца. Товар бабушка оптом скупала у спекулянтов-барыг, расфасовывала и выносила на базар. Разделенный на кусочки круглый американский шоколад «второй фронт», кубики маргарина, кучки из пяти иранских фиников, петушки на палочке, черные, точно из мазута, пряники «К чаю» и другая вкуснятина. Дети любили бегать в «магазин бабы Мани», да и взрослые останавливались у табуретки посмотреть, как выглядит «второй фронт», который обещали американцы. Словом, бабушка вела дело успешно, пока на «магазин» не положил глаз лысый участковый Ровшан. Начал придираться, грозил всякими карами. Поначалу бабушка откупалась – то деньгами, то товаром. Ровшан наглел. Работать на лысого участкового не входило в планы моей бабушки, и она рассердилась, перестала платить оброк. Однажды, когда я навестил «магазин» в надежде на халяву с бабушкиной табуретки, на базаре нарисовался Ровшан. Раздувая черные усы, он подошел и без лишних слов опрокинул табуретку, вместе со всем добром. Бабушка взяла скамеечку и жахнула Ровшана по спине. Все произошло так быстро, что я даже не успел найти булыжник, чтобы запустить в участкового. А когда нашел, то увидел, как два инвалида и дядя Абрам колотят Ровшана, да так, что бабушка стала заступаться за него.
– Хватит! – кричала она и оттаскивала взрослых. – Он больше не будет, хватит!..
Ровшан вырвался и побежал, освещая дорогу здоровенным фингалом под глазом…
– Не отставай, – сказала бабушка через плечо, зная мою привычку задерживаться возле каждой собаки или кошки.
Я догонял бабушку, хотя и сам знал дорогу в крепость. Там жила бабушкина знакомая, которую бабушка обещала выручить. У знакомой жила семья каких-то беженцев. И неожиданно вернулся сын той знакомой, с женой и маленьким ребенком. Поэтому бабушка обещала поселить у себя тех беженцев на несколько дней, пока не подойдет их пароходная очередь на Красноводск.
Крепость, эту упоительную, романтичную часть города, я знал неплохо: в крепости жили многие пацаны нашей школы. Их так и звали: крепостные. Старые разноэтажные дома под плоскими крышами, нередко с тесными двориками и общей уборной, лепились по обе стороны таких узеньких улочек и переулков, что я мог их соединить, если бы лег поперек между ними. И весь этот муравейник, с его запахом, шумом, людской суетой, собаками и кошками, бельем, что сушилось на веревках, отделяла от остального города стена из толстенных каменных плит, сложенная у самого моря больше тысячи лет назад для защиты от врагов. И крепостные пацаны очень этим вытыкались перед городскими. Особой гордостью крепостных было то, что в крепости жил Эт-ага, мужчина без костей. То есть скелет у него был, но кости – до того размягченные, что вроде и не было скелета. Таким он родился, этот «мясной господин» (в переводе на русский язык). Эт-ага весь день сидел в кресле среди подушек и слыл всевидящим прорицателем. Даже моя бабушка после смерти дяди Жени ходила «на прием» к Эт-аге – узнать, не ошибка ли произошла: может, жив мой дядя, пусть ранен, но жив? Эт-ага взял деньги и обнадежил. И бабушка до конца своей жизни верила, что дядя Женя жив.
Так что крепостным пацанам было чем вытыкаться. Споры доходили до драк, особенно между большими мальчишками, с их атаманами. Черт знает, как, но крепостные безошибочно определяли городских. Зная это, я невольно озирался, пересекая крепостные ворота. Но с бабушкой чувствовал себя в безопасности. Дом, в котором жила бабушкина знакомая, находился недалеко от знаменитой Девичьей башни – в той части крепости, что выходила к морю. Мрачная и высокая башня была знаменита тем, что с нее когда-то бросилась в море дочь падишаха из-за несчастной любви. А мой одноклассник Ариф Меликов написал музыку к своему балету «Легенда о любви», который шел во многих театрах страны. И все бывшие ученики моей шестой школы очень гордились этим Арифом.
– А…Зачем я туда иду?! – вслух размышляла бабушка. – Такая у меня теснотища – куда я их положу, трех человек?
Но не идти она не могла, раз обещала.
Обратно мы возвращались впятером. Я, бабушка и три ее новые коечницы: девочка Лиза и две тетки – Лизина мама и Лизина тетя, хромающая на правую ногу. Потом мне Лиза рассказала: когда немцы начали бомбить поезд под Лисичанском, пассажиры побежали в лес, тетя сильно вывихнула ногу и с тех пор хромает…
У каждого из нас руки были заняты поклажей. А бабушка и тетки несли еще по рюкзаку за плечами. Я и Лиза тащили по плетеному зембилю с напиханным в них каким-то тряпьем.
– Давай я понесу и твой зембиль, – предложил я.
– Спасибо, сама справлюсь, – ответила Лиза. – И не такое таскала. Смешное название: зембиль-мембиль. Просто корзина.
– Так прозвали, да, – ответил я. – Плетеные корзинки по-нашему.
– Вы вообще какие-то смешные здесь, – ответила Лиза.
– Почему смешные? – удивился я.
– Женщины прячут лица в черные платки, – засмеялась Лиза, – выглядывают, как через забор. Баранжа, что ли?
– Паранджа, – уточнил я. – Такой обычай.
– Ишаки гуляют. Даже верблюд вчера зашел в крепость – я испугалась, – продолжала радоваться Лиза. – А хозяин сидит на корточках, курит из какого-то кувшина с закрытыми глазами, как будто спит.
– Почему спит? Наслаждается! – обиделся я. – Этот кувшин называется кальян. Дворник Захар тоже тянет такой кальян, втихаря. Говорят, милиция кальянщиков забирает. Хочешь, я расскажу, как верблюд плюнул в моего товарища?
– Рассказывай, – Лиза перехватила второй рукой ушки зембиля. – Какой он плакучий, этот ваш зембиль.
Действительно, плетеная корзина скрипит, если ее перегибают, особенно новая. Когда бабушка утром уходит на базар, я определяю по этому скрипу. А что касается моего товарища Сеньки Паллера, так над ним вся школа смеялась. Он встал перед верблюдом, взял в рот кусок жмыха и принялся дразнить, перетирая челюстью, как верблюд. Тот смотрел на Сеньку, смотрел, да как плюнет в него, окатив с ног до головы желто-зеленым потоком слюны, липкой, как замазка. Сенька заплакал, а мы чуть не уписались от смеха.
Лиза поставила зембиль на землю и принялась хохотать вместе со мной. Казалось, ее смуглые щеки втягиваются в две глубокие ямочки, точно воронки. А черные, точно арбузные семечки, глаза под круто изогнутыми дугой бровями искрились весельем. Пока мы хохотали, взрослые скрылись из виду, но я хорошо знал дорогу. И был доволен, что мы с Лизой остались вдвоем: можно было просто посидеть на скамеечке парапета.
– Почему этот садик назвали парапет? – спросила Лиза.
– Не знаю. Парапет и парапет, – ответил я и умолк, неожиданно охваченный странным смущением.
Я смотрел прямо перед собой, но боковым зрением видел ее круглые, в царапинках коленки. Боком ощущал тепло ее рук, упершихся в скамейку, отчего Лиза приподняла плечи, опустив между ними голову. Черный скрученный локон волос падал на ее лоб и касался переносицы.
– Тебе сколько лет? – спросила Лиза.
– Двенадцать, – помедлив, ответил я, сам не понимая, почему накинул чуть ли не целый год. Мне ведь недавно стукнуло одиннадцать.
– И мне скоро двенадцать, – проговорила Лиза. – Если бы не война, я пошла бы в шестой класс. А так даже и не знаю, что будет. Хоть бы папу не убили – мой папа на фронте.
– И мой на фронте, – обрадовался я. – Я и сам хотел бежать на фронт, но сорвалось.
– Да сиди ты! – одернула Лиза. – И без тебя обойдутся… Знал бы ты, как бомбы падают, как люди прячутся, боятся и плачут!
Сколько крови я перевидала во время эвакуации!..
Я сконфуженно помалкивал – понимал, как наивна сейчас моя бравада. Несколько минут мы молчали, разглядывая прохожих. Ничего особенного в них не было, а ведь попадаются иногда очень смешные, но сейчас не везло. Все были озабоченны и молчаливы, даже дети хмуро спешили по своим делам.
– Тебя ведь зовут Илья? – вдруг вспомнила Лиза и в ответ на мой кивок спросила: – Ты ходишь с какой-нибудь девочкой?
Я растерянно молчал. Что ответить? Сказать о Рите, которая еще зимой уплыла на пароходе в Красноводск, почему-то не хотелось. Да и не так чтобы ходил… У меня была ангина, я пролежал дома неделю, а когда выздоровел и зашел к тете, то узнал, что у Риты подошла очередь на пароход и она уехала, с мамой и братом Зориком. «Они так торопились, – сказала тетя, – что ни с кем не попрощались». Я не обиделся, немного погрустил и забыл.
– Нет, не хожу, – тихо ответил я Лизе.
– Тогда ходи со мной, – предложила Лиза. – Или не хочешь?
– Почему? – ответил я. – Давай.
– А ты с кем-нибудь целовался? – спросила Лиза. – Я имею в виду с девочкой?
– Вот еще, – огорошенно пробормотал я. – Ты уже совсем… как-то.
– Когда мы тогда разбежались от поезда в лес, одна большая девчонка сказала: «Вот убьют нас сейчас, а я ни разу с парнем не целовалась».
– Подумаешь, – я пожал плечами. – Нашла о чем жалеть в такую минуту.
– Тогда я тоже так подумала, а потом… – Лиза не успела договорить.
Раздался жуткий сверлящий вой. Звук то набирал высоту, то падал, стихая до человеческого голоса, чтобы вновь взметнуться и перейти в оглушающий сознание звук. «Тревога! Тревога!!! – кричали какие-то мужчины и женщины, волоча за собой брезентовые носилки. – Воздушная тревога! Все в бомбоубежище, быстро!» Прохожие убегали от них, прячась за густыми кустами олеандров и мохнатыми стволами пальм, растущих на парапете. Они кричали: «Идиоты, бездельники! Уберите руки, кретины, не надо меня спасать!» Но те не обращали внимания. Хватали людей, укладывали на носилки, подкидывали к ним сумки с противогазами и, хохоча, куда-то волокли. При этом смеялись и одни и другие. Тут носильщики увидели и меня с Лизой.
– Детей неси вместе! – скомандовал парень с повязкой на рукаве зеленого балахона. – Противогаз не давай – взрослым не хватит.
– Что делать с зембилем?! – проорал ему другой парень.
– И зембили укладывай! – приказал командир. – Быстрей! Контрольное время… Сирена все выла и выла. Два здоровых парня схватили меня с Лизой, положили, как дрова, на брезентовые носилки, какая-то тетка схватила наши зембили и приказала: «Пошел!» Я выкрикнул что-то про бабушку, которая наверняка спохватится и будет нас искать.
– Меньше говори! – посоветовала тетка. – Хочешь, чтобы бабушка тебя похоронила? Кончим ученья – живой пойдешь к бабушке.
Конечно, тревога была ненастоящая. За всю войну ни одна бомба не упала на мой прекрасный город: Гитлер рассчитывал на бакинскую нефть. Но все равно было неприятно.
Наконец сирена перестала выть и всех задержанных выпустили из «эвакопункта» – чистенького подвала с бесплатной газированной водой. После этого случая мне показалось, что я знаю Лизу давным-давно, с первого класса, хотя мальчики учились отдельно от девчонок.
– Ох нам сейчас и попадет, – сказала Лиза, когда мы подошли к дому.
– Плевать! – храбро ответил я и увидел своего лучшего друга. Борис шел нам навстречу с нотной папкой, которая болталась на веревочных ушках. Три раза в неделю он ходил к училке по музыке, которая жила поблизости.
– А это кто? – Борис оглядел Лизу серыми глазами.
– Новая бабушкина жиличка, – ответил я без особой охоты.
– Ты беженка? – процедил Борис.
– А ты дурак? – в тон вопросила Лиза.
– Почему дурак? – растерялся Борис.
– Видно, – ответила Лиза.
– Он как раз отличник, – растерялся я. – И по музыке учится.
– Куда идти дальше, Илюша? – она с презрением обошла Бориса и посмотрела на меня.
Мне стало неловко перед Борисом. Да и тот стоял какой-то потерянный. Надо сказать, что Борис считался самым красивым мальчиком в школе. Высокий, широкоплечий, с накачанными руками гимнаста. Мягкие золотистые волосы небрежно и как-то живописно падали с маленькой аккуратной головы. Серые, с лукавым прищуром большие глаза и чуть вздернутый короткий нос над большим узкогубым мужским ртом, над подбородком с ложбинкой делали моего друга похожим на какого-то знаменитого киноартиста. Он казался гораздо старше своих лет и слыл атаманом среди наших пацанов. К тому же у него был велик – настоящий взрослый велосипед, на котором он выделывал умопомрачительные фокусы на грани опасности. Словом, супермальчик, и тут – такое пренебрежение. И от кого?!
Лиза, не дождавшись моего ответа, пошла вперед, волоча опостылевший зембиль. Острые лопатки выпирали под сиреневой блузкой из штапельной, ромбиком материи, очень тогда модной. Поток черных волос падал на ее спину, тяжестью оттягивая назад голову, тоненькая талия подчеркивала плавный и недетский изгиб бедер.
Борис сунул мне веревки нотной папки, которую я невольно подхватил. Сам же Борис подбежал к Лизе и ухватил сильной рукой гимнаста ушки зембиля. Лиза без единого звука отпустила противно скрипящие ушки и продолжала идти, словно они так шли вдвоем уж давно. И оба молчали, словно шли давно. А я смотрел им вслед, стоя с зембилем в одной руке и папкой в другой. Вскоре Борис и Лиза исчезли под аркой ворот. Через мгновение Борис выскочил на улицу, перенял у меня нотную папку, окинул меня плывущим взглядом серых глаз, улыбнулся и заспешил к своей училке.
Не знаю, может быть, поэтому у меня в тот вечер поднялась температура. Ее обнаружила мама. Прервавшись меня ругать за долгое отсутствие, мама приложила руку к моему лбу и тут же уложила меня в постель. Я лежал и думал, с чего это у меня поднялась температура. Говорят, что она иногда поднимается от большого волнения. Я хотел встать с постели, спуститься в бабушкин подвал, посмотреть, как там устроились Лиза и ее мама с тетей. Но надо знать мою маму! А назавтра я вообще почувствовал себя неважнецки, да так, что мама не пошла на работу и сидела дома, ухаживая за мной, как за раненым. Так я провалялся неделю. Заглядывала и бабушка. Сказала маме, что ее новые жильцы, вероятно, скоро съедут, так как подкинули еще один пароход – «Туркестан», чтобы разгрузить приморский бульвар от беженцев. А главное, девчонка-то у новых жильцов из Лисичанска оказалась такая шустрая – подружилась с какими-то ребятами, целыми днями гуляют по городу. Она и принесла весть о пароходе «Туркестан»…
За время болезни ко мне наведывались почти все пацаны: и Тофик, и вытыкала Самедов, и Шурик, и Ленька Козаков, и другие – все-все, кроме Бориса. Паллер проговорился: сказал, что Борис куда-то свалил, он ходит с какой-то не нашей девчонкой. Я сделал вид, что это меня мало касается…
Прошло много лет. Война кончилась. Ребята моего детства зажили другой жизнью и о тех уже далеких днях войны рассказывают своим детям. И я стал взрослым, принялся писать книги, постарел, поседел. Однажды случайно узнал, что лучший друг моего детства Борис умер в Воркуте – судьба его занесла так далеко. Умер пятидесяти лет от роду. Оставил двух ребят и жену Елизавету. Наверно, ту самую Лизу… Я так думаю.
ДЕТСКИЙ САД Повесть
Основные персонажи повести.
МАРИНА КУТАЙСОВА. Двадцати пяти лет. Волосы светло-желтые, заметно темнеющие у основания. Глаза зеленоватые, Марина их чуть-чуть подводит. На правой щеке, ближе к уху, едва приметный рубец. Фигура стройная. Обожает брюки и обтягивающие свитера. Окончила педагогический институт, работает в детском саду воспитательницей. В детском саду для нее выделили комнату (шесть квадратных метров: обои – желтые цветы на сером фоне; кровать, тумбочка). Вещи свои она держит в основном у отца – в двухкомнатной квартире у Центрального рынка. Отец Марины, отставной майор Кутайсов, после смерти жены вдовствовал недолго. Вторая его жена с двумя детьми перебралась в квартиру Кутайсовых, поэтому вариант с детским садом Марину устраивал.
НИКИТА БОРОДИН (КИТ). Двадцати шести лет. Полноват, кажется старше своего возраста. Высоколобый, с залысинами. Тонкие губы как бы служат подставкой для большого носа. Пытался заводить усы, но усы «не смотрелись». У Никиты добрый, уживчивый характер. Легко обижается, но обиды забывает быстро. Друзей у него много. С Мариной Кутайсовой дружат еще с детского сада, хотя видятся редко.
Работает Никита инженером на заводе. Работает с энтузиазмом, добросовестно. Считается человеком, на которого можно положиться. Был женат, но разошелся. Живет с родителями. Каждый месяц отдает пятьдесят рублей в общий котел. Денег с него родители не требуют, но такой уж он человек.
АЛЕНА ПАВЛИДИ. Лучшая подруга Марины. Темноволосая, смуглая. Далекий предок ее, по отцу, был грек. Окончила физмат. Работает в НИИ в отделе упругих сред. Пишет диссертацию. Увлечена своим делом и, говорят, подает надежды. Одевается по моде. В компаниях, как правило, поначалу проигрывает рядом с Мариной, но потом, когда знакомство оседает, Алена вырывается вперед. Она об этом знает и никогда не торопит события. А Марина слишком любит подругу, чтобы обращать на это внимание. Года три назад Алена могла выйти замуж за своего коллегу-физика, но раздумала. Вызвала коллегу в коридор института и сказала, что выходить замуж передумала, потому как она его не любит. А кольцо обручальное потеряла, где – неизвестно. Но может вернуть деньгами. Коллега деньги взял. И вскоре женился на другой.
ГЛЕБ КАЗАРЦЕВ. Двадцати шести лет. У него энергичная походка (считают, что это визитная карточка характера). В движении откидывает голову назад – от этого кажется высокомерным. Красивые серые глаза, русые волосы. Привычка чуть растягивать слова делает речь его значительной и наводит на мысль, что Глеб на каждое жизненное обстоятельство имеет свою твердую точку зрения. Учится на последнем курсе заочного политехнического института, работает в КБ инженером. Холост. Живет с матерью в трехкомнатной квартире. Имеет многочисленных друзей, но сам весьма замкнут. Не от скрытности характера, а скорее от природной печали.
В этой повести есть и еще один персонаж, который никак нельзя отнести к категории второстепенных, – детский сад.
В детском саду впервые много лет назад познакомились наши молодые люди. Сдружились. Пронесли хоть и в разной степени, но, несомненно, доброе отношение друг к другу через свои неполные тридцать лет. Детский сад размещался в специально выстроенном для этой цели двухэтажном коттедже. На фронтоне добросовестной кирпичной кладки изображены какие-то фантастические фигуры. Но дети раз и навсегда решили для себя, что геометрическая фигура с трубой на конце – слон, а круг с двумя выпуклостями – верблюд. Решили и успокоились…
Вечерами дом погружается во мрак. Лишь под ветром пятно от фонаря лимонным языком касается груды кирпичей, почему-то сваленных у входа. Тускнеет дежурное освещение в правом крыле коттеджа. И светится окно, завешенное голубой шторой, в комнате Марины.
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетель Н. Бородин:
«…В тот вечер мы собрались отметить день рождения Марины. Мы давно не виделись. Марина позвонила, пригласила. И я пришел…» Свидетельница А. Павлиди:
«…Мы встретились в семь часов, после работы. У кинотеатра. Зашли в гастроном. Марина сказала, что она ничего особенного не устраивает. Так, посидим, потанцуем. Давно не виделись».
Свидетельница М. Кутайсова:
«…В этот день мне исполнилось двадцать пять лет».
Лестничные ступени то проваливались в темноту, то неожиданно подставляли себя под подошвы. Лампочка перегорела еще позавчера. Завхоз собирался вкрутить новую, да забыл. Кому нужна лампочка, если детей разбирают засветло, а детский сад запирается?
– Ну и запах! – Никита замыкал шествие. Он держал портфель так, чтобы не стукнуть: в портфеле был магнитофон.
– Запах как запах, – Марина шла впереди.
– А во мне запахи пробуждают воспоминания, – голос Алены звучал мягко, точно каждое слово обволакивалось тишиной, как ватой. – Я с трех лет ходила в этот сад.
Марина поднялась на площадку и принялась шарить в карманах, отыскивая ключи:
– Сейчас-сейчас, миленькие мои, родненькие!
Наконец замок щелкнул, Марина шагнула в комнату, нащупала выключатель. Бледно-сиреневый свет пал на кафельные стены, пригас и в следующую секунду наполнил комнату равнодушным прохладным сиянием, жужжащим в длинном матовом баллоне, точно осенняя муха.
– Ой! Какое все тут маленькое! – засмеялась Алена. – Чур у меня цапля!
Никита распахнул дверцу шкафчика, на которой изображен пулемет. Он попытался втиснуть портфель, но портфель в шкафчик не вмещался.
– Не устраивайте беспорядок! – прикрикнула Марина. – А то завтра мне влетит от няньки. В зал проходите, в зал. Парами.
Никита подхватил Алену под руку и потянул за собой.
***
Из протокола допроса Г.С. Казарцева, обвиняемого по статье 211, часть 2, УК РСФСР и статье 127, часть 2, УК РСФСР:
«…Обычно я заканчиваю работу в 17.30, но в тот день неожиданно нагрянул представитель заказчика из Новосибирска. Меня попросили задержаться, с тем чтобы ввести его в курс дела. Разговор наш затянулся и закончился в шесть. Домой я вернулся в семь. Не мoгу сказать, что я очень устал в тот день, – как обычно. Правда, представитель заказчика меня загонял: его не устраивали некоторые характеристики…»
Глеб достал из шкафа брюки, бросил их на кровать. Галстук он решил не надевать: жарко. А может, остаться дома? Устал он с этим заказчиком из Новосибирска. Почему-то всегда, когда приезжают представители заказчика, заведующий лабораторией прикрывается им, Глебом. Нашли мальчика для битья! Правда, это льстило Глебу, и недовольство свое он проявлял только внешне.
Выдвинув ящик стола, он пошарил под газетой. Двенадцать рублей. А до получки еще неделя. Придется одолжить у матери – он и так уже должен ей сорок рублей. Отдаст. На три вечера, не больше… А пока вот двенадцать рублей да в кошельке копеек сорок. Купить бутылку коньяка и букет цветов. Марина сама виновата – поздно сообщила о своем дне рождения.
Скрипнула дверь, показалось лицо матери:
– Есть будешь? Я оладьи пожарила.
– Не хочется. Что, мне никто не звонил?
– Михаил Степанович. Сказала, что ты спишь.
Мать вошла в комнату. Огляделась, точно чего-то искала. Такая у нее привычка.
– На трещотке своей поедешь?
– Зачем же я его купил?
Мать садится в кресло. Ей нравится наблюдать, как Глеб одевается. И Глеб поглядывает на мать – в зеркальном отражении лицо матери светлеет. Тонкие, строго подобранные губы. Резкие складки у носа. И морщинки вроде становятся незаметнее.
– Как там твой Панкратов? Бушует?
Панкратов – начальник цеха в типографии, где мать работает линотиписткой. И мать обычно рассказывает о нем всякие истории. То Панкратов с женой расходится, то Панкратова пес цапнул, то Панкратов волосы хной выкрасил сдуру…
– Не люблю, когда ночью ты на мотоцикле гоняешь, – произносит мать. – Людям покоя нет, да и мне тоже.
– Молодость, мама, раз дается! – Глеб подмигивает в зеркало.
Мать вздыхает и продевает ладони под колени.
– На отца ты становишься похож. Все больше… И волосы.
Только вот прическа непонятная.
– На кого же мне быть похожим? На Панкратова, что ли? – улыбается Глеб. Он чувствует, что не то сказал, не подумал. – Волосы я хной не крашу, – Глеб окончательно запутался, смутился. – Извини, мама. Я сейчас думаю о другом, понимаешь?
– Раз в неделю видимся, и толком поговорить не можем. Совсем ты отвыкаешь от меня.
Мать встала и вышла из комнаты. Отец Глеба погиб в сорок девятом году. Прошел всю войну, а погиб в мирное время, при разминировании. Глебу тогда и трех лет не было. Мать все тоскует. Могла бы и устроить свою жизнь – нет, не хочет…
Глеб поморщился: напрасно он Панкратова вспомнил – с языка сорвалось ради красного словца.
Водительские права были на месте, в правом кармане. Еще он подумал, хватит ли бензина. Должно хватить – вчера полный бак залил. Глеб одергивает на кровати покрывало и выходит, прихватив с тумбочки длинные кожаные рукавицы. Шлем он обычно оставляет в прихожей.
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетель П.А. Марков, пенсионер:
«…Возвращался я из бани часу, думается, в девятом. Еще хотел к свояку зайти – он живет у почты. Вышел на Менделеевскую, а там темнота, фонари не работают. Вдруг спотыкаюсь. Пригляделся – человек лежит. Ну, думаю, сукин сын ты, люди с бани идут, а ты пьяный валяешься! Хотел обойти, но засомневался. Вглядываюсь – вроде женщина лежит…»
Елизавета Прокофьевна покидала зал кинотеатра одной из последних. Откинутые сиденья стульев напоминали разинутые рты. Спешить Елизавете Прокофьевне было некуда. Витьку, как обычно в пятницу, забрали домой. Поэтому она любила пятницу. Она любила и воскресенье, когда Витьку вновь приводили к ней… Своих детей у нее не было, и к Витьке она очень привязалась. К тому же родители Вити платили ей шестьдесят рублей в месяц, плюс деньги на продукты для ребенка. Витька был здоровый, веселый мальчуган, имевший лишь одну слабость – развязывать шнурки на ботинках. Поэтому Елизавета Прокофьевна за день приседала раз тридцать. Вместо лечебной гимнастики. В остальном они ладили… Блеклые фонари слабо светили сквозь влажный воздух вечерней улицы. Ближайший гастроном на Менделеевской работал до девяти, так что еще полчаса, можно не торопиться. Елизавета Прокофьевна остановилась у освещенной витрины, достала кошелек. Денег с собой было три рубля с копейками. Хватит. С тех пор как она ушла на пенсию, денег стало вроде больше. Конечно, на работе все по казенке ешь – по столовкам да буфетам. А тут сама готовишь, еще и от Витьки остается. Нет, мальчонку она не объедала, упаси бог, но не выбрасывать же, верно? Выгодное это дело – пенсия, только скучно, особенно если всю жизнь работала на фабрике.
Елизавета Прокофьевна прошла квартал, свернула направо. Если идти боковыми улицами, то до гастронома вообще ходу минут пять. Она плотнее запахнула на груди плащ, поправила платок. Прохладный воздух ее бодрил после духоты кинозала. Да и фильм был тяжелый, со стрельбой, погоней. Она так и не поняла, в чем там дело.
Размытая тень от ее фигуры медленно поглаживала сырые стены, проваливаясь в подворотни дворов и вновь упрямо выползая. Точно фонари передавали ее друг другу, не желая выпускать из-под своего попечения. И Елизавете Прокофьевне нравилась эта забота. Даже улицу переходить не хотелось – на той стороне фонарей не было.
Она остановилась на краю тротуара и осторожно опустила носок туфли на мостовую, как пробуют воду нерешительные купальщики. Обретя достаточную устойчивость, она сошла с тротуара и, прижав к бокам локти, торопливо засеменила на противоположную сторону улицы.
Оставалось пять-шесть шагов, не больше…
Еще она успела осознать, что нестерпимо ярким светом резануло в глаза.
Еще успела произнести фразу «Куда же ты?». Но слов этих она и сама не расслышала.
Еще вспомнила в какое-то мгновение, как давно-давно на нее валился шкаф. Огромный, как лавина. Его поставили боком, чтобы пронести в комнату, а он стал валиться. Прямо на нее. Она едва отскочила. С тех пор она обходила этот шкаф…
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетель Н. Бородин:
«…Он был человеком удачливым. Баловень судьбы. В чем это выражалось? Глеб редко делал то, что ему делать не хотелось. Это большое счастье. Он занимался делом, если испытывал в нем потребность. Он и учиться в институте начал, уже будучи серьезным специалистом в своем деле… Завидовал ли я ему? Вероятно, да. Завидовал и не любил…»
Свидетельница А. Павлиди:
«…У меня сложное отношение к нему. Глеб мне и нравился, и не нравился. Чем нравился? Мужеством современного мужчины. Могу пояснить… Мне кажется, мужчины перестают быть мужественными. Не знаю, в чем причина, но это так. Присмотритесь, к чему стремится мужская мода. Брелоки, побрякушки, цепочки, прическа… А на работе? Когда надо принять конкретное решение – мекают, бекают. Стараются переждать, не высказаться. Перекладывают на других… Извините, я отвлеклась. Теперь – чем Глеб не нравился. Слишком у него было много достоинств. Это подозрительно. И потом, скучно – все знаешь наперед».
Свидетельница М. Кутайсова:
«…Мне трудно быть объективной. Я его люблю».
Никита возмущался. Он не знал, куда сесть. Разве на подоконник? Но подоконники были заставлены колючими кактусами.
– Садись на пол! Древние греки, например, даже пили лежа.
Алену обстановка детского сада умиляла. Она расставляла на сдвинутых маленьких столиках маленькие тарелки, раскладывала маленькие вилки.
– Древние греки ложились на пол, когда напивались. Я тоже через пару часов буду древним греком… Кстати, откуда тебе известны подробности жизни древних греков?
– Семейные предания, – Алена протянула Никите консервный нож. – Открой банку сардин. Нужна мужская сила.
Никита продолжал ворчать о том, что день рождения можно было отметить в кафе или у него дома. Нет, это ж надо, такая блажь: в детском саду!
– Открывай, открывай сардины, старый ворчун. Ты забыл свое детство, мне жаль тебя, – смеялась Алена.
Банка не поддавалась, увертывалась от ножа, скользила. Раз даже упала на пол. Никита все больше свирепел. Девушки насмешливо молчали. Наконец банка поддалась, плеснув напоследок масляные слезинки.
– Какой же ты растяпа, Кит! – не выдержала Марина. – Полчаса над несчастной банкой!
– Просто ему не везет, – Алена откинула со лба волосы.
– Не повезло мне, что я с вами познакомился! – Никита бросил нож и отошел.
– Ты? С нами? Ха! Это мы с тобой познакомились. Мы с Мариной пришли в этот сад раньше тебя.
– Ну и что? – серьезно ответил Никита. – Меня бабушка не пускала.
– Ой, умру! – Марина оглядела неуклюжую фигуру Никиты. – У тебя и бабушка была, Кит? Ой, не могу! У него бабушка была.
– И была! Доктор наук, между прочим, – обиженно произнес Никита. – Физиолог.
– Доктор наук. А ты в кого пошел, Кит? – продолжала Марина. – В меня, да? Или в Аленку?
– Аленку вы не трогайте, плебеи! Аленка диссертацию через год защитит, – Алена обтирала полотенцем посуду. – Еще придете ко мне денег одалживать… Ты, Кит, сколько сейчас стоишь?
– Сто тридцать он стоит, – ответила Марина.
– Сто сорок! – поправил Никита.
– Это когда ж тебе накинули? Или постеснялся обмыть прибавку?
– Постеснялся. Еще приказ не подписан. Скрипкип только вчера из отпуска вернулся, – вздохнул Никита и рассмеялся. Чего это он стал о чем-то спорить? И всерьез! Расстроился из-за каких-то масляных пятнышек на старых брюках.
Никита смеялся. Когда он смеялся, лицо покрывалось веселыми лучиками. Они тянулись к уголкам губ, к уголкам глаз. Склонив голову набок, он смеялся в полное свое удовольствие.
И Марина смеялась. Когда она смеялась, носик, короткий, вздернутый, жадно втягивал воздух.
И Алена смеялась. Она смеялась, обхватив руками затылок и откинув голову.
Они поглядывали друг на друга сквозь зыбкую вязь смеха и уже не помнили причины, вызвавшей смех. Да и была ли причина? Просто им приятно смеяться. Их ничего не стесняло. Они прекрасно знали друг друга много лет. Всю жизнь. Хотя и виделись не так уж часто.
– Кит, Кит… Помнишь, как ты подрался из-за меня с Глебом, помнишь? В школе, – проговорила Алена.
– Дурак был, – хохотал Никита.
– Ты рыцарь был, глупый. Я тебе нравилась, ты и подрался… А сейчас? Какой-то Скрипкин, господи! – Алена укоризненно качала головой.
Никита шагнул к стене, снял с крючка автомат и спрятался за шкаф. Он выставил автомат и нажал гашетку. На кончике дула замерцала лампочка, изображающая выстрелы.
– Я тебя убил! Падай! – закричал Никита. Девушки оглянулись: в дверях стоял Глеб.
***
Из бесед со свидетелями по делу № 30/74.
Свидетель Н. Бородин:
«…Почему я его не любил? Трудно ответить. Человек собственных недостатков не замечает. Но в его присутствии я замечал свои недостатки – как это происходило, не знаю… Все началось с одного случая, давно, в детстве. Случай наивный. Детские обиды. Драка из-за девчонки…»
Свидетельница А. Павлиди:
«…Есть ли у меня недостатки, о которых я знаю? Человек прощает себе любые недостатки и ошибки, если о них никто, кроме него, не знает… Почему это вас интересует? Разве это относится к делу?.. В тот вечер Глеб не был пьян. Я в этом уверена».
Свидетельница М. Кутайсова (запись в деле):
«…Вообще я никогда его пьяным не видела. Никогда. К тому же мы сели за стол после прихода Глеба, так что никто из нас к тому времени вина не пробовал…»
– Послушай, Марина, нельзя ли нам привалить к нормальному столу, сесть на обычные стулья? – Никита изнывал, сидя на детском табурете. Казалось, он опустился на корточки.
– Нельзя. Хочу, чтобы вы запомнили мой день рождения.
– И Глеб скис. Ноги затекли, да, Глебыч? – Никита выпрямил колени.
– Глеб, а Глеб. Нам было весело. Мы встретили тебя с радостью, а посмотри, какая у тебя физиономия! – не выдержала Алена.
– Он печален оттого, что я старею, – мягко проговорила Марина.
– Кстати, сколько тебе сегодня исполнилось-то? – пожалуй, это была первая фраза, произнесенная Глебом после появления.
Марина вскинула на Глеба зеленоватые, с прищуром глаза.
– Двадцать пять. Четверть века. Кажется, я заслужила букетик цветов. Хотя бы стажем…
– Извини. Я слишком торопился.
– Кстати, ты прикатил на «чизетте»? – спросил Никита. – Мы даже не слышали треска…
– Вы очень громко смеялись!
Глеб выбрал поджаристый пирожок, надломил, но есть не стал, положил обратно в тарелку. Помолчал, к чему-то напряженно прислушиваясь, спохватился и улыбнулся.
– Жаль, что ты на мотоцикле, – Алена налила Глебу лимонад. А Марина вдруг вспомнила о свечах. Она купила две таллинские свечи: толстые, квадратные, зеленые, с подставкой из черненого металла… Колеблющийся свет отодвинул в глубину полки с игрушками. Пуговичные глаза кукол замерцали живым, осмысленным блеском.
Никита встал:
– Нам нужен тамада! Предлагаю свою кандидатуру. Нет возражений?
– Нет! – ответила за всех Марина. – Только короче! Пора уже и выпить.
– А куда нам спешить? – Алена достала сигарету, потянулась к свече и прикурила. – Говори, Кит! И помни: есть человек, который выслушает тебя до конца. Даже если ты охрипнешь. Только не забудь: десятый час.
Никита поклонился.
– Недавно мне довелось быть в Грузии в командировке. Там мне сказали: «Твоя речь, Никита, напоминает горный ручей – не может ни на чем задержаться…» Но и все-таки задержусь. Я не стану говорить о достоинствах нашей именинницы. Их все знают, видят. Я для начала хочу поговорить о другом… Собрались близкие люди. Родные люди – я не боюсь этого слова. Мы знаем друг друга всю жизнь. Хоть мы и прожили неполных тридцать лет, но все равно это тридцать лет…
– Ну тебя к черту, Кит! – Марина протянула фужер и чокнулась с Аленой. – За мое здоровье! Чтобы я была богатой и счастливой. Чтобы мои враги сейчас, в эту минуту, схватили по инфаркту, а друзья выиграли в спортлото по «Москвичу». Ура!
Никита выпил, поставил фужер на стол и включил магнитофон. Они танцевали медленный танец. Глеб смотрел поверх головы Марины, в его зрачках отражались огоньки свеч.
– Странный ты какой-то, – Марине надоело ловить его взгляд.
– Налили мне лимонад. И еще… – Глеб оставил Марину, плеснул в фужер шампанского. – Кит! – крикнул он. – Почему ты разошелся с женой? Мы давно не виделись. Расскажи, Кит, старым друзьям. Поделись!
Никита в недоумении взглянул на Глеба. С чего это он?
– Расскажи, Кит! Развесели, – не отступал Глеб. Он взял бутерброд и встал позади Никиты и Алены, повторяя их движения.
– Отстань! Ты много о чем рассказываешь? – Никита медленно покачивался в такт музыке.
Марина взяла Глеба за руку, потянула в сторону:
– Перестань! Не все можно вышучивать.
– Все! – выкрикнул Глеб. – Все! Убежден.
Никита обернулся. Его и без того тонкие губы были сжаты и, казалось, провалились, затягивая нос и подбородок.
– Что ж, слушай. Притчу о легкомысленном юноше. Слушай и учись. Поначалу все было нормально. А потом оказалось, что мы не любим друг друга. Меня раздражало в ней все: походка, голос, манера смеяться. Все-все… К концу рабочего дня у меня портилось настроение: надо было идти домой. У нее были жесткие волосы. Когда она причесывалась, от расчески отлетали искры…
– Может, ты женился на Бабе-яге? – не выдержала Алена.
Никита достал записную книжку, извлек маленькое паспортное фото и протянул Глебу. Миловидное девичье лицо улыбалось доброй улыбкой.
– Ну а как она вблизи? Ничего была? – произнес Глеб.
Никита с изумлением уставился на Глеба.
– Так ведь ты ее не любишь! – выкрикнул Глеб. – И фото у тебя случайно в кармане оказалось, да? Молчишь?
– Не твое дело, болван! – Никита сел на табуреточку, придвинул колени к подбородку и уставился на огонек свечи.
– А ты с удовольствием рассказал бы нам все о ней, верно? Рассказал бы! – Глеб нажал на клавишу, и магнитофон смолк. – Ты рассказал бы? – голос Глеба был тих, едва уловимая пауза отделяла каждое слово.
Алена в недоумении взглянула на Марину: что это с Глебом? И выпил-то всего ничего. Марина молча пожала плечами. Отошла к окну, взяла в руки плюшевого одноглазого зайца. Он нравился ей больше всех игрушек.
– Я хочу знать, боится он рассказать об этом или стыдится. Я хочу знать, – так же негромко продолжал Глеб. – Может, она и ушла от тебя, Кит, потому, что ты оказался не тем, кто ей нужен, а? И ты боишься нам рассказать. Или стыдишься? Ведь иногда мы не столько боимся рассказать о своих поступках, сколько стыдимся…
Глеб умолк. Лицо его заострилось. Он к чему-то прислушивался, там, за окном…
Алена шумно прошлась по комнате. Глеб, не скрывая испуга, взглянул на нее, словно умолял не шуметь, оставаться на месте.
Алена накинула на плечи кофточку.
– Слушай, с какой стати ты суешь нос не в свои дела? Другой бы давно дал тебе в морду! И вообще, ты нам портишь веселье.
Марина готовила, старалась. А ты все портишь…
Алена взглянула на дверь. Кто-то осторожно шел по лестнице. Дверь распахнулась. На пороге стояла дворничиха в полушубке и платке. Она оглядела зал. Узнала Марину. Перевела взгляд на Никиту, затем на Алену. Глеба она не заметила. Тот стоял в дальнем темном углу.
– Веселитесь. Слышу музыку, вижу свет. Думала, может, кто из пацанов залез, схулиганить.
– Свои, тетя Настя. День рождения у меня, – Марина взяла со стола фужер, налила вина и прихватила пирожок. – Угощайтесь.
Дворничиха кивнула, подобрала подол фартука, вытерла руки.
– Сколько же тебе, Марина?
– Да все мои, тетя Настя. Двадцать пять, – и добавила на всякий случай: – Заведующая разрешила.
– Мне-то что? Думала, может, пацаны залезли. Ладно, за твое здоровье, Марина!
Дворничиха выпила, надкусила пирожок. Похвалила. Поставила пустой фужер на подоконник.
– Да! На Менделеевской бабку какую-то сбили насмерть. Кто говорит, мотоциклом, а кто – машиной… А вчера парни разодрались. И все на том же месте.
Дворничиха ушла. Стукнула входная дверь, все стихло.
– Значит, это была женщина? – произнес Глеб одними губами.
– Где? – Марина с удивлением услышала свой голос. Она поняла. Все сразу.
– Это я сбил женщину, я! – выкрикнул Глеб.
Кончик фитиля обуглился, и пламя свечи, ровное, желто-розовое, утончалось в коптящий жгутик.
Никита тронул кончик фитиля и переломил его.
Они молчали уже несколько минут. Под порывом ветра скрипнула рама окна. Глеб взглянул на темнеющие прямоугольники стекол. Сейчас ему казалось, что все случившееся было сном. История, рассказанная кем-то о ком-то, а он – слушатель, не имеющий к этой истории никакого отношения. Когда он заговорил, собственные слова долетали до его слуха со стороны и не затрагивали сознание.
– Решил заехать в гастроном, купить вина. Свернул на Менделеевскую. Скорость была небольшая, да и как она могла быть большой? Крутой поворот. И улица узкая. Проспект еще освещался, а улица – нет. Глаза к темноте сразу не привыкли. Включил фару. И увидел ее. Перед самым носом. Тормозить – занесло бы. Я скорость прибавил, думал объехать ее сзади, думал, она вперед побежит – тротуар-то рядом. А она отпрянула… Бабка, бабка…
Глеб смолк. Он закинул назад голову. Белый потолок застывшей волной уходил за спину, загибался, окружая Глеба жестким скафандром.
– И ничего ты не мог сделать? – выдавил Никита.
– Ничего… Вероятно, ничего… Она отпрянула назад, понимаешь?..
– Столько лет водишь мотоцикл…
– Ты что, Кит… сомневаешься?
– Глупости! – воскликнула Марина. – Неужели в ту секунду он мог думать о каком-то мотоцикле? Или о собственных ребрах?
– Как же можно осуждать человека, если он не виноват! Если он ничего не мог сделать? – проговорила Алена.
Никита потрогал пальцами нос, точно желая убедиться, что нос на месте.
– Как сказала дворничиха? Неизвестно, кто сбил… Неизвестно, кто сбил, значит… Такая странная мысль вдруг возникла в моей голове, – он обвел зал медленным взглядом и повторил: – Вот какая странная мысль возникла у меня…
Глеб выпрямился:
– Кит! Твоя голова не отягощена никакими предрассудками. Превосходно…
Никита пожал плечами и отошел к окну.
– Никаких предрассудков, да? Кит! – Глеб засмеялся сухим неприятным смехом.
– Так зачем ты нам все это рассказал? Зачем?! – выкрикнула Алена. – Разве мы можем тебе что-нибудь посоветовать? И – стыдишь Никиту. Ведь он хочет помочь тебе, – она смолкла, точно споткнулась. – Извини, Глеб. Я не могу найти верный тон, извини. Нам всем надо взять себя в руки. И подумать. Трезво. Спокойно… Ты сядь, сядь… Господи, какие нелепые табуретки. Неужели нет нормального стула?
– Ты в детском саду, а не в клубе, – Марина вышла.
– Почему мы здесь? – Алена смотрела на захлопнувшуюся за Мариной белую дверь. – Какая-то нелепость!
Дверь распахнулась, показалась Марина. Она принесла четыре складных дачных кресла. Никита расправил одно кресло и сел.
– Вот. Теперь будем рассуждать как взрослые.
– Ты уже пытался рассуждать как взрослый, – Марина раскинула еще два кресла и придвинула их Алене и Глебу. Сама же присела на детский табурет, подтянув к подбородку колени.
Никита взял бутылку лимонада, налил полстакана.
– Разве в таком деле советуют?
– Советуют, – произнесла Марина.
– Что ж, советуй, а я послушаю.
Но Марина молчала, приглаживая ладонями волосы.
– Советовать нельзя, – Алена зябко пожала плечами. – Можно лишь представить, как поступила бы сама.
– И как бы ты поступила? – нетерпеливо перебил Никита.
– Я пошла бы… куда надо. И сказала: так-то и так. Случилась такая беда. Я не виновата, но раз так случилось – вот я.
С потолка свисали насаженные на нитки цветные флажки – скоро ноябрьские праздники. На одном флажке был нарисован горнист с трубой, на другом – страус. Так они и чередовались:
горнист – страус. Горнист – еще понятно. Но почему страус?
А нитка у самой двери была сплошь составлена из страусов.
– Почему страус? – спросил Глеб, не отводя глаз от нитки.
И все посмотрели на потолок следом за ним.
– Действительно, почему страус? – повторил Никита.
– Нам прислали только со страусом. С горнистом у нас от прошлого праздника остались, – Марина, прикрыв глаза, медленно провела пальцами по лбу. – Господи, почему нельзя все повернуть обратно? Ну если сейчас было бы… вчера.
– Хватит! – Никита поднялся. – Никто не виноват в том, что произошло. Никто! Поэтому хватит себя терзать. Я еще раз повторяю: дворничиха сказала, что неизвестно, чем сбили ту женщину – машиной или мотоциклом. И мы этого не знаем! Ясно всем вам?
– Это не самый удачный выход, – заметила Алена.
– То ты говоришь, Глебу необходимо помочь, то осуждаешь меня. Тебя раздирают сомнения, понимаю. Но я тебе помогу, – лицо Никиты покрылось бурыми пятнышками. – Делать надо так, как я предлагаю. С одной стороны – судьба молодого перспективного инженера с прекрасной башкой на плечах. С другой – бабуля, которая не сегодня завтра сама бы сыграла в ящик. Так? Так. Бабушку эту не вернуть, тут уж ничего не поделаешь. Зачем же ломать судьбу человека только из-за нелепой, пусть трагической, но нелепой, случайности?
– А если бы там оказалась твоя бабушка? Профессор и доктор? А?! – воскликнула Алена.
– Запрещенный прием, – произнес Никита спокойным тоном. – Я рассуждаю сейчас как рядовой член общества, а не внук своей бабушки. Разные категории.
Он прошелся по комнате. Остановился у шкафа с игрушками. Щелкнул пальцем по мягкому носу тигренка. Тот качнул пухлой полосатой башкой и повалился на бок. Никита поставил тигренка на толстые лапы. Щелкнул еще раз и ждал: свалится, нет? В стеклянном отражении шкафа он видел Глеба. Смазанные, расплывчатые формы. Словно над Глебом – застывшая толща тусклой воды…
– Все рационально в этом мире. Придет время, когда закон будет рассматривать любой поступок человека с той позиции, какую пользу приносит человек обществу, а не сам поступок абстрактно. Запрограммируют тесты с потенциальными возможностями члена общества. Пользой, которую он может дать. А с другой стороны – его проступки, упущения. Машина и выдаст… Думаю, в этом случае Глеб оказался бы в выигрыше. И совесть спокойна: машина все решает… К тому же идти сейчас с повинной я бы Глебу не рекомендовал по одной простой причине: он хлебнул вина. И ничем не сможет доказать, что вино это он выпил после всего, а не до. Есть такое понятие: отягчающие обстоятельства. Так что фактор времени, до или после, тут играет не последнюю роль.
– Нашел время шутить! – произнесла Алена.
– Я не шучу, – ответил Никита.
***
Из бесед со свидетелями по делу № 30/74.
Свидетель Н. Бородин:
«…Пожалуй, о малых этих обидах рассказывать не стоит. Чепуха. Мелочь. Мелкие обиды тем и мелки, что каждый прав по-своему, каждого в отдельности понять можно. Вот большие обиды – совсем другое дело. Это когда прав кто-то один – и страдает, доказать свою правоту не может… Так что считайте, что у меня с Глебом были отношения дружеские, я ведь тоже не ангел… Хотя, признаться, существует странная дружба: люди друг друга недолюбливают и в то же время жить друг без друга не могут. Вот и разберись…» Запись в деле: «…Мы ушли часов в одиннадцать. Я и Алена. Глеб сказал, что еще посидит. Я хотел было остаться, но мне показалось чем-то тягостным мое дальнейшее присутствие для Глеба и Марины…»
Глеб провел ладонью по ее щеке.
Марина повернула голову, подставляя под ладонь Глеба незаметный рубец у самого уха.
– Я просила тебя, помнишь? Просила. Я стояла у твоей кровати на коленях, я видела твои глаза между бинтами и просила. И ты обещал мне, клялся, что бросишь свой мотоцикл. А вышел из больницы – и забыл свое обещание.
Они никогда не вспоминали о том июньском вечере, год назад. Глеб и Марина возвращались с залива. Неожиданно из-за поворота навстречу им выскочил на большой скорости самосвал. Глеб вывернул руль и налетел на столб. Два месяца он пролежал в больнице с переломом ноги и травмой головы. Марине повезло.
Только шрам на правой щеке…
Глеб притянул к себе Марину, усадил рядом на жесткую кровать и положил голову ей на колени.
– Столько лет знаем друг друга, а оказывается, ничего друг о друге не знаем, – произнесла Марина. – Всегда считали Никиту неповоротливым добродушным тюфяком. И вдруг такой категорический тон. Уверенность. Настоящий мужчина.
– Чужую судьбу решать легко, – в просветленной темноте комнаты Глеб видел подбородок Марины и прядь ее волос.
– Никита искренен. И хотел тебе помочь, я верю.
В углу комнаты, за тумбочкой, раздалось слабое шуршание, точно неосторожно тронули сухой лист.
– Появилась, – вздохнула Марина. – Как всегда, когда ты в этой комнате.
– Ты хотела вызвать санитаров эпидемстанции, – сказал Глеб.
– У них все телефон занят… Представляю эту мышь. Маленькая, с бусинками глаз. А сколько пользы от них! На ком бы медики проводили эксперименты?
– На ком? – Глеб приподнялся. – На мне! На преступнике! Убийце! Он вскочил на ноги, схватил с тумбочки книгу и швырнул в угол. Повалившись на кровать, он ударился головой о стену, но боли не почувствовал. Заложил руки за голову и уставился в потолок немигающим взглядом. Неясные тени сновали по потолку, и казалось, потолок шевелится.
– А что? Логическое продолжение мысли Никиты. Преступники – такие же отходы рационального общества, как и всякие там бабки. И для блага общества можно проводить на них медицинские эксперименты…
– Перестань! – перебила Марина. – Преступники… Слово-то какое. Тоже мне преступник! Ты сейчас, по существу, такой же несчастный, как та женщина.
– С небольшой разницей, – усмехнулся Глеб.
– Такой же, такой же! Ты тоже жертва! – горячо воскликнула Марина и положила голову на грудь Глеба. – Как все нелепо, глупо, дико! Не думай об этом, Глебушка. Я понимаю, это трудно. Но ведь ты сильный. В конце концов, тебе выпало в жизни страшное испытание. И принимай это как испытание.
В углу вновь раздалось осторожное копошение.
– Вот нахалка! – Глеб провел по полу ногами, возня в углу прекратилась. – А если меня… найдут?
– Если найдут… – вздохнула Марина. – Кит подсказал удачную мысль. Боялся, вот и не явился. Выпил вина и боялся обвинений, что пьяным сел за руль…
Глеб разглядел контуры бутылки с минеральной водой. Запрокинул голову и сделал несколько глубоких, жадных глотков из горлышка. Холодная полоска воды, все удлиняясь, стекала от уголка рта на шею, точно порез, и проникала под рубашку, на грудь. Он поставил бутылку на стол.
– Кит немного пережал – его рассуждения были слишком гладкими… Но ты думаешь иначе, я знаю.
Глеб шагнул к стулу, стянул со спинки куртку:
– Я сейчас пойду. Может, мне и поверят? Может, поверят… Вызовут вас – вы подтвердите… И потом, разве в этом дело, выпил я или нет?.. Не в этом дело, Мариша…
– Никуда ты не пойдешь!
Глеб повернул голову: тон Марины, сухой, раздраженный, его удивил. Он ждал. Но Марина молчала.
– Мариша… а ведь я мог, понимаешь… Мог вывернуть руль. Но растерялся, испугался. Понадеялся, что проскочу. Вот беда-то какая!
– Не мог ты, не мог! – крикнула Марина.
– Мог!
– Не мог, дурак! Если бы мог, ты б это сделал!
Глеб надел куртку, вялыми пальцами нащупал петельку нижней пуговицы. Присел на кровать и тронул Марину за плечо:
– Перестань, перестань. А то я сам зареву… Ты что?
– А то! – Марина ладонью вытерла слезу. – А то, что у меня будет ребенок. Я не хотела тебе говорить. Но ты не имеешь права теперь думать только о себе!
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетельница А. Павлиди:
«…Никита проводил меня до остановки троллейбуса. Когда подошел мой троллейбус, мне показалось, что Никита облегченно вздохнул. Да и меня чем-то тяготило наше общение. Я проехала остановку и слезла. Вернулась на Менделеевскую. Улица была темной и пустой. Вдали светился фонарь. Я прошла шагов двадцать и увидела у фонаря мужскую фигуру. Это был Никита. Впрочем, я не убеждена, так мне показалось. Я повернула назад. Почему? Не знаю. Не могу объяснить. Домой я вернулась в половине двенадцатого».
Сергей Павлович Павлиди ремонтировал холодильник. Он подложил два тома Большой энциклопедии, повалил холодильник набок и пытался продеть покрытую пылью пружину в такое же пыльное колечко. Сергей Павлович в технике ничего не понимал, но знал: стоит продеть пружину, и холодильник перестанет дребезжать на полгода. Он мог давно приобрести новый холодильник, однако привык к этому. Привязанность к старым вещам. Иногда ему приходилось выдерживать довольно бурные скандалы с женой по этому поводу.
И Сергей Павлович торопился. Он хотел закончить ремонт до прихода жены. Пружина не поддавалась. К тому же выпала и куда-то запропастилась шайба.
– Что ты ищешь? – Алена вошла в кухню.
Сергей Павлович не ответил, продолжая ощупывать каждую подозрительную щель.
– А мамы нет? – Алена и так поняла, по опрокинутому холодильнику, что матери дома нет. Встреча с матерью сейчас Алену не устраивала: мать моментально заметит, что с Аленой происходит что-то неладное, и пристанет – не отвязаться. Интересно, что там выискивает на полу отец?
– Ну что тебе до этого? – рассердился Сергей Павлович. – Шайбу!
– Эта, что ли? – Алена наклонилась и подняла кружочек с дыркой посредине.
– Эта, эта! – Сергей Павлович повеселел.
Алена села к столу и придвинула бутылку кефира. Сейчас выпить стакан и пойти спать. Легкий хмель, от которого клонило ко сну в троллейбусе, прошел, уступая место тяжелой безразличной усталости. Скорее в постель, накрыться с головой и уснуть. Завтра предстоит суматошный день. С утра надо опередить проныр из второй лаборатории и выписать жидкий азот. Это первое. Поймать профессора Монастырского и обговорить с ним выступление на ученом совете.
– Ты помоги мне, – Сергей Павлович посмотрел на дочь. – С боков подстраховать бы.
Алена отставила стакан. Отец наклонился, продел руки под холодильник. Лицо его покраснело, а на шее выступили запутанные жилы.
– Не такой он и тяжелый, – Алена помогала изо всех сил. – Старенький ты у меня становишься, папка.
– И ты не молодеешь, – Сергей Павлович уперся грудью, придвигая холодильник к стене. – Вот. Кажется, все в порядке, осталось подключить.
Алена откинула дверцу и принялась расставлять на полках кастрюли, банки.
– А что, папа, я заметно старею?
– Ты? Заметно. Настоящая бабушка, – Сергей Павлович поднял сухой смуглый палец. – Женщинам нашего рода не уступают место в транспорте до семидесяти лет, запомни.
– Это скорее говорит о падении нравов.
Сергей Павлович не ответил. Он разглядывал какую-то детальку, что валялась у плинтуса. Очередной ремонт всякий раз оставлял после себя какую-нибудь вещицу, что повергало Сергея Павловича в страшное беспокойство.
– А это откуда? – вздохнул он. – Нет, сменю. Пора. Двадцать лет служит. Ты еще в детский сад ходила.
Алена захлопнула дверцу:
– Замуж мне надо. Внука вам родить.
– Да не мешало бы, – согласился Сергей Павлович. – Я не против. Скоро на пенсию выметаться. Люди мы обеспеченные, помогли бы, если что… Сколько парней толкается в твоем институте! Никто не нравится?
– Почему же? Нравятся. Видно, я не нравлюсь.
– Этого не может быть, – горячо возразил Сергей Павлович. – Ты красивая, это я точно говорю… Только иногда, понимаешь, молодого человека тоже подбодрить надо, подтолкнуть, что ли. Время такое. Все спешат, бегут, заняты. Едят стоя… А у тебя вид всегда деловой, недоступный. Они и пугаются, руки опускают. Бегут к тем, кто проще, – Сергей Павлович улыбнулся. Он, пожалуй, впервые говорил с дочерью на эту тему. Хоть и неловко, да разговору этому был рад, упускать не хотел. – Посмотри на себя, – продолжал Сергей Павлович. – Какой у тебя вид. Понимаю, поздний час. Ты устала: дела, заботы. Но у тебя сейчас такой вид… А молодой человек и сам, понимаешь, весь день как белка в колесе. Ему и на себя взглянуть противно, а тут еще твоя унылая физиономия.
– Чем тебя не устраивает мой вид, чем?! – Алена прикрыла глаза. И тотчас ее обступили мелькающие за окном троллейбуса огни, что сливались в далекий фонарь на Менделеевской улице. И каждый прохожий за окном напоминал фигуру Глеба. – Я тебе хочу рассказать одну историю, па. Только ты слушай внимательно. Это очень важно, па… Один мой знакомый сбил мотоциклом женщину. Он в этом не виноват, так получилось…
Сергей Павлович никак не мог решить, куда положить два тяжелых тома энциклопедии.
– Кто это?
– Не имеет значения. Да положи ты их на стол! Сергей Павлович положил книги на край стола.
– А какое это имеет отношение к тебе, Алена?
– Никакого. Просто я посвящена в эту историю. И все.
– Женщина погибла?
– Не знаю. Вероятно, да…
И Алена принялась рассказывать.
Сергей Павлович слушал внимательно. Его смуглые пальцы поглаживали темный переплет энциклопедии.
Тяжело загудел лифт. Притих. Через секунду глухо стукнула металлическая дверь.
Алена замолчала. Мама? Так некстати. Ей не хотелось втягивать мать в этот разговор. Человек эмоциональный, вспыльчивый, мать сгоряча могла бы поступить необдуманно.
– Ладно! Рассказывай не рассказывай… Пойду спать! – Алена собрала книги и ушла в свою комнату.
Тревога оказалась напрасной. В прихожей было тихо. Но возвращаться к разговору не хотелось. Спать, только спать.
Алена вытащила шпильки и встряхнула головой. Темные волосы упали на плечи и спину. Змейка на кофточке была с норовом – то гладко разойдется, то заклинит, как сейчас. Алена подошла к зеркалу и увидела отца – Сергей Павлович стоял в дверях. «И не слышала, как он подошел!» – подумала Алена.
– Поговорить надо, – Сергей Павлович приблизился к зеркалу. – Это намного серьезней, чем ты думаешь… Она не так и проста, твоя история.
– Поэтому я и поделилась с тобой…
– Положим, не только поэтому. А еще и из боязни, – прервал Сергей Павлович. – Поделилась и как бы переложила на меня часть ответственности.
Он смотрел в глаза дочери. Зрачки его черных глаз были сужены.
– Но ты моя дочь. И я принимаю эту ответственность, – продолжал Сергей Павлович. – Надо убедить твоего знакомого признаться в содеянном. Непременно!
– Но папа… – вяло проговорила Алена.
– Непременно! Ваши рассуждения насчет отсутствия улик наивны. Я не касаюсь вопроса совести – это, как говорится, дело твоего знакомого. Но чисто технически для современной криминалистики найти его труда не составит. Ты просто младенец, Аленка…
– В конце концов, папа, почему я должна решать этот вопрос? Или кто-то из нас троих?
– А потому, что теперь любой из вас троих, любой – в той или иной степени виновник преступления.
– Вот еще! При чем тут мы?
– Я тебе все сказал, Алена. Подумай. И передай своему знакомому. В красивую историю он вас втянул своим признанием… Молчал бы уж…
Сергей Павлович остановился в дверях:
– И вот еще… Если уж ты переложила на меня часть ответственности, то я буду вынужден как-то действовать…
– Ты не имеешь права! – Алена обернулась к отцу.
– Имею! Твой знакомый находит себе моральное оправдание, и я имею такое же оправдание – ты моя дочь!
Сергей Павлович вышел и прикрыл дверь.
– Попробуй только! – крикнула Алена в глухую дверь. – Я уйду из дома!
Отец не возвратился и ничего не ответил. Алена прислушалась.
Нет, все тихо.
Телефонный звонок прозвучал резко, нетерпеливо. Алена взглянула на часы: без четверти час. Кто это мог быть? Конечно, мама – не может вызвать такси и остается ночевать у тетки.
Но когда Алена подошла к телефону, она уже точно знала, кто это звонит.
Никита. Это я.
Алена. Знаю. Был на Менделеевской? Что узнал?
Никита. Понимаешь, кажется, никаких улик. Все заморожено. Час там проторчал. Втравил в разговор какого-то дядечку, тот собаку выгуливал… Говорят, старуху какую-то сбили машиной.
Такси, говорит. Люди видели, что такси… Усекла? Что молчишь? Жаль, конечно, бабушку… Но выбирать не приходится… Да не молчи ты!
Алена. Я боюсь, Кит. Я очень чего-то боюсь.
Никита. Ладно, лет через десять разберемся, кто прав. Но если Глеб не получит какую-нибудь там Нобелевскую премию за потрясающее открытие, я душу из него вытрясу. (Никита рассмеялся.) Только ты вот что… Своим ни гугу! Ни отцу, ни матери.
У них свои принципы… Пока! Спокойной ночи!
***
Из протокола следствия по делу № 30/74:
«Вызванные повесткой свидетели Бородин и Павлиди в следственный отдел ГУВД не явились. Повторно свидетели вызываются на 25 декабря.
Следователь П.А. Сухов».
Контуры предметов становились рельефнее, как на фотобумаге, опущенной в проявитель. Цветы на обоях темнели, все больше принимая свою нормальную дневную раскраску.
Марина повернула голову к стене, и Глеб увидел кончики ее ресниц. Напряженных, немигающих.
Он откинул одеяло и поднялся. Надо торопиться: чего доброго, дежурная няня вздумает прийти пораньше. Обычно, когда он оставался на ночь, Марина его выпроваживала в шесть утра. Но сейчас Марина молчала, хоть и не сомкнула всю ночь глаз.
– В каждой печальной ситуации есть своя радостная сторона. Обычно я вскакиваю и со сна стукаюсь об угол тумбы. А сегодня все спокойно… Кстати, и ты подымайся. Надо еще порядок навести, – Глеб кивнул в сторону зала.
Марина глубоко вздохнула и села, откинув волосы за спину.
– Что же мне делать со всем добром? – она свесила ноги с кровати, нащупала комнатные туфли. – Готовила, готовила… Так ничего мы и не съели.
– Раздай детям.
– Что ты! Такие стали привереды! Я как-то спрашиваю: ты, Трубицын, почему картошку не ешь? Вкусная ведь. А в ней, отвечает, физики много. А кто-то его поправляет: не физики, а химии… Что ты меня разглядываешь? Все равно пока незаметно.
– Не ошибаешься? Бывает, ошибаются.
– Бывает. Но я в консультацию ходила.
Марина накинула халат. Веки ее покраснели, на щеках размазанные полоски туши – следы просохших слез.
– Когда увидимся?
– Не знаю, – как обычно, проговорил Глеб, – я позвоню тебе днем. Как ты работать-то будешь?
– Нянечка придет, посидит с ребятами. Я посплю часа два… Если вообще усну.
Больше они ни о чем не говорили. Глеб вышел в коридор. Он знал, что Марина смотрит ему вслед. И когда выводил мотоцикл из сарая, он точно знал, что, отступив в глубину комнаты, Марина следит за ним.
Глеб присел на корточки, внимательно осматривая внешний вид мотоцикла и коляски. Никаких вмятин вроде не видно. С загнутым назад рулем и потупленной в землю фарой, у «чизетты» был какой-то виноватый вид. Глеб не выдержал и с силой пнул ногой переднее колесо…
Он ехал медленно, у самого тротуара. Его обгоняли одиночные утренние машины, кокетливо подмигивая поворотными сигналами. У них был счастливый, беззаботный вид. Умытый беленький «Жигуленок» торопливо поведал какую-то короткую ночную историю. Голубой «Москвичок» – почтовичок, явно не выспавшись, припадал на правый бок. А замызганный самосвал, неизвестно где коротавший ночь, ругнул «чизетту» пропитым пивным баском. И «чизетта», пробуя колесами каждую выбоину асфальта, недовольно брюзжала, словно удивляясь состоянию хозяина. Было мгновение, когда руки Глеба ослабли и руль свернуло в сторону, колесо ударило о тротуар. Как раз на Менделеевской улице, у столба за поворотом.
Глеб остановил мотоцикл и слез.
Как и ночью, на улице никого не было. Осиновый лист на асфальте, мятая пачка из-под сигарет «Аврора», клочок газеты у бетонной мусорной тумбы. Все из-за этой урны! Он разглядел урну в самое последнее мгновение. Впрочем, он проскочил бы, если бы женщина не отпрянула назад.
Почему она отпрянула? Испугалась? Растерялась?
Выходит, теперь он виноват, что не погиб сам. А мог бы запросто разбиться: тумба-то – как крепость.
Да не приснилась ли ему вся эта история? Сон, дурной сон.
Или не с ним все это произошло, с другим, настолько все казалось сейчас неправдоподобным.
Обычная утренняя улица, каких в городе сотни. Умытые ночным туманом окна домов четким пунктиром уходили вверх, растягивались до конца квартала. А выше было небо. Бледно-сиреневое. С параллельными жгутиками темных облаков, похожими на жалюзи…
Эх, бабка, бабка… Куда же тебя понесло вчера? А его самого? Надо же было Марине родиться именно вчера! Да и представитель заказчика: если бы Глеб с ним не задержался, то отправился бы в детский сад еще засветло… Обстоятельства казались сейчас Глебу случайным роковым совпадением, а не просто порядком вещей, не замечаемых при нормальном течении времени.
Глеб рывком толкнул стартер. «Чизетта» взревела, выплевывая порции дыма.
Прошла минута, вторая…
Глеб стоял, повесив шлем на руль и оглядывая окна спящего дома, не очень понимая, зачем он это делает.
Прибавил газ.
«Чизетта» захлебывалась. Сухие, быстрые хлопки сотрясали утреннюю улицу, прорываясь вверх, к небу…
В окне второго этажа появился мужчина – в майке, с всклокоченными волосами. Он размахивал руками. Затем торопливо принялся открывать раму.
Глеб выключил зажигание. Даже не верилось, что может быть такая тишина.
– Ты что хулиганишь? В такую рань! В милиции давно не был, паразит?! – крикнул мужчина.
Глеб надвинул шлем, деловито оглядел притихшую «чизетту» и, включив передачу, мощно рванул вдоль улицы, наращивая скорость. Ветер упруго давил на лицо, выжимая слезу. Сейчас приехать домой, принять душ. Растереть тело жестким полотенцем, напиться чаю…
Мотоцикл резво обгонял попутные машины, те удивленно косили фарами вслед закрученному сизому шарфу дыма.
***
Из материала следствия по делу № 30/74. Характеристика на инженера лаборатории бескорпусных полупроводников конструкторского бюро Казарцева Глеба Сергеевича:
«…Морально устойчив. Технически грамотен. Инициативен. За время работы в КБ проявил себя с наилучшей стороны… Коллектив лаборатории готов поручиться за Казарцева Г.С. и просит следствие учесть мнение коллектива…»
Гоша Ведерников встретил Глеба на площадке второго этажа:
– Ты человек добрый, я знаю. Одолжи десятку. Ну, семь рублей. Остальное я у Цимберова сорву.
Глеб достал кошелек. Двенадцать рублей лежали свернутыми, как он положил вчера перед уходом к Марине.
– А может, целиком ссудишь красненькой? Чтобы у Цимберова не домогаться… А я тебе один секрет открою – целовать меня будешь.
– Понимаешь, самому нужны, – Глеб всегда страдал, когда приходилось отказывать. – Лучше ты у Цимберова одолжи трояк.
До зарплаты, понимаешь, еще неделя…
– На что тебе деньги? На что? А мне позарез. Если сегодня я у деда не выкуплю одну книженцию, он продаст ее какому-нибудь «будильнику». Честно. А я тебе секрет открою.
– Пожалуй, ничего не дам, – вздохнул Глеб. – У меня план на вечер, деньги будут нужны.
– Ладно, черт с тобой, давай семь рублей, – примирился Гоша, долговязый парень с университетским значком на остроконечном лацкане пиджака. – До зарплаты.
– Говорю, не дам, – и Глеб спрятал кошелек.
– Не-е-ет! Обещал, так давай! А то я тебе ничего не расскажу. Отодвинуть Гошу в сторону для Глеба большого усилия не составляло.
– Погоди! – Гоша ухватил Глеба за рукав. – Хоть два рубля-то дай. Что ж, я тебя напрасно тут дожидался?
Глеб вновь достал кошелек, извлек два рубля и протянул Ведерникову. Странный тип этот Ведерников. Весь день бегает из отдела в отдел, о чем-то хлопочет. А вечерами, когда порядочные люди расходятся по домам, Гоша устремляется в захламленные букинистические лавки и копается там до изнеможения. Такая страсть у человека…
– Напрасно ты вчера не остался после совещания, – Гоша спрятал деньги во внутренний карман. – Мы еще часика полтора бузили. Заказчик тебе дифирамбы пел. Михаил Степаныч растрогался. А в троллейбусе сказал мне: «Предложу-ка я работу Глеба на конференцию, в Ленинград. Пора ему заявляться. Время».
Глеб искоса оглядел длинное лицо Ведерникова.
– Не веришь? – загорячился Гоша. – Он тебе сам скажет. Ленинград повидаешь, себя покажешь. Меня бы послали, я б там букинистические лавки потряс! Специально в отпуск хочу отправиться.
В лаборатории было тесно от столов. Несколько молодых людей, собравшись у стеллажа завлаба Михаила Степановича Курочкина, обсуждали какую-то проблему. Сам Михаил Степанович, вытянув короткие ноги в клетчатых брюках, с удовольствием смотрел на своих расходившихся сотрудников.
– А мне как-то все равно! – говорил толстый Цимберов. – Озолоти, чтобы я защитил диссертацию.
– Ну вот еще, – добродушно подначивал Михаил Степанович.
– А ты-то сам?! – встрепенулся маленький Доронин, зыркнув на Цимберова. – Тоже шустришь ведь.
Тут Цимберов заметил Глеба:
– Вот Казарцев, к примеру. Ты, Глеб, будешь диссертацию писать? Или так проживешь?
Глеб молча прошел к своему столу.
– Дай человеку вначале институт закончить, – вступился Ведерников. – Потом он сразу докторскую кинет.
– Опять же! Почему Казарцев не торопится институт заканчивать? А потому, что ему институт не нужен. Он самородок. У него интуиция развита. Талант, – Цимберов похлопал Глеба по плечу. – Обложили его со всех сторон: диплом, диплом – он и подался в институт… Конечно, обидно получать меньше чернокнижника Гоши. Но захочет кандидатом стать – так он диссертацию одной левой настрочит, в рабочем порядке…
Михаил Степанович поднялся. Его клетчатые брюки, перепачканные канифолью, скрылись за опавшим подолом длиннющего халата. Треп ему надоел. Нащупав в кармане халата флакончик с белыми гомеопатическими горошинами, Михаил Степанович отсыпал на ладонь несколько штук и отправил их в рот. После контузии его иногда мучили головные боли…
Лаборатория уже стряхнула с себя утреннюю разморенность. Ровный гул унформера. Экраны осциллографов в голубых полосках характеристик. Терпкий запах жженой канифоли.
Глеб Казарцев сидел, отвернувшись к окну. Прозрачные одинокие облака напоминали медуз… В июне он был в Ялте: вначале – один, потом приехала Марина. У нее был золотистый купальник, Марине он очень шел. На пляже она привлекала внимание, и Глебу это было приятно. Неужели она и вправду ждет ребенка? Ну и новость… В конце концов, он отец. И это сейчас ко многому обязывает. Это даже как-то и меняет все дело. Он теперь должен думать не только о себе, верно?
Михаил Степанович придвинул к столу Глеба железный треножник и сел. Калька под рукой Глеба вся была изрисована женскими головками. В профиль и анфас.
– Талант пропадает, – произнес Михаил Степанович. – Я звонил тебе вчера.
Глеб оставил фломастер и подпер кулаками лицо:
– Да. Мама мне передала.
– Тебя очень огорчили замечания Алексеева?
Глеб сразу и не вспомнил, кого имеет в виду Михаил Степанович. Ах да… Представитель заказчика. Высокий, лысый, с рыхлыми, точно творог, щеками…
Глеб усмехнулся. Милый, добрый Михаил Степанович, мне бы сейчас только эти неприятности!
– Между тем он очень высоко оценил твою работу, – продолжал Михаил Степанович. – Звонил я тебе вот по какому поводу: хочу рекомендовать твою работу в Ленинград, на конференцию.
– Я слышал, – произнес Глеб.
Михаил Степанович обернулся и погрозил Гоше кулаком.
– Так ведь собирался ехать Кравец, – проговорил Глеб.
– Ученый совет решил, что он не готов.
– Но ученый совет мою работу и в глаза не видел!
– Это я беру на себя. Достаточно им показать последние результаты. Выходить надо, Казарцев, заявляться. А конференция – сам понимаешь, сразу на виду. Я уже прозондировал. Начальство – за! Сходи в первый отдел, возьми разрешение на работу в ночные часы.
Михаил Степанович поднялся.
Надо было поблагодарить, сказать: «Спасибо, Михаил Степанович» или еще что-то в этом роде, но Глеб молчал…
Он взял фломастер и принялся что-то рисовать на кальке.
Вообще жизнь Глеба складывалась без особых неприятностей. В школе он считался хорошим учеником, его ставили в пример. И ему нравилось учиться. Нравилось вечернее сидение за секретером. В квартире в это время было тихо.
Ощущение восторженности не покидало его. Свойство натуры – увлеченность, дар божий. Чем бы ни занимался. После десятого класса он не стал поступать в институт, а устроился в КБ, точно зная, что ему нужно. В кадрах его зачислили подсобником-курьером в отдел сбыта. Выдали автобусную карточку. Полгода он ездил по учреждениям – развозил в специальном чемоданчике-контейнере хрупкие интегральные микросхемы… Однажды на очередном открытом семинаре в лаборатории Михаила Степановича Курочкина выступил парень. Он ничего не предлагал, а лишь задавал вопросы. Наивные и ясные. Ему отвечали снисходительно, принимая за сотрудника одного из многочисленных отделов конструкторского бюро. Спустя несколько дней в коридоре КБ Михаил Степанович вновь встретил этого парня. Разговорились. Узнав, что Глеб – всего лишь курьер отдела сбыта, Курочкин переманил его к себе. А через три года предложил инженерную должность. Глебу тогда был двадцать один год.
Жизнь шла по восходящей. До вчерашнего дня! Возможно, и наступит время, когда он забудет вчерашний день, как забывают выздоровевшие больные темные больничные коридоры, подоконники, заставленные фикусами, марлевые оконные занавески… Именно так: самое разумное – положиться на естественный ход вещей. Обратно не повернуть, значит, все предначертано, все предопределено. И не надо было ни о чем никому рассказывать, впутывать посторонних людей. Как же случилось, что он рассказал? От страха и отчаяния? А может быть, и какой-то неосознанный расчет: мол, не утаивал он, хоть и скрылся с места происшествия. Не смолчал. Рассказал друзьям, рискуя тем, что история эта перестанет быть тайной, что может и выплеснуться наружу. Теперь трудно понять: рассказал – и ничего уже с этим не поделать…
Глеб аккуратно уложил фломастер в прозрачный футляр. Стянул сатиновые нарукавники. Первый отдел находился этажом ниже…
– Да! А у нас опять на улице ЧП! – воскликнул Цимберов, ни к кому не обращаясь.
– Битва у гастронома? – спросил Доронин. – У вас веселый райончик.
– Вчера на Менделеевской бабку сбили. На том же месте, где неделю назад такси в дом долбанулось.
– Кто же наколол бабусю? – Гоша Ведерников разминал сигарету, раздумывая, выйти покурить или еще рано.
– Там место такое: поворот – и сразу темень, – ответил Цимберов.
Не решаясь выйти в коридор, чернокнижник Гоша все еще разминал сигарету.
– Естественная убыль, – произнес он философски. – Жертвы стремительного века. В конце концов, общество должно смириться с тем, что рост техники влечет за собой гибель какой-то части членов этого общества. Жертвы прогресса. Никто тут не виноват. Автомобили – дело рук человеческих. Мы вот тут с вами сеем разумное, а, глядишь, через некоторое время бац – и где-нибудь хлопнут, допустим, Женьку Цимберова, каким-нибудь электронным лучом, предназначенным для стирки белья. По неосторожности. И не надо будет мне отдавать Женьке долг – семь рублей…
– Ну, в случае с Женькой – это одно: он сам луч этот растормошил, – вступил Доронин. – А старушка-то при чем? Божий одуванчик. Она тут при чем?
– Единый организм, – продолжал вещать Гоша. – Я читал, что существует теория единого организма у муравьев. Отделите муравья от муравейника, и он перестанет существовать, как не может существовать отдельно часть нашего тела. И весьма возможно, что люди – тоже неотделимые части чего-то общего, связанные какими-то неизвестными полями единства. Не социальными, а биологическими. А раз так, то достижения и просчеты общества касаются не отдельных людей, а всего человечества. И бабуся наша, как ни жаль, – частица этого поля. В то же время другая бабуся, где-нибудь в клинике, поддерживает свою жизнь с помощью сложной аппаратуры искусственного сердца, которая является таким же продуктом века, как и автомобиль. Так на так!
– Глупости! – Доронин крутнулся на своем вертящемся стуле. – Ерунда! Вооружи твоей теорией общество – и завтра самым безопасным местом будет ящик под могильной плитой.
Книжник Гоша печально покачал головой:
– Очень жаль, Доронин, что ты в таком прикладном смысле понял мою точку зрения. Тебе, Доронин, не хватает полета фантазии, воображения. Ты примитивист, Доронин. И вульгарный материалист. А может, просто еще маленький.
Доронин разозлился. Намек на его маленький рост всегда выводил добряка Доронина из себя.
– Да! А того гада, который наколол старушку, я б в тюрьму упек. И не дрогнул. Паразит. Пользуется достижением цивилизации, а ездить как человек не умеет. Или накеросинился в стельку. Его хотя бы поймали?
– Нет, – ответил Цимберов. – Все шито-крыто. И никаких улик…
– В связи с этим я вижу еще два любопытных аспекта, где полностью вина ложится на все общество, а не на отдельных его членов, – Ведерников все никак не мог угомониться в своем полемическом раже. – Во-первых, прежде чем доверять братоубийственный снаряд какому-нибудь паразиту, как выразился маленький Дороша, надо разработать надежные средства для раскрытия преступления, чтобы паразит был убежден в неотвратимости наказания. А главное – прежде чем наводнять улицы автомобилями, надо так решить дорожную систему, чтобы божья старушка не боялась улицы. Смешно: фонарь не могут повесить. Гоша Ведерников высказал до конца все, что думал по поводу происшествия на Менделеевской улице. Он был категоричен в суждениях и бескомпромиссен. Хотя в жизни Гоша слыл рассеянным чудаком и человеком незлым.
– Кончать надо с этой эволюцией, – вздохнул Цимберов. – А то из-за кандидатов наук в автобус уже не влезть. Не подготовлен дух наш к тому, что мозг и руки вытворяют. И бед не оберемся.
А Гоша Ведерников так и не решил, с кем выйти на площадку покурить. Одному скучно. Он и курил, в общем-то, ради трепа на лестничной площадке.
– Что, дед, покурим? – обратился он к Глебу Казарцеву.
Глеб не ответил и вышел из лаборатории.
***
Из бесед со свидетелями по делу № 30/74.
Свидетель Н. Бородин:
«…Да. Повестку я получил, но явиться не мог… Не хотел, так точнее. Почему? Мне надо было многое обдумать. Я чувствовал, что мои показания вопреки желанию не выставляют Казарцева в лучшем виде… Ради истины? А что преследует в конечном счете поиск истины? Наказание преступника! А преступник ли он? Он виновный, но не преступник… Понимаю, это дело суда, но я высказываю свое мнение…»
Из протокола следствия по делу № 30/74:
«Вызванная повесткой свидетельница А. Павлиди в следственный отдел ГУВД не явилась вторично.
Старший следователь П. Сухов».
Никита Бородин скатился с лестницы. Заглянул в глазницы почтового ящика. Пусто. Для убедительности сунул туда палец, повертел. Он и так знал, что пусто: газет еще не разносили. Рано. У радиатора, как обычно по утрам, валялось полно окурков. Почему-то именно их подъезд облюбовали для сходок парни и девчонки всей улицы. И вчера, когда Никита возвращался, он наткнулся на них – нескладных, тощих, в свитерах с растянутыми воротами, длинноволосых. Поодаль, у стены лежала гитара, облепленная картинками. Парни стояли молча, прижав спины к радиатору отопления, и вроде дремали. Трое. Одного Никита запомнил давно: белые завитые волосы, точно парик, и шрам на упругой розовой щеке, уродливый, будто сабельный удар.
Алену он увидел сразу. Она стояла у павильона «Соки – воды», подняв воротник и зябко пряча в него лицо.
«А почему бы мне не жениться на ней?» – подумал Никита.
И удивился. Столько лет они знакомы, а подумал сейчас.
Никита лихо подкинул себя, пытаясь перенестись через лужу, что раскинулась у самой будки. Но недотянул и шлепнулся подошвами по воде, разметая брызги.
Алена отскочила в сторону.
– Избыток чувств, – Никита стряхнул капли с брюк.
– Да. Лужа сразу стала сухой, – улыбнулась Алена.
Они обогнули будку и пошли вдоль проспекта вниз, к порту. От полного безветрия деревья казались искусственными, как за гигантской витриной. В этот утренний час было много воробьев. Воробьи торопились. Надо расхватать все, что можно, до того момента, когда на асфальтовую спину улицы выползут их враги – троллейбусы и машины, которые отгонят воробьев подальше, в каменные утробы дворов, где они и держали оборону из последних воробьиных сил.
Никита хлопнул в ладоши. Воробьи не реагировали.
– Чувствуют, что ты человек добрый и не причинишь им худа, – Алена подхватила Никиту под руку.
– Добрый. А замуж ты за меня не пошла бы.
– По двум причинам, Кит. Ты не в моем вкусе. Но к этому в конце концов привыкают. И не замечают. Наоборот. Со временем может оказаться, что вкус изменился. И носик твой мне покажется эталоном…
– А вторая?
– Серьезнее. Ты слишком рационален. Это не плохо, нет. Может, даже это и хорошо. На работе. Но в семейной жизни эта черта примет иные формы: ты станешь скуп и вследствие этого глуп… А когда человек немного легкомыслен, он многому не придает значения… И еще. Ты слишком уныло выглядишь сейчас для подобного разговора.
– Уныло? Здрасьте! Подняла меня в такую рань…
Они немного помолчали. Они готовились к другим словам, ради которых и встретились в столь ранний час. Можно было увидеться и позже, но Алена не выдержала. Она с трудом дождалась утра и позвонила Никите.
А теперь говорили о чем-то другом. И Никита не испытывал желания перевести тему разговора. Возможно, они и не полагали, что возникший вдруг шутливый треп так глубоко их заденет. Каждый из них был по-своему неудачник и скрывал это от другого… В конце проспекта между домами сверкнула серая кромка залива. Стал виден четкий контур какого-то корабля. С широкой короткой трубой, корабль казался подстриженным под бокс…
Никита и Алена задержались на углу, пропуская троллейбус. А тот, не торопясь, вначале высунул на проспект широколобый радиатор, некоторое время принюхивался к свежему морскому воздуху проспекта, потом лениво заурчал, точно огромный кот, и, поводя усами-штангами, выполз, сверкая свежевымытыми окнами. Водитель кивнул молодым людям, улыбнулся и что-то прокричал. Скучно ему было с одним-единственным пассажиром, что дремал, прижавшись кепкой к стеклу.
– Помнишь, вчера в детском саду Глеб привязался ко мне… ну, насчет моих отношений с женой, помнишь?
– Все, что касается вчерашнего вечера, я отлично помню. Всю ночь перебирала, – ответила Алена. – Он готовил себя. Не так-то просто рассказать обо всем, что произошло на Менделеевской. Он оправдание себе искал, понимаешь, оправдание. Боязнь свою хотел подавить.
Никита остановился и развел руками. От этого его фигура со стороны выглядела смешной и неуклюжей.
– А вот и нет! Не боязнь свою он хотел подавить. Другое! Он что сказал? Есть люди, он сказал, которые не боятся в чем-то признаться, а стыдятся. Понимаешь, это не так все просто. Он, Глеб, готов отвечать за то, что случилось. Он сильный. Но не может справиться со стыдом за свой поступок. Я его именно так и понял, – и, помолчав, Никита добавил: – Хоть он и единственный виновник, а отвечать придется за весь мировой прогресс перед маленькой старушкой.
В магазине у самого окна в огромном аквариуме было несколько цветных рыбок. Вяло поводя плавниками, они стояли в мутноватой воде и подглядывали за всем, что происходило на улице. Никита постучал пальцем по стеклу. Рыбки продолжали стоять, точно приклеенные.
– И они меня не боятся, – усмехнулся Никита, вытащил сигарету и, отвернувшись, прикурил. – Ты, Аленка, нервничаешь. Не в себе. И это свидание спозаранку… Чего ты боишься?
– Ситуации! – резко ответила Алена. – Мы, кажется, попали в скверную историю. Я все время думаю об этом. Мне неприятна эта мельтешня. Низко, низко! Не знаю, как вы себя чувствуете на самом деле, ты и Марина. А я терзаюсь, Кит…
– Ты просто трусишь. Самый примитивный страх.
Никита повернулся и зашагал, широко откидывая руку с зажатой между пальцами сигаретой.
– Послушай! – крикнула Алена. – Куда ты несешься?
Никита остановился у широкого каменного парапета. Поставил на балюстраду согнутую ногу, уперся в колено локтями и, втянув голову в плечи, нахохлился.
Плоский буксирчик с распущенной косой черного дыма разрезал низким носом воду. Вдоль кормы на протянутых веревках сушилось белье. Казалось, что буксирчик капитулировал и выбросил белые флаги. Неловко, по-утиному качнулась на поднятой волне пирамидка бакена. Вскоре буксирчик скрылся за бетонным молом, и лишь предательский дым следил за ним длинной указкой…
Никита щелчком выбросил сигарету, и она, описав дугу, упала в воду.
– У него на карту поставлена вся жизнь. Ты забудешь это происшествие, а ему забыть не удастся – напомнят. Проволокой колючей. Закон слеп. Он карает. Ему некогда заглядывать в будущее. Это должен сделать наш здравый смысл. Парадокс! Законы – воплощение здравого смысла… Думаешь, я спал сурком этой ночью? Я ждал твоего звонка, ждал. И если бы не дождался, сам бы позвонил. Нам необходим этот разговор. Теперь, когда прошло время, можно поговорить обо всем спокойно, отстранясь. Мы не вправе ему советовать, Аленка. Слишком у нас разное положение. Можно лишь высказать свое отношение…
– Я рассказала кое-что отцу.
– Жаль. Я ведь предупреждал тебя!
– После того, как я успела рассказать, – вздохнула Алена. – Так случилось, Кит. Сама жалею.
Никита присел на край балюстрады и закинул ногу на ногу.
– Ну и что сказал твой отец?
– Сказал, что мы с тобой теперь как бы соучастники. Так как знаем и молчим… Теперь и он, выходит, соучастник… Правда, я не назвала имя Глеба.
Никита присвистнул:
– Чепуха! Если твой отец заявит…
Он повернулся лицом к морю. Гранит балюстрады четко отсекал асфальт набережной и уходил в спокойную воду. Два одинаково округлых черных камня торчали из воды, напоминая глаза отдыхающего бегемота. Сходство было поразительное. И эти небольшие брошенные в сторону голыши – точно ноздри бегемота. Алена однажды довольно долго простояла в зоопарке у бассейна в ожидании появления бегемота. С чего это она вспомнила? Сколько ни жди, тут никто не появится – пустой номер. Обычные камни…
– Слушай, а ты не могла бы уехать куда-нибудь на эти дни? – произнес Никита. – Допустим, в командировку.
– Могу. Давно собираюсь в Харьков. А что?
– Поезжай. Сегодня. Если и не в командировку, то куда угодно. За город. На дачу. Отпросись на несколько дней.
– Вот еще! Для чего?
– Есть идейка. У тебя найдется ручка? Или карандаш?
Никита полез во внутренний карман плаща, достал записную книжку, вырвал чистый листок и, пристроившись, принялся писать.
– Вот. Единственная возможность как-то исправить положение, – Никита протянул листок.
Корявые, вытянутые буквы брезгливо касались друг друга, составляя слова. Алена пробежала глазами по листку: «Алена, поезжай спокойно. Все, что касается истории с Глебом, я улажу сам. Обещаю. Кит».
– Так вот, – Никита поправил выбившийся шарф. – Я обещаю тебе все уладить: заявить в милицию или уговорить Глеба повиниться. Или… Ну, не знаю, что. Главное, я тебе это обещал. Письменно. Записка останется у тебя. Понимаешь?
– Не понимаю.
– Короче, – прервал Никита, – поступай как говорят. Я сам все улажу. Но при одном условии: ты должна уехать. Чтобы не наделать больше глупостей, – и повторил раздельно, внушительно: – Чтобы не наделать больше глупостей… И еще! Вернешься домой – покажи записку отцу. Он должен все понять.
– Я тоже начинаю кое-что понимать.
– Вот и отлично, – буркнул Никита.
– Только нужны ли такие жертвы? – Алена в нерешительности теребила листок.
– Нужны! Кстати, никакой жертвы нет. Я убежден, что мы с тобой поступаем во имя справедливости…
Алена натянуто улыбнулась. Такое чувство, что она украла и ее поймали. Ей было стыдно. Она сейчас презирала себя. И ненавидела Никиту. Она не могла найти в себе силы растоптать этот листок, швырнуть его в воду…
Медленным движением она вложила листок в сумку.
– Кроме нас с тобой существует еще и Марина.
– С Мариной проще, – Никита плотнее запахнул плащ и поднял воротник. – Марина любит его. Этим все можно оправдать.
Они шли вдоль набережной. Усатый дворник сгребал шуршащие зеленовато-желтые листья.
– Ты подлец, Кит… И я… И он… Мы подлецы! Ненавижу, ненавижу… И ничего не могу поделать.
Она рванулась и побежала.
Дворник укоризненно посмотрел на Никиту и покачал головой.
***
К уголовному делу № 30/74.
Выписка из протокола:
«Детский сад – стандартное двухэтажное строение из кирпича. В левой части игровой площадки – каменный сарай для хранения хозяйственного инвентаря. Между ящиком с цементом и стеной обнаружен на полу четкий след протектора, принадлежащий мотоциклу класса “ИЖ – Юпитер” с коляской. На полу, у ящика с цементом обнаружены листы картона и фанеры. Судя по четким следам вдоль осевой линии протекторов колес, эти листы служили для укрытия мотоцикла».
Марина дождалась, когда дети вытрут руки, и легонько подтолкнула их к выходу из умывальной комнаты:
– Ты, Макаров, всегда задерживаешься. И Рюрикова тоже. Пара пятак.
– А что можно купить за пару пятак? – тут же заинтересовался мальчуган в красной курточке.
– Машину «Жигули», – ответила девочка Рюрикова.
– Сказанула! – обрадовался Макаров. – Знаешь, сколько стоит «Жигуль»? Сто тысяч рублей. Целая куча денег. До потолка. Мой дядя Коля купил «Жигуля», чтобы на работу ехать. А то у него часто пятачков на автобус не бывает.
– Зато у моего папы пятачков полно, – заявила Рюрикова.
В коридоре у кабинета заведующей сидела женщина в коричневом кожаном пальто. Рядом, пропустив ручонки между коленями, томился мальчуган лет пяти.
– Новенький? – остановился подле него общительный Макаров. – Просись в среднюю группу.
Мальчик растерянно молчал.
– Не знаете, скоро придет заведующая? – произнесла женщина, поднимаясь.
– Она уехала на базу! – выкрикнула Рюрикова. – За сгущенкой. Марина пожала плечами: она не знала, когда вернется заведующая. Подхватила за руку малышей и ввела в спальню.
– Опоздальщики! – донесся шепот с ближайшей кроватки.
Макаров намерился было что-то ответить, но под строгим взглядом воспитательницы передумал и сердито засопел.
Уложив малышей, Марина села к столу, вытащила из ящика тетрадь дежурств. Обычно она заполняла дневник во время тихого часа, чтобы не оставаться после работы. Она любила эти спокойные два часа.
Марина аккуратно пометила число. В левом столбце, «Происшествия за день», написала: «Миша Кунин развалил кадку с лимонным деревом». В среднем столбце, «Причина», написала: «Бежал как оглашенный за Димой Ступиным». В правом столбце, «Принятые меры»: «Дерево вынесли в кладовку». «Саша Корин пил воду из аквариума. Изображал рыбку. Отведен в медпункт». Что еще? Кончик карандаша застыл над бумагой. Точно размышляя, откуда взялось сероватое расплывчатое пятнышко. И еще одно, рядом, но поменьше. Марина обвела их карандашом, а другой рукой вытерла мокрую щеку. Она не чувствовала слез, просто лист бумаги вдруг начинал расплываться, точно уходил в воду. Хватит, твердила она себе, надо собраться, собраться. Хорошо бы сегодня после работы сходить к отцу – проведать, как они там. Заодно и проверить, в шкафу ли голубое платье со стоячим воротником. На глаза давно не попадалось…
К отцу она была не очень привязана, а после женитьбы его на медсестре и совсем охладела. Не видела неделями, и не тянуло. С самой медсестрой отношения были хорошие. И мальчики ей нравились, дети медсестры. А вот с отцом разладилось. И понимала, что верно отец поступил: не оставаться же одному, да и мать перед операцией наказывала отцу жениться, если что с ней произойдет. Но слишком быстро он сделал это, слишком быстро…
«Зайду сегодня, – решила Марина, – переживает он. Позвоню по телефону, предупрежу». Приняла решение и немного успокоилась…
– Марина Николаевна, а Макаров воздух испортил, – тоненько произнесла ябеда Рюрикова.
– Кто? Я? – Макаров сел, уничтожая Рюрикову взглядом. – Ничего я не портил.
– А кто же еще?! – торжественно воскликнула Рюрикова. – Опять кровать скрипит твоя.
Марина постучала карандашом по столу и подняла голову. Макаров, недовольно ворча, улегся. Кое-кто из малышей спал, но большинство притворялись.
Марина отодвинула дневник и, мягко ступая, вышла в прихожую. Тотчас за прикрытой дверью раздался скрип кровати и шлепанье босых ног.
– Получай! – крикнул Макаров. – Ябеда!
– И про это воспитательнице скажу! – радостно объявила Рюрикова. – Тебе влетит!
– Говори! Зато получила по заслугам.
Босые ноги прошлепали в обратном направлении. В спальне поднялся галдеж.
– Что еще за шум? – не показываясь, прикрикнула Марина.
Дети притихли.
Марина осторожно отошла от двери.
Женщина в кожаном пальто все сидела у кабинета заведующей.
Мальчик наклонился и теребил от скуки шнурки на ботинках.
– Заждались? – произнесла Марина. – А мальчику скучно. Отпустили бы его в игротеку.
– Не пойдет, – ответила женщина, – дикий.
– Пойдешь играть? – Марина присела на корточки перед малышом. – Как тебя зовут?
Мальчик застеснялся и отвел глаза.
– Витей его звать, – проговорила женщина.
– Ничего, привыкнет. Хотите его к нам определить? Поздновато. Обычно к сентябрю набираем.
– Ничего не поделаешь, – вздохнула женщина, – так получилось, – она окинула мальчика беглым взглядом. – Няня его заболела.
Марине показалось, будто ее что-то сковывает.
В коридор вышел Макаров в длинной ночной рубашонке. Заметив Марину, он поджал ногу в болтающейся тапке:
– Я в туалет.
Марина кивнула. Макаров заспешил дальше.
– И я хочу, – вдруг произнес Витя.
Макаров остановился, смерил его взглядом:
– Пошли! Чего стоишь?
Мальчик проворно сполз со скамейки и побежал к Макарову.
– Привыкает, – женщина обернулась к Марине. – Няньку его сбили машиной. Вчера. Насмерть.
Марина откинула со лба волосы и поднялась.
– На… Менделеевской?
– И вам известно? Хорошая была старушка. И Витьку любила. Завтра похороны.
– Когда? – непроизвольно произнесла Марина.
– В пять. Из больницы… Родственников у нее нет. Вот и придется мне с мужем…
Стукнула дверь, и послышался голос заведующей.
Марина пошла обратно в свою группу, пытаясь вспомнить, зачем же она выходила в коридор. Ах да! Позвонить отцу… Алену она увидела из окна. На кирпичной дорожке, ведущей от калитки. Красный мохеровый шарф Алены был закинут на спину. Алена, заметив Марину, помахала ей рукой и чуть было не споткнулась о брошенную посредине дорожки деревянную лошадь.
Алена подняла игрушку и оттащила ее в сторону.
Она отпросилась с работы, чтобы взять билет на самолет. Ее давно хотели послать в командировку – все откладывала. А сегодня явилась к заведующему сектором и потребовала выписать командировку. Всю дорогу до детского сада вспоминала удивленные глаза завсека. Еще она вспоминала утреннюю встречу с отцом. После свидания с Никитой она вернулась домой. Отец собирался на работу. Стоя перед зеркалом, он завязывал галстук.
– В командировку еду. Сегодня. В Харьков, – сообщила с порога Алена.
– Далеко не уедешь, – после долгой паузы ответил отец. – Полагаю, ночи вполне было достаточно для решения… Не исключено, что твой приятель уже, как говорится, под колпаком.
Алена вытащила записку Никиты и протянула отцу.
Приблизившись к окну, Сергей Павлович внимательно прочел записку.
– В каких ты отношениях с ним? – смуглые пальцы отца теребили записку. – Ему можно доверять, этому Киту?
– Он мой старый товарищ, друг.
– Ладно. Спрячь понадежней, – вздохнул Сергей Павлович, возвращая листочек. – Этот Кит, видно, благородный человек. И весьма сообразительный…
Алена все-таки вернулась и подхватила деревянную лошадь. «Довольно тяжелая штука. Как это дети с ней справляются?» – подумала она.
– Да оставь ты ее! – крикнула Марина в приоткрытую форточку. – Сейчас спущусь, подожди.
В дальнем углу двора висела на цепях скамейка-качалка. Ржавая, скрипучая, с облупившейся розовой краской. Марина любила это местечко, скрытое от глаз заведующей, и пробиралась сюда покурить. Огонек газовой зажигалки уходил в сторону от кончика сигареты. И надо было упереться ногами в дерево, чтобы успокоить расходившуюся скамейку.
– У тебя какие? – спросила Алена, подсаживаясь.
– «Шипка». Будешь? – Марина спрятала зажигалку в карман накинутого на плечи плаща.
– Без фильтра не люблю, – Алена запрокинула голову. – А хорошо здесь.
Симметричные верхушки сосен кололи небо, подчиняясь ритму качалки.
– Как Глеб? – спросила Алена.
– Уходил вроде немного успокоенный, – ответила Марина.
– А ты? Тоже успокоилась?
– Ты пришла, чтобы спросить меня об этом?
– Скажи, у тебя с Глебом роман?
– Роман! Повесть… У меня будет ребенок. Алена растерянно провела ладонью по лбу:
– Тогда… зачем ты куришь?
– Поэтому и курю, – усмехнулась Марина.
Но Алена уже забыла свой растерянный вопрос – она уперлась виском в плечо подруги и тихонечко засмеялась. Потом повернула голову, как-то снизу посмотрела в зеленоватые глаза. Казалось, она подглядывала сквозь чудесные стеклышки за соснами, стоящими в отдалении. Всего мгновение назад она хотела что-то посоветовать Марине, от чего-то уберечь, предупредить. А теперь одна фраза все переиграла. Алене стало легче на душе. Значит, Никита не ошибся, хотя он и не предполагал, что дело зашло так далеко…
– Что же ты намерена предпринять?
– Рожать, – резко ответила Марина. Ей был неприятен разговор.
– А что думает Глеб?
– Не знаю.
– То есть как?
– Слушай, Аленка, я не хочу рассуждать на эту тему. Нет настроения. И некогда: скоро малышей поднимать. Ты пришла ко мне зачем?
Алена сильно оттолкнулась ногами от сосны. Заверещали кольца цепей, удерживая скамейку. Сухие ветви жимолости царапали днище.
– Мне хотелось поговорить с тобой о… вчерашней истории. Но теперь и сама не знаю, – вздохнула Алена.
Марина боком соскользнула со скамьи.
– При чем тут ребенок? Я ведь люблю Глеба, как ты не понимаешь? Никого у меня нет, кроме него. И ребенок будет, потому что он есть, Глеб, как ты не понимаешь? Ты пришла обсудить со мной эту историю. Но я не хочу, разве ты не видишь? Как Глеб решит, так и будет.
– Но это касается не только его, – Алена умолкла.
Бессмысленно объяснять Марине все возникшие сложности. Мозг Марины представлялся ей фильтром, без задержки пропускающим сквозь себя все, что могло причинить неприятности Глебу.
– Что ты примолкла? – Марина подозрительно глядела на подругу. – Кого ж еще это касается? Тебя? Никиты? Кого?
– Ну… допустим, вашего будущего малыша, – скомкала Алена, кляня себя за нерешительность и трусость.
– Не нашего, а моего. Моего малыша! И мы с ним как-нибудь сами разберемся.
Марина прижала сигарету к стволу дерева. На сухую черную кору посыпались легкие искорки. Швырнув окурок на землю, Марина направилась туда, где виднелась за деревьями крыша детского сада.
На Алену она так и не оглянулась.
***
Крыша была видна от самой автобусной остановки. Накат серого рубероида с плоской трубой. По мере того как Глеб приближался, крыша детского сада пряталась за антенны Института физики, потом ее прикрыла башня планетария. Но крыша упрямо появлялась. Вот когда достроят вычислительный центр, тогда наверняка не увидишь издали детский сад…
Глеб поставил портфель на сваленные у подъезда кирпичи.
Время разводить детей по домам – то и дело в дверях подъезда показывались родители с малышами.
– Глеб! Ну что ты стоишь? Заходи, – Марина стояла на пороге, зябко приподняв плечи. – Хочешь, чтобы я простудилась? Жду, жду его. А он стоит себе…
Глеб вглядывался в ее лицо. Зеленоватые немигающие глаза Марины сияли как обычно, а брови были сведены в одну лукавую линию.
– Что ты так смотришь на меня? – Марина потянула Глеба в подъезд. – За одним малышом пока не пришли. Новенький. Родители запаздывают…
Они поднялись на второй этаж.
Витька сидел на скамейке и держал на коленях курточку. Только что увели домой его дружка Макарова, и поэтому Витьке было особенно тоскливо. Он даже всплакнул, пока воспитательница бегала куда-то. И слезы еще не успели высохнуть.
– Новость! Ты что ревешь? – громко удивилась Марина.
– Домой хочу, – признался Витька, – или к бабе Лизе, на худой конец.
– На худой конец! – передразнила Марина. – Придет твоя мама, не волнуйся.
Витька швырнул на пол курточку и пихнул ее ногой в угол.
– Это что за фокусы?! – неумело прикрикнул Глеб. – Футболист выискался. А ну подними!
Малыш покорно встал и поплелся в угол. Глеб улыбнулся, глядя на обиженного мальчугана с пухлыми, чуть отвисающими щеками.
– Ишь ты, на худой конец… Небось баба Лиза тебя так откормила? Мальчик, елозя, уселся на старое место и уложил курточку на колени:
– Баба Лиза умерла.
– И ничего не умерла! – крикнула Марина громко и неожиданно. – Заболела она. Твоя мама сказала.
– А мама врет! – Витька пристукнул ладошками по скамье.
Марина пыталась овладеть собой:
– И тебе не стыдно? Так говорить о маме, бессовестный мальчик. Витька не смирился. Он был возбужден и обижен недоверием.
И несправедливым обвинением.
– Я сам слышал. Они думали, я сплю, а я не спал, когда пришла сватья. Бабу Лизу машиной сбили. Она умерла. А они все врут: заболела, заболела. Не хотят, чтобы я к ней ходил. Потому что папа ругал маму за то, что баба Лиза со мной не гуляет, а таскает меня по мультфильмам. А в кино душно, и я дышу плохим воздухом. И мама сказала, что, на худой конец, пусть будет так. Что сейчас с няньками плохо. Вот!
Витька выговаривал фразы торопливо, боясь, что его не дослушают, прервут. Но никто его не прерывал…
Они заняли столик возле портьеры, у стены.
На небольшой эстраде два парня настраивали электрогитару: один возился с динамиком, второй ковырялся в сверкающей утробе инструмента. Посреди зала висел большой шар, составленный из мозаики зеркальных осколков.
Посетителей было мало. Несколько официантов коротали время у буфета, занятые какой-то игрой: по очереди лазили в мятый поварской колпак, извлекали свернутые бумажки, разворачивали, читали и отдавали счастливчику по гривеннику. Одному белобрысому, видно, крепко везло. Он улыбался, выпуская из-под толстой губы золотой нахальный зуб.
Марина помахала рукой, стараясь обратить внимание официантов. Но безуспешно.
– Модерновый кабак, – произнесла она.
Глеб молчал. Он и в саду молчал. Он прошел в зал, дожидаясь, когда Марина освободится. Он стоял у окна и видел, как двор пересекла женщина в кожаном пальто. Женщина тянула за руку мальчика в курточке. Витьку…
Один из официантов наконец отделился от своих азартных коллег и, поправляя по дороге салфетки и приборы на пустующих столах, подошел к портьере. Остановился. Белобрысый, с пухлыми синеватыми губами и золотым зубом. Заказ он не записывал. И так запомнит: две чашки кофе и несколько конфет «Чародейка». С такими запросами могли бы зайти в кафе-автомат…
Марина чувствовала неловкость и раздражение.
– Чем это вы перепачкались? – произнесла она.
Официант оглядел свой живот, переломился в талии и оглядел брюки. Бурое пятно величиной с ладонь, точно след от шлепка.
– Каша какая-то, – вяло проговорил официант и, подобрав со стола салфетку, попытался стереть пятно. Но больше размазал.
– А вы неряха, – не меняя тона, произнесла Марина.
Официант с изумлением оглядел клиентку. Перевел взгляд на Глеба:
– Не нравится – займите другой столик…
– Не нравится! – Марина бросила сумку на свободный стул, показывая, что никуда отсюда не уйдет.
Она и сама не понимала, что с ней происходит. Отвернулась в сторону и молчала. Еще немного, и она заплачет, не сдержаться ей…
– Знаешь… Я, кажется, поеду на конференцию в Ленинград. И, если появится возможность, выступлю с сообщением.
Марина продолжала смотреть в сторону. Пронзительно и недовольно мяукнула электрогитара, точно гигантский кот.
Марина вздрогнула и прошептала:
– Паразиты! – и рассмеялась, обернувшись к Глебу: – Это же здорово, Глебушка! Такой огромный институт, сплошные ученые, и вдруг – твое сообщение…
Она погладила рукой скатерть.
Глеб накрыл ладонью ее пальцы. Холодные, с перламутровыми ногтями. Он знал, о чем сейчас думает Марина. Хорошо, что он уедет, сменит обстановку…
При чем тут конференция? Подумаешь, конференция. Сколько их будет у Глеба? Но такой не будет, и дай бог, чтобы никогда, никогда больше не было!
– Это хорошо, что ты уедешь в Ленинград.
– Да. Но потом я вернусь.
– Но это уже будет… потом. Потом!
Марина спрятала руки под стол.
– Я не ждала тебя сегодня.
– Решила, что я скроюсь где-нибудь в лесу?
– Нет. Я так не думала… Просто я не ждала тебя сегодня. Обычно предчувствие меня не подводит.
– На этот раз предчувствие тебя подвело… Я пришел, чтобы сказать тебе…
– Что ты собрался в Ленинград на конференцию, – перебила Марина. Торопливо. Точно испугавшись того, что Глеб сейчас скажет. Но ведь она так ждала этой минуты. Почти целый год ждала. Но почему он не хотел сказать ей это раньше? И сказал ли бы вообще, если бы не эти, последние, усталые сутки?
В зале погас свет.
Большой шар, висящий под потолком, медленно закружился, разбрасывая во все стороны яркие зайчики. Негромко вздохнула электрогитара, разбуженная треском барабанных палочек. Оказывается, у гитары приятный и глубокий звук. Мальчики на маленькой эстраде в малиновых своих пиджаках напоминали Марине сказочных гномиков. Особенно тот, с краю. В руках у него – хрустальная палочка-флейта. Он так смешно раздувал пухлые щеки и так старался! Досадно только, что Марина его не слышала: все заглушала электрогитара…
Неожиданно малиновый флейтист пропал – его заслонила фигура официанта. Он шагнул к столику. Ловким движением официант опустил на край стола поднос, перемахнул салфетку через плечо и принялся расставлять приборы.
Марина придвинула к себе маленькую кофейную чашечку.
– Это они прислали? – кивнула она в сторону малиновых гномиков.
– Кто? – не понял официант. – Заказ доставил.
– Знаете, а вы вообще-то парень неплохой. И пятно почистили? Или в темноте не видно?
– Почистил, – согласился официант. Будет он спорить. Нужно очень. Какая-то странная клиентка. Чокнутая, что ли?
– Послушайте, в какую вы там играли игру? У буфета?
– А… в номерки.
– Интересно?
– Кому как, – уклончиво ответил официант. – Когда выигрываешь, интересно.
И он отошел, выпуская стайку зеркальных зайчиков. Хищных и нетерпеливых. Они били по глазам. Глеб отодвинулся. Но зайчики его и там нащупали и били, били. Точно трассирующие пули. По рукам, по груди. Сползали с потолка, стекали со стены.
Прыгали с пола…
– Это огоньки, – пробормотал Глеб, – сигналы милицейской машины… Уйдем отсюда! – он наклонился и опустил лицо в вытянутые ладони. Темные волосы сливались с воротником пиджака. Марина чувствовала запах их – такой знакомый, сухой.
Она обхватила его голову руками:
– Успокойся, успокойся…
Она целовала его волосы, висок, лоб, пальцы:
– Успокойся, успокойся…
Глеб поднял лицо. Казалось, зайчики только и ждали этого мгновения. Скользнули вниз белыми сухими слезами. Растеклись по столу, ударили в портфель.
Глеб поднялся и, пригибаясь, торопливо пошел к выходу.
И зайчики целились ему в затылок холодными точными выстрелами. И в спину. Все подгоняя и подгоняя. У двери он не выдержал и побежал.
Марина подхватила сумку, подобрала с пола его портфель и бросилась следом. У эстрады она придержала шаг. Маленький флейтист прикрыл в экстазе глаза. Оказывается, он был в замызганных туфлях и без одной пуговицы на мятом малиновом пиджаке. Прыщи густо засеяли его пухлые щеки.
А у задней стойки буфета все резались в номерки.
Марина сунула в руки белобрысому официанту три рубля…
Глеба нигде не было видно.
Марина сбежала с лестницы и свернула к двери, ведущей на рабочий двор. Единственная лампочка тускнела в глубине двора, над свалкой пустых ящиков.
– Глеб! – негромко крикнула Марина. Переждала немного: – Я знаю, ты здесь, Глеб, – она решительно вошла во двор, зацепилась ногой за проволоку. – У, черт! Послушай, не дури. Я тут шею сломаю.
– Ну что ты там? – Глеб вышел из темноты.
– Убежал! А портфель оставил. Ты в нем кирпичи таскаешь?
Пальцы онемели. Возьми его наконец! Шкаф, а не портфель.
Они вышли на улицу.
Сырой воздух охватил лицо и руки влажным компрессом.
– С таким портфелем не то что в Ленинград – на международные конгрессы можно ехать.
– Что я и сделаю, – ответил Глеб. – Со временем. Если ничего не изменится.
Марина взяла его под руку.
– Что изменится? Что? Если бы что изменилось, то давно бы уже изменилось. Давно! – и, отделяя предыдущую фразу неуловимой паузой, произнесла: – Ты ведь хотел мне предложение сделать, так?
Глеб усмехнулся, но промолчал, прижимая к себе руку Марины.
– Так, – ответила Марина сама себе. – Я знаю: так. Я люблю тебя. Очень люблю. И ты меня любишь. Так?
– Да.
– Любишь. Я знаю, – Марина остановилась, откинула назад голову и посмотрела на Глеба долгим печальным взглядом. – И никого у меня в жизни нет ближе тебя, – проговорила она. – Отец? Это совсем иначе. И вообще мы с ним не очень ладим… Я знаю, я уверена: ты сейчас хотел сделать мне предложение не из-за того, что… должен родиться. Потому, что ты любишь меня… Так вот, Глеб, подожди немного, милый. Ладно? Я не хочу тебя связывать сейчас ничем. Подожди немного… Ты меня слышишь?
Мне почему-то кажется, что ты меня не слушаешь.
– Марина… Я вот о чем думаю. Я не боюсь суда, тюрьмы. Честно! Не боюсь… В кафе этом как-то помимо воли моей прорвалось, а так – не боюсь. Стыжусь, да! Но не боюсь… Главное, Марина, совесть, клянусь тебе. Это как боль. Ноющая. Постоянная. Не отпускает ни днем ни ночью. Чем бы ни занимался. Нет, не в суде дело. Это вам так кажется, что дело в суде, в наказании. И в тюрьме можно делом заняться – думать, например… А вот что с совестью? Она ведь не только срок отсидит со мной, но и выйдет оттуда… Когда-то существовали папские индульгенции. Папа не дурак был, понимал, что почем…
– Кстати, – перебила Марина, – Никита-то наш и предложил тебе ту самую индульгенцию… Какую пользу может принести обществу в целом тот или иной человек. Разве это не индульгенция?
Глеб усмехнулся и закинул портфель за спину.
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетельница М. Кутайсова:
«…Возможно, мое поведение можно истолковать как эгоизм. Так это и было. Да. Я боялась его потерять. Я люблю его. И хотела видеть рядом с собой. Не просто видеть, а видеть спокойным, улыбающимся, понимаете? И я решила. Вероятно, это был не очень обдуманный поступок, под влиянием минуты. Но я пошла на это – я сообщила ему о дне похорон. Почему? Я решила: если он не явится, то со временем забудет все это, перешагнет. Иначе – душу его успокоит лишь наказание. Так я решила для себя. И для него…»
Этот двор после смерти матери Марина запомнила на всю жизнь. Тогда была весна, и черные стволы дубков прятались в широких неподвижных листьях. А дорожка, что вела от главной проходной до прозекторской, была засыпана мелким гравием. Теперь же, в последний осенний месяц, зеленовато-золотистые листья пооблетели, прикрыв собой гравий, и черные стволы выглядели обгорелыми.
К прозекторской вела еще и тропинка от дыры, проделанной в заборе. Ею обычно пользовались те, кто хотел проникнуть на территорию больницы без пропуска. Дыру регулярно заделывали, но с той же регулярностью она появлялась вновь.
Марине повезло. Сегодня дыра зияла во всем своем гостеприимстве. Миновав амбулаторию, Марина вышла к прозекторской с внутренней стороны. Двое молодых людей в накинутых поверх полушубков халатах стояли, прислонясь к перилам, и вместе читали толстую книгу. «Студенты», – подумала Марина и, обогнув левое крыло одноэтажного строения, сбавила шаг. Теперь надо действовать осмотрительнее. Где-то здесь должна быть щитовая деревянная будка, а рядом с ней – беседка, поросшая вьюнами.
Марина остановилась на углу и выглянула. У дверей прозекторской никого не было – можно незаметно проникнуть в беседку. Но в последний момент она передумала: что, если и у Глеба возникнет мысль укрыться в беседке? Нет, встретиться с ним здесь она не должна. Ни в коем случае!
Марина зашла за беседку и присела на какой-то ящик за густой изгородью вьюнков. Она не совсем четко представляла смысл своих поступков. А что, если Глеб вообще не явится сюда? И чего ей хочется больше – чтобы он пришел сюда или не пришел? Временами она жалела о том, что затеяла все это.
Похороны назначены на пять часов. Сейчас – без четверти. Все же странно, почему никого нет? Или все уже кончилось? Нет-нет, она прекрасно помнила, что в пять. Да и Глебу она сказала, что в пять. Впрочем, у этой бабы Лизы никого и не было, только что соседи по квартире.
Низко гудел в щитовой трансформатор, придавая одноэтажному желтому дому особенно зловещий вид и особую серьезность всему, что происходило за стеклами, наглухо окрашенными белой краской. А там, собственно, ничего и не происходило. Это было самое спокойное место в городе и на земле. Одно из самых спокойных…
Из глубины двора, пятясь, к прозекторской причаливал серый автобус с черно-красной полосой вдоль кузова. Остановился. Из кабины вылез шофер. Ткнул носком ботинка покрышку правого колеса, сплюнул, выругался.
На крыльцо вышли три человека. Женщину, мать Витьки, Марина сразу узнала. Мужчина с узким болезненным лицом, чем-то похожий на Витьку, с портфелем, видимо, его отец. Третий был пожилой, в темном служебном халате и в кепке, лихо сдвинутой на ухо.
– Что, Башлыков, опять тебя пригнали? – произнес он навстречу шоферу.
– К отпуску часы прихватываю, – ответил водитель. – Еще транспорт заказывали или как? – он достал из кармана наряд и протянул пожилому на подпись.
– Хватит и твоей кареты. Почти вся процессия тут, – мужчина кивнул на Витькиных родителей и, приложив листок к желтой стене, длинно и заковыристо подписался.
Шофер откинул заднюю дверцу, поправил коврик:
– Интересно, так и будем стоять? Чего ждать-то?
– А ты не понукай! – неожиданно разозлился мужчина в рабочем халате. – Ишь быстрый. Носильщиков ждем. Смылись куда-то.
– Набрали студентов! – шофер достал оранжевый платок и громко высморкался. – Тяжело будет? – кивнул он в сторону прозекторской.
– Да ну! Еще б одного мужика. И сами б справились.
– Конечно-конечно. Я помогу! – встрепенулся отец Витьки и протянул жене портфель.
– Все равно троих мало, – засомневался шофер. – Так-то божий одуванчик, а в покойниках вроде тяжесть появляется.
Шофер огляделся.
– Послушайте! Помогите, а? Гроб внести в фургон, – попросил он кого-то, стоявшего за автобусом.
К кому обратился шофер, Марина не видела, но она уже знала, кто там должен быть.
– Товарищ, я к вам обращаюсь, – повторил шофер и, очевидно получив утвердительный кивок, произнес: – Вот спасибо!
Марина увидела Глеба. На нем был зеленый плащ. Шляпа. Марина не помнила, чтобы Глеб когда-нибудь носил шляпу. Поднимаясь вслед за шофером, Глеб повернулся спиной к беседке.
«Какая у него печальная спина, – вдруг подумала Марина. – Печальная и беспомощная. Ну зачем он сюда пришел, зачем? А все я! Это я ему сказала об этом…» В дверях Глеб задержался. Рука его поползла по гладкому матовому стеклу. Казалось, он сейчас нащупает какое-нибудь препятствие и повернет обратно, уйдет. Ни на чем не задержавшись, рука его опустилась, вытянулась вдоль плаща. Глеб шагнул через порог.
Марина напряженно вглядывалась в дверной проем. Постепенно внимание ее ослабло. Она поймала себя на странных мыслях. Действительно, нелепо: диетическая столовая находилась против главного входа в городской крематорий. Когда хоронили маму, то по непонятной причине пришлось довольно долго ждать своей очереди на кремацию в просторном и печальном зале, отделанном вишневым мрамором. В ожидании растворилось горестное чувство утраты и появилось тупое равнодушие. Так бывает: когда большое горе, от него безумно физически устаешь. Она покинула зал и прошлась по колумбарию, разглядывая вделанные в стену фотографии и надписи… Неожиданно сквозь решетку ворот через дорогу увидела объявление: «Диетическая столовая № 2». И тут она почувствовала дикий голод, до головокружения. Все последние дни и ночи, сумбурные, тяжелые, проходили в суете. И вот наступила разрядка. Марина зашла в столовую, набрала полный поднос еды. А когда села за столик, то с трудом съела овощное рагу, и то чуть-чуть. Страх от мысли, что вдруг подошла очередь на кремацию? Нет, она помнила: распорядитель предупреждал, что есть еще час времени. Просто наступила реакция равнодушия.
Так, вероятно, и сейчас. Тупое равнодушие…
Дверь прозекторской распахнулась. Бодрой трусцой выбежал шофер, придерживая под мышкой свежеструганую крышку гроба. Прислонив ее к автобусу широкой частью вниз, он на мгновение замешкался и перевернул крышку наоборот, широкой частью вверх – чтобы соблюсти правила церемонии. Убедившись, что крышка не повалится, он так же бодро возвратился в прозекторскую и вскоре появился вновь – теперь уже медленно, спиной, придерживая ручку в изголовье гроба.
Но Марина его уже не видела. Она не видела и самого гроба. Ничего. Кроме фигуры Глеба. В надвинутой на лоб шляпе и в плаще с поднятым мятым воротником. Левая рука его была вытянута и напряжена, правая – сунута глубоко в карман. Острые и резкие полосы шли от носа к уголкам губ. Раньше Марина их никогда не замечала, а сейчас, на расстоянии, они так бросались в глаза своей геометрической четкостью… Марина смотрела в лицо Глеба, и с каждой секундой лицо это теряло знакомые черты. Все больше и больше. Как становится отчужденным даже собственное имя при многократном повторении его вслух.
Еще Марина подумала, почему она не видит глаз этого человека в мятом плаще. Она никак не могла сообразить, что он прикрыл глаза и веки их слились с белым морозцем щек в одно плоское пятно… Вдруг резкий крик согнал с Марины оцепенение. Она не сразу сообразила, что произошло. Только видела, как шофер быстро подсунул руку под угол гроба.
– Ты что?! Ведь опрокинешь, дистрофик несчастный! – орал он на Глеба.
Но тот, видимо, ничего не слышал. Он торопливо отходил от гроба. Все дальше, дальше… Вот его загородили фигуры откуда-то взявшихся старух.
Марина вдруг осознала, что больше не прячется за беседкой, а стоит рядом с гробом, подставив руки под его прохладное днище. Как она очутилась здесь, она не помнила.
Она думала о том, что Глеб никогда не простит себе гибель бабы Лизы, что история на Менделеевской улице роковым шлагбаумом разделила его жизнь на две части, и через этот шлагбаум ему ни при каких обстоятельствах не перешагнуть. Он не найдет в себе сил подчинить чувства. И это уже на всю жизнь.
Сам он ни на что уже не решится. И ей, Марине, жене его, надо искать вместе с ним достойный выход из этой страшной ситуации.
***
Из допроса Г. Казарцева, обвиняемого по статье 211, часть 2, УК РСФСР и статье 127, часть 2, УК РСФСР:
«…После больницы я долго ходил по улицам. Очутился у какого-то отделения милиции. Зашел. Дежурный спросил меня, в чем дело. Я что-то ответил. Да, кажется, сказал, заблудился. Дежурный, вероятно, решил, что у меня не в порядке с головой. Сказал, ищи как следует – найдешь. Я вышел. Очутившись за углом, я побежал…»
Дождь полил неожиданно. Сильные заряды лупили в стекло трамвая и, точно удивляясь неожиданному препятствию, на мгновение замирали и стекали вниз кривым узором.
Глеб подумал, что, кажется, он не взял билет.
Трамвай прогромыхал на стыках и остановился. В вагон заспешили пассажиры, подгоняемые дождем. Несколько человек одновременно. Никто из них не мог продраться сквозь эту пробку. Наконец кому-то удалось. Следом, подпихивая друг друга, поднялись и остальные. Дверь захлопнулась, поехали дальше.
На ограде городского сада сидели чайки. Как голуби. Интересно, какой у них размах крыльев, подумал Глеб, до метра дотянут? Потом взгляд его уперся в афиши цирка-шапито. Медведь в балетной пачке с изумлением смотрел на усатого укротителя в цилиндре. Купол цирка сопкой выглядывал из-за афиш. По грязной парусине прыгали дождевые капли. А дальше в сгущающейся к вечеру серости неоном сияло слово «астроном». Что еще там за астроном, вяло подумал Глеб. Наверное, гастроном. Просто молчит первая буква. Забавно. Одна лишь буква – и два таких разных понятия. Одна неосторожность – и вся жизнь летит к чертям. А взгляд его все полз вдоль улицы со скоростью трамвая, продираясь сквозь дрожащее мокрое стекло.
Глеб отвел взгляд от стекла, прошелся по рядам сидящих в вагоне пассажиров. И тотчас, точно ткнувшись в оголенный электрический провод, взгляд его вернулся назад, подчиняясь неожиданно возникшей мысли: в вагоне преимущественно сидели старики и старухи. Стояли и в проходе: не хватало мест. Он скосил глаза – рядом с ним сидела старушка в накинутом на голову платке.
«Куда же их всех несет?» – кажется, он подумал вслух.
Старушка настороженно оглядела Глеба быстрым взглядом блеклых глаз и опасливо отодвинулась.
– Куда ж вы едете? Куда? Такая погода. Трамваи переполнены. Откуда вас несет? Из церкви, что ли? – Глеб вслушивался в свои слова, точно их произносил кто-то со стороны.
На него уже поглядывали.
– Кто из церкви, а кто с похмелья, – все громче и громче выговаривала соседка, стараясь привлечь внимание пассажиров. – Шляпу одел! Старики стоят, а он расселся, алкаш несчастный!
Теперь весь вагон смотрел на бледного молодого человека, что сидел, отвернувшись лицом к окну. Еще две-три фразы попытались было растолкать густой воздух переполненного вагона. Но настойчивый стук колес разогнал их, разбил на отдельные ленивые слова и загасил властным металлическим ритмом… Давно Глеб не был в этом районе города. Впрочем, нет. В начале лета он случайно встретил Никиту в яхт-клубе и отвез домой на мотоцикле. Тогда Глеб и узнал, что Никита собирается расходиться с женой.
Глеб поморщился: он вспомнил какие-то свои глупые вопросы, с которыми он пристал на дне рождения Марины к своему приятелю. Ну и занесло его тогда!
Летний павильон «Соки – воды» был заколочен. А подъезд дома, в котором проживал Никита, расположен напротив павильона. Четвертый этаж. На табличке две одинаковые фамилии: Бородин А.К. и Бородин Н.Л. Ясно. Два звонка.
Дверь открыла женщина с мягким, добрым лицом.
– Простите, – смутился Глеб, – а Никиты нет?
– Дома. Но этому лентяю почему-то кажется, что мне приятно встречать его гостей.
Женщина улыбнулась и указала на дверь, едва заметную за огромным шкафом, из которого выпирали пачки пожелтевших газет.
Никита вручную перематывал магнитофонную ленту.
– Извини, не мог открыть.
Он сидел в глубоком старом кресле, закинув ногу на ногу. Лента упругими кругами скатывалась с бобины, насаженной на массивный чернильный прибор.
– Садись куда хочешь… Каким тебя ветром занесло?
– Решил проведать старого друга. Чем ты занимаешься?
– Где-то был записан поп-менуэт номер восемь Дика Джонса. Я обещал тут одному. А лента раскаталась. Надо вручную… Кофе будешь?
– Угости.
– Сам, сам. Все на подоконнике. Вода в графине. Там же кипятильник.
Глеб подошел к подоконнику.
– Кажется, первозданный хаос начинался именно отсюда.
– Нет. Здесь он закончился… Ищи по запаху. Помнишь, как пахнет кофе? Вот и ищи.
Глеб раздвинул какие-то коробки и обнаружил красную банку с кофе. Тут же валялся и кипятильник. Он налил воду в кружку и опустил кипятильник.
– Знаешь, меня посылают в Ленинград, на конференцию.
– Молодец. Возьми с полки пирожок. Все идет как надо… А мне Скрипкин все приказ не подписывает. Обещал десятку накинуть с первого, а все тянет… Слушай, привези мне открыток с видом Ленинграда – я Скрипкина подмажу. Он ярый собиратель.
Никита подготовил магнитофон и нажал кнопку. Бобина плавно закружилась. Комната наполнилась хрипом, скрежетом, затем хрипы оборвались и раздались синкопы трубы. Никита смягчил тембр.
– Приятная штука? Поп-менуэт.
Он подошел к окну. Вода уже закипала. Никита достал с полки две чашки. Блюдце было одно. Вот рюмок у него было много. Извлек початую бутылку наливки, мармелад, сушки, сдвинул бумаги на письменном столе.
– Так откуда тебя ко мне занесло?
– Из морга, – быстро ответил Глеб.
Никита выгреб из-под бумаг пачку сигарет.
– Ну, брат, с тобой не соскучишься. Впереди – конференция, позади – морг. Расторопный ты человек.
– В самом деле, Кит.
Внезапно Глеб подумал, что действительно все прозвучало до странного легко и забавно. Даже смешно. Он слабо улыбнулся и подвинул рюмку к Никите.
Светло-коричневая, почти янтарная наливка заполнила рюмку.
– Что же ты там забыл, в морге?
– Я видел ту женщину.
– Вот как? Это что, цинизм? Или проверка нервов?
Теперь Никита наливал себе. Аккуратно и точно. Ровно до золотистого колечка.
– Марина узнала, что ту женщину отправили в больницу. И сказала мне.
– Для чего?
– Для чего? – переспросил Глеб. И замялся. В самом деле, для чего Марина сказала ему о похоронах? Он как-то не думал об этом… – Ну, сказала… Проговорилась.
– Вот как? Проговорилась. Ну-ну… Пей! Давай опрокинем за благополучную твою поездку. Завидую тебе, сил нет! Почему тебе так везет, а? Женщины тебя любят. На работе все в порядке. Красавец. Рост. Вес. Масть. Все, что надо. А я, понимаешь… Толст.
Невезуч. Полгода со Скрипкиным воюю.
Глеб не мог понять, иронизирует Никита или говорит всерьез. Он быстрым взглядом коснулся круглого лица приятеля и вновь уставился в рюмку.
– Итак, за твою поездку и возвращение! – Никита выпил и закусил мармеладом. – Тебе вредно таскаться по моргам. Ты сейчас выглядишь не лучшим образом.
Глеб молчал, разглядывая янтарную поверхность наливки.
– Тебе было там очень скверно?
Глеб отпил глоток, поставил рюмку на стол.
– Я, кажется, все-таки пойду… туда, Кит. И все расскажу.
Никита приподнял газету, извлек из-под нее надорванную пачку сахара, выудил два квадратика и бросил их в чашку с кофе.
– Моя бабушка говорила, дураками не рождаются – дураками умирают… Что ж, придется нам с тобой выпить за твое возвращение из мест весьма отдаленных. После многолетнего отсутствия! – Никита поднял свою пустую рюмку. – Прозит!
Соло трубы окончилось. Теперь за работу принялся саксофон. Те же пронзительные синкопы, разделенные долгими паузами.
Никита встал, подошел к магнитофону.
– Такой менуэт испоганили, мерзавцы! – он нажал кнопку. Саксофон споткнулся на высокой ноте. Бобины прекратили свое кружение.
Никита вернулся к столу, вытащил из ящика тоненькую книжицу с тремя яркими полосами поперек обложки: зеленой, желтой и красной.
– Тебе знаком этот труд? Чрезвычайно мудрая книга. Так вот, параграф номер пятнадцать, – Никита нашел нужную страницу, сел и вытянул ноги. – «При дорожно-транспортном происшествии водители, причастные к нему, обязаны: а) без промедления остановиться и не трогать с места транспортное средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию; б) в случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно, отправить пострадавших на попутном или на своем транспортном средстве в ближайшее медицинское учреждение и сообщить там свою фамилию, номерной знак транспортного средства…» И так далее… «…в) сообщить о случившемся в милицию…»
Глеб смотрел на отвисший старый шлепанец Никиты, на дырку в носке, сквозь которую темнела пятка. Он устал за эти дни и хотел спать.
Никита захлопнул книжицу, метнул ее на диван.
– Ни одного из четырех пунктов, предусмотренных правилами дорожного движения, ты не выполнил. Более того! Ты поступил наоборот…
– Знаешь, мне очень хочется спать.
– Это тебе и надо было сделать, чем мотаться по моргам. Ну какого дьявола тебя туда понесло? Самоанализ? Глупо! Тобой сейчас больше владеют эмоции, чем логика…
– Обыкновенный страх, – прервал Глеб. – Это вернее.
– Да. Ты прав. Но подожди, не спеши. Страх исчезнет с уверенностью, что все кончилось, все шито-крыто… Ты зачем ко мне пришел? Чтобы я лишний раз тебя в этом убедил? Тебе ужасно хочется, чтобы тебя уговаривали! Вот я и поступаю так. Но не потому, что я тебя очень люблю… Учти, по твоей милости я, Алена и Марина стали твоими соучастниками. Так уж будь добр, не подкладывай нам свинью. Молчишь, так молчи до конца.
– Я как-то не подумал об этом, – растерялся Глеб и вытер ладонью лоб.
– А учесть и эту ситуацию не мешает. Кстати, это гарантия, что и мы будем хранить тайну. Пусть это поддержит твой слабый дух. Аминь!
Никита размешивал кофе, наблюдая, как поверхность морщат белесые жгутики отвара.
Глеб подобрал рюмку и грел ее в тесно сжатых ладонях.
В коридоре послышался скрип паркета. Дверь комнаты приоткрылась, показалась женщина с мягким, милым лицом.
– Молодые люди, пирога с брусникой не желаете?
– Мама, ты, как всегда, молодец! – Никита вскочил навстречу матери и перехватил тарелку. – Кстати, мама, вглядись в этого субъекта. Тебе ни о чем не напоминают эти чистые глаза и высокий лоб Сократа?
Женщина добросовестно оглядела Глеба и с сомнением покачала головой.
– Это Глеб Казарцев. Я с ним вместе ходил в детский сад, в старшую группу.
– Что ты говоришь! – улыбнулась женщина. – Он действительно изменился.
– Да, ничто так не старит, как время! – подхватил Никита шутливым тоном.
– Чем вы занимаетесь, Глеб? – спросила женщина.
– Он будущий великий ученый, мама, – продолжал Никита с серьезным выражением лица. – Он тот, кто за столом у нас не лишний. К тому же он рожден, чтоб сказку сделать былью.
Глеб стоял и натянуто улыбался.
– Ешьте, ешьте. Кажется, пирог удался, – женщина оглядела захламленную комнату, вздохнула и вышла.
Глеб переломил пирог и подставил ладонь под стекающую густой патокой темно-бурую бруснику. Пирог был и вправду нежный и вкусный.
– Что это ты меня идиотом выставляешь? – произнес Глеб с набитым ртом.
– Извини. Я устал от напряженных переговоров. И кроме того, зол на тебя за историю, в которую меня втравили. Так неужели я не могу хоть немного отыграться? Причем весьма безобидно. Привыкший к аплодисментам не терпит топота копыт?
– Кто это сказал?
– Я сейчас придумал.
– Сам? Афористичный ум у тебя, добрый друг мой Кит!
Глеб выудил из кармана платок, чтобы не капнуть вареньем на брюки.
– Ты прав, Глеб, я добрый друг. Меня с детства приучали к доброте. Да и не только меня, но и тебя… С раннего детства нам вдалбливали понятие добра. Правдивости. Добрый братец Иванушка. Зайчата. Беззубые добрые медведи. Львы-вегетарианцы. «Не рвите, детки, травку…» Мы выросли! И жизнь внесла свои коррективы. В тебе сейчас борются два начала. Одно – твое воспитание, второе – инстинкт самосохранения, инстинкт сильного человека, которому такое воспитание – обуза, тяжелые вериги. Идея добра привлекательна, не спорю, но она вредна, она ведет к торжеству посредственностей, что прячутся за общую добрую спину… К тому же идея добра противоречива. В основе любой религии лежит добро, но как эти религии насаждались? Злом! Игнатий де Лойола, говорят, был добрейший человек, а основал орден иезуитов.
Никита взял остывшую чашку кофе и осушил ее большими глотками, как пьют воду.
Глеб положил остаток пирога на тарелку и взглянул на часы. Половина восьмого. Отсюда до дома полчаса езды. Но уходить ему не хотелось. То, что говорил Никита, его успокаивало, точно наркотик. Но он знал, он был уверен, что лекарство это временное, что срок анестезии пройдет. И странно: ему хотелось сделать себе больнее, чтобы потом стало легче. Так же, как порой нажимаешь на ноющий зуб, с тем чтобы унять боль.
– Допустим, ты прав, – проговорил Глеб. – Но возьми Германию – ту, старую. Проповедь силы. И только силы. А чем закончилось?
– Они закусили удила с чисто немецкой добросовестностью. Им изменило чувство меры. Фашизм – это крайность. И, как всякая крайность, он обречен на самоуничтожение.
Глеб чувствовал, что его начинает всерьез злить Никита. Тоже доморощенный философ!
– Самоуничтожение! – повторил он раздраженно. – Это только кажется, что зло – сила. На самом деле наоборот: зло – признак бессилия.
– Докажи! – выкрикнул Никита.
– Если бы зло лежало в основе эволюции общества, то цивилизация не только давно бы погибла, но и вообще бы не родилась. Люди бы съели друг друга – много было подходящих моментов за историю человечества. Значит, в основе, несмотря на всякие большие и малые неприятности и бомбы, лежит добро.
Никита неестественно захохотал:
– Тогда какого черта ты не идешь в милицию? Не заявишь о том, что случилось на Менделеевской? А? Иди же! Болтун! Баба! Размазня!
Никита смолк так же неожиданно, как и захохотал. Глеб встал.
Подошел к двери, остановился.
– Знаешь почему я туда не пойду? Мое понятие добра еще не переросло мой страх. Понимаешь? Дух мой оказался мельче моего личного, моего эгоистического начала, понимаешь? – усмехнулся Глеб. – И вот я тебе что хочу сказать, добрый Кит. Возможно, ты и не поймешь. Слишком ты уверовал в слово «страх».
– Ладно. Напрягусь – пойму, – раздраженно перебил Никита.
– Пожалуй, то, что я тебе хочу сказать, Кит, – самое важное. Или почти самое важное…
– Выкладывай, не тяни! – у Никиты был вид гончей: он уже учуял след, но не было команды, и он мучился.
– Ведь страха-то никакого у меня нет, Китыч! Стыд есть, стыд и… другое. Там вот, понимаешь, внутри, где вмонтирован в нас природой удивительно простой по механике агрегат, – Глеб ткнул пальцем в грудь. – Он всегда отчаянно стучит, когда я вспоминаю ту ночь. Но не от страха – от другого, совести, что ли, не знаю… И никакой суд не избавит меня от этой муки…
– Врешь ты все, врешь! – Никита точно прыгнул навстречу Глебу. – Врешь! Ты так подобострастно улыбался, разговаривая со мной. Ты! Такой гордый, самоуверенный… Слишком ты боялся, что попал в зависимость от меня, от Алены, от Марины… Страх тебя заставляет так держать себя. Страх!
Глеб покачал головой и проговорил печально и тихо:
– Возможно, так и было. Поначалу. А в дальнейшем…
И Глеб подумал: почему Никита не вспоминает вопросы, с которыми пристал к нему Глеб тогда, в детском саду? О жене Никиты, об их разводе. Вряд ли вопросы эти можно определить как подобострастные. Или Кит о них забыл? Нет! Он их не забудет никогда. Просто ему так хочется хотя бы маленькой победы над Глебом…
– Что, Кит, тебе хочется, чтобы я зависел от тебя? Алены, Марины, да? – усмехнулся Глеб.
– Мадам, не берите в голову всяких глупостей, как говорят в Одессе, – буркнул Никита. Он чувствовал, что краснеет, и отвернулся.
Глеб окинул взглядом комнату.
– Послушай, Кит, может быть, твоя жена и не ушла от тебя? Может быть, она просто тут затерялась, в этом хаосе?
– На досуге поищу, – не оборачиваясь, сухо ответил Никита.
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетельница М. Кутайсова:
«…Меня угнетало чувство страшного одиночества. Я была посвящена в тайну близкого человека. Он доверился мне, надеясь в душе, что я чем-то могу помочь. Его беда стала моей бедой… Но я чувствовала себя, как мне казалось, гораздо безысходней его: мне-то довериться было некому. И мне нужен был союзник, советчик, который так же любил Глеба, как и я… Я не знала, как отнесется Глеб к тому, что я задумала, но это была единственная возможность уйти от одиночества. Я была уверена, что в итоге Глеб это поймет и простит».
Марина принялась листать альбом сначала. Фотографии на толстом картонном основании. С вензелями… Бабушка Глеба. Рядом таращил глаза над черными усами молодой человек в цилиндре – дед Глеба… Рядом с нарзанным орлом – какие-то тетки с ватными плечами старомодных платьев, мужчины в белых рубашках с длинными рукавами и в широких плоских кепи. Привет из Железноводска.
Марина украдкой взглянула на Зою Алексеевну. Та продолжала месить тесто.
– А это кто? – Марина протянула чью-то фотографию. Зоя Алексеевна мельком взглянула:
– Не помню. Все не соберусь альбом привести в порядок.
Голос ее звучал ровно, бесцветно. Так же, как и в момент, когда Марина представилась и сообщила, что ей надо дождаться Глеба. Временами у Марины возникала мысль, что надо бы расположить Зою Алексеевну. Но ей хватало сейчас забот и без этого. Глеб может явиться с минуты на минуту, хотя Марина и не знала, куда он исчез. На сколько она задержалась в суматохе у морга? Минуты на две-три, не больше. Потом она бросилась к больничной проходной, затем – к остановке трамвая. Но Глеба нигде не было. И дома его не оказалось. Зоя Алексеевна пропустила Марину в квартиру. В огромном зеркале в коридоре Марина видела настороженные и любопытные глаза матери Глеба. Зоя Алексеевна ей не понравилась.
– Знаете, я вас представляла немного иначе, – произнесла Марина, присаживаясь на диван.
– Добрее, – Зоя Алексеевна разгадала ее мысли.
Марина растерялась и улыбнулась.
Зоя Алексеевна неопределенно покачала головой и вдруг резко засмеялась. Достала из шкафа толстый фотоальбом, положила перед Мариной и ушла на кухню. Вскоре вернулась, держа глубокую миску с мукой, откинула край скатерти и молча принялась замешивать тесто.
«Странная, – думала Марина. – Наверняка перебралась сюда из кухни, чтобы занимать меня. И молчит».
– Не помню, положила соду или нет? – Зоя Алексеевна взглянула на коричневый пакетик.
– Положили. Я видела, – ответила Марина. – Я даже подумала, что многовато.
– Значит, положила, – и она продолжала месить.
Белое тесто сыто выдавливалось между пальцами. Лениво пузырилось и лопалось, выстреливая сухой мукой.
– А вот и я! – Марина встряхнула старой фотографией. – И Аленка. А это Кит! Глебка-то, Глебка! Уши как веер!
Старая детсадовская фотография. Пожелтевшая от плохой обработки, от времени. С оборванными углами.
– Так вы что, давно знаете Глеба? – Зоя Алексеевна подсыпала в тесто еще немного муки.
– Что вы! С пяти лет.
– Вот как? Что-то я вас не помню.
– Ну… просто мы с вами не встречались. Моя мама работала заведующей в этом детском саду.
Зоя Алексеевна вскинула голову, пытаясь отбросить упавшие на глаза волосы, – руки были в тесте. Но не удалось – наоборот, прядь еще плотнее прикрыла глаз. Марина подобрала жесткий, едва начинающий седеть локон и завела его к виску. Пальцы ощутили прохладу влажного лба. Зоя Алексеевна улыбнулась.
И стала чем-то неуловимо похожа на Глеба.
– Мариночка, если нетрудно, достаньте, пожалуйста, корицу.
С верхней полки.
Она кивнула в сторону черной глянцевой груды ящичков, тумбочек и отделений, составляющих вместе старый буфет.
– Значит, это и есть знаменитый «булль»? – Марина похлопала ладонью по буфету. – Дедушкино наследство?
– Вы и это знаете? – улыбнулась вновь Зоя Алексеевна.
– О, я много чего знаю, – Марина нашла банку с корицей, отломила кусочек на свой вкус, растерла и добавила в тесто. – Вообще-то все в этой комнате мне знакомо. Хоть ни разу тут и не была… А там вот комната Глеба, да? Только вот вас я представляла иначе. Думала, что вы ростом выше. Я почему-то решила, что Глеб должен ростом на вас походить.
– Нет. Он в отца, – Зое Алексеевне все больше нравилась девушка.
И Марина это чувствовала.
– А вот улыбка у него ваша.
– Это точно, – с готовностью подтвердила Зоя Алексеевна. – Я в типографии работаю. Народу там много толкается, особенно в пересменку. Так Глебку по улыбке признавали моим сыном. Тогда он еще в школе учился. И приходил за мной от нечего делать…
Она взглянула на высокие напольные часы. Латунный маятник покачивался за толстым узорным стеклом.
– Где он вечно задерживается? Еще хорошо, не на мотоцикле – шлем дома оставил. Изнервничаюсь вся, пока его дождусь. Бывает, и вовсе ночевать не является. Звонит только, предупреждает.
– А он со мной почти все время, – сказала Марина.
– Я догадывалась… Дружите?
– Как вам сказать? Я его жена.
Марина повернула голову и посмотрела на Зою Алексеевну долгим взглядом. Для себя она уже понимала, что это не очень ловкое откровение и явится наконец началом трудного разговора. Чем он закончится, неизвестно. И куда он приведет? Но иного выхода Марина не видела – ей нужен был союзник, близкий Глебу так же, как и она…
Зоя Алексеевна приподняла плечи, скривила губы. Но тут же овладела собой, расслабилась и покачала головой:
– Вот как? Быстро.
– Быстро?
Марина чувствовала, что ей все труднее казаться бодрой и счастливой.
– Видите ли… Все это сложно, Зоя Алексеевна… Допустим, еще вчера я знала, что буду матерью. А буду ли женой – нет.
– Матерью?
Марина пропустила этот возглас мимо ушей. Точно она была в комнате одна и разговаривала сама с собой.
– Все очень запутанно. Возможно, час назад я и решила стать его женой… Хотя Глеб и просил меня об этом значительно раньше… Я несвязно говорю, да? Извините. Все сумбурно… Мы довольно давно близки. А приводить сюда Глеб почему-то меня не хотел. Стеснялся? Не знаю. Он иногда становился очень странным.
И я часто его не понимала… Господи, откуда у вас так дует?
Зоя Алексеевна растерянно обвела комнату взглядом, хотя отлично знала, что неоткуда тут появиться сквознякам. Но тревога, еще неосознанная, уже овладела ею.
– Но сейчас я пришла не с тем, чтобы представиться, – Марина смотрела на тесто под руками Зои Алексеевны. – Глеб сбил женщину… Мотоциклом. Позавчера.
Полоски губ Зои Алексеевны сместились и вновь замерли.
– Да. Насмерть, – произнесла Марина в ответ на застывшие в немом вопросе губы.
Бесформенный белый ком теста утекал в стороны двумя широкими белыми лентами. Вот одна лента отделилась от липкой массы теста. Затем отделилась и вторая.
«Это же ее руки», – подумала Марина.
Растопыренными пальцами Зоя Алексеевна закрыла лицо.
– Я напрасно сказала? Напрасно? Ведь никто не знает. Никто не видел! Никто!
Отвернув в сторону лицо, Марина заплакала. Слезы стекали по щекам, она их слизывала кончиком языка.
– И теперь он должен ломать себе жизнь. И мне. И ребенку… И все из-за какой-то неповоротливой бабки, которой уже сто лет!
Зоя Алексеевна встала и вышла из столовой.
Марина извлекла зеркальце, сложила уголком край платка, пытаясь снять кусочек туши с века.
За стеной что-то тяжело упало и покатилось.
Марина подбежала к комнате Глеба, распахнула дверь.
На полу валялись мотоциклетный шлем, гаечные ключи, яркая банка из-под лака, мотоциклетные очки. Зоя Алексеевна сидела на диване, стискивая коленями худые руки.
– Что ж получается, а? – она остановила взгляд на Марине. Вобрала голову в плечи. – Всю жизнь я работаю, работаю… Мужа потеряла. Одна сына тянула. Чтобы не хуже, чем у людей. Только б он учился… Все для него… Как же мне теперь-то? Как же ему теперь? Нет, нет… Если чего, я пойду туда и скажу. Как же нам теперь? Они должны понять. Сын мой – не преступник, не жулик. Его не надо исправлять… К тому же у него будет ребенок, верно?
Марина кивнула.
Зоя Алексеевна пристально посмотрела на Марину:
– Как ты сказала? Никто не видел?
– Да. Так получилось. Никаких свидетелей, – Марина присела рядом с Зоей Алексеевной.
– Но… сегодня я видела Глеба… Он должен пойти и заявить…
Я это поняла. Он должен…
Зоя Алексеевна отодвинулась, насколько позволял узкий диван.
– Что ты болтаешь? Что ты там поняла?
– Он должен повиниться, Зоя Алексеевна. И мы с вами, ради него… Мы обязаны помочь ему. Я и вы.
Взгляд Зои Алексеевны скользнул поверх головы Марины и замер.
Марина обернулась.
В дверях стоял Глеб. На зеленом мятом плаще – капли дождевой воды.
– Никому ничего я не должен!
Он поднял с пола шлем, положил в него очки и спокойно повторил своим слегка рокочущим голосом, растягивая на гласных слова:
– Никому. Ничего.
***
Из допроса Г. Казарцева, обвиняемого по статье 211, часть 2, УК РСФСР и статье 127, часть 2, УК РСФСР:
«…Мне казалось, что поездка в Ленинград – это судьба. Для сообщения надо было закончить цикл стендовых испытаний. Я почти не покидал лабораторию. Я знал: сообщение если и будет заслушано, то где-нибудь на секциях, в рабочем порядке, так как доклад официально не выдвигался – работа внеплановая. Но главное – застолбить достигнутые результаты, обнародовать.
И кроме того… Не знаю, понятна ли моя мысль… Проблема, которой я занимаюсь, касается отрицательных воздействий магнитных сил. Они разрушают структуру материала. Разрушают! Но всякое разрушение – обратная сторона созидания. Разрушать во имя созидания… Понимаю, я сейчас не на конференции, а в кабинете следователя… Но если вдуматься, я сейчас говорю сугубо по существу следствия… Я старался найти самые далекие ассоциации. Убеждал себя в том, что сама судьба исподволь готовила мое сознание еще задолго до того, что произошло на Менделеевской улице.
К тому же в глубине души я надеялся на то, что в Ленинграде произойдет какая-то важная для меня встреча. И она должна повлиять на мою судьбу. Предчувствие, что ли. И это предчувствие меня не обмануло: я встретил такого человека…»
Глеб включил ночник.
Бледно-желтый лучик робким клинышком вдавился в темноту, ткнувшись на пути в исписанный лист блокнота и кончик ремешка от часов. Такое впечатление, что часы скакнули в сторону, притаились и дышали торопливо, с легким звонцем, а вот хвостик-ремешок так и не успели убрать.
Глеб ухватил этот предательский хвостик и вытянул часы на освещенную полоску. Часы сопротивлялись, зацокали сильнее… Десять часов! А Глеб был убежден, что уже глубокая ночь.
Он включил верхний свет.
Мягкий, серебристый, он осветил скромную меблировку номера. Шелковая накидка второй кровати была без единой морщинки. Интересно, и на эту ночь Глеб останется один в двухместном номере? Повезло. Хотя люди сидят в вестибюле гостиницы в ожидании номера, а здесь, пожалуйста, вторые сутки он живет один.
В овальном настенном зеркале отразилось худое его лицо с покрасневшими веками. Может, пойти погулять немного? Три дня он в Ленинграде, а города еще не видел. Кстати, не мешало бы и перекусить.
Пиджак висел на спинке стула, касаясь рукавами пола.
Глеб сдернул его, едва не опрокинув стул.
Он вышел из гостиницы.
Бронзовый кораблик взлетел на постамент, как на гребень волны, перед стеклянными дверьми подъезда. Кораблик возвышался над стойбищами дремавших интуристовских автобусов и автомашин. У тротуара стояло такси. В уголке покатого стекла кошачьим глазом мерцал зеленый огонек.
– На Невский возьмете? – Глеб наклонился к шоферу.
Тот кивнул.
В машине было тепло и уютно. И слабо пахло кожей.
– Приезжий? – поинтересовался шофер.
– Да, – Глебу не хотелось разговаривать.
Шофер это почувствовал, притих. Но когда сворачивали с площади Революции на Кировский мост, не выдержал и произнес:
– Петропавловка!
Бурая линия крепостной стены отсекалась от черного неба огнями иллюминаций. Такая громадная, Петропавловская крепость отсюда, с моста, казалась невысокой. Классическое пространственное решение. И шпиль. Как восклицательный знак. После него уже ничего ни убавить ни прибавить.
Шофер попался не из молчунов:
– Был я там как-то. На экскурсии. Рекомендую. Стены толщиной с эту «Волгу». А окна – в ладонь… Годами сидели. И какие люди! Не то что мы с тобой – выпить-закусить, понял? Крепкий был народ. Один даже идею реактивного двигателя толкнул, пока отсиживался.
– Был такой. Кибальчич, – проговорил Глеб.
– Верно, Кибальчич, – согласился шофер. – Потом его казнили… А тут тебе университеты да институты всякие, а все думаешь, куда бы на сторону… Скажем, в нашем парке. Знаешь сколько бегает народу с корочкой в кармане, с дипломами этими. Инженера есть, учителя. А работают в такси. Живую копейку шинкуют. Человек всегда старается собственную выгоду блюсти. Словно ему одному надо – остальные так, побоку… А ведь были же люди, а!
Шофер что-то еще вещал. Но Глеб не слушал. Обернувшись, он провожал взглядом излом крепостной стены. Точно замерзший росчерк молнии. И золотой шпиль. Казалось, шпиль проколол небо: темные ночные облака над ним расступились, чтобы и звезды поглядели на этот город. Машина чуть притормозила перед светофором. Прогромыхала через трамвайные рельсы.
Поворот.
– Памятник Суворову, – кивнул шофер. – Да, были люди.
– Да бросьте… Люди как люди. Разные.
– И то верно, – немедленно согласился таксист. – Вот гляди. Слева Инженерный замок начинается… В нем Павел-царь прятался. Все равно нашли и придушили. Свои люди, придворные. Не на кого было положиться. Правда, что люди разные бывают…
Шофер повернул голову и посмотрел на пассажира. Его глаза весело блестели, отражая свет фонарей.
– Или вот еще. Обхохочешься! Утром бабку я взял на Пушкарской. Говорит, вези меня в Заячью Рощу. Я спрашиваю, где же, бабуля, такая Заячья Роща? А она – ты что, не питерский, не знаешь? Гони в центр, а там подскажу… И куда, думаешь, мы приехали? На улицу Зодчего Росси. Вот тебе и Заячья Роща. Поработай так.
Разные люди, разные…
Срезалась гладь асфальта, и машина покатила по диабазовым плитам.
– Скоро Невский. Дальше куда?
– Обратно. В гостиницу, – произнес Глеб.
Таксист, нисколько не удивившись, произнес:
– Хозяин – барин. Будет сделано.
Через несколько минут такси остановилось у постамента с бронзовым корабликом.
– А насчет Заячьей Рощи – я где-то уже читал эту байку, – Глеб расплатился и вылез из машины.
Полочка, на которой хранился ключ от номера, была пуста.
– К вам подселили, – оповестила дежурная. – Тоже участник вашей конференции.
Скрывая досаду, Глеб направился к лифту.
Все три кабины томились в гостеприимном ожидании.
Сонная лифтерша вопросительно посмотрела на Глеба: куда?
Поднявшись на этаж, Глеб приблизился к своему номеру и постучал.
– Да-да! – воскликнули за дверью.
Глеб вошел и поздоровался.
На кровати сидел рыхлый мужчина в майке. Правое плечо его стягивал уродливый застарелый рубец. А круглое лицо дружески улыбалось, редкие крупные зубы сжимали обкуренный мундштук.
Мужчина вынул мундштук и положил его в пепельницу.
– Добрый вечер. Меня зовут Петр Петрович Олсуфьев.
***
Из показаний свидетелей по делу № 30/74.
Свидетель С.П. Павлиди, отец свидетельницы А. Павлиди:
«…Я – честный человек. И дочь свою, Алену, воспитывал такой же. Сюда я пришел по ее повестке: Алена уехала в командировку в Харьков. Я хочу сказать по существу дела. Дочь моя была очень обеспокоена случившимся с Глебом Казарцевым. И со всей принципиальностью и прямотой отнеслась к своему гражданскому долгу. Но эта поездка в Харьков… Ее приятель Никита Бородин дал ей слово, что сам все уладит, честно обо всем расскажет, пусть Алена не беспокоится и отправляется в командировку. Никита передал ей записку. Вот эта записка: “Алена, поезжай спокойно. Все, что касается истории с Глебом, я улажу сам. Обещаю. Кит”. Такое у него прозвище, Кит. Прошу эту записку приобщить к делу».
После обеда Никита обычно уходил к себе. Он садился в старое кресло, закуривал и размышлял. Например, по каким законам жизни именно этот тип, Скрипкин, стал его начальником. А не кто другой из уважаемых Никитой людей.
Правда, последнее время все упорнее циркулировали слухи, что Скрипкина от них уберут. И поставят другого. Поговаривали, что это будет человек из своих, а не варяг. Но кто? Кандидатура Никиты была самой подходящей. А сто девяносто в месяц – это не баран чихал, такой оклад на улице не валяется. Так что повод для размышлений у Никиты был, и довольно приятный.
Да! Жизнь – великий селекционер: каждый в итоге занимает то место, которого он достоин. Рано или поздно.
Только вот сигареты, к сожалению, были сырые. С трудом раскуривались. Можно было у матери одолжить, да лень вставать. Вообще, из этого кресла он поднимался тогда, когда совсем припирало…
Он протянул руку и положил несколько сигарет на теплый колпак настольной лампы – пусть подсохнут. Теперь он думал о том, что жаль, Алена в отъезде. Неплохо бы с ней поделиться о возможных перемещениях в иерархической лестнице отдела. Только у нее глаз черный, греческий, еще сглазит.
В передней раздался звонок. Никита досадливо поморщился. Опять гости к матери!
Грохнули тяжелые банковские засовы – наследство бабушки-профессора. Обычно после этого доносились взрывы смеха, поцелуи. В этот раз было тихо.
Никита вытянул шею, прислушался.
– Мама! – крикнул он. – Кто там?
Дверь отворилась – на пороге стояла Вика.
Длинное пальто, рыжая пушистая шапочка, два огромных серых глаза…
– Господи! – засмеялась она. – Кит, ты все в том же кресле, в той же позе! Ведь прошел почти год.
Вика сорвала с головы шапку, выстрелив в сторону коридора брызгами воды. Потом запрыгала на месте, сбрасывая пальто:
– Помоги, еще муж называется!
Никита справился с замешательством и демонстративно медленно выбрался из кресла.
– Не ждал?
– Признаться, довольно неожиданно.
– Я по делу, ненадолго, – Вика оглядела комнату. – Все тот же кавардак! – и перевела глаза на Никиту.
Взгляд ее неторопливо сполз с широкого его лица вниз, по махровому халату, к стоптанным домашним туфлям с дырой у большого пальца.
– Ты все такой же. Только потолстел… А как ты находишь меня? Вика крутанулась, разметав жесткие черные волосы, прошлась по комнате легкой походкой. Ей очень шло это простенькое темное платье.
– Все такая же. Как игла, – скучно произнес Никита и плюхнулся в кресло. – У тебя есть курить?
– Найдется.
Вика извлекла из сумки сигареты, бросила их Никите.
– Мои что-то отсырели.
– Немудрено, – Вика бросила и зажигалку.
Подошла к стулу и наклонила его. Груда газет и журналов сползла на пол, обнажая красную обивку сиденья. Села, вытянув длинные стройные ноги в коричневых сапогах.
– Так вот, Кит. Я замуж выхожу.
– Поздравляю, – Никита почувствовал легкий укол в сердце.
– Мне нужен официальный развод.
– За чем же дело стало?
– За тобой.
– Пожалуйста! – с наигранной веселостью воскликнул Никита. – Сколько угодно.
– Я и не сомневалась в этом, Кит… Только надо сделать как можно скорее.
Никита наконец прикурил.
– А что, жених сбежит?
– Не исключено, – засмеялась Вика. – Договорились? Завтра же… Там надо заплатить какие-то деньги, я не знаю, сколько. Но если у тебя нет, я дам.
– Разбогатела?
Вика помолчала и произнесла упрямо:
– Я дам.
Никита выпустил колечко дыма, второе, третье… Кольца разбухали, поднимаясь к потолку, догоняя друг друга.
– Лучше бы сапоги починила. Подошва отваливается.
Вика подтянула ноги, точно ее ударило током.
– Наблюда-а-ательный, – в голосе ее, деловом и решительном, прорвались детские ноты.
В коридоре слышались шаги матери. Но войти она так и не решилась.
– Послушай, почему ты ушла от меня?
– Разлюбила.
Никита кашлянул. Он вспомнил, как ждал ее возвращения. У Вики в городе не было никого, ей негде было ночевать. И Никита был уверен, что она вернется… А прошло больше года.
– Куда ты тогда ушла?
– В общежитие, к девочкам.
– Думал, ты уехала к себе в поселок.
Помолчали.
– Почему же ты меня разлюбила?
– Надоел.
– Вот как, – усмехнулся Никита. – Интересно, чем?
– Всем, – Вика встала. – Извини меня, Кит, но зачем темнить, верно? Возможно, это пойдет тебе на пользу. Я так была бы рада!
Она шагнула к дивану, на котором валялось ее пальто.
– Не уходи, – тихо произнес Никита. – Посиди.
Вика тут же вернулась на свое место, словно ждала этой просьбы. И Никита был рад, что Вика осталась: помня ее характер, он на это не надеялся. Опершись руками на подлокотники, он извлек себя из кресла и, разминаясь, сделал несколько шагов по комнате.
Он чувствовал на себе взгляд Викиных глаз.
– Кофе будешь?
– На подоконнике, как прежде?
Никита шутливо погрозил ей пальцем и вышел.
Вика достала зеркальце. Большие круглые глаза глядели задумчиво и тихо. Она провела платочком по лбу, щекам, поправила волосы и спрятала зеркальце.
Никита вернулся. Он снял халат. В глухом голубом свитере с круглой своей стриженой головой он напоминал водолаза в скафандре. Только шлепанцы он так и не сменил – не хватило воли. На широком деревянном подносе стояли две чашки, кофейник, сахарница и пачка вафель.
– Чем же ты сейчас занимаешься?
– Учусь, Кит. В финансово-экономическом.
– Выходит, послушала меня?
Вика надкусила сахар и сделала маленький глоток.
– Нет, не послушала. Ты хотел, чтобы я пошла в зубоврачебную школу.
– И правильно. Хорошая специальность.
– Весь день смотреть в чужие рты? Бр-р-р…
– Привыкла бы.
Помолчали.
Они познакомились в летний субботний день. Вика приехала поступать в финансово-экономический, но не прошла по конкурсу и работала на стройке учетчицей, жила в общежитии. Через неделю они зарегистрировались, через год – разошлись. То есть, вернувшись с работы, Никита увидел записку с коротким словом:
«Надоело…» Никита поставил чашку с остывшим кофе на поднос.
– А не остаться ли тебе здесь? – произнес он в сторону черного ночного окна.
Вика изумленно посмотрела на Никиту:
– Чудак человек… Я ведь замуж выхожу!
– Чепуха. Вызовем такси, привезем твой чемодан. Лады?
Вика захохотала. И кофе стал плескаться из чашки в блюдце.
Она поставила чашку на поднос и захохотала еще громче.
Никита терпеливо ждал, уставившись в окно.
– Нет, Кит, ты неисправим. А кто говорил мне, что я без тебя пропаду, кто? Да-а-а… Самое удивительное, Кит, что, вернись я сюда, ты продолжал бы жить так, словно и не было этого года. Господи, какая я молодец, что сбежала от тебя! И как мне это было трудно сделать! Одна. Без денег. Спасибо девчонкам, помогли… Она встала и походила по комнате. Никита следил за ней чуть прикрытыми глазами.
– У нас в школе был ученик. Все он знал обо всем. Слушать его было удовольствие! Даже учителя любили с ним болтать. Но двоечник он был первейший… Недавно встретила его. Мебель развозит по домам. Эрудит! И он мне говорит: «Я, Вика, нашел свое место». А я подумала: умница, понимает. Поэтому жизнь не портит ни себе, ни другим…
– Ну и что? – снисходительно спросил Никита.
Вика закинула руки за голову, замком сцепив пальцы на затылке.
– Кит, все-то ты знаешь, всем советы даешь… Почему же сам такой несчастный?
– Я – несчастный? – Никита возмущенно потер ладонью свой большой нос. – Дура ты, Вика!
– Я не дура, Кит. Тебе так хотелось обезволить меня, подчинить. А я вырвалась, все поняла. Ты ведь сам-то не живешь по рецептам, которые раздаешь… Один мой знакомый…
– Грузчик-двоечник?
– Нет, другой. У меня много знакомых… Он советовал всем лечиться только у хирургов, а сам плакал из-за чепуховой грыжи.
Никита хлопнул ладонями:
– Вспомнил! Я тогда проект должен был защищать!
– У тебя на все есть причины, Кит. Заяц ты и размазня!
– Заяц? – задохнулся от обиды Никита. – А кто спасал тебя на водной станции, кто?! Извини, я не хотел об этом. Ты заставила вспомнить.
– Во-первых, не вспомнил, а помнил. Разница!
Вика внезапно замолкла, резко обернулась и шагнула к Никите.
Взяла его большую, мягкую белую ладонь:
– Извини меня… Извини меня, добрый Кит. Я очень люблю того человека, за которого выхожу замуж. И люблю давно. Еще до знакомства с тобой. Прости меня, мой несчастный Кит. Но что я могу с собой поделать?
Никита сжал веки, пытаясь подавить предательские слезы. Резко повел головой в сторону.
– Наговорила, наговорила, – тихо вымолвил он.
– В том много правды, Кит. Извини.
Она бросилась из комнаты, волоча по полу длинное пальто.
В полутьме коридора мелькнула тень, хлопнула дверь в комнату матери.
Вика натянула пальто.
– Передай привет маме. Я очень рада была ее повидать. И тебя тоже.
Никита кивнул. Верхняя губа его совсем спряталась под нависший нос.
– Ты вот что, Вика… С разводом этим… Я сделаю. Позвони только, скажи, когда…
Вика коснулась губами мягкой щеки Никиты и бросилась по лестнице вниз. Перестук ее сапог становился все глуше и глуше.
Хлопнула входная дверь подъезда.
Никита постоял, глядя в лестничный проем, затем накинул железный крюк и ушел к себе.
***
Из допроса Г. Казарцева, обвиняемого по статье 211, часть 2, УК РСФСР и статье 127, часть 2, УК РСФСР:
«…Его звали Олсуфьев, Петр Петрович. Доцент. Физик. Олсуфьев записался на выступление в прениях одним из первых. Но уступил мне свою очередь и согласовал это с председателем. Я это расценивал как большую удачу, как знак судьбы… Вообще, встреча с Олсуфьевым оказала на меня… Не знаю, он до сих пор стоит у меня перед глазами…»
Они свернули на Фонтанку. По зеленовато-серой воде неслись две моторки. Одна из них настолько вылезла носом из воды, что казалось, вот-вот взлетит.
Через мгновение лодки скрылись за поворотом. Волны дотанцовывали у гранитных боков набережной.
– Не понимаю, проходим уже которую ресторацию, – ворчал Глеб. – Вы не заблудились?
– Потерпите. Я приведу вас куда надо. Эти места мне знакомы, поверьте, – отбивался Олсуфьев.
Тяжелый портфель оттягивал его руку. Глеб пытался предложить свои услуги, но Олсуфьев отказывался:
– Вы сегодня именинник, Глеб. Шагайте налегке.
Глеб и впрямь чувствовал себя необыкновенно хорошо: его доклад произвел впечатление. Он чувствовал по той тишине в зале, по вопросам, которые ему задавали, по уважительным взглядам. Олсуфьев остановился у перил, поставил портфель на плиту парапета.
– Вам нравятся эти два дома? – спросил он.
– Продаете?
Глеб оглядел дома. Один – четырехэтажный. Эффектные три оси, обрамленные пилястрами, выделяли фасад. Над пилястрами, в овальных каменных венчиках, какие-то символы – вероятно, герб бывших владельцев. Высокая мансарда в стиле барокко. Дом примыкал ко второму, тоже четырехэтажному, но совсем иной, более современной архитектуры.
Из-под арки вышла девочка в школьном фартуке.
– Девочка! – окликнул Петр Петрович. – Что это за дом?
– Фонтанка, 14, – с готовностью ответила девочка.
– А раньше как он назывался?
– При царе? Дом Олсуфьевых.
– Ну как? – спросил Петр Петрович, улыбаясь.
– Почтенно, – ответил Глеб.
– Теперь вам понятно, откуда эти места мне знакомы? Мой двоюродный дед был последним владельцем дома Олсуфьевых. Именно из мансарды этого дома моя милая матушка в одна тысяча девятьсот шестнадцатом спустилась с годовалым Петенькой на руках, чтобы никогда не возвращаться сюда. И поселилась на Гороховой – в ожидании, когда вернется из Нижнего Тагила ее муж, ссыльный политический Петр Егорович Олсуфьев.
– Понятно. Значит, вы из бывших?
– Как видите, из всяких. Но главное – коренной петербуржец, а не какой-нибудь там командированный, – Олсуфьев дружески тронул Глеба за плечо.
– Вы и в блокаду здесь были? Или воевали?
– И воевал. И в блокаду был. Все было… А в Москве я живу только пять лет. И никак не привыкну.
Суровый швейцар вежливо принял их вещи.
Ресторан был полуподвальный, небольшой, столиков на двадцать. Глеб и Олсуфьев сели у окна, треть которого зарывалась в землю. И в полный рост на улице видны были только дети, а взрослые – лишь до пояса. Впрочем, улица была тихой, и пешеходы внимания не привлекали.
– Когда-то здесь была отличная кухня.
Глеб смущенно подумал, что денег у него осталось всего ничего.
Олсуфьев засмеялся:
– Понимаю, понимаю… Угощаю.
Глеб возразил, но затем пожал плечами и умолк. Приняв заказ, официантка отошла. Олсуфьев бросил на стол сигареты, спички, мундштук, налил из сифона шипучей воды.
– Люблю красивую жизнь. Потом мы отправимся в театр. Или в кино. Я сведу вас в старый синематограф «Пикадилли» на Невском. Сейчас он называется кинотеатр «Аврора». Там за углом, на Малой Садовой, жил мой приятель, отличный физик Аржанов.
Он умер в блокаду. Замерз на улице, на пороге своего дома…
За соседний столик сели девушка и молодой человек. В руках у девушки были прекрасные белые гладиолусы. Лепестки, широкие снизу, ступеньками сужались кверху по длинному стеблю. Девушка задумчиво перебирала пальцами лепестки, точно взбиралась по лесенке.
Официантка поставила бутылку коньяка, салат, селедку и еще что-то, запеченное в тесте.
Глеб нацелился на селедку – очень уж аппетитно она выглядела.
– А я в той «Авроре» играл на рояле. Теперь-то из-за руки не очень…
Глеб хотел спросить, что с рукой, но постеснялся. На фронте, наверно, известное дело.
– Меня ранило под Тосно. В плечо. И привезли в Ленинград, в госпиталь. Первая блокадная зима.
Олсуфьев придвинул пачку, достал сигарету и принялся заправлять ее в мундштук.
Девушка за соседним столом чему-то улыбалась. А парень хмурился.
Глеб ел мясо и думал, что, пожалуй, Олсуфьеву пить много не следует. Он быстро пьянеет.
Сок прорвался в вилочные проколы и вытекал четырьмя светлыми ниточками. Вкусно хрустели завитки жареного лука, золотистые и пряные.
– Такой лук называется гриль, – произнес Олсуфьев. – Прекрасная штука жареный лук… В блокаду специальные агитаторы разъясняли людям, как надо съедать свой паек хлеба. Сто двадцать пять граммов в сутки.
Раздался стук упавшего стула.
Девушка бежала по проходу, а молодой человек смотрел перед собой, в пространство, оставаясь сидеть на своем месте. Длинные голубые его штанины торчали из-под стола.
Олсуфьев укоризненно покачал головой:
– Поспешите, молодой человек. Догоните ее. Извинитесь.
Парень строго свел светлые брови:
– Стимула нет. Ясно, дед?
Олсуфьев изумленно оглядел его.
– Ясно, – вымолвил он. – Кстати, стимул – это остроконечная палка, чтобы погонять скот. У древних греков. Ясно?
– Неясно, – дерзко ответил парень и не торопясь направился к выходу.
Через некоторое время за окном промелькнули голубые его штаны.
Глеб и Олсуфьев засмеялись. Подошла официантка:
– Вам посчитать?
– Нет! – воскликнул Олсуфьев. – Мы еще посидим.
– Петр Петрович…
Глеб незаметно качнул головой: не надо. Официантка сделала знак, что все поняла, положила счет на край стола и отошла.
– Сейчас, сейчас. Посидим и пойдем. В гостиницу. Спать. Завтра мне выступать на семинаре по магнетикам… Ну вы сегодня и выдали! Я слушал и млел. Голова! Далеко пойдете, поверьте моему нюху. У вас есть знаете что?
– Что? – как бы равнодушно проговорил Глеб.
– Не притворяйтесь. Вам это интересно. И льстит.
– Я не притворяюсь.
– Вкус. Я сразу понял. С какой корректностью вы обращались с законом Кюри! Ровно столько, сколько надо. Это говорит о хорошем экспериментальном вкусе. Хотите я повторю вашу формулу?
Олсуфьев выхватил из бокового кармана ручку, порыскал взглядом по столу, заметил счет, перевернул его, пытаясь что-то начертить.
Глеб потянул счет к себе. Бумага зацепилась за острие пера и разорвалась.
– Ну вот… Придется ей снова выписывать, – огорченно произнес Глеб.
Олсуфьев швырнул ручку на стол и сцепил замком бледные болезненные пальцы.
Глеб соединил обе половинки счета. Кажется, у него хватит денег. Он полез в карман. Олсуфьев быстрым движением опередил Глеба – выложил на стол коричневое портмоне.
– Глеб, Глеб… Вы – гость! К тому же пока я получаю несколько больше вас… Так вот, после госпиталя меня комиссовали. Из-за руки. Я жил на Гороховой. Перебивался, как все. Ходил в университет, в мастерские – там изготовляли зажигательные бутылки. Словом, забот хватало. А больше, конечно, лежал в морозной комнате. Мама умерла от голода. Вообще в нашем доме все перемерли. Или куда-то исчезли. Кроме меня и соседа напротив.
Подошла официантка. Но Олсуфьев ее и не замечал – он всем телом повернулся к Глебу, его захватили воспоминания.
– Я не знал, чем занимается этот сосед, но на фронт его не взяли… Мы жили вдвоем в общей квартире на первом этаже пустого и холодного дома. Два дистрофика… Однажды, в начале января, я пришел домой. Обычно я хранил хлебную карточку во внутреннем кармане пиджака. Так и спал: в шубе, в пиджаке. И вдруг я обнаружил, что карточки в кармане нет. Новой карточки. Хлебной. Не знаю, поймете ли вы, но потеря карточки – это смерть. Единственное, что нас еще связывало с жизнью, – это кусок бумаги с квадратиками чисел. На сто двадцать пять граммов муки вперемешку с отрубями. В сутки! Без них нельзя было выжить.
Карточку не восстанавливали…
И тут меня осенило. Я ведь мог выронить ее в коридоре. Полез в карман и выронил. Обессиленный волнениями, я едва вышел в коридор. И услышал, как со скрипом прикрылась дверь его комнаты… Карточки нигде не было видно. Я подошел к его двери, толкнул. Мы тогда уже не стучались друг к другу. Не было необходимости, да и сил…
Олсуфьев вдруг вспомнил о коньяке. Он плеснул остатки в рюмку, поднес к губам, сделал маленький глоток и вернул рюмку на стол.
– Удивительно, с какой четкостью я помню все те обстоятельства. А прошло столько лет… Сосед стоял, привалившись к буфету. Огромному грязному буфету с выломленными на топку дверцами и боковиной. В черных валенках, в длинном тулупе. Голова его была обмотана женским платком. «Скажите, вы не находили мою карточку? – спросил я его. – Обронил где-то».
По тусклому блеску в его глазах, по долгому молчанию, по судорожно сжатой руке я понял: карточка у него. «Какая еще карточка?» – наконец вымолвил он. «Хлебная. Январская. Я обронил ее в коридоре». Он молчал. Он боролся с собой. Он понимал, на что обрекает меня, и ничего не мог с собой поделать. Из его глаз ползли желтые ледяные слезы. Я видел их. Но он, вероятно, их не чувствовал… Так мы простояли довольно долго. Он, видимо испугавшись, что я стану его обыскивать, прижался к стене и смотрел на меня блестящими глазами. Знаете, у голодного человека глаза блестят по-особенному. «Уходите, – наконец произнес он. – Все равно вы умрете. Мы все умрем. Но вы раньше: вы ранены, я знаю».
Потом в его затуманенном голодом мозгу что-то проявилось, и он пробормотал: «Простите меня… Я ничего не могу с собой поделать». Это было последнее, что я расслышал. Я потерял сознание. Когда я очнулся, комната была пуста. Я поплелся к себе. Взобрался на кровать. Теперь мне вообще некуда было идти. Сколько я пролежал, не знаю. Меня нашла бригада спасателей.
По мере того как Олсуфьев рассказывал свою историю, лицо его становилось печальным и задумчивым.
– И вдруг в прошлом году я встретил его. Нос к носу. На Пискаревке. Представляете?
– Может быть, вы ошиблись? Прошло столько лет.
– Ошибся? Не-е-ет… Его глаза врезались в мою память навечно. И у него примечательная форма головы, я ни у кого больше не встречал такой: сдавленная как-то по-особенному в висках и вытянутая вверх. Знаете, Глеб, что меня поразило больше всего? Ситуация! Пискаревское кладбище, святая святых для каждого ленинградца. Особенно блокадника, сами понимаете. И вдруг – он!
– Ну… если он человек не совестливый, – усмехнулся Глеб, – визит его на Пискаревку – лишь прогулка на свежем воздухе. А возможно, он просто циник и подонок.
– Нет-нет! – Олсуфьев замахал руками. – Вы ошибаетесь. Я видел его глаза… Грех жжет его душу! Чувство страшной вины. Что может быть страшнее терзания души совестливого человека? От этого никуда не деться, не скрыться. Не дай бог вам испытать подобное!
– Ну и что? – громко перебил его Глеб.
Олсуфьев в недоумении взглянул на него.
– Чем же вас поразила эта встреча? – так же громко повторил Глеб.
– Я так был ошарашен встречей, что с трудом пришел в себя… Поначалу я, глупая голова, хотел обратиться к администрации, чтобы его прогнали с Пискаревки… Арестовали… Черт знает какие дурацкие мысли мною овладели! Хотел его догнать, отвесить оплеуху…
Олсуфьев задумался.
– А потом… Что моя месть в сравнении с теми муками, которые терзают его все эти годы? Ведь он не преступник. Он слабовольный человек, сознание которого затмил голод. И единственный, кто мог ему помочь, – это я. Великодушие – это удивительная радость, отпущенная человеку, Глеб. Великодушие во сто крат сильнее мести. Вот я и хотел признаться ему, что, дескать, жив я, не умер тогда. Нельзя же так мучить человека за то, в чем, по существу, он не виноват. Ибо содеянное им было помимо воли его, я убежден… Конечно, были и другие люди – Алеша Аржанов, например… Но что делать, он был таким… Это сложный вопрос, Глеб. Но уверен в одном: крест свой ему нести всю жизнь… Если, как вы заметили, он не подонок и не циник.
Глеб взглянул на круглое, доброе лицо Олсуфьева. Бывают же такие лица, с мягкой складкой у пухлого рта… Олсуфьев был совершенно трезв. И печален.
– Надо мне его разыскать, надо, – ответил Олсуфьев на взгляд Глеба. – Имени его, как на грех, не помню. И в доме нашем никого из старых жильцов не осталось… Надо его найти. Ведь находят, я знаю. Через газету или еще как-то… Ладно! Ну его к бесу, кинотеатр. Отправимся лучше в гостиницу.
Казалось, здания пытаются зарыться в темный ночной туман и лишь огни окон и фонарей удерживают их, точно кнопками, не дают спрятаться…
Весь долгий путь до гостиницы они молчали.
У самого подъезда Олсуфьев задержался.
– А может, я неправ, а? Может, и верно говорят: око за око? Почему я должен мучиться за него? Мало мне своего пережитого? Как вы думаете, Глеб? Может, не искать его, черт с ним? Пусть тащит свой крест, раз ему так суждено!
Глеб молчал.
Олсуфьев тяжко вздохнул и пробормотал:
– Вот несчастье-то свалилось так несчастье.
***
Из допроса Г. Казарцева, обвиняемого по статье 211, часть 2, УК РСФСР и статье 127, часть 2, УК РСФСР:
«…Я часто ловил себя на том, что мысли мои занимал Олсуфьев. Непостижимо! И какое мне дело до его жизни, до проблем, которыми он отягощен? Я старался забыть Олсуфьева, но нет более лучшего способа запомнить, чем стараться забыть… К тому же судьба распорядилась так, что наши отношения с Олсуфьевым продолжались. Мое сообщение на конференции вызвало интерес. Японские специалисты – гости конференции – пригласили группу наших товарищей посетить Токийский технологический институт. В группу включили и меня с Олсуфьевым.
Заботы, связанные с оформлением загранкомандировки, как-то отвлекли меня. Я радовался командировке. Читал книги о Японии, интересовался бытом, историей, искусством, научными достижениями в интересующей меня области. Предстоящая поездка поглотила меня целиком. И все, что ожидало меня после этой поездки, представлялось еще более расплывчатым и далеким… Да существовала ли вообще эта Менделеевская улица?!»
После ярко освещенной электрички темнота казалась неестественной и шершавой. Даже когда глаза привыкли, Глеб с трудом мог угадать контуры спины идущей впереди переводчицы Митико Канда. Воздух, настоянный какими-то растениями, густой и пряный, обволакивал лицо, слабым ветерком поглаживал волосы. И тишина, деревенская, пронзительная.
Митико уходила вперед. Потом останавливалась и, посмеиваясь, поджидала.
– Она тут ориентируется по запаху, – ворчал Олсуфьев. – Лично я, кроме твоей белой рубашки, ничего не вижу. Представить только себе, что мы в Токио, рассказать – не поверят. И это после Гинзы!
Митико уловила знакомые названия и затараторила:
– Нет. Не Гинза. Это Сугинамику. Тут живут студенты, учителя.
– Понятно, – отозвался Олсуфьев. – Те, кто сеет разум и свет.
Митико не поняла иронии Олсуфьева.
Центр пересечения улиц обозначался фонариком, торчащим прямо из асфальта тревожным красным грибком. Как ни странно, именно в контрасте между бликом фонарика и темнотой Глеб стал яснее различать контуры небольших коттеджей, что выглядывали из крон деревьев. Тротуаров не было, и сиротливые автомобили прижимались прямо к каменным оградам.
Митико толкнула калитку, и они прошли тесным коридорчиком к дверному проему, мимо окон, забранных полупрозрачной бумагой.
Глеб и Олсуфьев скинули туфли и надели деревянные сандалии. Хозяин дома, отец Митико, – длинный худой японец в сером кимоно – почтительно поклонился гостям и вежливо пропустил их вперед, в маленькую гостиную. На низком столике рядом с подсвечником лежала толстая книга. Стены гостиной почти полностью были заставлены книжными полками, оставляя свободным угол, в нише которого размещался миниатюрный гонг подле бронзового Будды, что тускнел зеленоватой патиной.
– Очень, очень я рад гостям, – произнес Сюити Канда по-русски, что было приятной неожиданностью. – Наша семья все немного говорят по-русски. Я был в плену во Владивостоке, – и добавил, улыбаясь: – Такие пироги, елки-палки!
Они прошли в другое помещение. Вдоль стены рядом с газовой плитой на веревках висела кухонная утварь. Низкий столик был заставлен всевозможными яствами.
Глеб и Олсуфьев смущенно улыбались. Улыбался и Сюити-сан, улыбалась и его жена – женщина, которой одновременно можно было дать и шестьдесят лет, и двадцать. Она повела руками, приглашая гостей сесть на жесткие продавленные подушки.
За несколько дней пребывания в Японии Глеб еще не успел разобраться в назначении многочисленных тарелочек, которые подавались к столу. Поэтому старался обходиться одной – так было надежнее. Да и на палочки он поглядывал без особого воодушевления…
– Митико сказала, что вам хочется попробовать настоящей японской пищи. Кушайте, пожалуйста, – ободрял хозяин, извлекая из шкафа трехлитровую бутыль.
Глеб уже знал, что в такой посудине японцы держат рисовую водку, терпкую и невкусную.
Хозяин сдвинул металлическую прищепку, вытащил пробку и принялся разливать саке по стаканам.
– О, русскую водку я первый раз попробовал в плену. А еще мы пили… э… чифир. Пачка чая на стакан воды.
– Вы неплохо жили в плену, – Олсуфьев дружески кивнул хозяину. – В те годы не каждый мог себе позволить пачку чая на стакан воды.
– Да. Запутанное было время, – согласился хозяин и что-то быстро проговорил по-японски.
Женщины принялись наполнять тарелки гостей едой. Поначалу они обложили края тарелки сушеными темно-зелеными водорослями. Кусочки белой рыбы чередовались с золотисторозовой.
Митико придвинула блюдце со светлым соусом, палочкой поддела рыбу, обмакнула в соус. Глеб смело последовал ее примеру. Язык брезгливо спрятался от сырого болотного духа. «Как они могут есть подобную дрянь?!» Он искоса взглянул на Олсуфьева.
Тот, хитрец, прикрыл глаза, словно наслаждался едой.
– Европейцы не сразу привыкают к нашей кухне. Но когда привыкнут… – и хозяин громко рассмеялся. – Японцы едят рыбу полусырой. Не успевают ее как следует прожарить: то наводнения, то землетрясения.
– Наоборот. Известно, что именно японцы склонны к неторопливому размышлению, – подхватил Олсуфьев. – Я даже видел книгу, в которой среди текста встречаются чистые страницы.
Специально для размышлений.
– Это уловка. Писатели делают вид, что доверяют читателям, что не хотят навязывать до конца свои мысли. Читателям приятно. Люди истосковались по доверию, – хозяин лукаво прищурился. – Делать приятное выгоднее, чем делать зло…
Глеб не вникал в беседу. В его сознании все перемешалось пестрым клубком. Фразы, запахи, уличная толпа в Гинзе, деревенская тишина Сугинамику. Временами эти картинки куда-то проваливались, и память упрямо возвращалась к Менделеевской улице… Если бы он тогда не удрал, если бы остановил мотоцикл! Что же ему помешало? Страх? Нет, он точно знал, что страха не было. Стыд! Стыд парализовал его волю. А что такое стыд?
Признание собственного бессилия?
Глеб уловил смысл разговора, который вели между собой Олсуфьев и хозяин дома. Как возник этот разговор, Глеб не понял. Видимо, все началось с американской сигареты, которую хозяин предложил гостю. Длинная, с золотистым ободком, она приятно курилась ароматным и легким дымком, наращивая стойкий столбик пепла.
– Я потерял в Хиросиме двух братьев, – мягко улыбался Сюити-сан.
Японцы самую большую беду вспоминают с улыбкой, дабы не огорчить своим настроением собеседника. Олсуфьев улыбнулся, точно перенимая эстафету:
– Да. Это большое горе для многих японцев.
– Для многих японцев, – подхватил хозяин и добавил: – Но не для Японии… Для Японии Хиросима обернулась неожиданной стороной. Взрыв подхлестнул Японию. Зло Хиросимы обернулось техническим прогрессом. Бомба – серьезный стимул, – Сюити-сан развел руками и улыбнулся. – Без жертв не бывает войн, если человечество настолько безрассудно, что допускает войны. Исправить человечество, видимо, нельзя. А если так, то разумнее извлечь урок из опыта Хиросимы. Прочистить мозги, возбудить здоровые инстинкты…
– При условии, что в этот котел не попадете вы сами, лично, – сухо перебил Олсуфьев.
Митико, смущенная оборотом, который приняла вдруг беседа, пригласила гостей осмотреть дом. Раздвинув двери, она предложила взглянуть на сад. Правда, выходить в сад было рискованно:
слишком тесно, точно декорация кукольного спектакля…
Чувство нереальности происходящего овладело Глебом. Почему Япония? Значит, на самом деле в мире существует Япония, и он, Глеб Казарцев, сейчас находится в этой самой Японии, за тысячи километров от дома.
За спиной тоненько прозвенел колокольчик. Глеб обернулся. Сюити Канда стоял в углу комнаты, смиренно прижав к подбородку сложенные ладони. Немигающий взгляд его был устремлен в глубину ниши, где тускнел патиной бронзовый Будда.
– Отец просит прощения у духов своих братьев, погибших в Хиросиме, – пояснила шепотом Митико.
Олсуфьев лишь пожал плечами…
С площадки последнего вагона сквозь распахнутые двери тамбуров было видно, как изгибается на поворотах ярко освещенное тело поезда метро.
Глеб считал остановки. Им надо выходить на девятой. Следующая как раз и будет девятая – Гинза, центральный район Токио.
Глеб отпустил свисающую с потолка ручку, и та мгновенно отпружинила в сторону, чтобы не мешать проходящим.
Следом за Глебом вышел Олсуфьев.
Спать не хотелось, несмотря на поздний час.
Фейерверк реклам был уже усмирен, и каркасы стендов казались обгорелыми. Лишь на куполе многоэтажного универмага «Мицукоси» продолжал вращаться оранжево-голубой шар. Да еще аспидно-красный трилистник венчал стеклянный параллелепипед банка «Мицубиси»…
Глеб и Олсуфьев свернули на какую-то боковую улочку. В нос ударил горьковатый запах жареного сала. Вереницы дремлющих автомобилей прижимались к стенам невысоких домов. Из распахнутых дверей игорных заведений слышались возбужденные голоса. Все эти боковые улочки были похожи друг на друга, словно елочные бусы.
– Черт возьми, – проговорил Олсуфьев. – Просит прощения у погибших братьев, а сам… Поразительно! – Олсуфьев все больше распалялся. – Он думал сразить меня логикой… Жаль, я ему не ответил. Постеснялся.
– И что бы вы ему ответили?
– Как что, как что?! – Олсуфьев взглянул на Глеба. – Найти рацио в Хиросиме, это ж надо!
Он махнул рукой и направился к отелю. Глеб видел, как его крепкая фигура растворилась в сиреневой манящей глубине.
Мягкое кресло уютно обхватывало тело. В раздвинутые створки окна дышал ночной город. Изредка тишину вспарывали пулеметные очереди перфораторов – где-то велись ремонтные работы.
Глеб включил телевизор. Шла прямая трансляция матча на звание чемпиона мира по боксу среди тяжеловесов. Один из них, высокий, со скошенной челюстью, напоминал гуся. Второй – блондин в голубой майке, с темным шрамом над бровью.
В углу экрана бесновались цифры – до конца раунда оставалась минута.
Глеб загадал: если этот раунд выиграет высокий боксер, то все будет в порядке. Все-все-все! Если выиграет высокий, похожий на гуся, все обернется для Глеба благополучно. Ведь прошло уже три месяца. Три месяца и три дня. И все тихо, спокойно, словно ничего и не случилось…
До конца раунда оставалось полминуты.
Высокий боксер нырком ушел от сокрушительного удара.
До конца раунда оставалось пятнадцать секунд. Глеб уже не смотрел на боксеров. Он не мигая следил за световым табло. Конечно, он напрасно поставил на этого гуся. И вообще глупо! После происшествия на Менделеевской улице прошло три месяца и три дня – срок немалый…
Световое табло остановило свой бег. Гонг!
Глеб резко увеличил звук, и гостиничная комната наполнилась ревом зрителей далекого нью-йоркского зала «Медисон-сквер гарден». Боксеры сидели в противоположных углах ринга, жадно заглатывая воздух и свирепо грозя друг другу кулаками.
Этот раунд по очкам выиграл блондин. Бой продолжался.
Глеб огорченно выключил телевизор.
– Глупость, – бормотал он вслух. – Сплошная ерунда. Сплошная ерунда… Спать, спать…
Он лежал на кровати в номере отеля «Гинза Токю». Рядом на тумбочке мерцал фосфором циферблат будильника. Чуть слышно шелестел кондиционер. Над изголовьем кровати висел фонарик, который включался, едва его брали в руки. Фонарик для использования в экстренных случаях: при землетрясениях, пожаре. А возможно, и бомбовой атаке. Или ракетной! Японцы все предусматривают. Уроки Хиросимы не прошли бесследно. Глеб не знал имен летчиков, сбросивших бомбу тогда, в августе 1945 года. А вот некоторые имена он знал отлично… Ферми, Оппенгеймер! Кто еще? Артур Комтон, Эрнест Лоуренс… Интересно, они тоже загадывали бы, кто выиграет раунд – гусь или блондин? Тогда, после августа 1945-го? Утром, как обычно, шведский стол. Девушка-официантка мило выговаривала по-русски слово «спасибо» и вежливо кланялась, принимая талоны на завтрак.
Глаза пощипывало от недосыпания. Глеб хмуро осматривал стол, выбирая, чем наполнить поднос. Соки, жареный бекон, рыба, салаты. Что-то наподобие сосисок. Масло, сыр, фрукты, фрукты, фрукты…
– Как спалось? – послышался голос Олсуфьева.
– Неважно, – Глеб обернулся, поздоровался.
– И мне что-то неважно. Домой пора.
Глеб не ответил и отошел к столикам. Конечно, сказывалась напряженная программа командировки. Ежедневное посещение крупных предприятий и институтов, разбросанных по стране. Позавчера пришлось лететь в Осаку, вернуться в Токио и тут же отправиться автобусом в Иокогаму. Любезные организаторы пытались втиснуть программу двух недель в десять дней, чтобы за оставшиеся четыре дня показать другую Японию: храмы, музеи. Обещали повезти в Хиросиму…
Глеб торопливо жевал завтрак. Но так и не доел. Встал из-за стола, сунув в сумку грушу и банан. Мощно урча, автобус отчалил от тротуара, сделал поворот и, плавно набирая скорость, помчался утренней Гинзой.
Путь предстоял долгий, почти через весь город.
Автобус то несся по бетонным эстакадам, то едва не касался стен противоположных домов, то пыхтел, одолевая подъем среди зарослей аралий, точно вдруг оказался в лесу, то надолго нырял в тоннель, включая полный набор ночного освещения, то шел берегом, где на радужной от нефтяных пятен воде залива дремали корабли.
Все это был Токио.
И где-то среди скопища домов затерялся всемирно известный радиотехнический концерн «Сони».
Глеб сидел в кабинете Ситао Хасигавы, ведущего специалиста в области магнитострикционного эффекта. На черном пластике стола лежал набор карандашей с надписью «Сони», рядом – блокнот, и тоже «Сони». Казалось, и лимонные лучи солнца составляли на полу четыре латинские буквы.
Господин Ситао Хасигава с подчеркнутым интересом смотрел на гостя, словно Глеб был именно тем человеком, которого он ждал долгие годы и наконец дождался.
– Что угодно Глебу-сан? Кофе, зеленый чай? – перевела Митико.
– Зеленый чай, пожалуй, – ответил Глеб.
Ему не нравился этот напиток, напоминающий плохо растворенный порошок из водорослей. Но это был национальный напиток, и Глебу хотелось потрафить хозяину… Тотчас дверь бесшумно раздвинулась, и в кабинет проникла девушка в кимоно. Она с поклоном поставила перед Глебом чашку с зеленым чаем, а перед хозяином – кофе.
Несколько минут они вежливо молчали. Глебу пришелся по душе господин Хасигава: среднего роста, с крепкими плечами, обтянутыми синей спецовкой. Черные волосы гладко зачесаны назад. Квадратные роговые очки.
– Мне двадцать девять лет, – произнес Ситао Хасигава. – Я знаю, что иностранцы теряются в догадках, когда хотят определить возраст японца. Я окончил Токийский университет. Стажировался в Массачусетском технологическом институте в Штатах. И два года руковожу лабораторией блоков памяти.
Необычное для японцев вступление к беседе Глебу понравилось.
– А мне двадцать шесть лет. Я заканчиваю университет. Но шесть лет работаю в конструкторском бюро. Из них три года занимаюсь магнитострикционным эффектом.
– О’кей! – воскликнул Ситао-сан. – Сигареты?
Они с удовольствием закурили.
– Могу вам рассказать немного о том, над чем мы работаем. Точнее, о том, что мы готовим к открытой печати.
– Естественно, – рассмеялся Глеб.
– Всему миру известно, что японцы не раскрывают своих научных секретов. И в то же время весь мир считает, что японцы ничего своего не придумывают, а пользуются уже придуманным в других странах, – иронически проговорил Ситао-сан и умолк, дожидаясь окончания перевода. – Не находите, что в этом нет логики? Скрываем то, что занимаем у других! Да? Смешно? – и его глаза улыбнулись. – Я вам подарю несколько статей с моими работами.
Ситао-сан достал несколько книг.
– Очень хорошие и нужные работы. Вообще я считаюсь одним из ведущих специалистов в своей области, – нисколько не смущаясь, говорил о себе господин Хасигава. И это звучало не назойливо, а, наоборот, с достоинством и уверенностью в себе. – В этих статьях решается ряд коренных вопросов, связанных с… Митико запнулась, подбирая нужное слово. Но термин был узкотехнический. Митико виновато смотрела на хозяина кабинета. Глеб попросил найти страницы, где печаталась статья. Ситаосан с достоинством перелистал журнал. Глеб просмотрел схему, достал русско-японский технический словарь, нашел нужное определение и показал переводчице.
– О’кей! – воскликнул довольный Ситао-сан. – Вы хороший специалист, Глеб-сан.
– Я люблю свою работу, – Глеб был доволен этим эпизодом.
– Нет-нет. Вы хороший специалист, – настаивал Ситао-сан. – Скромность не всегда полезна для дела. Вы должны твердо знать, какой вы специалист, и трезво рассчитывать свои возможности. Это важно для дела. Надо ценить себя. И беречь. Вы должны себя беречь, Глеб-сан. От этого польза не только вам, но и обществу… Глеб сдержанно кивнул. Он поднял чашку и отхлебнул глоток. Затем задал несколько специальных вопросов. Ситао-сан ответил и сам задал вопрос. Глеб ответил. Ситао-сан достал ручку и начертал в книге несколько иероглифов. Придвинул Глебу подарок.
– Спасибо! – Глеб был очень доволен подарком. Наметанный его глаз успел уловить в книге несколько любопытных схем. Он опустил книгу в сумку и нащупал прихваченные с завтрака фрукты.
– Хотите?! – Глеб достал грушу и протянул господину Хасигаве. Тот какое-то мгновение с удивлением взирал на великолепную желтую грушу. И даже растерялся. Его глаза за толстыми роговыми очками куда-то уплыли, растворились.
– Берите-берите! У меня еще есть.
Глеб достал и банан. Протянул его Митико. Та с благодарностью взяла банан и положила на стол. «Чего это они вдруг сгруппировались? – подумал Глеб. – Может, что-то не так, не по этикету?» Но в следующую секунду Ситао-сан громко рассмеялся:
– Груша?! Спасибо! Вы знаете, это мой самый любимый фрукт. С детства. И особенно этот сорт.
И он свирепо впился зубами в грушу.
– А вы почему не едите грушу? О, это была ваша последняя груша? – Ситао-сан взял тонкий костяной нож и точным движением разрезал свою грушу пополам.
Они ели молча, подставляя ладони под стекающий сок. Митико напомнила, что их, вероятно, уже ждут в заводском музее, где назначен общий сбор делегации. Глеб поднялся. Следом поднялся и Ситао Хасигава.
Автоматические двери плавно распахнулись и выпустили их из кабинета. Два молодых японца разом покинули свои кресла и поклонились. В руках они держали стандартные папки с грифом «Сони».
– Извините. Я вас задержал? – Глеб обернулся к господину Хасигаве. – У вас совещание?
– Совещание назначено на час, – ответил Ситао-сан.
Электронное табло над дверью кабинета показывало ровно час.
Заводской музей размещался в двух смежных залах, соединенных узким коридором. По замыслу это символизировало единение двух эпох радиоэлектроники – ламповой и полупроводниковой. Первый зал – небольшой. На стендах под прозрачными колпаками покоились «мастодонты» – детекторные и ламповые аппараты. Макет сарая, в котором зарождался ныне всемирно известный концерн. Развалины того же сарая после налета американской авиации. В углу – искусно подсвеченная фотография летчика в лихо сдвинутой пилотке с двумя буквами – US. Под фотографией фамилия летчика – Клод Изерли. Он принимал участие в бомбардировке Хиросимы. Кто-то из делегации спросил, за что же ему такая честь – отдельная рамка и специальное освещение!
– Он единственный, кто покаялся в том, что совершил! – ответил гид. – О’кей? Пройдем в следующий зал!
На темной бархатной подставке – первый в мире карманный транзисторный приемник. Портативный транзисторный телевизор – экран с коробку из-под сигарет. Рядом – домашний видеотайп. Магнитофоны всех размеров и на любой вкус. Видеотелефон. Диктофоны. Стимуляторы сердца. Лазерная техника. Компьютеры.
Глеб медленно шел мимо экспонатов, тускнеющих холодным хромом и никелем. Он ничему не удивлялся. Он работал. Он досконально знал, что лежит в основе чуда, какие законы электроники и механики приводят в движение, вливают жизнь во все эти аппараты. И в то же время им владело чувство причастности ко всему, что он тут видит. Многое изведано, испробовано. Даже при беглом знакомстве с характеристиками всех этих макетов. Вот исполнение, ничего не скажешь, превосходное. Высший класс! Он отмечал, что в музее пока нет аппаратов, основанных на том, чем Глеб занимался в своем бюро… Любезный господин Хасигава, настоятельно советовавший беречь себя во имя прогресса, и не предполагал, как далеко зашла лаборатория КБ в своих экспериментах. И значительную роль в этом играл его, Глеба Казарцева, труд.
Да, надо возвращаться домой. И работать. Иногда до физической боли ощущается это желание работы. Точно жажда, точно голод.
Глеб покидал музей одним из последних.
Он шел к выходу. Высокий, в темном спортивном костюме, с небрежно перекинутой через плечо сумкой. Решительный, уверенный.
В малом зале уже выключили освещение. И где-то в неясном ряду тихих экспонатов размылись печальные черты летчика стратегической авиации.
– Тебе хочется попасть в Хиросиму?
– Если будет продолжаться в том же духе, я предпочел бы Нару или Киото, – Глеб размешивал соломинкой коктейль в высоком бокале. – В общем-то мы пока почти и не видели Японии.
– Не туристами же мы приехали. И на том спасибо: сколько нам показали! – Олсуфьев в который раз с надеждой оборачивался к экрану информатора службы движения аэропорта. – Видимо, на Хиросиме опять что-то произошло.
Они сидели в баре второго этажа токийского аэропорта в ожидании рейса на Хиросиму. А рейс все откладывался по метеоусловиям. Сейчас они допьют свой коктейль в спустятся вниз. Досадно.
Шесть часов проторчать в аэропорту, да еще днем.
За соседним столиком расположилась компания, очевидно молодожены: девушки в белых длинных платьях, молодые люди в черных костюмах. Глеб давно обратил на них внимание. Тогда они вели оживленный разговор, хохотали. А теперь приуныли – видно, их рейс тоже задерживался. Глеб вспомнил, что уговаривался с Мариной съездить после свадьбы в Прибалтику – они никогда не были в Таллине. Только вот свадьбы-то и не было. Так, какая-то торопливая, испуганная процедура записи в районном ЗАГСе…
Вдруг за соседним столиком дружно закричали: «Банзай!» Потом один из японцев, пожилой мужчина, что-то громко проговорил. Все вновь закричали: «Банзай!» Молодые люди вышли из-за стола, низко-низко поклонились и побежали, ловко лавируя между столами.
– Послушай, может, это и наш рейс, а? – спохватился Олсуфьев и обернулся к экрану информатора. – Нет, – вздохнул он разочарованно. – На Саппоро… Видно, и впрямь накроется Хиросима.
– Далась вам Хиросима! – воскликнул Глеб.
– Позволь, – растерялся Олсуфьев. – Но… память.
– А те молодожены отправились в Саппоро! На лыжах кататься, а не в Хиросиму.
Они расплатились, вышли из кафе и спустились по эскалатору вниз, на первый этаж.
Несмотря на дневное время, весь аэровокзал был залит электрическим светом. Многочисленные магазинчики торговали сувенирами, фруктами, сладостями, журналами, одеждой. Глеб остановился у киоска и купил яркую игрушку. Он давно собирался ее купить. Удивительная игрушка. Обычный красочный мешочек. Но стоило его помять, как в мешочке что-то начинало дико хохотать. Громко и долго. И ничем не остановить..
– Вот и вся память, – усмехнулся Глеб, глядя на Олсуфьева. – Послушайте, Петр Петрович… Допустим, та бомба убила бы всего лишь одного человека, какого-нибудь древнего старца. Ну не разорвалась бомба, бывает такое… И в то же время она послужила началом невиданного прогресса человечества…
Олсуфьев вплотную приблизился к Глебу:
– Не вижу принципиальной разницы между гибелью вашего старца и сотни тысяч жертв Хиросимы.
– Вздор! – Глеб заложил ладонь за ремень своей сумки и стал похож на солдата. – А если бы тот старик, допустим… утонул, замерз в снегу?
Тон Глеба был снисходительно-иронический. Как у человека, который все решил для себя. И твердо.
– У природы нет нравственных критериев. Да! Природа бывает несправедлива. Но не аморальна! – ответил Олсуфьев. – И то древние наказывали море палками, когда гибли люди.
– И в то же время разбивали друг другу черепа. Теми же палками… Лучше взгляните, какой пожар показывают по телевизору. Глеб сел в глубокое кресло и вытянул ноги. На экране телевизора горело какое-то здание. Шел репортаж прямо с места пожара. Здание горело скучно, вяло. Скорее оно тлело ленивыми редкими жгутами дыма, словно шевелило усами. Люди проходили мимо телевизора равнодушно.
– Вы случайно вчера не смотрели матч по боксу? Мухаммед Али против Джо Фрезера? – спросил Олсуфьев.
– Не до конца. И кто же победил?
– Мухаммед Али.
Глеб сжал подлокотники кресла и обернулся:
– Вы в этом уверены, Петр Петрович?
– Здрасьте. Победил Мухаммед Али. Правда, с небольшим преимуществом… А что вы так? Он ваш родственник?
Глеб засмеялся. Сухим неестественным смехом. Достал пачку сигарет, выбил одну и щелкнул зажигалкой. Красивое газовое пламя обхватило кончик сигареты.
– Значит, я выиграл пари! – он выбросил сильную струю дыма. – Я заключил пари сам с собой и выиграл.
В Хиросиму они так и не вылетели. Все аэропорты юга Японии были закрыты по метеоусловиям.
А купленный сувенир «Мешок смеха» Глеб потерял. Вероятно, забыл в электричке…
***
Из допроса Г. Казарцева, обвиняемого по статье 211, часть 2, УК РСФСР и статье 127, часть 2, УК РСФСР:
«…После возвращения из Японии меня назначили руководителем группы. Выделили помещение, оборудование. По утрам, перед работой, я бегал вокруг дома в тренировочном костюме. Принимал душ, ел и отправлялся в институт как на праздник. Все шло так успешно и гладко, что казалось неправдоподобным. В довершение этой серии удач я получил оттиск статьи известного специалиста в области магнитометрии, где он упомянул эффект Казарцева. Директор института теперь здоровался со мной за руку и называл по имени-отчеству. А в институте около двух тысяч сотрудников…»
Стены уплывали вверх зыбкими волнами. Глеб понимал, что проснулся, но ночные стены казались ему продолжением сна.
Отчего он проснулся?
Глеб повернул голову и увидел устремленный на него взгляд Марины.
– Ты чего? – со сна голос его звучал хрипло.
– Слышишь? Она ходит. И так каждую ночь.
Глеб прислушался.
За стеной раздавалось едва различимое поскрипывание паркета.
– Когда она спит? А ведь весь день на работе. В ее-то годы…
Глеб сомкнул глаза, но сон не приходил – наоборот, мысли становились все яснее, конкретнее. С утра надо будет наклеивать кристаллы, у Гоши Ведерникова не получается – он кладет слишком много компаунда. Работа нудная: пинцетом, пинцетом. Надо перетащить шкаф из старой лаборатории: некуда складывать образцы.
– Как ты можешь спать, когда она так ходит? – прошептала Марина.
– Я не сплю.
Глеб полежал еще несколько минут, затем приподнялся и сел, подтянув колени к груди.
Казалось, скрип паркета пунктиром прошивал тишину комнаты, то усиливаясь, то затихая.
Глеб опустил ноги на холодный пол. Попытался нащупать тапки, но, видно, слишком загнал их под кровать. Ноги все тыкались в старые босоножки – их Марина носила вместо домашних туфель. Ладно, пойду в них, подумал Глеб. Зоя Алексеевна стояла у буфета, привалившись плечом к толстой резной балясине. Из-под халата виднелась ночная рубашка. Притихшая маленькая фигура матери выражала такую тоску, что у Глеба перехватило дыхание. Зоя Алексеевна обернулась. Казалось, она не поняла, кто это появился в гостиной. Даже прищурила глаза.
– Ты чего это? – с неестественной веселостью в голосе произнесла она. – И в босоножках. Комик.
– Чего ты не спишь?
– Сердце что-то ноет. А хожу – перестает, – Зоя Алексеевна не сводила с сына сухих глаз.
– Показалась бы врачу. Кардиограмму снять, – Глеб отвел взгляд в сторону окна. – Или на работе что не так? Как там Панкратов, все бушует?
Зоя Алексеевна сделала несколько шагов по комнате. Паркет заскрипел, точно живой.
– На пенсию ушел Панкратов. Пойду прилягу.
Почему-то ей не понравилось, как стоит пепельница. Передвинула к самому краю стола.
– Все мне завидуют. Говорят, ну и сын у тебя, Алексеевна. Далеко пойдет. Такое большое дело, когда дети удачные, такое большое. Ни с чем в жизни сравнивать нельзя. Это можно понять, когда свои дети появляются…
Мать еще что-то говорила, торопливо, горячо, точно защищалась. Глеб подошел вплотную к окну. Ночь прилипла к стеклам густой темной пленкой. И было непонятно, где кончается крыша противоположного дома и начинается небо. Черный глянец стекол отражал лишь его фигуру. В углу этого зеркала виднелось лицо матери. Точно они впрессованы в это темное стекло – он и мать…
«О чем же она говорит?» – думал Глеб.
Казалось, что слова матери пчелиным роем разлетаются по комнате, садясь то на подоконник, то на диван, то на буфет, то на люстру, сталкиваясь в воздухе и рассыпаясь вновь.
При чем здесь все это? Привычки Глеба. Его школьные отметки.
Его характер. Удачливость на работе.
– Послушай, мама…
В глазах Зои Алексеевны застыла мольба: только не об этом!
Что она может посоветовать, что?
– Что же мне делать, мама?
Зоя Алексеевна погладила тугую крахмальную дорожку на спинке дивана. Растопыренные пальцы ее руки, казалось, схвачены перепонками – темные, морщинистые, точно утиные лапки.
Сколько же ей лет? Ведь ей уже около шестидесяти.
– Ладно. Спать, мама, спать… А то паркет жутко скрипит.
Глеб повернулся и нелепо, точно канатоходец, раскинув руки, направился к себе. Деревянными молотками застучали каблуки. Он спешил. Он готов был совсем сбросить дурацкие босоножки и побежать…
Но голос матери настиг его на самом пороге:
– Погоди, Глеб. Никуда нам не деться от этого разговора…
Глеб остановился, обернулся:
– Я так жалею, что Марина тебе все рассказала…
– Она правильно поступила… Клянусь твоей жизнью, Глеб: если бы я могла поменяться с той женщиной! Я бы не задумалась. Но ничего не поделаешь. И я теперь об одном молю судьбу – чтобы никто никогда не узнал. И нельзя меня осуждать за это.
Голос Зои Алексеевны дрогнул, она попыталась справиться с собой и вдруг неожиданно закричала:
– Ради меня! Слышишь? Все на себя беру, весь грех!
Она качнулась, уперлась вытянутыми руками в диван.
Глеб шагнул ей навстречу.
Проклятая босоножка соскочила с ноги и больно сдавила ступню.
Зоя Алексеевна подняла руку, удерживая Глеба на месте:
– Ты скажи своей жене. Я говорить не буду, а ты скажи… Пусть не сбивает тебя с толку. Если ей муж не дорог, то пусть подумает об отце своего ребенка…
Глеб вернулся в комнату. Нащупал край кровати, осторожно сел.
– Я не сплю, – произнесла Марина.
– А! Слышала, значит?
– Не глухая. Только напрасно она так думает.
Глеб нашарил сигареты, спички. Огонек, точно маленький желто-оранжевый флажок, трепетал, пригибался и выпрямлялся вновь.
Марина тоже потянулась к коробке и вытащила сигарету.
– Тебе нельзя.
– Одну ничего.
Она прикурила и попыталась загасить спичку.
Огонек сопротивлялся. Он уклонялся, словно искал лазейку, чтобы скрыться, чтобы выжить. Глеб резко взмахнул рукой. Упрямый флажок превратился в белесый жгутик дыма.
– Вчера мне мой Макаров говорит: «Вы, Марина Николаевна, много порций обеда едите, чтоб у вас живот надулся, да?» А Рюрикова ему отвечает: «Дурак ты, Макаров! Марина Николаевна беременная!» Потом они надували животы и весь день играли в беременных.
– Действительно, дурак этот Макаров, – усмехнулся Глеб.
– Уже неудобно ходить на работу.
– Дома сиди. Как положено.
– Положено после семи месяцев.
– А за свой счет? Поговори с заведующей… Возможно, я уже забыл, но мы в свое время стеснялись в детском саду говорить об этом. Интуитивно, что ли…
– Время больших скоростей. Никита бы все объяснил, – Марина взбила подушку и прилегла боком, спрятав ладонь под щеку.
***
Полоска света, бордюром подбившая дверь, исчезла – мать выключила свет и пошла спать.
Глеб вдруг почувствовал, что так и не снял эти босоножки. Он дрыгнул ногами, разметывая их в разные стороны.
– После приезда из Японии я могу вспомнить все фразы, которыми мы с тобой обменялись, Мариша. Их было не более двадцати.
Молчишь все, молчишь.
Марина протянула руку и тронула Глеба за плечо:
– Я люблю тебя. Я так люблю тебя, что мне страшно.
– И я тебя люблю.
– Нет, не любишь… Ты не можешь меня сейчас любить. Не о том твои мысли, Глеб… Ты, конечно, ходишь на работу, что-то делаешь… Не знаю…
– Чушь, чушь! – Глеб вскочил и прошелся по комнате, шлепая босыми ногами. – Выбрось это из головы! Я люблю тебя! И вообще, на следующей неделе соберемся все. Мы с тобой, Кит, Аленка. Дикость какая-то! Женился, и никто об этом не знает. Конечно, это будет не свадьба, а так… Посидим. Отметим…
С каждой фразой Глеб воодушевлялся. Марина приподнялась. Пепельницы поблизости не было – она опустила сигарету в стакан с водой.
– Только не надо приглашать Кита и Алену, – проговорила Марина. – Не задавай мне вопросов. Я не смогу ответить… Но только без них!
***
Раз в месяц Никита приводил свою комнату в порядок.
Он сбрасывал с подоконников, со стола и стульев газеты, журналы, куски магнитофонных лент в глубокий картонный ящик. Такие дни, как ни странно, Никита любил. Он всегда при этом находил интересное и нужное, что когда-то безуспешно разыскивалось. Уборку он проводил не торопясь, со вкусом. Просматривал заново весь хлам. И начинал ее в субботу, с тем чтобы и на воскресенье продлить удовольствие.
Сегодня как раз и была суббота. Комната созрела для уборки – это он понял накануне, когда два часа разыскивал свой паспорт.
Предстоял визит в ЗАГС для оформления развода.
Паспорт он так и не нашел. Но надежды не терял, ибо точно помнил, что в прошлую уборку он паспорт где-то видел. Сколько раз давал себе слово складывать документы отдельно!
Приход Глеба застал его в разгар работы.
Глеб прошелся по комнате, высоко поднимая ноги: как-то неловко было ходить по раскиданным на полу газетам и журналам.
– Готовишься к побелке?
– Паспорт ищу. Накопилось тут всякого.
Никита подобрал какую-то бумагу, просмотрел и швырнул в ящик.
Глеб сел на диван. Впечатление было такое, будто они расстались только вчера.
– Что-то давно тебя не слышно, не видно, – произнес Никита.
– Суета все. Потом в Ленинграде был, на конференции, – о Японии Глеб решил не рассказывать.
– А… Припоминаю, припоминаю.
Помолчали.
– Ну как дела? – спросил Глеб.
– Что это ты интересуешься моими делами? – Никита поднял с пола пустую банку из-под кофе и бросил в ящик.
– Друзья детства, Кит.
– Много лет назад, когда мы были ближе к детству, ты интересовался меньше моими делами.
– Время, Кит, время. С годами становишься сентиментальным.
– В ЗАГС вот собрался. Развод оформлять с Викой.
– Ну? – удивился Глеб. – Я думал…
– Да. Официально я не был разведен… Мерзко на душе у меня, друг детства… Что-то все не туда. Суечусь, шумлю. А все не туда, все мимо. А почему, не знаю.
Глеб вытащил из свалки какую-то книжку в яркой обложке.
– Ну… а как поживает Алена?
– Понятия не имею, – быстро ответил Никита. – Вне сферы текущих интересов.
Он сказал неправду. Алена была в сфере его текущих интересов. Тот разговор на бульваре оставил след в его душе. Никита ждал, когда Алена позвонит, поинтересуется, как разворачиваются события. Но Алена не звонила. Он не выдержал и позвонил сам. Мужской голос, видимо отец, попросил его перезвонить минут через пять, попутно поинтересовавшись, с кем имеет честь. Никита назвался, через пять минут позвонил вновь. Тот же мужской голос предложил ему больше не звонить.
– Так это я, Никита Бородин, – растерялся Никита.
– Я прекрасно вас понял, Никита. Но Алена просила передать, чтобы вы больше ей не звонили…
Никита стал успокаивать себя мыслью, что это козни отца. К сожалению, он не знал, где работает Алена. Пришлось вновь пользоваться услугами телефона. Раза два он нарывался на отца и вешал трубку. И дома, и на работе все валилось из рук, а мысли работали в одном направлении.
Наконец однажды подошла Алена. Она долго молчала в ответ на сбивчивые фразы Никиты. Потом произнесла тихо и твердо:
– Я не могу никого из вас видеть. Никого! И не хочу!
Может, рассказать Глебу об этой истории? А что? Почему бы и нет? Все ведь из-за него одного, только из-за него…
Глеб просматривал какую-то статью в подобранной с пола книге.
Нет, решил Никита, не стоит рассказывать. Ни к чему.
– Ну… а как Марина?
– Марина? – Глеб не поднял головы. – Мы, понимаешь, женимся с ней… Точнее, уже поженились.
Никита присвистнул. Но работу не оставил.
– Правда, свадьбы не было. Да и не будет. Просто расписались, и все. Поначалу я думал вас оповестить: тебя, Аленку. Собраться, понимаешь… А потом решили, что не надо. Так все и растеклось… Слушай-ка, что пишут: «Человек может носить в себе инфекцию туберкулеза, оставаясь практически здоровым»!
Глеб швырнул журнал в картонный ящик:
– Начитаешься таких статеек…
– Ты так бережешь свое здоровье? – усмехнулся Никита.
– Следую твоему совету. Для пользы общества.
– Ошибаешься, Глеб. Я не советовал тебе. Я лишь вслух произносил твои собственные мысли. Верно? Я тоже ведь кое-что понимаю.
Никита сел в кресло.
Они сидели друг против друга. Элегантный Глеб, в темном спортивном костюме, в глухом свитере, и Никита, толстый, неуклюжий Кит, облаченный в серую больничную пижаму, в шлепанцах с дыркой у большого пальца на левой ноге.
– И вот еще что я понимаю, Глеб… Знать, где правда, – одно. А вот жить по правде – другое. Совершаем вещи, заранее зная, что они безнравственные. И все ради своих интересов… А какой душевный покой у людей, умеющих постоять за свои убеждения… Когда-то, в детском саду, мы верили в разную чепуху. В волка и козлят. И мы были счастливы. Мы открыто, смело защищали свои убеждения. Пусть наивные, но тогда они казались нам глобальными… Куда же все это девалось, Глеб?!
Глеб подошел к столу, оперся на него руками:
– Помнится, ты очень жалел, что в детстве тебя «приручали» к доброте…
Он не закончил свою мысль – отодвинул лист бумаги, извлек темно-красную книжицу паспорта.
– Ну и ну! – удивленно воскликнул Никита. – Представляешь, перерыл весь дом. Хорошо, ты пришел. Маленькая польза.
– Так знаешь, зачем я к тебе ввалился?
Никита взглянул на Глеба отсутствующим взглядом.
– Ты просил, помнишь? Для Скрипкина своего, – Глеб вытащил из кармана пакет. – Открытки с видами Ленинграда. Блок. Цветные.
– Только открыток мне тут не хватает, – пробормотал Никита, принимая пакет. – Скрипкина перевели в другой отдел. Теперь у меня в начальниках Привалов. А что он собирает, не знаю. Наверно, монеты. А монеты мне и самому нужны.
– Черт! Действительно досадно, – проговорил Глеб. – Да ладно! Отдай ты эти открытки Скрипкину. Пусть почувствует, какой он был мерзавец в отношении тебя.
– Хорошо. Отдам. Пусть почувствует, – согласился Никита.
– Так я пойду, – произнес Глеб и вздохнул.
И такое вдруг облегчение прорвалось в этом вздохе. Никита проводил Глеба до двери.
– Знаешь, Глеб… Ты больше, пожалуй, не заходи ко мне. Не стоит. Я и так буду соблюдать правила игры, будь в этом уверен. Ведь ты меня ненавидишь. И с каждым днем будешь ненавидеть сильнее. Я знаю.
Глеб нажал кнопку лифта, но не стал ждать и пошел вниз.
Лишь внизу он наконец услышал, как хлопнула дверь Никитиной квартиры.
***
Не так-то просто было разыскать ее дом.
Где-то у главного входа в городской парк, Глеб это помнил.
И был-то он там раза два, в школьные годы.
Дом он узнал сразу: узкий и высокий, он чем-то сразу бросался в глаза. На белой доске – номера квартир и фамилии съемщиков, среди которых Глеб разыскал и фамилию Павлиди.
Алена шла быстро и гасила за собой свет. Это было не совсем вежливо – Глеб едва успевал за ней в длинном извилистом коридоре.
– Послушай, я могу потеряться! – пошутил он.
Алена не ответила.
Остановившись на пороге своей комнаты, она пропустила Глеба вперед и захлопнула дверь. Возможно, она не хотела, чтобы их видел кто-нибудь из ее домашних.
– Извини, я как снег на голову. Честно говоря, не думал тебя застать. Проходил мимо – решил, дай зайду проведаю.
Алена все молчала.
Глеб сел в кресло. Зачем он врет? Ведь специальио пришел!
Комната была аккуратной, чистой. Старинный письменный стол на коротких резных ножках, лампа под фарфоровым абажуром, книги в золоченых толстых переплетах. Бронзовые подсвечники. Старинная работа…
Он мельком взглянул на Алену. Темные ее волосы перехватывала широкая красная лента. Расклешенные джинсовые брюки и пестрая кофточка эффектно выглядели на фоне всей этой старины.
– В такой комнате надо носить халат с кистями! – Глеб сердился на себя – он не мог найти верного тона.
Что-то за стеной упало, покатилось. И опять тишина.
Алена поставила стул спинкой вперед и села верхом. На ее смуглом пальце тускнел граненый крупный камень в хитросплетенном узоре кольца.
И Глеб почувствовал нелепость своего прихода. Зачем? Он и к Никите не хотел идти, а пошел. Теперь вот к Алене… Надо встать и уйти. Самое благоразумное.
– До какого класса мы учились вместе, не помнишь?
– До седьмого, – ответила Алена. – После седьмого я перешла в другую школу.
– Но ведь я старше тебя на год, а учились вместе.
– Значит, ты был второгодник.
– Я? Ничего подобного! – растерялся Глеб.
– С чего ты взял, что ты старше? Мы однолетки. Это Марина младше меня на год, вот ты и решил.
Алена положила подбородок на спинку стула и пристально, не мигая рассматривала Глеба.
– Кстати о школе, – сказала она. – В школе ты дал мне прозвище Ушастик. Помнишь? Ты основательно тогда мне портил настроение.
Глеб бросил взгляд на ее гладко зачесанные волосы:
– Что ж, ты нашла свою прическу. Она прячет дефект и выставляет достоинства. Ты, вероятно, самая красивая в своем институте.
– Да, ты мне много попортил крови. У тебя легкая рука – почти вся школа меня дразнила Ушастиком. И когда я почувствовала себя взрослой, жизнь моя стала невыносимой из-за твоего дурацкого прозвища. Тогда я перешла в другую школу. Все из-за тебя.
– Какая чепуха! Науськала бы своего папу. Он человек горячий, с древнегреческой кровью. Дал бы мне по шее – и дело с концом. Признайся, это не очень серьезно звучит.
Глеб улыбнулся.
Алена продолжала смотреть в сторону. Брови ее расширились.
– Несерьезно звучит? Конечно, серьезно лишь то, что касается тебя лично, – голос Алены дрогнул.
– Послушай, – изумился Глеб. – Неужели ты держишь в голове какие-то детские проказы? Столько лет!
– Конечно, ведь тебе все прощается. Избранник божий!
– Почему ты так со мной разговариваешь? – тихо проговорил Глеб.
– Потому что я ненавижу тебя! – Алена теперь смотрела в упор на Глеба. – Ты сделал нас подлецами: меня, Марину, Никиту. Я ненавижу себя, их. Мы безвольные слюнтяи, которые мучаются твоей виной. А ты? Ты прекрасно выглядишь. В почете. Самоуверен и красив. Единственное, что тебя беспокоит, – это чтобы мы молчали. Ты бродишь по нашим квартирам, заглядываешь в наши глаза, как пес… Отсюда ты отправишься к Никите, если уже не побывал у него… Мой тебе совет: уезжай из этого города. Чтобы никто-никто не знал, где ты, чем занимаешься. Пропади, сгинь! Может быть, и мы тебя забудем.
***
Небо оставалось чистым, прозрачным, покрытым меленькими веснушками звезд. И было непонятно, откуда брался этот снег.
Густой, мокрый, он валил точно из огромной прорехи.
Глеб запрокинул голову и слизывал с губ снежинки. Теперь он понял: снегом исходила туча, край которой зацепился за телевизионную башню.
Трое парней расположились с гитарой на соседней скамейке. Глеб узнал этих парней – они ошивались в Аленкином подъезде, когда Глеб туда входил полчаса назад.
Без четверти одиннадцать, пора и домой. Марина сегодня осталась ночевать в детском саду. Ей трудно стало приезжать к Глебу каждый день: в автобусе ее тошнило. И с матерью у нее в последнее время что-то не очень ладно складывались отношения. Не то чтобы они ругались, нет. Наоборот. Просто молчат. Или разговаривают подчеркнуто вежливо, что хуже любого скандала. Может быть, и верно, лучше уехать ему, как сказала Алена? Какие страшные были у нее глаза, ненавидящие! Вспомнила вдруг далекую глупую историю. Ушастик! Выходит, помнила, не забыла за столько лет! Мало ли как кого в детстве называли, смешно даже. Кажется, именно из-за этого прозвища он тогда даже подрался с Никитой. Никита был влюблен в Алену и ревновал ее к Глебу. Они подрались в раздевалке после волейбола. Глеб оттолкнул Никиту – ему драться не хотелось, они считались друзьями. Но тот ударил Глеба своим мягким девчоночьим кулаком. Ну и пошло-поехало… Глеб сидел на скамье, курил и удивлялся. Сколько воспоминаний пробудил этот визит к Алене! А прошло много лет. Может, действительно уехать? Работу он всегда себе найдет, да и Марина успокоится.
Ладно. Пора идти.
Из-за угла показалась фигура: в шляпе, с поднятым воротником и каким-то предметом под мышкой. Человек спешил и вскоре поравнялся с Глебом. Под мышкой он нес скрипичный футляр.
И тут Глеб услышал голос:
– Послушайте, Паганини! Не проходите мимо!
Глеб оглянулся. Трое парней преградили дорогу скрипачу.
– Что, собственно, вам надо? – проговорил скрипач.
– Полонез Огинского! Исполни! – проговорил один из парней. – Хочется серьезной музыки. Опохмелиться.
Скрипач оглянулся. Стекла его очков тускло отразили далекий фонарь. Очевидно, приняв и Глеба за одного из хулиганов, он сник.
– Прошу вас! Я тороплюсь… Я могу дать денег.
Он суетливо сунул руку в карман. Не нашел. Прижимая скрипку, он принялся шарить во втором кармане.
– За кого ты нас принимаешь, Паганини?! – тот, с гитарой, ухватил скрипача за руку. – Мы любители чистого искусства. Сыграй – отпустим!
– Но… я не знаю полонеза Огинского.
– Тогда дай я сыграю.
– Сыграй, Тиша! – воодушевился коренастый. – Попробуй!
Скрипач крепче прижал футляр:
– Нельзя. Снег идет. Сыро.
– Сыро? – и коренастый сбил с головы скрипача шляпу.
– Вы что? Хулиганы! – вдруг выкрикнул скрипач. Возмущение на мгновение перевесило страх, и он толкнул коренастого в грудь, наклонился и поднял шляпу.
– Ах ты драться?! – выкрикнул коренастый и ударил скрипача. Глеб сидел не шевелясь. Мгновениями он готов был сорваться с места, расшвырять этих молодчиков. С каким бы упоением он это сделал! Его тренированные, сильные мышцы были возбуждены. Они были готовы к этому, они требовали, ныли от нетерпения, от жажды борьбы. Но ему нельзя ввязываться ни в какие истории. Всю жизнь теперь он будет прятаться, ибо сам страшной виной виновен. И всю жизнь теперь он будет ждать, что придут однажды и скажут: пошли.
Скрипач стоял – длинный, нескладный, без шляпы – и плакал.
– Ладно, ладно, – произнес один из парней. – Ничего с твоей скрипкой не сделается, – и еще раз ударил музыканта.
Глеб поднялся со скамьи, швырнул сигарету в снег.
Он ощутил сладость свободы.
Он не мог больше таиться, как не может пловец, что вынырнул на поверхность из глубины, не схватить свежий глоток воздуха. Никакая сила не заставит его отказаться от этого. Ведь жажда справедливости сильнее всех инстинктов, любого благоразумия.
Глеб понял, что иначе ему не жить. С каким наслаждением он сейчас раскидает этих подонков! Его сильное тело рвалось, требовало столкновения. Скованное долгими днями страха и тоски, оно сейчас было словно стальная сжатая пружина. Он был сейчас невменяем, буен, дик. Нет такой силы, что могла его удержать.
Подобравшись, парни смотрели на приближающегося к ним Глеба. Их было трое. Они что-то выкрикивали, но Глеб их не слышал. Он знал, что ему надо делать.
В это мгновение из-за угла на полном ходу появилась патрульная милицейская машина. Из машины выскочил милиционер и бросился к Глебу. Машина остановилась рядом с парнями…
Дежурный раздал всем по анкете:
– Надеюсь, все грамотные. Заполнять разборчиво. Иначе будете переписывать заново.
Глеб написал свою фамилию, имя, отчество. Коренастый повернулся к скрипачу:
– Сам меня первым ударил, а теперь…
– Я вас не трогал. Я шел с концерта, – вяло произнес скрипач.
– Ну скажи, скажи. Ты не первым его ударил? – вступил гитарист. – Честно!
– Тихо! – прикрикнул дежурный. – Разберемся!
Он собрал анкеты и разложил их на столе, точно игральные карты.
– Так-так… Один, значит, студент политехнического, второй – слесарь-механик в институте, третий… Ты чем занимаешься? – дежурный посмотрел на коренастого.
– Я в настоящее время… болею. С легкими не в порядке.
– Болеет он! – возмутился скрипач. – Чуть руку мне не сломал, подлец!
– А вы не оскорбляйте! – поправил коренастый и взглянул на дежурного. – В официальном учреждении, не в пивной.
Скрипач сконфуженно умолк.
Лейтенант постучал карандашом по столу.
– Так-так… Хулиганите, значит? Избиваете граждан?
– Так он первым полез! – воскликнул коренастый.
Скрипач от изумления лишь покачал головой. Дежурный переводил взгляд с одного на другого.
– Конечно! – загалдели парни. – Он первый полез! И товарищ вот подтвердит. Он сидел на скамейке, отдыхал. Мы же к нему не приставали, верно?
Глеб уперся локтями в колени, положил подбородок на сжатые кулаки. Он молча, в упор разглядывал молодых людей. Обыкновенные ребята. Один – студент-политехник, почти коллега. Второй – механик в НИИ. Глеб-то знал, что это значит. Экспериментальная работа. Тонкая, требующая хороших рук.
– Как же вы могли? – тихо проговорил Глеб. В голосе его, негромком, слегка растягивающем слова, звучало такое отчаяние, что молодые люди притихли, искоса поглядывая на Глеба. – Я все видел, лейтенант, и все расскажу.
Через полчаса опрос закончился.
Дежурный предложил каждому расписаться в протоколе. Затем распорядился, чтобы парней задержали до утра. Скрипача и Глеба он приказал отвезти домой на милицейской машине. А пока скрипач вышел в коридор, чтобы привести себя в надлежащий вид.
Лейтенант что-то записывал в толстую книгу, макая ручку в ученическую круглую чернильницу. В тихой дежурке тикал белый жестяной будильник. Из-под стола вышел сонный, тяжелый кот, вытянул лапы и сладко потянулся.
– Скажите, лейтенант, вы помните, на Менделеевской женщина погибла? – проговорил Глеб.
– На Менделеевской? – Лейтенант не поднимал головы. – Чтото припоминаю. Давно было.
– Не так уж… Три месяца и, скажем, двадцать дней.
– А что, вы и там проходили свидетелем? – усмехнулся лейтенант. – Вам везет. Спать надо по ночам, спать.
Он поднял голову и пристально посмотрел на Глеба:
– А с чего вы вдруг спросили?
– Нет, ничего. Просто вспомнил, – спокойно проговорил Глеб. – Сотрудник мой живет на Менделеевской. Рассказывал.
– Пока ничего не слышно. Глухо.
Глеб встал:
– Спокойной ночи, лейтенант.
– Бывайте!
***
Во втором этаже детского сада светилось окно, задернутое голубой занавеской.
У самого крыльца, в канаве, покачивался белый игрушечный кораблик.
Глеб притопил его носком ботинка. Кораблик исчез, но через мгновение вынырнул вновь и поплыл. Теперь до него не дотянуться.
За дверью раздался радостный голос Марины:
– Глебушка!
Дверь распахнулась.
На лестнице пахло чем-то съестным. И еще лекарствами.
Забытая кукла валялась на ступеньке, свесив в проем капроновые волосы. Глеб подобрал куклу и подбросил. Кукла лениво перевернулась в воздухе и плюхнулась мягко, как подушка.
– Эй! – крикнул он. – Не стойте слишком близко! Я тигренок, а не киска!
Глеб подхватил куклу и закинул ее на подоконник. Там что-то загремело, покатилось.
– Глеб! Ты что, с ума сошел?
Марина побежала наверх. Широкий халат, скрывавший ее располневшую фигуру, распахнулся. Глеб захохотал, повиснув телом на перилах. Марина остановилась на площадке второго этажа.
– Дурень!
– Ну вот, – не успокаивался Глеб. – Сразу и дурень!
– Что с тобой? Ты пьян? – Марина старалась сдержать раздражение.
– Я? Как стеклышко. Ни в одном глазу.
Марина зашла в свою комнату. Громко хлопнула белая больничная дверь.
– Эй! Почему у вас пахнет лекарствами? – крикнул Глеб.
Марина высунула голову:
– Послушай, если ты намерен орать, отправляйся лучше домой. И дай мне спать. Мне в семь детей принимать.
Глеб опустился на ступеньку, положил подбородок на колени.
Марина присела рядом.
– Простудишься, – проговорил Глеб усталым голосом. – Тут дует.
– Не простужусь.
Помолчали.
– Извини. Я тут раскричался, – проговорил Глеб.
– Чепуха. Сад пустой.
– Измучилась ты со мной, – пробормотал Глеб.
Марина вытащила из кармана розовый лоскут, разложила на коленях. Лоскут принял форму распашонки.
– Нравится?
Глеб взглянул на распашонку:
– А почему розовая?
– Розовая? Потому что у нас будет девочка. Хочу девочку!
Глеб усмехнулся:
– Чтобы не пришлось… покупать ему мотоцикл?
– Да! – подхватила она четко и раздельно. – Чтобы не пришлось покупать ему мотоцикл!
Глеб помолчал. Вздохнул:
– В таком случае надо ее приучить правильно переходить улицу. Еще неизвестно, мальчик лучше или девочка.
– Девочка, – прошептала Марина.
Как они давно не говорили об этом! Казалось, прошла вечность.
Казалось, что все-все забыто.
Лампочка под матовым круглым шаром мигнула и потускнела – изменилось напряжение в сети.
– Между прочим… кажется, дело о происшествии на Менделеевской сдали в архив.
Глеб вслушивался.
– Что ты молчишь? Говорю, дело, кажется, сдали в архив… Да ответь же что-нибудь!
– Что ответить? Мы с тобой часто мыслим одинаково, Глеб.
– Ты хочешь сказать, именно так я буду через много лет объяснять ему? Или ей? – Глеб скомкал распашонку и сунул в оттопыренный карман Марининого халата.
– Нам надо расстаться, Глеб.
В расстегнутом вороте ее халата виднелась рубашка с чуть надорванной мережкой.
– То есть… как? Ведь я люблю тебя.
– Я тоже люблю тебя… Никогда никого так не любила. Ты знаешь.
– Так в чем же дело, Мариша? Сейчас, когда…
– Неужели ты не понимаешь? – Марина прикрыла глаза. – Тебя успокаивает этот далекий архив? Что ж, я тоже не стану тебе напоминать ни о чем… даже своим присутствием. Я уеду из этого города. Завтра же.
– Ультиматум?
– Как ты можешь, Глеб? Это жестоко…
Глеб достал сигареты:
– Закуришь?
Марина отрицательно покачала головой, но рука потянулась к пачке.
– Совсем ты ошалела… С этим садом, с этими детьми. Фанатик!
– Не обманывайся, Глеб. От себя не уйдешь. Еще помучаешься месяц-другой… От себя не уйдешь.
Две сизые струйки папиросного дыма переплелись между собой и потянулись к потолку.
– Значит… расстаться? И надолго?
– От тебя это уже не зависит, Глеб… Я всегда буду рядом.
Глеб щелчком отбросил сигарету в угол и поднялся. Пошел вниз по лестнице.
– Может, поешь? Я приготовила, – тихо проговорила Марина.
– Нет аппетита, – Глеб не оборачивался.
– Глеб… что сказать маме?
Глеб остановился. Застегнул плащ.
– Вернусь – сам расскажу.
– Это будет не скоро, Глеб.
– Не скоро, Марина.
Белый кораблик уткнулся в крыльцо. Глеб хотел оттолкнуть его носком, но передумал.
Слабый свет за голубой занавеской погас, вскоре скрипнула дверь подъезда, обозначив в светлом проеме фигуру Марины с накинутым на плечи пальто.
Ленинград, 1975



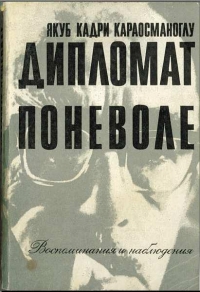
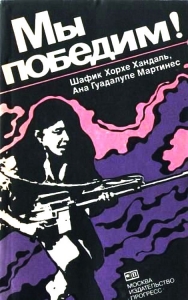
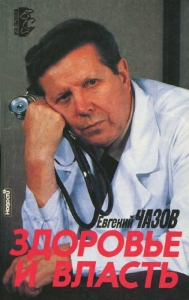

Комментарии к книге «Война детей», Илья Петрович Штемлер
Всего 0 комментариев