Рейн-Мари Пари Камилла Клодель
Перевод с французского Натальи Шаховской
Предисловие
В 1884 году фотограф Сезар запечатлел в мастерском кадре горделивую Камиллу Клодель во всем блеске ее двадцати лет, у истоков творческого пути. Эта юная девушка замечательно красива, но красотой не безмятежной или подстрекающей к завоеванию. Перед нами портрет завоевательницы, чей взгляд предельно напряжен волей к жизни и творчеству.
Между тем женская судьба этой ослепительной девушки завершилась полным крахом. Щедро одаренная незаурядным талантом, умом, отвагой, она получила от жизни то, что, казалось бы, сулило успешную художественную карьеру — достаточно терпимых родителей, превосходных учителей, из которых один, несравненный, стал гораздо большим, чем учитель. Но Камилла рухнула во тьму и небытие, сбитая с ног недугом, о котором до сих пор не все известно.
Камилла Клодель, скончавшаяся, согласно актам гражданского состояния, в 1943 году в возрасте 79 лет, была мертва для общества и для искусства с 1910 года, которым прерывается ее краткая карьера, отмеченная знаком незавершенности и судорожного стремления к так и не достигнутой цели. Ее можно причислить к тем “проклятым художникам”, которые — как, например, Рембо или Ван Гог — стали мифическими героями новейших времен.
Однако ее имя и творчество мало о чем говорят большинству посетителей музеев и выставок. Для публики личность и искусство Камиллы Клодель едва ли отделимы от личности и искусства Огюста Родена; это рукав могучей реки, чуть отклонившийся от основного русла и иссякший в песках. С другой стороны, имя ее заглушается именем гениального и плодовитого брата — Поля Клоделя, слава которого перекрыла славу сестры, как извержение вулкана погребает селение. Даже ее крестное имя, бесполое “Камилль”, обрекало ее на неопределенность, способствующую забвению.
Удары судьбы, сокрушившие Камиллу Клодель, не были искуплены признанием потомков. От ее бедной и одинокой жизни остались разрозненные работы, прозябающие в малопосещаемых провинциальных музеях, в запасниках, в частных коллекциях, закрытых для исследователей и публики. Многие ее произведения пропали бесследно и могут обнаружиться разве что случайно — щемящий пробел в итогах и без того краткого творческого пути.
Если искать не виновника, как это делает Поль Клодель, преисполненный боли и негодования за сестру, но катализатор крушения, назвать следует Родена — Родена, который дал Камилле Клодель почти все и почти все у нее забрал. Трагедия этого незавершенного творческого пути и разбитой жизни есть трагедия их двойственной связи, взаимооплодотворяющей и взаиморазрушающей.
“Проклятый художник”, романтическая героиня — у Камиллы Клодель все данные, чтобы заинтересовать современную публику. Ее история должна привлечь большое внимание уже потому, что это история женщины, которая погибла из-за стремления порвать путы женского удела. Но раз она могла так страдать из-за мужчины, не доказывает ли это, что она была предельным воплощением своего пола? Запредельным — если вспомнить, что жила она в эпоху, когда женщине позволялось быть лишь супругой, матерью либо монахиней… Провинциалка без связей, без поддержки, она только и могла, что получить все от мэтра в обмен на полную самоотдачу. В этом обмене — тайна ее гения. Когда обмен прекратился, все рухнуло.
Тем не менее Камилла Клодель до сих пор с нами.
Даже не очень любя такое трудное для восприятия искусство, как скульптура, нельзя избежать сопоставления работ Камиллы с заслонившим их творчеством Родена, нельзя не натолкнуться на чудо: преображение “Мыслителя” в “Мысль” — светоносный земной знак того вольного духа, можно даже сказать — след того дикого зверя, каким явилась Камилла Клодель во французскую скульптуру XIX века. С этой молодой женщиной в искусство ваяния вторглось чувство — туманное, нежное и печальное, новый взгляд — ее взгляд, взгляд Мысли, не лишенный внутренней силы, ибо Камилла была натурой страстной. Стоит ли удивляться, что сочетание самоуглубленности и страстности одушевило чувственность, не пожелавшую маскироваться?<…>
В своем апогее искусство Камиллы Клодель проникнуто светом, дыханием, ощущением равновесия, которое лишь женщина гениальная могла вознести до такого уровня. Вообще же восстановление равновесия — не реакция ли бывших учеников Родена на одержимость учителя движением? Но у единственной среди этих учеников женщины есть нечто большее: то золото, которое, как хвалился Роден, он научил ее находить в себе и которое, как искусный ювелир, сумел использовать в собственных работах.
Это золото и пора извлечь на свет во всем его блеске. В самом деле, пора разобраться в противоречиях этой судьбы, воздать должное своеобразию творчества, с полным правом заслуживающего называться великим. И наше время, для которого так важно искупить несправедливость отцов, сохранить все, что могло быть утрачено, просто обязано восстановить Камиллу Клодель в списке великих французских скульпторов прошлого.
х х х
Подобно тому как разрознено и наполовину поглощено забвением творческое наследие Камиллы Клодель, остаются малоизвестными и подробности ее жизни. Мы располагаем сведениями о некоторых ярких моментах, можем обнаружить поэтическое осмысление каких-то эпизодов в написанном ее братом, но связующая их нить нередко ускользает. Значительная часть ее переписки утрачена, в том числе письма к отцу и к Родену, где она, как известно, позволяла себе быть совершенно откровенной.
Друзей у нее было мало, и она не особенно откровенничала с ними — признак замкнутости, которая развилась в нелюдимость и завершилась полным расстройством рассудка.
Душевная болезнь — катастрофа, разрушившая ее жизнь, — вплоть до настоящего времени оставалась тайной за семью печатями. Словом, восстановление биографии Камиллы Клодель взывает к детективному расследованию не менее, чем к терпению архивариуса.
Детство и отрочество
1864–1882
Видишь ли, она прекрасна, о, ты и
представить не можешь, как она прекрасна; <…>
Но что в ней всего прекрасней, так это ее волосы;
они рдеют, как золото.
Поль Клодель, “Спящая”
В центре треугольника, вершины которого — Суасон, Реймс и Шато-Тьерри, лежит ничем не примечательная деревушка, никакими архитектурными памятниками не привлекающая внимания целеустремленного туриста; называется она Вильнёв-сюр-Фер. Фер, отстоящий от нее на восемь километров, — довольно большой прозаический город, центр Тарденуа, края пологих долин, пересеченных полями и рощами. Это уже не Иль-де-Франс, а отроги Шампаньского плато, полосуемые дождями и ветрами. В этом-то городе французской глубинки и родилась 8 декабря 1864 года Камилла Розали Клодель — под знаком Стрельца. Если верить астрологам, это знак людей экзальтированных, гордых и мятежных, которых временами — а иногда и бесповоротно — одолевает упадок духа. Тревожный прогноз!
Итак, Камилла Клодель — уроженка Шампани, земли, удивительно богатой писателями, чьи имена звучат как фанфары: Лафонтен, Расин, Александр Дюма; богатой также безымянными ваятелями из Реймса и Труа, изукрасившими своей изящной и благородной скульптурой архитектурные памятники родной провинции. Камилла и Поль Клодель благодаря редкостному соединению традиции и таланта доносят эту эстафету до середины нынешнего столетия.
Отец Камиллы, Луи-Проспер Клодель, был родом из деревни Ла-Бресс, что неподалеку от Жерарме, куда любил приезжать на лето с семьей. Среди его предков числятся фабриканты бумаги и налоговые чиновники. Не будучи особенно богатыми, Клодели, однако, издавна, по-видимому с XVII века, принадлежат к зажиточной буржуазии. Луи-Проспер учился у иезуитов в Страсбуре, но поборника веры из него сделать так и не удалось. Мало того, поговаривали, что он франкмасон. По окончании учебы с отличием он получил место регистратора, потом занимал и другие должности, а в 1860 году был переведен в Фер-ан-Тарденуа. Там 2 февраля 1862 года он женился на Луизе Серво.
Луиза Серво была уроженкой Шампани. Это она унаследовала дом в Вильнёве, где обосновалась семья. Она укоренила Клоделей на этой земле, словно олицетворенной в ней. “Смиренная, незаметная женщина с виноватой крестьянской повадкой, чем-то похожая на Елизавету из “Благовещенья”, некоторыми чертами напоминающая Сидо у Колетт. Этот союз еще больше скрепил буржуазную династию. У Клоделей было трое детей, не считая рано умершего первенца Анри: в 1864-м родилась Камилла; в 1866-м — Луиза, которой была преуготована заурядная судьба супруги и матери; в 1968-м — Поль, чья судьба известна всем. В Вильнёве Клодели были знатью. Им принадлежали унаследованные матерью земли семьи Тьерри; через деда-врача Атаназа Серво семья соприкасалась с аристократизмом светской науки, а благодаря дяде Никола Серво, вильнёвскому кюре, к ним относились с особым почтением.
Один из исследователей, Анри Гийемен, замечает: “Быть Клоделями означало существовать в спокойном и неоспоримом сознании мистического, неприступного превосходства, неотделимого от уверенности в своей исключительности”. Так что дети Клоделей росли с тем кастовым инстинктом, который, согласно Ницше, в той же мере, что и кровь, является знаком принадлежности к высшей породе.
О раннем детстве Камиллы Клодель воспоминаний почти не сохранилось — ни в Вильнёве, где она провела первые годы жизни и куда ездила потом на каникулы, ни в Бар-ле-Дюк, где в 1870-м обосновалась семья. Безусловно, веселым ее детство не было. Не такова была общая, а особенно семейная атмосфера. Поль Клодель сравнивал жизнь в Вильнёве с той, что описана в “Грозовом перевале”: в доме бушевали бури, “все в семье ссорились”. На людях Луи-Проспер был любезен и вежлив, дома же давал волю своему скверному характеру. Вообще же это был человек не злой. Вполне добропорядочный буржуа, к деньгам питавший атавистическое почтение. Ничто не было ему так ненавистно, как расточительность, “следствие безалаберности и невоспитанности”, по его выражению, однако он не был скуп и не колеблясь продавал земельные участки, когда вставал вопрос об устройстве семьи в Париже или о помощи старшей дочери. Он слыл властным, но в главном никогда деспотизма не проявлял, напротив, даже не пытался противиться бунтарским наклонностям своих детей — черта замечательная в провинциальном чиновнике. Впоследствии он с удивительным пониманием писал сыну о его первых работах. И смирился с тем, что старшая дочь посвятила себя не искусству ведения домашнего хозяйства, но искусству ваяния, и даже помогал ей сделать первые шаги на художественном поприще. Зато Луиза Клодель так никогда и не поняла свою беспокойную дочь, к которой не питала нежных чувств. Судя по всему она была абсолютно невосприимчива к искусству. Любимицей же ее, несомненно, была вторая дочь, Луиза, всегда остававшаяся при ней. Кроме того, позднее она, видимо, не могла простить дочери-художнице ее рассеянного образа жизни. Однако не в ее власти было задушить в зародыше талант Камиллы или помешать его развитию.
Таким образом, дети Клоделей росли в суровой, порой драматической обстановке, и шрамы от детских ран остались с ними на всю жизнь. Приступы отцовской ярости не сглаживались лаской матери, которая замкнулась в покорности и никогда не нарушала своих строгих принципов.
Свидетельства, относящиеся к этому периоду, указывают на энергический, чтобы не сказать неистовый темперамент и редкостную красоту молодой девушки. Предисловие, написанное Полем Клоделем для каталога выставки его сестры в 1951 году, хорошо известно: “Я так и вижу ее, эту горделивую девушку, в триумфальном расцвете красоты и гения, вижу то влияние, часто жестокое, которое она оказывала на мои ранние годы”. Слово “горделивая” проходит лейтмотивом: Камилла действительно была горда, уже ребенком она ничуть не сомневалась в своей гениальности.
Личные отношения брата и сестры вызывали немалый интерес. Как утверждалось, искру гения зажгла в Поле Камилла, и уверенность в своем призвании выросла у обоих из соперничества. Их отношения могли бы послужить богатейшим материалом для психоаналитиков, но если те и помогли нам лучше понять поэта, то о художнице проделанные в наши дни скудные изыскания сказали мало определенного. Что Камилла глубоко любила брата, сомнению не подлежит. Она умерла со словами “Милый мой Поль”. Но что эта любовь была движущей силой ее творчества, никто не может утверждать всерьез. Ведь еще почти ребенком она начала лепить с недетской страстью, и нельзя указать на какое-то событие или влияние, которые дали бы толчок этому неудержимому порыву. Она вся отдается ваянию, вовлекает в дело и окружающих: отец, мать, брат, сестра — все по очереди обречены позировать. Она отважно берется за живую натуру, не имея за плечами ни единого урока, не получив ни единого совета.
Пейзаж также влечет и завораживает ее. Излюбленное место прогулок Камиллы и ее брата — расположенный недалеко от Вильнёва Ле-Гейн, угрюмые ланды, резкие очертания скал на фоне неба, подобных окаменелым гигантам. Кто рискнет отрицать, что эти каменные фигуры, изваянные богами, вдохновляли маленькую Камиллу? На маленького Поля они тоже повлияли очень сильно: много позже именно так изобразил он пустыню, где оказалась Виолена — двойник и антипод Камиллы, поскольку обе были раздавлены гнетом судьбы, отказавшей им в супружестве и материнстве.
В 1870 году семья Клодель обосновывается в Бар-ле-Дюк, где получил место Луи-Проспер. Камилла поступает в школу Сестер христианской доктрины. В 1876-м Луи-Проспера переводят в Ножан-сюр-Сен, расположенный в сотне километров от Парижа. Семья снова переезжает. Камилла, Луиза и Поль вверены заботам наставника, некоего господина Колена, которому Поль всю жизнь будет благодарен за накрепко вдолбленные основы латыни, орфографии и арифметики. Классическое образование Камиллы, похоже, дальше этого не пошло. Зато достоверно известно, что она много читала, особо увлекаясь античными авторами и — любопытная деталь — Оссианом. Сохранился каталог библиотеки Луи-Проспера Клоделя, которую Камилла храбро осваивала: там представлена почти вся античная литература. Она жадно и бессистемно глотает книги, как это бывает в отрочестве, особенно в одиноком отрочестве. Отсюда — редкий для того времени культурный уровень Камиллы.
Религиозное воспитание Камиллы было поверхностным. Она исполняла все положенные обряды — вплоть до первого причастия, хотя отец ее был человеком к религии равнодушным, даже, можно сказать, вольнодумцем. Мать, не имевшая собственного мнения, проявляла к делам церкви такое же безразличие; благочестивой ей предстояло стать лишь в старости — под влиянием Поля. Камилла совсем юной открыла для себя Ренана и всерьез склонилась к агностицизму. Нетрудно догадаться, что в семье Клоделей, как во всех семьях того времени, тема секса была запретной. Этого никак нельзя забывать, оценивая творческую дерзость Камиллы Клодель.
О творчестве Камиллы той поры уже можно говорить всерьез. Сохранилась до наших дней память о трех ее тогдашних произведениях: “Наполеон”, “Бисмарк” и “Давид и Голиаф”. Ныне эти работы утеряны, но они были достаточно значительны, чтобы привлечь внимание Матиаса Морхардта, который в последней работе особо отметил удивительное благородство позы Давида. Камилле было тогда пятнадцать лет. Скульптор Альфред Буше, живший в то время в Ножан-сюр-Сен, был поражен столь многообещающим юным дарованием. Эта встреча знаменует решительный поворот в судьбе Камиллы.
Как именно учил мэтр юную художницу, мы не знаем. Свидетельств нет. Даже Поль Клодель, на глазах у которого формировалась личность его сестры, не сообщает об этом почти ничего. Правда, поэт вообще редко упоминает о ножанском периоде. Позже мы вернемся к влиянию Буше — его трудно переоценить. Увы, там, где есть что сказать критику, биограф не располагает никакими материалами. Вполне вероятно, что Буше уже тогда представил Камиллу Полю Дюбуа.
После четырех лет службы в Васси-сюр-Блез, недалеко от Бар-ле-Дюк, Луи-Проспера перевели в Рамбуйе. Он расстался с семьей, которую в апреле 1881 года перевез в Париж, чтобы дети могли получить первоклассное образование, — это была его давняя мечта. С легкой руки Поля Клоделя бытует легенда, будто увлекла семью в Париж неукротимая Камилла; нам же отцовское повышение по службе представляется более правдоподобным объяснением.
В Париже Камилла посещает Академию Коларосси, ставшую впоследствии мастерской Гранд Шомьер. Кроме того, снимает мастерскую на улице Нотр-Дам-де-Шан вместе с тремя подругами-англичанками, вольнослушательницами Школы изящных искусств, с которыми познакомилась, по-видимому, в Академии Коларосси. Одна из них, Джесси Липском, осталась ее близкой подругой. У этой Джесси, в замужестве миссис Элборн, Камилла часто гостила, бывая в Лондоне. В дальнейшем молодой англичанке, которая и сама была ученицей и другом Родена, предстояло сыграть опасную роль наперсницы в бурных взаимоотношениях этой любовной пары. Она — одна из тех, кто не покинул Камиллу до конца. Джесси посетила Камиллу в приюте для душевнобольных по крайней мере один раз, в 1924 году, а возможно и в 1930-м. В 1886-м молодые художницы вместе выставлялись в Ноттингеме. В 1887-м Джесси дала на выставку терракотовый портрет Камиллы.
Альфред Буше порой заходит к ним в мастерскую и оделяет советами “девушек в цвету”. Он уверен в будущем успехе подопечной и снова приводит ее к своему учителю Полю Дюбуа, в ту пору — директору Школы изящных искусств. Трудно представить что-либо более чуждое художественным принципам маститого скульптора, гладкой фактуре и традиционным темам, нежели энергичной лепки импровизации молодой девушки на волнующие ее темы. Однако эти маленькие скульптурные группы поразили его своей неожиданной оригинальностью. Неожиданно звучит и его замечание, цитируемое Морхардтом: “Вы учились у господина Родена?” Надо сказать, что в его устах сопоставление со скульптором, тогда еще малоизвестным, вызывающим у собратьев скорее недоверие и насмешки, чем восхищение, мало походило на комплимент. Справедливости ради добавим, что Поль Дюбуа вслед за Альфредом Буше, поистине великим открывателем талантов, встал в ряды тех, кто защищал Родена, когда его обвинили в использовании слепков. Так или иначе, до этого Камилла Клодель никогда не слыхала имени Родена. Вопрос Поля Дюбуа неудивителен, но показателен, он подтверждает, что на самом деле человек усваивает в учении лишь те истины, которые уже носит в себе.
Иногда пишут, что Поль Дюбуа был одним из учителей Камиллы. У Морхардта мы таких сведений не находим — он упоминает просто встречу, и нам не удалось установить, посещала ли она этого скульптора регулярно. Очевидно одно: прямо или косвенно — через Альфреда Буше — определяющее влияние на творчество Камиллы Клодель оказала флорентийская школа; так были заложены основы, позволившие ей позднее сопротивляться чарам Родена. К этим годам становления относятся первые дошедшие до нас работы Камиллы Клодель: “Поль Клодель в 13 лет” (1881) и “Старуха Элен” (1882). Камилле было соответственно 17 и 18 лет. Это уже не робкие опыты начинающей, а вещи, достойные упоминания в ретроспективе ее творчества не только в качестве документального материала; более того, они свидетельствуют о мастерстве, удивительном для того времени, ведь гении давно уже не заявляли о себе небывало ранним расцветом, как в великие эпохи. В 1881 году Альфред Буше получает премию Салона — поездку в Италию. Он просит Родена в его отсутствие взять на себя руководство мастерской на улице Нотр-Дам-де-Шан и рекомендует обратить особое внимание на Камиллу. Так Камилла Клодель стала первой женщиной среди учеников Родена — сорокалетнего, вызывающего яростные споры Родена, которому еще только предстояло прославиться на весь мир.
С РОДЕНОМ
1883–1893
Судьба свела Родена с существом, казалось, специально избранным для него из тысяч. Как жаль, что лишь теперь он встретил ту, что словно создана была стать его подругой и ученицей. Она была молода и прелестна, в ней чувствовалась порода…
Джудит Кладель. Роден
Точно датировать встречу Камиллы Клодель и Родена — задача непростая. В зависимости от того, кому верить — близким ли, которых вряд ли можно считать надежными свидетелями, поскольку стыдливость, желание защитить семейную честь мешают им быть до конца искренними, или же историкам, — исходной датой считается то 1888 год (Морхардт), то 1883-й (Ж. Кассар). Морхардт, безусловно, заблуждается или пытается ввести в заблуждение нас: сопоставим поездку Буше в Италию и новый взгляд Родена на женское тело после 1881 года — года завершения “Евы”. Впрочем, вошло в обычай слегка преувеличивать долг Родена перед прекрасной Камиллой в том, что касается этого нового взгляда.
Сразу ли они стали любовниками? Или сначала она была только моделью? Этого никто никогда не узнает. Вспомним, что “Женщина, сидящая на корточках” или “Сладострастие”, работы 1882 года, сделаны с Адели, его тогдашней натурщицы, — целомудренными их никак не назовешь. С другой стороны, как раз в 1881 году Роден особенно тщательно скрывал от публики свою личную жизнь, а Роза Бере — как в облике “Миньоны”, так и “Беллоны” — изображена не слишком привлекательной. Иными словами, то, что зреет в душе, как это часто бывает, опережает внешние события или переплетается с ними. Роден в то время работал в мастерской на улице Юниверсите, и скоро Камилла, забросив Нотр-Дам-де-Шан, стала там бывать постоянно. Как раз тогда Родену ввиду обилия заказов пришлось набирать исполнителей и учеников. Но до Камиллы ни один из них не стал чем-то большим, чем чисто технический исполнитель, за исключением старого друга Родена Жюля Дебуа, который был всего на десять лет моложе мэтра и мог считаться скорее компаньоном, особенно если иметь в виду их общую работу для фарфоровой фабрики в Севре.
Итак, Камиллу можно назвать старшей — в творческом плане — среди учеников Родена, из школы которого вышли Шнегг, Помпон и Бурдель. Морхардт, неистощимый кладезь сведений об этом периоде, описывает “молчаливую и трудолюбивую девушку, которая неутомимо месит глину и лепит”. Очень скоро из ученицы она превращается в помощницу. Роден в ту пору полностью поглощен замыслом и исполнением “Врат Ада”. Камилла принимает в этой работе двойное участие: она и позирует, и компонует; не одной грешнице ссудила она свое тело и не к одной фигуре, скорее всего, приложила руку. По словам Морхардта, Роден доверял ей лепить ноги и руки в некоторых больших композициях. Зная, какое значение придавал Роден рукам, это можно счесть высокой оценкой.
До 1888 года Камилла живет у родителей, которые, по всей вероятности, ничего не ведают о личной жизни дочери, не слишком соответствующей правилам поведения барышни из приличной семьи. Роза Бере, постоянная подруга Родена, тоже не подозревает о своем несчастье. Роман не истощает творческие силы любовников — напротив, стимулирует их. В стиле Родена обнаруживаются лирические мотивы. Он начинает новый цикл, включающий “Вечного кумира”, “Данаиду” — прекрасное произведение, моделью для которого, по-видимому, служила Камилла, — “Сирен” и “Поцелуй” — он производит впечатление более поверхностного варианта “Шакунталы”. Лицо возлюбленной, как и ее тело, преследует его подобно наваждению; свидетельство тому — “Мысль”, “Аврора”, “Святой Георгий” и просто серия ее портретов.
В это время Камилла Клодель очень решительно вырабатывает и утверждает собственный стиль. Учитывая, что бюст шестнадцатилетнего Поля Клоделя создан в 1884 году, тогда же, когда она поступила в мастерскую Родена, можно утверждать, что к моменту встречи с тем, в ком хотят видеть ее единственного учителя, ученичество ее было уже завершено. Ей было двадцать лет. Упомянутый бюст — самостоятельное произведение, ныне представленное во многих музеях как один из лучших образцов скульптуры своего времени. Нельзя не поразиться на редкость раннему созреванию художницы, и как тут не вспомнить ее брата, который написал “Золотую голову” в двадцать лет. Среди дошедших до нас произведений — бюсты “Луиза” (портрет сестры,1885), “Фердинанд де Массари” (зять, 1888) и “Шакунтала” (1888). Из всех этих вещей, выставленных в Салоне французских художников, только “Шакунтала” удостоилась одобрения, которое теперь выглядит величайшей недооценкой, особенно если вспомнить, сколько медалей — пусть и не первой, так второй степени — присуждалось всяким Лавассерам, Эженам Кинтонам, Камилям Лефеврам, Эндерлинам и Гарде, ныне полностью забытым.
В конце 1888 года Роден приобретает еще одну мастерскую — Фоли Небур, бульвар Итали, 68, обветшалый роскошный особняк, окруженный запущенным садом, который некогда был любовным приютом Жорж Санд и Альфреда де Мюссе. Неизвестно, до или после того, как Камилла поселилась в доме 11З на том же бульваре, нашел он это замечательное обиталище. Она водворяется там в качестве его помощницы. И дом этот был бы пределом мечтаний, не находись он в столь плачевном состоянии. Тем не менее скульптор всю жизнь вспоминал Фоли Небур с нежностью, как место, где ему лучше всего работалось.
Трудно сказать, была ли Камилла Клодель уже тогда достаточно независимой, чтобы совсем уйти из семьи и обосноваться на бульваре Итали — наполовину в Фоли, наполовину у себя, — и на самом ли деле именно в то время началась ее самостоятельная жизнь. Ни писем, ни документов об этом нет. А ведь денежные проблемы, о чем не следует забывать, в переписке великих художников обычно представляют собой тему неисчерпаемую; не станет исключением и Камилла Клодель. Возможно, Роден, благосостояние которого возрастало, поддерживал ее, выплачивая вознаграждение — безусловно, заслуженное — за работу с ним. Камилла к тому времени стала мастером высочайшего класса. Она давно овладела всеми премудростями лепки, но и как форматор не знала себе равных, мрамор же тесала с энергией и точностью, каких никогда не достиг и сам мэтр. Не надо, однако, рисовать себе некую Камиллу-затворницу, живущую только ради своего наставника и покровителя, наподобие Эстер из “Блеска и нищеты куртизанок”, разве что занятую не одной любовью, но еще и искусством.
На это время приходится взлет популярности Родена. Почетные и ответственные заказы — памятник Клоду Лоррену в Нанси (1884), “Граждане Кале” (1887), престижные выставки, в том числе совместная с Моне в 1889 году, затем участие во Всемирной выставке 1889 года, вызвавшее бурю восторгов и брани. Формируются и крепнут его политические связи в кругах высокопоставленных республиканцев и либералов… Известность, орден Почетного легиона, приемы отныне становятся внешним выражением близкого к официальному статуса мэтра. Вместе с Роденом Камилла вращается в высших кругах общества, знакомится с выдающимися людьми той эпохи. Несомненно, Роден предпочитает появляться в свете со своей красивой, жизнерадостной и остроумной подругой, а не с Розой, которую держит в тени. Камилла Клодель бывает у Гонкуров, у Доде, у Октава Мирбо. Ею начинают интересоваться серьезные критики, особенно Матиас Морхардт, в ту пору редактор газеты “Тан”, который много сделает для нее впоследствии.
Мы не располагаем сведениями о ее знакомствах с живописцами и скульпторами, не считая Леона Лермитта: в 1889 году Камилла сделала портрет его сына, а в 1895-м — бюст самого художника. О ее связи с импрессионистами упоминают лишь Фриш и Шипли. Они описывают поездку с Роденом в Канн к Ренуару, в том числе эпизод, обладающий ароматом легенды: Камилла открывает вольеру, чтобы выпустить на волю птиц. Она не могла не встретиться с Моне на их совместной с Роденом выставке в галерее Жоржа Пти в 1889 году. И здесь мы подступаем к одной из жизненных драм Камиллы Клодель: необычайно рано достигнув творческой зрелости, она стала любовницей уже признанного художника много старше ее. И эта близость разлучала ее с теми, что могли бы быть ее истинными соратниками. Ибо, в сущности, Камилла совсем ненамного старше Матисса, Руо, Боннара, впитавших уроки Гогена и Ван Гога, тогда как она, вслед за Роденом, ограничилась поздним Каррье-Белезом, бледным солнцем Пюви де Шаванна, а то и светотенями от газовых рожков Эжена Каррьера. По всей вероятности, ей, поклоннице эстетской литературы конца века, гораздо ближе были Гюисманс и Ренан, чем Рембо и Малларме. В этом, надо сказать, брат Поль оказался куда более современным: в 1886 году он открыл для себя Рембо, а в 1887-м послал Малларме стихи, которые так поразили поэта, что он пригласил юношу в свою литературную группу. Зато Камилла проявила тонкий вкус, открыв для себя и высоко оценив японское искусство — на знаменитой выставке 1883 года в галерее Жоржа Пти. Позднее она принялась горячо пропагандировать его в Париже. Однако влияние этой изысканной простоты проявилось в ее творчестве годы спустя, когда она освободилась от Родена.
В 1886 году состоялась поездка на остров Уайт с братом. Он привез оттуда репортаж за подписью Пьер Серван, она — несколько не менее удачных рисунков, опубликованных в журнале “Ар” (1887). 1887 годом датируется первая поездка Родена и Камиллы в Турен. Затем это вошло в обычай. Камилла и ее покровитель обнаружили для себя замок Илетт в Азе-ле Ридо, который стал летним приютом их любви. Роден приезжал к Камилле в этот великолепный дом, владелица которого госпожа Курселль принимала платных постояльцев. С 1892 года предлогом для таких поездок ему служили поиски подходящей модели — человека, напоминающего лицом Бальзака.
К этому периоду относится единственное дошедшее до нас любовное письмо Камиллы к Родену:
Поскольку делать мне сейчас нечего, пишу вам опять. Вы не представляете, как хорошотеперь в Илетт.
Сегодня я ела в центральной зале (которая служит оранжереей и откуда с обеих сторон виден сад).
Г-жа Курселль предложила (без всяких намеков с моей стороны), чтобы вы, если вам будет приятно, у нее время от времени или даже всегда столовались (по-моему, ей этого ужасно хочется). А там до того красиво!
Я гуляла в парке, вокруг все уже убрано — сено, пшеница, овес, можно везде ходить, это чудесно. Если вы будете умником и сдержите слово, нас ждет рай.
Вы получите для работы ту комнату, которую захотите. Старушка, думаю, будет у ваших ног.
Она мне сказала, что я могу смело купаться в реке, там, где купаются ее дочь и служанка.
С вашего позволения я так и поступлю, это доставит мне большое удовольствие и избавит от необходимости ходить в бани в Азе. Как мило было бы с вашей стороны купить мне купальный костюмчик, темно-синий с белой отделкой, раздельный, кофточка и панталоны (размер средний) в Лувре, или в Бон Марше (саржевый), или в Туре.
Я сплю голая, чтобы представить себе, будто вы рядом, но когда просыпаюсь, это не так.
Главное, не обманывайте меня больше.
Трудно сказать, пользовались ли этим пристанищем регулярно. Во всяком случае, в 1894 году поездки туда прекратились. И тут мы касаемся одной из загадок жизни Камиллы Клодель: были ли у нее дети от Родена? Может, в Турене она скрывала тайную беременность? Или выздоравливала после тяжелого аборта? Может, навещала ребенка или детей у кормилицы? Документы, которыми мы в настоящее время располагаем, не дают ответа на эти вопросы. Джудит Кладель вспоминает такой разговор с Роденом. “Говорят, у вас четверо детей от Камиллы, так ли это?” — “Будь это так, — отвечает Роден, — было бы ясно, в чем состоит мой долг”. В других слухах фигурируют двое детей мужского пола. Жак Мадоль, имевший случай ознакомиться с перепиской Ромена Роллана, дает понять, что есть два письма, в которых речь идет об аборте. Пока истина не будет установлена, станем, по крайней мере, иметь в виду эту печальную тайну — как еще одну рану, и едва ли не самую болезненную, в трагической жизни Камиллы Клодель. Добавим лишь, что к этому вопросу надо отнестись с большей осторожностью, чем это делают многие биографы Родена, описывающие житье в Турене как веселые эскапады в тайне от Розы. Такой поспешный вывод часто извлекают из письма Родена к Розе.
Не беспокойся и побудь немного у Вивье, я весь в работе, и она чем дальше, тем более захватывает меня. Я чувствую себя живущим в давних эпохах, потому что во мне, бесспорно, есть след тех минувших времен, и эта архитектура как будто пробуждает в глубине моего мозга что-то, что я прежде знал.
Я становлюсь архитектором, и так нужно. Потому что я доберу то, чего мне так не хватало для моих “Врат”. Пиши мне до востребования в Сомюр, Мен-и-Луара.
Я тебя целую и прошу как следует использовать Кампань (sic), чтобы набраться сил и провести еще одну зиму там, где тебе было так холодно.
Вообще же “Выздоровление” и “Прощание”, датированные 1892 годом, можно считать эхом тех мучительных эпизодов. Эта драма не обернулась для Камиллы творческим бесплодием: незадолго до 1894 года она закончила “Наследницу замка”, иначе называемую “Девочка из Илетт” или “Маленькая Жанна”. Таков парадокс творчества — чудесное детское лицо с отрешенным взглядом изваяла женщина, которой отказано в материнском счастье, к тому же терзаемая мыслью о жесточайшем жизненном крахе.
С 1892-го по 1893 год между любовниками начался разлад. К этому вело все. Уязвленное творческое самолюбие Камиллы, которая считала, что расчетливый мэтр использует ее в своих интересах, доказательством чему служит вся ее жизнь. Оскорбленные материнские чувства, а также, разумеется, конфликт с Розой Бере, которая, чуя угрозу своему положению, становится все агрессивней. Этот конфликт немало комментировали, основываясь на намеках Джудит Кладель. Но вернее было бы искать причины разлада не столько в ревнивой злобе Розы, сколько в неизбежности столкновения двух незаурядных характеров — рано или поздно оно должно было произойти. Можно удивляться другому: что связь двух людей столь бурного и столь несхожего темперамента продлилась около пятнадцати лет.
Какой итог можно подвести отношениям этой пары, если опираться лишь на скудные документы и отказаться от соблазна что-то домыслить и дать волю воображению — то есть не впутывать в дело свои фантазии, не имеющие ничего общего с исторической истиной?
Вывод первый: на сегодняшний день у нас нет доказательств, что Камилла питала к своему учителю то, что называют страстью. Ни одного пылкого, восторженного письма, ни одного свидетельства, что она вела себя словно околдованная, да и позднее она не выглядела оглушенной или потерянной, что можно было бы считать проявлением сердечной муки, глубокого чувства. Напротив, все наводит на мысль, что в привязанности Камиллы, вопреки ее пылкому темпераменту, было нечто рассудочное и рассчитанное, что свою роль сыграли соображения честолюбия. Нет сведений и о том, чтобы этот пылкий темперамент нашел для себя иной выход.
Бытовая и общественная ситуации тоже не благоприятствовали тому, чтобы роман их был полнокровным и длительным. Камилла жила наполовину в семье и обманывала родных. В те времена считалось немыслимым, чтобы девушка из буржуазной семьи стала признанной содержанкой сорокалетнего “развратника”. Это называли распутством, и, судя по письмам, которые много позже госпожа Клодель-мать писала своей душевнобольной дочери, Камилла долго маскировала свое “падение” искусно выстроенной системой лицемерия: не она ли принимает в доме у собственных родителей в Вильнёве господина Родена с супругой — Розой Бере. И Роза пребывает в не меньшем неведении, чем Клодели, относительно греховной идиллии учителя и ученицы. Правда, Роден ввел Камиллу в самые блестящие салоны того времени, где задавали тон люди свободомыслящие, которые, не питая никаких иллюзий о характере отношений этой пары, принимали ее, следовательно, поощряли их связь. Иными словами, Камилла Клодель предстает перед нами прямо-таки хамелеоном, что мало вяжется с внутренней цельностью, которая всеми за ней признавалась.
Вывод второй: отношениям Камиллы и Родена недоставало простоты и равенства, того, что служит основой глубокой и прочной привязанности между людьми незаурядными. Камилла называла Родена “господин Роден”, равно как и Роден свою ученицу — “мадемуазель Камилла”: признак своего рода кастовой границы. Они не жили по-настоящему вместе, довольствуясь тайной связью. Немногочисленные письма Камиллы к любовнику, которыми мы располагаем, свидетельствуют более о кокетстве, чем об истинном чувстве. Она посылает его, снабдив подробными указаниями, купить купальное трико в Бон Марше — издевка чисто женская. Тучный бородач, занятый покупкой этого весьма интимного по тем временам предмета туалета, должен был выглядеть чрезвычайно комично. Когда она пишет, что спит голая, чтобы чувствовать себя ближе к нему, это лексикон скорее мидинетки, чем романтической героини. В равной мере чувству Камиллы — во всяком случае, многое на это указывает — недостает безрассудства, ослепленности. Совершенно очевидно: Камилла с самого начала ясно видела все слабости Родена. Ее рисунки-шаржи, дошедшие до нас, беспощадны; между тем они сделаны до разрыва, до того, как она почувствовала презрение к нему, что можно считать первым шагом к ненависти. Семейная черта Клоделей — жестокость, далеко не христианская, здесь дает себе волю.
Зато Роден, по-видимому, питал к своей ученице сильнейшую привязанность. Переписка его с Джесси Липском-Элборн в этом смысле весьма показательна, хотя использовать ее трудно: письма не датированы, некоторые утеряны, многие пассажи неразборчивы. Из писем видно, как обеспокоен Роден душевным состоянием молодой женщины. Он чувствует свое бессилие перед этим своевольным ребенком и не знает, как с ним справляться. “Наша милая упрямица, которая нами вертит”,— называет он ее. Во всех этих письмах сквозит забота Родена о возлюбленной. Так, в 1886 году он пишет:
Милый друг, не знаю, как благодарить вас за вашу любезность, вы не знаете, сколько добра мне сделали, а моя бедная душа, такая усталая, нуждается в ободрении, ах! я пересекаю сейчас очень уродливые пейзажи, а между тем хорошо мне только наедине с собой и с моими химерами. Восхитительная природа, восхитительная реальность стран, омываемых солнцем, таким чистым в эту пору; прекрасная Франция, но от моей милой англичанки нет никаких известий, впрочем, вся моя сила забилась в этот угол, вот она, подавленная, оробевшая, выживет ли она — почем я знаю? Пришлите мне ваши фотографии (нрзбр). Обращаюсь с этой просьбой к вашей несравненной доброте, пусть м-ль Камилла и вы будете рядом и в то же время пусть ваши прелестные индивидуальности сохранятся во всей своей цельности.
Вы не прислали мне ничего из того, что я просил!
Я часто заглядываю в свой ящик, иногда внезапно возвращаюсь издалека, из деревни, откуда угодно, думая о письмах из Англии.
Не заставляйте меня слишком томиться (нрзбр) и постарайтесь, чтобы ваша подруга не была такой ленивой.
Боюсь, что показал себя педантом, послав вам газеты, но это не мелочное тщеславие, я думал, что заслужу у вас немножко больше уважения и дружбы. Может быть, получится наоборот и то, что, я думал, будет хорошо, только насмешит вас: я уверен, что (нрзбр) девушки странным образом понимают успех и осмеивают его, впрочем, они правы.
Неуклюжесть стиля, повторы усугубляют впечатление смятения, растерянности. Похоже, Роден начал осознавать, что эта любовная история не похожа на остальные. Юная ученица, в отношениях с которой он попросту воспользовался правом сеньора, как с другими натурщицами, мало-помалу, благодаря своей внутренней энергии и таланту, брала над ним верх. Тем не менее многое: воспоминания близких людей, переписка, а главное, работы — говорит о том, что первые годы одаривали любовников если и не счастьем, то радостью и ни он, ни она не доискивались, на чем держится хрупкое равновесие их отношений.
Созданные в те благополучные годы творения Родена тоже можно считать немым свидетельством того, как привязанность его становилась все искренней.
К тому же в области творчества между Роденом и Камиллой установилась своего рода общность имущества — но именно она в момент раздела сделалась поводом для ссор. Никто из них не измерял свою долю в совместном владении, пока не начались конфликты. Ведь очевидно, что ко многим произведениям Родена приложила руку Камилла Клодель. Таково происхождение составных фигур: скромное подобие взаимообмена между великими мастерскими прошлого, который приводит ныне в большое замешательство искусствоведов — сколько Перуджино написано Рафаэлем и сколько Рубенсов — Ван Дейком? Разглядывая “Врата Ада”, специалист по Камилле Клодель узнает где руку, где ногу, где торс. Неудивительно при той родственности стиля, что существовала между Роденом и Камиллой на протяжении нескольких лет. Но даже если не опускаться до подобных мелочных подсчетов, две работы Камиллы — стоит взглянуть на них под таким углом — не могут не вызвать у нас недоуменных вопросов. Это “Девушка со снопом” и “Этюд мужской головы”.
“Девушка со снопом” — сестра-близнец “Галатеи” Родена, значительного произведения, ставшего первоосновой еще нескольких, например “Брата и сестры”. А между тем почти натуралистическая простота этой девичьей фигуры как нельзя более клоделевская, в ней нет и следа присущей Родену напряженности. К тому же известно, что сам он не работал в мраморе, тогда как Камилла была превосходным мастером: так кто же вдохновитель и исполнитель “Галатеи”, как не Камилла? В “Мужской голове” Камиллы Клодель чувствуется живая непосредственность наброска, но вот она превращается в персонаж группы Родена “Скупость и роскошь”. Здесь тоже все указывает на то, что учитель использовал ученицу.
Возвращаясь к “Вратам Ада”, отметим одну из фигур, эскиз которой, выставленный в музее Родена под названием “Крик”, кажется вышедшим прямо из рук Камиллы Клодель, — это двойник “Молящей”.
Их подспудная драма была драмой духовной общности, которую логика должна была бы привести к общности в жизни, чему мешала борьба характеров, грозя обоюдным бесплодием. Таков парадокс их связи — феномен, впрочем, хорошо известный. И все же Роден, как случается у большинства влюбленных, был несчастнее вдали от Камиллы, чем рядом с ней.
Те, что общались с ним в пору затяжного разрыва, утверждают: он и не скрывал неисцелимой раны, которая, подобно стигматам, будет терзать его до самой смерти. Поль Моран, тогда совсем юный, рассказывает, как Роден приходил к его отцу в 1898 году:
Я был совсем еще мальчишкой, когда однажды утром к нам во время завтрака вдруг явился Роден. “Он прячется от своей обожательницы”, — сказал мой отец. Мне показалось забавным, что такой огромный и толстый великан, как Роден, может бояться какой-то женщины. Отец возразил: “Тут нет ничего смешного, это очень печальная история. Девушка — его лучшая ученица, гениальная; она красавица и любит его; но она сумасшедшая. Ее зовут Камилла Клодель”. Так я впервые услышал это имя.
По слухам, в агонии он звал “свою жену”, а когда ему указали на Розу Бере, с недавних пор законную супругу, пробормотал, как во сне: “Нет, не эту, другую, которая в Париже”. Не все можно объяснить алхимией страсти. Можно с равной вероятностью предполагать, что Роден с прозорливостью глубоко любящего сумел заглянуть за пределы сиюминутного и заметил первые признаки болезни, незримо развивавшейся в Камилле. Или по каким-то ее поступкам, словам догадался, что Камилла — на пути к полной погибели, и инстинкт самосохранения, присущий каждому живому существу, пробудил в нем защитную реакцию. Возможно, эти предчувствия в то же время порождали новый соблазн, влечение, в котором смешивались жалость и любопытство. Если так — бедный Роден! Его тоже стоит пожалеть. Но как можно не воскликнуть: “Бедная Камилла!” — представив себе ее судьбу.
Добавим, что привязанность его не была эгоистической. Нельзя не признать: Роден много сделал для Камиллы Клодель, и не будь она так запальчива в своих амбициях, он мог бы дать ей все шансы на успех — по крайней мере в Париже. Ему она обязана личным знакомством с видными критиками того времени — Гюставом Жефруа, Матиасом Морхардтом, Октавом Мирбо, Роже Марксом, — которые отнеслись к ней очень благосклонно. Письмо Родена к Октаву Мирбо показывает, с каким живым интересом воспринимал он все, что касается Камиллы, а между тем написано оно уже после разрыва:
Что до м-ль Клодель, чей талант достоин Марсова поля, она остается почти в безвестности. У вас есть для нее план, вы дали об этом знать, несмотря на потоки клеветы, вы шли на жертвы ради нее, ради меня, ради ваших убеждений. Препятствие, Мирбо, — ваше сердце, мешает ваше великодушие.
Я не знаю, согласится ли м-ль Клодель прийти к вам в тот же день, что и я, вот уже два года, как мы не виделись и я ей не писал, так что не мне уславливаться с ней о чем бы то ни было, все это ложится на вас. Нужно ли мое присутствие, решит м-ль Клодель.
Мне теперь немного лучше — временами, когда я бываю доволен, — но какая жестокая штука наша жизнь. Шаванн должен написать письмо на имя министра, которое подпишут несколько друзей, но пока особых надежд я не питаю; все как будто считают, что м-ль Клодель моя протеже, тогда как это непризнанный талант, она может похвалиться враждой моих друзей-скульпторов, да и других — они блокировали все мои усилия в министерстве, потому что там ничего в этом не смыслят, не будем отчаиваться, друг мой, потому что я уверен, в конце концов ее ждет успех, но бедная художница будет несчастна, еще несчастнее потом, узнав жизнь, сожалея и плача, осознав, может быть слишком поздно, что она стала жертвой собственной творческой гордыни, она — художник, честно работающий, но, может быть, ей придется пожалеть о силах, потраченных на эту борьбу и запоздалую славу, раз за них приходится расплачиваться болезнью. <…> Мое письмо слишком уныло, смотрите, чтоб оно не попалось на глаза м-ль Клодель.
Камиллу принимали у Доде, у Менар-Дориана, у Робера Годе. Роден выдвигал ее в Национальном обществе искусств, как никого из своих учеников. Не счесть его рекомендательных писем в различные журналы; вот, например, одно из них — к редактору “Курье де Эн”:
Вы были так добры перечислить мне скульпторов, привлекших ваше внимание на Марсовом поле, позвольте указать вам на мою ученицу м-ль Камиллу Клодель, она из вашего департамента и сейчас снискала большой успех моим бюстом — он помещен на почетное место в Салоне. Лермитт, заслуженный художник департамента, тоже заказал ей бюст. Моя ученица уже делала бюст одного из его детей. Парижские журналы создали ей имя. Я льщу себя надеждой, что вы не преминете оценить ее талант и не обойдете вниманием в вашем вестнике. Имя художницы уже очень известное — м-ль Клодель. “Ар франсе” в номере, посвященном Марсову полю, дает ее большую фотографию. Примите, сударь, вместе с извинениями за мое предложение и просьбу, заверение в моих наилучших чувствах.
19 мая 1892.
Из-за внутренней напряженности в отношениях, о которой сказано выше, Роден не женился на Камилле. Однако Камилла считала такой союз возможным и желала его всем своим существом как спасения, которое искупило бы годы компромиссов, неудовлетворенности и затаенных обид. Ибо в начале нашего века, столь близком во времени и столь далеком по образу мыслей, женщина одинокая, тем более незамужняя, а уж тем более художница являла собой открытый вызов обществу. И выбор у Камиллы Клодель был небольшой: либо брак со знаменитым мэтром, либо своего рода затворничество, покаяние. Ныне мы знаем, что нельзя сбрасывать со счетов голос сверх-я, а ведь мать и сестра Камиллы настраивали его на определенный лад, как античный хор. Пережить такое крушение надежд — тут было отчего сойти с ума столь хрупкому созданию. Ведь Камилла потеряла не только любовь, куда важнее для нее было крушение карьеры и ощущение своей ненужности и бессилия. Если истоки ненависти Камиллы Клодель к Родену следует искать в ее безумии, то толчком, спровоцировавшим болезнь, и почвой, питавшей последующие эксцессы, можно считать именно эту обиду. Теряя Родена, Камилла теряла защиту, ту незримую китайскую стену, что ограждает тайные области души. Все рушилось, открывая доступ стихии бессознательного.
С 1893 года Камилла обособляется от Родена и в профессиональной, и в частной жизни. Работает и живет она в доме 113 на бульваре Итали. Однако продолжает видеться с Роденом, выезжать с ним на загородные прогулки, спрашивать советов. В 1895-м она пишет ему, поздравляя с “Бальзаком”. А дальше — ничего.
В этот период вклинивается один эпизод жизни Камиллы Клодель, давший немало пищи воображению публики. Сюжет благодатный: встреча двух дополняющих друг друга гениев, любовь великого властителя звуков, молодого и прекрасного собой, к великой ваятельнице, тоже молодой и прекрасной, — какой подарок для биографов! Мы имеем в виду связь Клода Дебюсси и Камиллы Клодель. Пожалуй, связь — слишком сильное слово, а дружба — слишком нейтральное. Скорее это было мимолетное приключение, которое, однако, потрясло Дебюсси, сердца же Камиллы, поглощенной своими счетами с Роденом, по-настоящему не затронуло.
Познакомились Дебюсси и Камилла Клодель где-то году в 1888—1889-м, задолго до ее разрыва со стареющим фавном. Дебюсси вернулся из Рима в 1887-м. Ему еще нет тридцати, это молодой безвестный музыкант, автор нескольких музыкальных композиций под общим названием “Забытые песенки”, нескольких пьес для фортепиано, одна из которых — “Арабески”. Он работает в журнале “Дамуазель элю”. Терпеть не может Родена, “скульптора от протухшего романтизма”, по его выражению. Он далеко не уверен, что Камилла может оказаться меломанкой, и ничто не предвещает молодым людям будущей идиллии. Однако некоторое дуновение симпатии возникло. Робер Годе был тому свидетелем. Оба регулярно у него бывали: Дебюсси играл на пианино свои сочинения, Камилла слушала в безмолвном восхищении — такую сцену в духе романтической гравюры описывает Годе. Известно, что Камилла открыла музыканту мир японского искусства через “Мангу” Хокусая.
Были ли они любовниками? Неизвестно. Что касается Дебюсси, то он жил с Габриеллой Дюпон, зеленоглазой молодой красавицей, которая несколько лет оставалась его подругой. В 1891 году Клод Дебюсси и Камилла Клодель перестали встречаться, почему — тоже неизвестно. Дебюсси, видимо, тяжело это переживал. Так, по крайней мере, можно заключить, прочитав его горестное письмо Роберу Годе от 13 февраля 1891 года:
…конец этой истории, о которой я вам рассказывал, подтвердил печальные ожидания; банальный конец, с анекдотами, со словами, которые никогда не должны были бы прозвучать. Я заметил странное явление, своего рода транспозицию: именно в тот момент, когда с ее уст слетали самые жестокие слова, я слышал в себе то несравненно восхитительное, что она говорила мне прежде! И фальшивые ноты (увы, подлинные!), сталкиваясь с теми, что пели во мне, раздирали мне душу так, что я переставал что-либо понимать.
Потом понять пришлось, и я оставил немалую часть себя на этих шипах, и долго предстоит мне восстанавливать рабочую форму в искусстве, которое исцеляет все! (Здесь есть своя ирония, поскольку искусство включает в себя все муки, и те, кого оно исцеляет, испытывают их потом в полной мере). <…>
Ах! Я по-настоящему любил ее, и любил с еще более горестным пылом оттого, что чувствовал по явным признакам: она никогда не согласится отдать кому-то всю душу, и сердце ее всегда выходило неуязвимым из любых испытаний на прочность! Теперь остается узнать, было ли в ней то, чего я искал! Или в ней вообще ничего не было!
Несмотря на все, я плачу об утрате этой Грезы Грез.
Эти слова как нельзя полнее подводят итог любовному приключению двух молодых художников. Во всяком случае, Дебюсси до самой смерти держал у себя в кабинете на камине ее скульптуру “Вальс”, попавшую к нему так и не установленным путем. Разрыв Камиллы и Родена связывают с этой идиллией, объясняя уход Камиллы ревностью Родена.
Этот эпизод подталкивает нас к еще одному вопросу: какое место занимала музыка в жизни и творчестве Камиллы Клодель? По воспоминаниям Жюля Ренара, она была совершенно лишена слуха и даже кичилась этим. Робер Годе утверждает обратное. Музыка присутствовала в тематике ее скульптурных работ: “Вальс”, “Флейтистка”, “Слепой скрипач”. Ее музыкальные вкусы следует, скорее всего, диалектически соотносить со вкусами Родена: тот терпеть не мог Вагнера. “Парсифаль” — скверная месса”,— говорил он. И так ничего и не понял в Дебюсси, который нагонял на него скуку. Достоверно известно, что Камилла была в числе тех, кто поддерживал Мусоргского: факт, делающий ей честь, однако единичный. Во всяком случае, именно музыкой замкнулась любовная тема в жизни молодой еще Камиллы Клодель. В дальнейшем ей не могут приписать ни одной серьезной связи. О молодости же своей сама она сказала так:
Роман… даже эпопея, “Илиада” и “Одиссея”. Чтобы описать ее, нужен Гомер, я бы сейчас не взялась — не хочу нагонять на вас грусть. Я на дне пропасти. Я живу в мире до того удивительном, до того странном. Та история — кошмар сна, каким была вся моя жизнь.
Что может характеризовать лучше этих слов трагедию Камиллы? И хотя нам лучше известны последствия ее, нежели развитие, не предпочтительнее ли подобная недосказанность? Да, какие-то романтические и эротические подробности остаются скрытыми от нас, но разве это мешает нам постигать творчество гениев?
Годы одиночества и конец творчества
1893–1913
…О нет, вконец измученный
Десятком тысяч мук, от кандалов уйду.
Слабее ум, чем власть Необходимости.
Эсхил Прометей Прикованный
Не порывая с Роденом окончательно, Камилла решительно отказывается от совместной жизни с ним. Она затворяется в своем доме на бульваре Итали, превращенном в мастерскую, где царит беспорядок, поражающий воображение посетителей. Двор чудес, по словам Морхардта. Камилле всего тридцать. Она еще достаточно молода, чтобы вступить в новый этап творчества, которое отныне стремится сделать независимым. Первые произведения этого периода безусловно можно назвать шедеврами, но они — что совершенно очевидно — задуманы еще при Родене: “Вальс” и “Клото”, представленные в Салоне 1893 года. Однако это уже не то, что ей хочется делать. Морхардт, передавая свои беседы с Камиллой, рисует, как увлечена она была зрелищем улицы и наблюдениями на прогулках. Все время, не посвященное работе, она проводит за разглядыванием прохожих и за долгими штудиями в музеях Лувра и Гиме. По-видимому, в этом насыщенном и целеустремленном уединении она накопила изрядное количество скульптурных набросков. Она делала их, глядя на проходящих или работающих в ее поле зрения, — на манер Домье, если бы Домье не ставил целью шарж, а любовно запечатлевал обыденную жизнь. Шкафы в ее мастерской, по словам Морхардта, набиты фигурками — богатым урожаем этих поисков. Грустно думать об этих работах, полностью уничтоженных или утраченных, ведь они были своего рода сокровищницей нравов и жестов эпохи, как танагрские статуэтки.
Камилла Клодель не имела дела с Академией, ее талант совершенствовался рядом с мастером, также отвергающим Школу искусств. Теперь она отчаянно старается порвать с роденовским стилем, ведь он играл для нее, не знавшей других влияний, роль академического. Такой разрыв требовал отваги, которой нельзя не восхищаться, — отваги интеллектуальной, а также душевной и физической. Но не переоценила ли она свои силы?
В своем поиске она ориентируется на то, о чем говорила Морхардту: малые формы, пластически передающие психологическое состояние. “И одетые!” — шутливо уточняет она. Реплика многозначительная, если вспомнить, что Камилла Клодель никогда не пренебрегала драпировкой, а с некоторых пор отводила ей все большую роль, в отличие от Родена, помешанного на абсолютной наготе, чуть ли не исповедующего нудизм — ведь даже старца Виктора Гюго он изображает словно застигнутым в ванне.
“Болтушки”, представленные в Салоне Марсова поля в 1895 году, открывают этот цикл. За ними следуют “Камин”, иначе называемый “Глубокая задумчивость” (1897), и “Поющий слепой старик” (ок.1900). Другие работы цикла утрачены или уничтожены. Роденовское влияние все же не совсем иссякло: пример тому “Зрелость” (1899), самая “литературная” композиция Камиллы, недвусмысленно отображающая драму ее жизни. Она продолжает заниматься портретом: бюст художника Леона Лермитта (1895), “Граф Мегре в костюме Генриха II” (1899), “Поль Клодель в 43 года” (1910), различные недатированные детские головки, “Эльзаска” (1902). Две работы на мифологические сюжеты, сделанные на заказ, выполнены в стиле, близком к тому, что господствовал тогда: “Гамадриада” (1897) и “Персей и Горгона” (1899). “Фортуна” и “Сирена” (до 1905) свидетельствуют о том, что Камилла выработала собственную классическую манеру, залог успеха у публики, обожающей прихотливые изгибы. Но этот взлет будет остановлен болезнью.
Приведенный выше список не так уж мал, но и не велик, если вспомнить, что это итог двадцати лет работы. Однако все очевидцы в один голос изображают Камиллу того периода затворницей, напряженно работающей, избегающей света. Вплоть до того, что Морхардт утверждает, будто весь круг ее общения ограничивался консьержкой! Она почти не путешествует; исключения — поездка на Гернси в 1894-м и в Пиренеи — с братом и супружескими парами Франки и Бертело — в 1905 году. Никаких выдающихся событий, никаких любовных связей, нет и громкого успеха. Отметим, однако, что с 1893 года она входит в состав жюри Национального общества искусств и остается в нем до 1899-го.
Есть тем не менее в творческой биографии Камиллы Клодель один эпизод, дающий понятие о разнице между сравнительной безвестностью у широкой публики и чрезвычайным уважением, каким она пользовалась в художественных кругах того времени, — отчасти, может быть, с легкой руки Родена. 16 января 1895 года на банкете в честь Пюви де Шаванна его участники — созвездие знаменитостей, в том числе сам Пюви де Шаванн, Роден, Альбер Бенар — постановили в память этого события преподнести Люксембургскому музею мраморную “Клото” работы Камиллы Клодель. Какая честь, если принять во внимание тогдашнюю престижность этой сокровищницы современного искусства и патриарший авторитет старика Пюви де Шаванна!
Тем временем Роден все отдаляется, захваченный водоворотом славы, званых обедов, официальной карьеры. В 1896 году Камилла просит Матиаса Морхардта передать скульптору, чтобы он больше к ней не ходил, но окончательно их отношения оборвались лишь в 1898-м.
Могло ли ее положение быть блестящим? Все свидетели согласно подтверждают, что нелюдимость Камиллы с годами обострилась. Она никогда не была по-настоящему светской, верная в этом отношении духу семьи Клодель, но теперь уже и вовсе избегает общества, редеет даже круг друзей: известна только одна верная подруга, Мария Пайетт, подруга детства из Вильнёв-сюр-Фер. Когда Роден приглашает Камиллу на приемы, она отказывается, ссылаясь на отсутствие новых платьев и обуви: “Я не могу пойти, куда вы приглашаете, — сказано в одном ее письме к Родену, — потому что у меня нет шляпы и обуви тоже, мои ботинки совсем износились”.
Тут мы касаемся одной из печальных реалий последних лет ее жизни в миру: Камилла впадает почти в нищету. Ее переписка кишит просьбами о помощи, обращениями за ссудами, и это нисколько не удивительно. Какие могли быть возможности у одинокой женщины без поддержки, без собственных средств? Что не мешает ей сохранять чувство юмора, как видно из ее письма к Эжену Бло от 1905 года:
Вот, наверное, единственное, что я могу ответить на ваше приглашение быть на Осеннем салоне: я не люблю иметь дело со всякими административными штуками, ничего в них не смысля, а потом, не могу являться на публике в тех туалетах, какими в настоящее время располагаю. Я — как Ослиная Шкура или Золушка, обреченная стеречь золу у очага, но не надеюсь на появление феи или Прекрасного принца, которые превратили бы мою одежку из шкуры или золы в платье цвета времени.
Сколько, в самом деле, расходов связано с ремеслом скульптора! Надо оплачивать не только мастерскую и материал, но и исполнителей, и форматоров. Крупная работа требует от 1500 до 1800 франков в год: глина, каркас, лепка — 600–800 франков; натурщики — 400 — 1000 франков. Исполнение в мраморе обходится дорого: хороший итальянский мрамор стоит от 1500 до 2000 франков за кубометр, а на сидячую фигуру в человеческий рост идет два кубометра.
Она влезает в долги; подвергается преследованиям, вплоть до суда: по приговору с нее должны взыскать 200 франков в возмещение ущерба и проценты, и она, чтобы расплатиться, вынуждена одолжить их у знакомого, который заподозрил, будто она содержит промотавшегося любовника, и это усугубляет ее досаду:
В качестве анекдота могу рассказать вам, что любезный Адонис снова выступил против меня с необоснованными претензиями: мы предстали перед судьей по гражданским делам с физиономиями висельников, я все не могу к этому привыкнуть (с того раза, когда меня вызывали в суд из-за совсем ничтожной суммы в восемнадцать су, которую я не хотела платить честному труженику).
Постановили: как капиталистка, эксплуатирующая бедняков, я обязана выплатить 200 франков несчастной жертве моей гнусной жестокости. После чего я их одолжила у одного знакомого, который счел это подозрительной и слишком далеко зашедшей шуткой, обвинил меня в предосудительной связи, на которую мне и понадобились деньги, и посоветовал на будущее добывать средства более мирными способами.
С тех пор всякий раз как я прихожу со своими гипсами, он, едва меня завидев, без всяких церемоний показывает мне спину. Он всерьез убедил себя, что я — язва и чума для доброжелательных и великодушных людей, интересующихся искусством, и что, появляясь со своими гипсами, я могу обратить в бегство хоть самого императора Сахары.
Есть сведения, что отец, а также брат регулярно помогали ей деньгами, — втайне от двух Луиз, матери и дочери. Ей приходилось зарабатывать на жизнь прикладным искусством, изготовляя модели предметов обихода, например ламп или пепельниц, что в ремесленном плане связывает ее со стилем модерн. Эти модели были анонимными, и идентифицировать их не удалось. Однако нельзя сказать, что она пребывает в безвестности. Более того, ее репутация становится все выше. Почти каждый год она выставляет свои работы то в Национальном обществе искусств, то на Осеннем салоне или Салоне независимых, то в галереях Бинга и Эжена Бло, и даже не только в Париже, но и за границей: в Салоне свободной эстетики в Брюсселе (1894), в Женеве, в Риме, возможно и в Нью-Йорке. Ее “Гамадриада” представлена на Всемирной выставке 1900 года — честь немалая. Там она оказалась в соседстве с Роденом, который выстроил на собственные средства целый павильон для своих работ.
С коллекционерами — всегда богатыми, как не преминул бы заметить Флобер в своем “Лексиконе прописных истин”, — она познакомилась еще у Родена, и теперь они проявляют интерес к ее творчеству. Назовем некоторых из них: Робер Годе, художник Леон Лермитт, Жоан и Пейтель, граф и графиня Мегре, Морис Фенай. Последнему она пишет:
Я надеюсь, что с вашей помощью сумею закончить “Волну”, если вы соблаговолите не лишать меня вашего покровительства — меня, художницу истинно французскую, а между тем так мало поощряемую, которая, двадцать лет выставляясь в Салоне, все еще пребывает в том же положении, что и в самом начале, несмотря на лживые обещания некоторых людей.
Она не обделена вниманием критики: Гюстав Жефруа регулярно посвящает ей целые статьи в “Ви артистик”. В 1897 году в “Ревю идеалист” появляется прекрасная статья Анри де Брена. Это более чем критика — это портрет. В 1898-м верный Матиас Морхардт, в то время главный редактор газеты “Тан”, публикует в “Меркюр де Франс” свое похвальное слово Камилле Клодель. Это более чем портрет — это дифирамб. В журнале “Фемина” в 1903 году Габриель Реваль называет ее величайшим скульптором Франции. Между тем свидетельства и документы говорят об усугубляющемся душевном расстройстве, о прогрессирующей депрессии.
В 1896 году Камилла переезжает с бульвара Итали; год она живет в доме 63 на улице Тюренн, а потом, в 1899-м, поселяется в доме 19 по набережной Бурбон, где ей суждено прожить до 1913 года в темной двухкомнатной квартире, столь же неустроенной, сколь загроможденной — под стать ее маниям. Все еще красивая, девически стройная в 1897 году, на фотографиях 1899-го она предстает отяжелевшей, постаревшей — она выглядит много старше своих лет. Депрессивное состояние, на котором мы еще остановимся подробнее, усугубляется профессиональным кризисом — она словно топчется на месте. Несмотря на “Болтушек”, Камилле Клодель не удается убедить слепую критику, что она не вечная ученица Родена, что отныне в искусстве она сама по себе. Во всех работах этого времени угадывается еще и мольба о настоящем признании, а оно никак не приходит. Великий скульптор, чтобы жить своим искусством, должен быть признанным. Скульптура — искусство дорогостоящее: основа его величия — в равной мере и основа его рабства. Чтобы быть оцененным по достоинству, оно нуждается в государственных заказах, в возможности украшать общественные места. Если бы Родену так никогда и не были заказаны “Врата Ада”, “Граждане Кале”, “Гюго”, ему пришлось бы остаться светским портретистом, поставлять эскизы для фабрики в Севре и наводнять буржуазные гостиные статуэтками.
А Камилле Клодель крупных заказов не досталось. Шли разговоры о том, чтобы поручить ей создание памятника Альфонсу Доде и другого — Огюсту Бланки, но на деле ничего из этого так и не вышло. Поневоле задумаешься о чудесных творениях, которых лишил нас антифеминизм эпохи. Натура менее независимая, менее честолюбивая, чем Камилла Клодель, удовлетворилась бы вялотекущей карьерой, частной клиентурой, но ею двигала вера в свой гений. Биографы Поля Клоделя справедливо видят в ней вдохновительницу поэта, который с первых шагов в творчестве равняется на Эсхила и Шекспира. Так разве могла она, столь требовательная к тем, кого любила, сама довольствоваться изготовлением приятных вещиц? Но пока она, служа своей неукротимой гордыне, искала в полутьме и полунищете новые пути, пренебрегая внешним успехом, на ее глазах буквально расцветала подогреваемая светским тщеславием и использующая политические связи слава Родена.
И тут она усомнилась в гении, перед которым когда-то преклонялась, — отчасти подтолкнула ее к этому любовная обида. Хотя, с другой стороны, невозможно представить себе ничего более чуждого ее натуре, чем его официальная, шумная карьера с хороводом академиков и чиновников Школы искусств вокруг, чем его творчество, все больше и больше похожее на коммерческое предприятие. Нет, она мечтала об ином пути для того, кого любила.
Однако нельзя объяснить только одиночеством, незаслуженным прозябанием в тени и уязвленным самолюбием манию преследования, постепенно овладевавшую Камиллой Клодель, ибо образ преследователя воплотился для нее не в публике, не в критике, но в Родене — всегда и только в Родене под тысячью демонических личин. Ее натурщики, исполнители, почитатели, форматоры, родственники — все в этом бреду становились соучастниками заговора, имеющего единственной целью украсть ее идеи, воспользоваться ими, уничтожить дело ее жизни. Какие-то путеводные нити в лабиринте этой смятенной души нам дают документы — письма самой Камиллы, некоторые воспоминания, особенно Поля Клоделя, чья ненависть к Родену в такой перспективе становится понятной. Но главное, чем мы можем руководствоваться, это дедукция и внимательное изучение работ Родена.
В самом деле, возникают две гипотезы: можно считать Камиллу Клодель клинической сумасшедшей, а ее всевозрастающую ненависть к Родену — патологическим симптомом; и можно видеть в ней жертву маниакального невроза, искажающего и преувеличивающего наблюдения и умозаключения здравого рассудка. Факты, которые впервые стали известны ныне, когда исследователи получили доступ к медицинскому досье, склоняют нас принять обе гипотезы, хотя те, кто виделся и имел дело с Камиллой в то время, в частности Эжен Бло и Анри Аслен, не берутся однозначно определить ее состояние как настоящее сумасшествие. Но чего стоит мнение друзей, видавших ее эпизодически, против показаний соседей и медиков? Однако, прежде чем описывать патологию, разберемся в ее причинах.
Почему в голове Камиллы засела мысль о “роденовском заговоре”? Не может быть и речи о фактическом воровстве или хотя бы плагиате со стороны великого скульптора. Истина намного сложнее. Навязчивая идея кражи и плагиата — это искаженная психозом версия подсознательного убеждения: она отдала Родену часть своего таланта, и уже ничего нельзя забрать обратно. Все исследователи творчества Родена знают: новый стиль открылся у него в 80-е годы — именно тогда, когда в жизни его появилась эта девушка. Ей не исполнилось еще двадцати лет — возраст гения, по Рембо. Родену было за сорок, он успел утратить связь со своими живыми истоками. Сам по себе он продолжал бы двигаться в сторону Микеланджело, пытаясь осовременить его и тем самым огрубляя. А тут внезапно в нем зарождается нечто новое, что после разлуки с Камиллой словно уходит в песок.
Такая взаимосвязь между страстью и творчеством у двух любовников одной профессии, работающих вместе, в одной мастерской и над одним сюжетом, подводит нас к выводу: без малого пятнадцать лет Камилла была музой и правой рукой Родена. Знаменитая роденовская фраза: “Я показал ей, где искать золото, но золото, которое она находит, — ее”, в этом свете приобретает странное и символическое звучание: трудно удержаться и не перефразировать: “Золото, которое она находит, — мое”.
Этот симбиоз — безусловно, единственный в своем роде в истории искусств — породил творения-гибриды. Говорят, что Камилла работала под Родена, но точно так же какая-то часть творчества Родена эхом вторит произведениям Камиллы. Ведь замечено же, что с начала работы над “Бальзаком”, то есть с 1893 года, тема чувственности у Родена останавливается в развитии.
Большинство работ, созданных с 1893 года до конца его жизни, а их немало, чаще представляют собой варианты грешников, вакханок и любовных пар из “Врат Ада”. Вплоть до 1913 года Камилла могла видеть на выставках и у коллекционеров измененные, увеличенные, но те же фигуры, в работе над которыми она участвовала, замысел которых принадлежал ей или зародился благодаря ей:
Всякий раз как я пускаю в обращение новую модель, на ней накручивают миллионы — литейщики, форматоры, художники и торговцы, а мне… нуль плюс нуль равняется нулю. В прошлом году мой сосед господин Пикар (приятель Родена), брат инспектора Сюрте, проник ко мне, подделав ключ, у стены стояла моя женщина в желтом. После чего он сделал несколько женщин в желтом в человеческий рост, в точности похожих на мою, и выставил их… с тех пор они все делают женщин в желтом, а когда я захочу выставить свою, они объединятся и добьются запрета… Другой раз служанка дала мне в кофе наркотик, от которого я проспала беспробудно двенадцать часов. Тем временем эта женщина пробралась в мою туалетную и взяла “Женщину с крестом”. Результат — три “Женщины с крестом”.
В этой связи возникает еще один вопрос: не странно ли, что так мало вещей, на которых Камилла Клодель ставила свою подпись в пору работы с Роденом? Их можно пересчитать по пальцам, а между тем все очевидцы описывают, как она трудилась не покладая рук — и не над ученическими этюдами, обреченными на слом, но над серьезными произведениями. Куда шли плоды дней, месяцев, годов напряженной работы, как не к Родену? Но тогда ей не было до этого дела: как истая женщина, она готова была отдать все — не только свою жизнь, но и свое искусство. Теперь, когда взаимообмен прервался, когда привязанность стала обращаться в ненависть, ее приводит в глубокое отчаяние уверенность, что у нее украдена жизненная энергия, сам смысл существования. Не случайно она так болезненно воспринимала определение “ученица Родена”, тогда как писалось это в похвалу. В 1902 году Камилла отказывается от предложения выставиться в Праге, в основном из-за того, что не хочет, чтобы ее работы экспонировались вместе с роденовскими. Она пишет устроителям выставки:
Конечно, в Праге, если я соглашусь выставиться бок о бок с г-ном Роденом, чтоб он мог, как ему того хотелось бы, изображать моего покровителя, давая понять, что мои работы всем обязаны его наставлениям, я имела бы некоторые шансы на успех, который, исходя от него, к нему бы и вернулся. Но я не в настроении и дальше позволять делать из меня посмешище этому мошеннику, этому двуличному человеку (всеобщему нашему учителю, как он утверждает), для него первое удовольствие издеваться над людьми.
Видеть, как человек, которому она своим талантом помогала расти, движется к славе, в то время как ее поглощает тьма, было непосильным испытанием для этой гордой и одинокой души. Ее рассудок не выдерживает. С 1905 года страхи и подозрения превращаются в навязчивые идеи, а потом и в психоз. Ее письма к брату Полю, которому она изливается без всякого удержу, запрещая ему, впрочем, что-либо разглашать, свидетельствуют о безусловно неадекватном и даже бредовом состоянии, нуждающемся в серьезном лечении.
Роден ее использует: она уже не разграничивает произведения, которые создает сейчас, и те, что создавала у Родена. Искажение перспективы времени, дезориентация в последовательности творческого процесса — все это характерно для психоза. Из ее воображаемых преследователей самыми ярыми оказываются “гугеноты” — трансформация образа некоего литейщика Эбрардта, который, по-видимому, не слишком честно обошелся с Камиллой.
Не исключено, что ее работы привлекали подражателей. “Болтушки” произвели сенсацию, и в мирке Школы искусств, где с идеями дело обстоит много хуже, чем с техническими навыками, она, несомненно, обрела последователей. Человеку со здоровой психикой плагиат скорее льстит. Для пошатнувшегося же рассудка Камиллы Клодель это драма, тем более что она убеждена, будто на ее идеях наживают состояния. Она исчисляет воображаемую прибыль сотнями тысяч франков.
К материальным трудностям и навязчивым идеям добавляется еще и семейная вражда. В Вильнёве, среди родных, где она могла бы найти покой, поддержку и участие, она — persona non grata. Мать наконец в полной мере осознает свое поражение в качестве строгой воспитательницы и ставит на ней крест. Сестра Луиза, от природы не слишком снисходительная, к тому же с завистью наблюдавшая за успехами Камиллы в Париже и расцветом ее таланта, теперь торжествует.
В ту эпоху расстояния тоже превращались в неблагоприятный фактор. Единственный близкий человек, который понимает и любит ее без всякой зависти, а также знает цену ее таланту, — брат Поль. Но он с 1895 по 1909 год почти постоянно находится за пределами Европы, не считая двух недолгих приездов в отпуск в 1895 и 1900 годах. Эта разлука с братом в самое мучительное для Камиллы время тоже сыграла немалую роль. В такой момент, когда она особенно нуждается если не в любви, то хоть в нежности, один из главных оплотов ее жизненных сил отсутствует. Только старый Луи-Проспер заботится о ней, тайком присылая кое-какие деньги. И вновь в этой тягостной материальной зависимости Камилла Клодель усматривает проявление роденовского заговора.
К последним годам ее жизни в миру относится щемящее описание, оставленное одним из последних друзей — Анри Асленом.
Однажды утром, когда я пришел позировать, дверь мне открыли лишь после долгих переговоров: наконец передо мной предстала Камилла, мрачная, растрепанная, дрожащая от страха и вооруженная палкой от метлы, утыканной гвоздями. Она сказала мне: “Сегодня ночью двое мужчин пытались взломать ставни. Я их узнала: это итальянские натурщики Родена. Он приказал им меня убить. Я ему мешаю: он хочет избавиться от меня”. Мания преследования, медленно и жестоко подтачивающая ее, этой ночью пугающе продвинулась.
С этих пор (1905) Камилла стала каждое лето систематически уничтожать, разбивая молотком, все, созданное за год. В это время ее двухкомнатная мастерская представляла собой печальную картину разрушения и опустошения. Потом она вызывала возчика, которому и поручала увезти и похоронить в каком-нибудь рву эти жалкие бесформенные обломки. После чего клала ключи под циновку и исчезала на целые месяцы, не оставив адреса. Поль Клодель уехал обратно в Китай. Сам я был в Чэнду, в далекой Сычуани, когда получил от Камиллы письмо, начинающееся такими словами: “Вашего бюста больше нет: он отжил свой срок, как отживают розы…”
Когда она получает какие-нибудь деньги, она приглашает кучу незнакомого народа и всю ночь они у нее поют и веселятся, как малые дети. Не был ли это знак, что немного помощи, радости, дружбы еще могло бы — кто знает! — спасти ее?
Между тем мир ее не забыл. В 1906 году Маргерит Дюран, основательница журнала “Фронд”, выражает желание опубликовать посвященную ей статью Джудит Кладель. Камилла счастлива узнать об этом. Хоть какой-то луч света в ее жизни. Тем не менее в письме к Маргерит Дюран она не может удержаться от горьких замечаний, в которых сквозит слепая ненависть к Родену.
При этом она принимает бескорыстное участие в другой художнице, тоже скульпторше, и дает ей высокую оценку, рекомендуя ее работы предпочтительно перед своими для публикации в журнале:
Посылаю вам единственные две фотографии, которые мне удалось найти, та, где я в большом сером плаще, довольно хорошая и еще не публиковалась. Потом, пожалуйста, верните их. Со “Зрелости” уже делали фотографии. В прошлом году к статье г-на Андре Мира, вы ее там найдете, но она уже довольно известна. Лучше было бы показать работы г-жи Ульмон, очень интересной и малоизвестной художницы.
В данный момент я не в том состоянии, чтобы фотографироваться, и только что переболела. Выгляжу плохо, и потом, у меня нет одежды, которая была бы мне к лицу. Забыла вам сказать, что буду в восторге, если вы дадите статью обо мне, но с непременным условием, чтобы я не оказалась в паре с другим художником или другой художницей, которых я не знаю (из числа протеже господина Родена, для которых он, как обычно, заставит меня служить буксиром). Соседство некоторых особ мне совсем не нравится.
Я счастлива была узнать от вас, что готовится нечто радостное для меня. Если бы для начала мне уплатили за государственный заказ, который вот уж неделя, как сдан, и ничего о нем не слышно, это уже было бы замечательно.
В 1907 году статья все еще не вышла. 2 июня Камилла Клодель снова пишет Маргерит Дюран. Тон письма откровенно неприязненный:
Я немного запоздала с ответом на вопросы, которые вы мне задавали. Во-первых, я чувствовала и до сих пор чувствую себя очень плохо. Три четверти времени провожу в постели, находя облегчение только в лежачем положении. Мне некому доверить отправку письма, так что не следует удивляться моей необязательности. Вопросы ваши мне кажутся праздными, ненужными для вашей статьи: какая надобность знать, кто были владельцы моих статуэток.
У вас достаточно материала — то, что я вам сказала в нашу последнюю встречу, гораздо интереснее, чем пускаться в перечисления и ненужные подробности. Так что отвечать вам мне казалось лишним.
Этим же годом датируется ее последняя выставка у Эжена Бло. Больше Камилла Клодель уже не появится ни в обществе, ни у старых друзей: ни у Швобов, ни у Поттешеров. В 1909 году Поль Клодель записывает в дневнике: “Париж, безумная Камилла… огромная и чумазая, без умолку говорящая монотонным металлическим голосом”. Потом, в 1911-м, две зачеркнутые строки: “27 ноября — Камилла в четыре часа утра убежала из дому, где она, неизвестно”.
Остров Святого Людовика уже больше не монастырь, но тюрьма; предоставим слово Полю Клоделю: “Жильцы старого дома на набережной Бурбон жаловались. Что это за квартира на первом этаже с постоянно запертыми ставнями? Внутри грязь и беспорядок были, говорят, неописуемы…”
На самом деле Камилла Клодель самосжигалась на медленном огне. Разрушив свои творения, потом внутренние источники творчества, любовные и дружеские отношения, она ничего не оставила от себя, кроме загнанной тени в темной мастерской, ищущей безмолвия и забвения. И все же трудно было решиться на крайнюю меру — фактически обречь ее на медленную смерть, доверив жестокой медико-административной машине.
Потом Поль Клодель написал: “Пришлось пойти на такой шаг… и это на тридцать лет”.
Заживо умершая
1913–1943
Была я счастлива, была прекрасней всех, но вдруг
Как зеркало разбилось все как если б день единый возвестил,
Что умерло среди слепых воспоминанье.
Поль Клодель. Золотая голова
Как было принято решение о госпитализации? Кем? Эти вопросы остаются без четких ответов: почти вся переписка была уничтожена, Поль Клодель в своем “Дневнике” с уклончивостью сивиллы обходит факты личного характера, и биограф художницы вынужден рассуждать как детектив.
Вот протокольное изложение событий.
Воскресенье, 2 марта 1913 года. Смерть Луи-Проспера Клоделя в Вильнёве в 3 часа утра.
Вторник, 4 марта. Похороны в Вильнёве. Камилла не извещена и отсутствует.
Среда, 5 марта. Поль Клодель встречается с доктором Мишо, врачебный кабинет которого находится в доме 19 по набережной Бурбон. Последний выписывает медицинское заключение — по закону 1838 года оно является основанием для принудительной госпитализации.
Пятница, 7 марта. Поль Клодель встречается с директором больницы в Виль-Эврар. Медицинское заключение уже передано ему, но он требует внести в текст какие-то поправки.
Суббота, 8 марта. Поль Клодель пишет врачу, пересылая ему исправленное заключение, с тем чтобы госпитализация могла состояться в этот же день. Поскольку заключение не дошло вовремя, Камилла проводит свое последнее воскресенье в Париже.
Понедельник, 10 марта. Камилла госпитализирована. Два дюжих санитара силой вламываются в мастерскую на набережной Бурбон и забирают ее.
Такая поспешность в стремлении изолировать Камиллу может показаться достойной осуждения. Впрочем, Поль Клодель сам пишет в своем “Дневнике”: “Я был очень несчастен всю эту неделю”. Конечно, соблазнительно увидеть в подобном трагическом решении расправу буржуазного порядка — с его узколобой моралью, проникнутой духом забывшего о милосердии католицизма, — над творческой натурой, над гением и его воображением. Но мог ли Поль Клодель, внезапно ставший главой семьи, оказаться соучастником козней завистливых и мстительных женщин, когда все свидетельствует о том, что его любовь к сестре была, да и впоследствии осталась нерушимой? Переписка Поля с сестрой никогда не прерывалась. В каждый свой приезд он навещал ее в приюте. Он единственный из членов семьи, кто проводил подле Камиллы значительное время, чтобы поддержать ее.
Между тем очень скоро законность изоляции стала предметом полемики.
19 сентября 1913 года в “Авенир де л’Эн”, “органе демократии департамента Шато-Тьерри”, антиклерикальной ежедневной газете, появилась под рубрикой “Наши земляки” следующая статья:
Творчество гениальной скульпторши, уроженки нашего департамента, анализирует великий поэт: таково содержание специального выпуска “Ар декоратиф”, где Поль Клодель представляет нам могучее и трепещущее внутренним светом искусство своей сестры Камиллы Клодель. Эта удивительная художница, которую судьба с неослабевающим упорством осыпала ударами, долго дожидалась момента, когда медлящая справедливость признает ее равной величайшим гениям пластических искусств. Благодаря “Ар декоратиф” момент этот настал; те, кто по сорока восьми репродукциям (включая цветную вкладку), собранным г-ном Фернаном Ошем, смогут получить представление о ее творениях, в которых благородство Донателло одушевлено трепетом сегодняшней жизни, не колеблясь, признают Камиллу Клодель истинным скульптором нашего времени. Между тем — факт чудовищный, в который трудно поверить, — ее, пребывающую в расцвете своего прекрасного таланта, в здравом уме и трезвом рассудке, схватили, грубо швырнули в машину, невзирая на негодующие протесты, и с этого дня великая художница заточена в сумасшедшем доме. Быть может, “Авенир де л’Эн” департамента Шато-Тьерри в интересах правосудия и уважения к свободе личности осветил бы более подробно это похищение и насильственную изоляцию, ничем не оправданные и являющиеся чудовищным преступлением в стране, которая считает себя цивилизованной? Страшно то, что в силу закона 1838 года о душевнобольных повседневно и безнаказанно совершаются преступления, но в то же время католическая церковь и военщина могут беспрепятственно творить любое беззаконие; они неприкосновенны и как бы выше закона.
Эта первая статья прямо не указывает на семью Клодель. Все изменилось, когда делом заинтересовалась парижская пресса. Поль Вибер, журналист “Гран насьональ”, в номере от 8 декабря 1913 года обрушился на закон 1838 года. 12 декабря “Авенир де л’Эн”, отзываясь на эту публикацию, поместил в разделе местных новостей статью без подписи, действующих лиц которой без труда узнали жители Вильнёв-сюр-Фер.
Недавно в Париже имел место случай насильственной госпитализации, отличающийся особой изощренностью. Мать и брат добились изоляции талантливой художницы м-ль К. Несчастная девушка едва успела узнать из случайных источников о весьма удобной для некоторых смерти нежно любившего ее отца, которую от нее скрыли, как наутро после печальной вести, в 11 часов, к ней, убитой горем, вломились в спальню двое дюжих молодцов и увезли ее, невзирая на протесты и слезы, в сумасшедший дом. Три дня спустя несчастная писала: “На моем счету тридцать лет напряженной работы, а я вот так наказана; меня держат крепко, и я отсюда не выйду”. Немного позже госпитализация была скреплена признанием недееспособности. Так убирают из общества человека в здравом уме.
17 декабря 1913 года Поль Вибер призывает Поля Клоделя “дать необходимые объяснения общественному мнению, которое сильно обеспокоено подобными преступлениями…” 20 декабря появляется статья с прямыми обвинениями: Камилла Клодель, “физически и психически абсолютно здоровая”, была схвачена тремя мужчинами, которые без судебного ордера, нарушив право неприкосновенности жилища, запихнули ее в машину и увезли в сумасшедший дом в Виль-Эврар. Поль Клодель не реагирует на обвинения. С октября 1913 года он занимает пост генерального консула в Гамбурге. Его официальное положение не позволяет отвечать на выпады прессы, хотя он знает о них. В его “Дневнике” записано:
Ожесточенная клевета в наш адрес по поводу госпитализации Камиллы в Виль-Эврар со стороны Лельма и Тьерри в “Авенир де л’Эн” и разных скандальных листках, обличающих “клерикальное преступление”. Это хорошо. Меня столько незаслуженно хвалили, что клевета благотворно освежает: это нормальная доля христианина.
Позже в предисловии к каталогу выставки 1951 года он поменяет даты, перенеся госпитализацию на июнь 1913-го (намеренно?).
А запал этой пороховой бочки подожгла сама Камилла. 10, 14 и 21 марта она собственной рукой написала карандашом три письма своему родственнику Шарлю Тьерри — первое из них как раз в день госпитализации.
10 марта
Дорогой Шарль,
от тебя узнала о смерти папы; впервые слышу, мне никто ничего не сообщал. Когда это произошло? Постарайся узнать и рассказать мне поподробней. Бедный папа никогда не видел меня такой, как я есть; ему всегда внушали, что я — существо гнусное, неблагодарное и злобное; это было нужно, чтобы другая могла все зацапать.
Я должна была поскорее исчезнуть, хоть я и ужимаюсь как могу в своем уголке, все равно остаюсь помехой. Меня уже пытались запереть в сумасшедший дом, опасаясь, как бы я не нанесла ущерба маленькому Жаку, потребовав свою долю, и заперли бы, имей я несчастье туда явиться. Луиза при поддержке своего друга Родена наложила руку на все деньги, принадлежащие семье, а поскольку я всегда нуждаюсь в деньгах, пусть совсем небольших, мне ведь так мало надо, то меня и ненавидят, когда я что-нибудь прошу. Все это нарочно подстроено, потому что, ты знаешь, Луиза водится с протестантами.
Поехать в Вильнёв я бы не посмела; и потом, надо еще иметь такую возможность; у меня нет денег, даже туфель нет. Я ограничиваю себя в еде; горе в этом помогает. Если ты что-нибудь знаешь, сообщи мне; писать не рискую, от меня отмахнутся, как обычно. Меня удивляет, что папа умер; он должен был жить до ста лет. Что-то за этим кроется. Дружеский привет тебе и Эмме.
К-Милла.
14 марта
Дорогой Шарль,
то мое письмо было, можно подумать, пророческим, потому что, едва я его отправила, за мной приехал автомобиль, чтоб отвезти в приют для умалишенных. Приют находится, по крайней мере я так полагаю, в Виль-Эврар. Если ты соберешься меня навестить, можешь не торопиться, потому что не похоже, чтобы я отсюда вышла; меня держат и не хотят отпускать. Коли ты можешь привезти портрет тети, чтобы он составил мне компанию, это бы меня очень порадовало. Я, наверно, покажусь тебе неузнаваемой — тебе, видевшему меня такой молодой и блистательной в салоне Шакриза…
21 марта
Дорогой Шарль,
не представляешь, какое удовольствие ты мне доставил, прислав портреты тети и г-жи де Жэ; я теперь с ними не расстанусь. Бедные женщины, они были такие добрые, такие скромные; с ними было так хорошо. Ах! будь они живы, я не была бы такой, как сейчас; у них было доброе сердце. Ты очень добр, что пошел ради меня на такую жертву. Ты всегда готов сделать мне приятное. Совсем как твоя мать; если б ты по-прежнему жил в поместье, я бы тут же перебралась к тебе в Шакриз. Забудь все это.
Если б Жанна была жива, уж не знаю, что с ней случилось, я не стала бы такой, она была очень добра ко мне. Ты знаешь, Альфред живет совсем близко отсюда, в Павийон-су-Буа. А в Монтрёй-су-Буа — Поль де Кукборн, друг г-на де Марси. Они приходили ко мне в мастерскую. Жду с нетерпением свидания с тобой, хоть и в такой печальной обстановке.
Я не могу быть спокойна, не знаю, что со мной станется; думаю, все идет к тому, что я плохо кончу, все это кажется мне подозрительным, будь ты на моем месте, ты бы понял. Стоило так много работать и обладать талантом, чтобы получить вот такую награду. Никогда ни гроша, всевозможные издевательства, и так всю жизнь. Быть лишенной всего, что делает жизнь счастливой, и вдобавок вот чем кончить.
Помнишь бедного маркиза дю Совенкура из Шато-де-Мюре, твоего бывшего соседа? Он только сейчас умер, проведя в заточении 30 лет! Ужасно, в голове не укладывается. Всего, всего хорошего твоей милой Эмме, дочке и всем детям; посылаю тебе дружеский привет…
Если Камилла Клодель была в здравом уме, как утверждает Вибер, то ее изоляция бесчеловечна, незаконна и преступна. Как же обстоит дело в действительности? Первые признаки душевного расстройства проявились у Камиллы в период ее разрыва с Роденом, около 1893 года. Матиас Морхардт, пламенный поклонник художницы, в своем замечательном этюде в “Меркюр де Франс” отмечает ее склонность к уединению и недоверие к посторонним. Эта тяга к затворничеству беспокоила и ее отца. В 1904 году он не решался принять приглашение своей родственницы Мари Мерклен отдохнуть в сентябре в Жерарме, опасаясь оставлять Камиллу одну: “Вы очень добры, но у меня душа будет не на месте, если я оставлю Камиллу в этой самоизоляции”.
Есть и другие свидетельства, в том числе доктора Мишо, и оно представляет тем больший интерес, что он — сын того доктора Мишо, который выдал свидетельство, послужившее основанием для госпитализации Камиллы. Речь идет о письме к профессору Мондору от 18 декабря 1951 года.
Несколько месяцев назад я прочел вашу книгу о Поле Клоделе. Глава, посвященная Камилле Клодель, пробудила во мне воспоминания детства. Камилла Клодель жила в нижнем этаже дома 19 на набережной Бурбон, в котором пятьдесят пять лет занимался медицинской практикой мой отец. В глубине двора был сад, принадлежавший Морису Мендрону и видавший немало академических обедов под эгидой Эредиа. Двор был местом моих игр. Родители запрещали мне ходить к Камилле Клодель, с которой мы были в каком-то отдаленном родстве. Они боялись пускать меня в это логово, где между бюстами, заросшими девственным лесом паутины, шныряла добрая дюжина кошек.
Но соблазн запретного плода, подкрепляемый моей любовью к кошкам и обещаниями угостить вареньем, побуждал меня преступать запрет. Там я получил первые уроки психиатрии, и всякий раз, как говорю или пишу о параноидальном психозе, не могу не вспоминать мою соседку, простоволосую, в белой кофте, толкующую об “этом мерзавце Родене” — последний рисовался моему десятилетнему воображению неким мифологическим персонажем.
Достаточно также почитать последние письма Камиллы Клодель на свободе и те, что она писала в приюте, причем в первые месяцы пребывания там, когда рано говорить о заразительном влиянии долгого общения с сумасшедшими, чтобы убедиться в разрушительном воздействии навязчивой идеи о роденовских интригах: весь мир ее преследует, миллионные состояния (в миллионах 1913 года) наживаются на ее работах. Очень показательны выдержки из письма, написанного брату Полю где-то около 1910 года:
Не вози мои скульптуры в Прагу, у меня нет ни малейшего желания выставляться в этой стране. Публика такого пошиба меня нисколько не интересует. Хотелось бы поскорее получить премию за “Аврору”, пусть всего пятнадцать франков, я бы ее забрала в следующем месяце и попыталась продать. Пришли мне ее как можно скорее. Ты прав, закон бессилен против господина Эбрардта и подобных ему бандитов, единственный аргумент для таких людей — револьвер. Вот это было бы дело, потому что, учти, если оставить безнаказанным одного, это придаст наглости другим, которые бессовестно выставляют мои работы и делают на них деньги под руководством господина Родена. Но всего забавнее то, что он позволил себе выставить в прошлом году в Италии “Аврору” — вовсе не мою, но с моей подписью — и добился для нее золотой медали, чтобы поиздеваться вдоволь.
Теперь я его поймала. Негодяй всяческими способами прибирает к рукам все мои скульптуры и раздает своим дружкам — модным художникам, а они его за то осыпают наградами и аплодисментами. По возвращении он уничтожил (нрзбр) и нажил 300 000 франков на гобеленах. Он знал, что делал, когда сговорился с Колленом, чтобы заставить меня приехать в Париж. Моим пресловутым талантом он сполна попользовался!
Это Роден добился ее заточения, чтобы слава былой подруги не затмила его собственную. Нет пощады и старым друзьям: Филипп Бертело — тоже соучастник заговора. Испепеляющая ненависть не пала лишь на Эжена Бло и Поля Клоделя. У ближайших друзей не оставалось сомнений в серьезности ее заболевания. Приведем цитату из письма Матиаса Морхардта к Родену от 5 июня 1914 года:
Я виделся с Филиппом Бертело, которому сугубо конфиденциально сообщил о том, что вы хотели бы сделать для несчастной и замечательной художницы. Он со всей деликатностью наведет справки о положении дел, а мы оба к вам придем, как только все выясним. Но я настоятельно убеждал Филиппа Бертело, что мы должны сосредоточить свои усилия в первую очередь — ввиду призрачности всякой надежды на выздоровление — на том, чтобы воздать должное ее великой памяти.
В сентябре 1914 года Камиллу перевели в Мондеверг, находящийся на территории коммуны Монфаве близ Авиньона, в приют, который ей уже не суждено было покинуть.
До последних дней ясно осознававшая свое несчастье, она долго не оставляла попыток добиться освобождения, тайком пересылая призывы о помощи родным и знакомым. Так, Камилла пишет доктору Мишо, не до-гадываясь, что он способствовал ее заточению:
25. VI.1918
Господин доктор,
вы, может быть, уже не помните вашу бывшую пациентку и соседку м-ль Клодель, которую увезли из дома 3 марта 1913 года и отправили в приют для душевнобольных, откуда она, возможно, никогда уже не выйдет. Пять лет, скоро уже шесть, как я терплю эту ужасную муку. Меня сперва поместили в приют в Виль-Эврар, потом сюда, в Мондеверг, близ Монфаве (Воклюз). Излишне описывать, каковы были мои страдания. Недавно я написала г-ну Адаму, адвокату, которому вы когда-то любезно меня рекомендовали и который тогда очень успешно защищал мои интересы; я прошу его не отказать в любезности заняться моим делом. В этих обстоятельствах мне были бы необходимы ваши добрые советы, потому что у вас большой опыт и как доктор медицины вы сведущи в этом вопросе. Прошу вас, не откажите в любезности поговорить обо мне с г-ном Адамом и подумать, что вы могли бы для меня сделать. Со стороны моей семьи ждать нечего; мои мать, брат и сестра находятся под влиянием некоторых дурных людей и ничего не слушают, кроме клеветы, которую на меня возводят.
Меня обвиняют (о, ужасное преступление!) в том, что я жила одна, что компанию мне составляли кошки, что у меня мания преследования! На основании этих-то обвинений я нахожусь в заточении вот уже пять с половиной лет, как преступница, лишенная свободы, лишенная пищи, огня и самых элементарных удобств. В подробном письме г-ну Адаму я объяснила, какими еще мотивами было продиктовано мое заточение, прошу вас прочесть его внимательно, чтобы получить полное представление об этом деле.
Может быть, вы как доктор медицины смогли бы использовать свое влияние, чтобы помочь мне. Во всяком случае, если мне не захотят вернуть свободу сразу, я предпочла бы, чтобы меня перевели в Сальпетриер, или в Сент-Анн, или в обычную больницу, где вы могли бы посетить меня и составить представление о состоянии моего здоровья. Здесь на мое содержание выдают 150 франков в месяц, а как содержат — это надо видеть; родственники мной не интересуются, и на мои жалобы единственный их ответ — полное молчание, так что со мной делают что хотят. Ужасно быть покинутой вот таким образом. Я не в силах противостоять муке, от которой изнемогаю. Словом, я надеюсь, вы сможете что-нибудь для меня сделать, и разумеется, если у вас будут какие-то расходы, записывайте их, пожалуйста, а я вам все полностью возмещу. Надеюсь, вам не пришлось мучиться в окопах…
Я прошу вас еще об одном, а именно: когда вы пойдете к Меркленам, расскажите всем, что со мной сталось. Мама и моя сестра распорядились держать меня в полной изоляции, мои письма не отсылаются, никаких посетителей ко мне не пускают.
В результате сестра завладела моим наследством и очень заинтересована в том, чтобы я никогда не вышла на свободу. Прошу вас также не писать мне сюда и не говорить никому, что я вам писала, потому что я пишу тайком, в нарушение правил заведения, и если об этом узнают, у меня будут большие неприятности…
Прошу вас, сделайте для меня все что можете, потому что я не раз убеждалась в вашей чрезвычайной осмотрительности и очень надеюсь на вас. Должна предостеречь вас против выдумок, которые пускают в ход, чтобы продлить мое заточение. Уверяют, что меня собираются держать здесь до конца войны: это басня, рассчитанная на то, чтобы обольстить меня ложными обещаниями, потому что нынешняя война не из тех, что кончаются, а тем временем конец придет мне; ах! знали бы вы, что приходится выносить! Дрожь берет! Если почему-либо я не смогу вам больше писать, вы, пожалуйста, все же не бросайте меня и действуйте по возможности так быстро, как только удастся; ситуацию осложняет тайное влияние неких чужих людей, которые завладели моей мастерской и держат маму в своих когтях, чтобы не дать ей видеться со мной.
Камилла пишет из приюта брату, матери, своей подруге Марии Пайетт, Эжену Бло. Эта переписка — если абстрагироваться от несообразностей, порожденных психозом, — свидетельствует о проницательном уме, твердой памяти, а со временем в ней проступает выстраданное терпение, в котором больше покорности, чем негодования. Если Камилла просит дать ей возможность выйти из приюта, то не затем, чтобы вернуться к светской жизни и творчеству, но лишь ради покоя и уединения в Вильнёве. Все как будто подтверждает, что она полностью отреклась от себя, что собственная жизнь ее больше не интересует. Потом мало-помалу она свыклась с перспективой провести остаток жизни в Мондеверге. Ей хотелось бы только большей тишины — даже уже не комфорта. Она мирилась со своим положением без жалоб, категорически отказываясь от перевода в первый класс, где, по ее словам, пища была вредной, а соседки ужасными. Но разве не известны и другие случаи, когда великие творцы, отказавшись от искусства, уходили в монашеское самоограничение?
Теперь стало наконец возможно диагностировать психическое заболевание Камиллы Клодель — семья художницы дала согласие на разглашение врачебной тайны. Оставим слово за медициной, ограничимся здесь сведением воедино имеющихся фактов.
Камилла не была ни буйной, ни агрессивной. С ней никогда не приходилось прибегать к жестким методам лечения. По словам свидетелей, она, напротив, с годами становилась все мягче и спокойней. Приют до 1938 года был на попечении монахинь. Сестра Сен-Юбер из конгрегации Святого Карла Лионского помнила Камиллу, за которой ухаживала. Она единственная, кого удалось разыскать и расспросить о повседневной жизни в приюте. Мадемуазель Клодель, рассказывает она, никто не замечал, настолько она была молчалива и апатична. Это была не просто покорность, а полная безликость. К тому же она находилась в отделении спокойных, которые не нуждались в каком-то особом наблюдении и уходе, разве что при утреннем и вечернем туалете. Никто не знал, что прежде она была известной художницей. Выделяло ее только то, что она сестра Поля Клоделя.
По словам монахини, условия содержания в приюте были вполне удовлетворительны. Кормили сытно и доброкачественно, тем же питался и персонал. Никаких общих развлечений не устраивали, и поскольку посетители бывали редко, пациенты страдали от неимоверной духовной изоляции, которую лишь участие сестер, и то преимущественно безмолвное, как-то нарушало. Та же сестра Юбер утверждает, что о возвращении Камиллы в общество не могло быть и речи. Между тем врачи ничего так не желали, как выписки больных, ставших на путь выздоровления, что позволяло несколько разгрузить переполненное заведение.
Возвращаясь к письмам Камиллы Клодель, повторим: все они вполне разумны и могли бы дать пищу для определенных подозрений всякому, кто не знает, что безумие — состояние не перманентное. Антонен Арто тоже писал из сумасшедшего дома прекраснейшие письма.
Что же происходило в этой бедной голове на протяжении тридцати лет?
Мы не знаем, как проводила она дни, знаем только, что не лепила: глина, которую время от времени ей выдавали, высыхала нетронутой. Читала ли она? Грезила? Неизвестно. Мать ни разу у нее не побывала. Никогда не приезжала и сестра Луиза. Мать, так и не простившая ей связи с Роденом, на ее письма отвечала очень суровыми посланиями, первое время адресованными директору приюта. В них она только что не обзывает дочь шлюхой. Такое обращение было, безусловно, не на пользу больному рассудку. Камилла, в чьих навязчивых идеях всегда фигурировали деньги, не замедлила прийти к убеждению, что мать и сестра заточили ее, чтобы завладеть причитающейся ей долей наследства. Содержание в приюте долгое время оплачивалось матерью, потом Полем Клоделем, потом из ее части наследства. Небольшую пенсию выделил также фонд Национального общества искусств.
Говоря о материальной помощи Камилле, любят упоминать пожертвование, сделанное Роденом, когда он узнал о госпитализации: посреднику, Матиасу Морхардту, пришлось всевозможными хитростями проводить эти деньги через кассу Общества искусств ради соблюдения анонимности. Без таких предосторожностей семья не приняла бы помощи “злодея”. Сумма составляла 500 франков. Легко представить, что это были за деньги в сравнении с огромными доходами мастерских “Роден и Ко” накануне войны (один бронзовый бюст стоил около 30 000 франков), поэтому биограф Камиллы, в отличие от роденовского, не станет слишком умиляться скорби старого мастера о своей незабвенной музе… Правда, Роден был уже стар и выражал готовность помогать и впредь.
Между тем со смертью Родена мания преследования обезличилась и воплощением образа врага стала для Камиллы мать. Насколько оправдывалась такая враждебность отношением Луизы Клодель к больной дочери? Ее часто упрекали в противоестественном отсутствии материнских чувств. В действительности все намного сложнее. Документы помогают восстановить истинную картину — с учетом духовной атмосферы эпохи и без подмены ее современными взглядами.
Любила ли Луиза Клодель свою дочь? Она не была нежной матерью ни ей, ни остальным детям. Камилла наравне с братом и сестрой была объектом суховатой заботы, проникнутой чувством долга, унаследованным и подлежащим передаче потомству. Ее принципы были строгими и суровыми, а Камилла отказывалась принять эстафету. Она избрала другой путь — полный риска путь творчества и свободы; отсюда взаимное непонимание между матерью и дочерью. Поиском любви, ее слов и жестов — всего, чего ей так не хватало в жизни, — стало для Камиллы искусство; для нее действовать — значит ваять, ваять, чтобы жить, чтобы обрести себя и найти общий язык с другими. И вся ее юность, богатая свершениями, являла собой еще и борьбу между волей и тем, что досталось ей в наследство.
Луиза Клодель ничего не знала о душевных метаниях дочери. Натура довольно ограниченная, она не стремилась что-либо понимать или хотя бы замечать. Традиции и неизменная свита прописных истин служили ей эталоном на все случаи жизни. Исполнив, как того требовал долг, обязанности матери, она считала, что дальше может их с себя сложить. Пускай теперь кто-нибудь другой заботится об этом непонятном существе. И такое отчуждение — традиционное, как бы даже зоологическое — совпало с кризисом в жизни Камиллы, которую парадоксальным образом потянуло в родное гнездо.
Письма Луизы Клодель к директору приюта свидетельствуют о ее бессилии и явном желании от всего отгородиться. Она не могла и не хотела ничего брать на себя, предчувствуя роковой исход. В 1915 году она пишет в Мондеверг:
Я ни в коем случае не хочу забирать ее из вашего приюта, где ей еще недавно так нравилось. Я не собираюсь каждые полгода переводить ее из заведения в заведение, а что до того, чтобы забрать ее к себе или снова предоставить ей жить как прежде, — нет и нет. Мне 75 лет, я не могу взять на себя заботу о дочери, которая придерживается самых сумасбродных взглядов, исполнена враждебных намерений и готова причинить нам все неприятности, какие только сможет. Если нужно увеличить взнос за ее содержание, чтобы у нее было больше комфорта, я охотно это сделаю, только, прошу вас, оставьте ее у себя. Живя одна, она довела себя до полного убожества, десять лет ни с кем не общалась и позволяла себя обкрадывать всем, кто поставлял ей продукты. Двери и ставни постоянно были заперты на все засовы, а еду ей передавали в ящике, который ставили на окно. А в каком состоянии была она сама и ее квартира — это просто ужас. Занималась она тем, что писала письма всяким проходимцам или ябеды. Словом, она существо порочное, я не хочу ее больше видеть, она причинила нам слишком много горя.
“Камилла сама загнала себя в эту пропасть, — пишет она в другом письме, — я не имею на нее никакого влияния и была бы вынуждена терпеть все, что ей взбредет на ум, но на такой вариант я никогда не соглашусь. Мы и так уже слишком долго ей потакали”.
Эти письма при всей их нетерпимости трогают и вызывают жалость. В них угадывается защитная реакция существа, доведенного до крайности и не желающего погибнуть в великом потрясении своей системы ценностей. Взять Камиллу к себе или предоставить ей жить самостоятельно означало бы для старой дамы подписать свой собственный смертный приговор. “Нельзя оставлять людей с манией преследования на свободе, это опасно”, — говорит она.
Хоть и отказывая дочери в понимании и не питая к ней горячих чувств, Луиза Клодель — и переписка с директором приюта неопровержимо это доказывает — в бытовом отношении никогда не переставала о ней заботиться. Регулярно переправляла ей посылки, даже в самые трудные для себя времена, и ни разу не проявила меркантильности ни в отношениях с дочерью, ни с администрацией приютов. Лишь однажды в переписке упоминаются финансовые трудности: когда дом и владения в Вильнёве разорила война. У госпожи Клодель осталась только ее пенсия вдовы чиновника. “Вы знаете, что из-за войны я потеряла почти все, что имела, так что мне придется несколько лет ждать обещанного возмещения военных убытков, и то же самое с русскими вкладами”.
Что касается писем Камиллы к матери, они неизменно проникнуты все той же навязчивой идеей. Мать пишет:
Она продолжает называть нас ворами, которые передали ее врагам мастерскую, наполненную произведениями, и выкинули на свалку ящики, в которых находились в числе прочего памятник Виктору Гюго, группа “Болтушки” и т. д., тогда как в этих ящиках только и было, что бесформенные куски глины, от которых нам стоило больших трудов избавиться. Невозможно поверить, что она в здравом уме и способна вести себя разумнее теперь, чем при поступлении в лечебницу, куда мы ее поместили, не в силах более выносить ее невменяемость.
Ознакомившись с фактами и воспоминаниями очевидцев, стоит задуматься, возможно ли было иное решение проблемы. Предоставить Камиллу самой себе, как до госпитализации? Об этом не могло быть и речи. Ее мать, старая и слабая, была не в состоянии взять на себя заботу о больной дочери, к тому же ненавидящей ее. Мания Камиллы не поддавалась лечению и только усугублялась. В мае 1915 года она пишет брату: Роден и его друзья преследуют ее и грабят.
Ты проверил мои вещи, которые, по твоим словам, переправил в Вильнёв? Проследил, чтобы они не попали в руки негодяя, который для того и проделал этот маленький трюк, чтобы получить возможность ими завладеть? Он боится, как бы я не вернулась прежде, чем он успеет прибрать их к рукам… Вот почему он делает все, чтобы меня дольше не выпускали; он старается выиграть время, а пока суд да дело, произойдут всякие события, на которые вы не рассчитывали. Вы поплатитесь за свое легкомыслие; смотри, будь настороже.
Позже Камилла утвердится в мысли, что ее хотят извести. Она отказывается от перевода в первый класс, считая, что тамошней пищей ее собираются отравить. Она настаивает на том, чтобы самой варить себе яйца и картошку в мундире.
Словом, домашнее содержание исключалось. Брат, постоянно живущий за границей, не мог держать ее у себя в официальных резиденциях. Иное дело сестра, на которую Камилла возлагала некоторые надежды. В одном из писем к Полю Клоделю она предлагает составить дарственную на все свое имущество в пользу племянника Жака Мазари, сына Луизы, в качестве уплаты за стол и кров:
Можешь сказать маме, что если она боится, как бы я не стала требовать Вильнёвское имущество, то я не имею такого намерения: я бы предпочла отписать Жаку все, что мне причитается, и остаток жизни провести в покое.
Напрасный труд. Сестра теплых чувств к ней не питала, да и невозможно представить это несчастное разбитое создание, невесть что несущее, в кругу семьи. В конечном счете тот, к кому она обращается во всех случаях жизни, — это брат Поль. Он всегда отзывался на ее просьбы и постоянно присылал деньги, чтобы как-то скрасить ее существование, даже когда сам был стеснен в средствах.
Шли годы, а ее ненависть только крепла. Мать Камиллы умерла в 1929 году. Каждый продолжал жить собственной жизнью, семейный совет обсуждал семейные дела, вносилась плата в приют, а Камилла брела к своей второй смерти. В конце 1942 года приютский врач отмечает резкое ухудшение общего состояния. Камилла постепенно угасает. В сентябре 1943 года Поль Клодель, узнав об этом, с невероятным трудом пересекает оккупированную Францию, чтобы в последний раз повидать сестру. И сквозь слезы смотрит на бесформенный чепец и узнает под ним “череп, подобный заброшенному монументу, чья архитектура открывается во всем великолепии”. Только это и осталось от прекрасной молодой девушки. Камилла умерла 19 октября 1943 года — старая женщина, безвестная и убогая. Ее предали земле в административном порядке вдали от родных: пронзительное и романтическое завершение разбитой жизни.
Камиллу Клодель похоронили на кладбище Монфаве, на участке, отведенном приюту Мондеверг. Когда после войны ее племянник предпринял попытку перенести прах в семейную усыпальницу в Вильнёве, он натолкнулся на непреодолимое препятствие: администрация приюта исполнила свой последний долг с соблюдением всех требований анонимности. На стене церкви в Вильнёве над могилами Клоделей-Массари поместили мемориальную доску: как будто Камилла даже из-за гроба сумела стереть все свои следы, оставив лишь имя и работы, но ни единого места, за которое могла бы уцепиться память живых.
Тем временем интерес к произведениям Камиллы не угасал. Они представлены в музее Родена, хотя замысел Морхардта и Родена сделать специальный зал Камиллы Клодель не воплотился в жизнь. Ее имя вошло в историю искусств. В 1935 году творчество Камиллы было высоко оценено на Выставке современных художниц. “Словарь живописцев и скульпторов” Бенезита стыдливо уложил ее в могилу в 1920 году.
“Когда мы, мёртвые, пробуждаемся”
В 1899 году Генрик Ибсен опубликовал свою последнюю пьесу “Когда мы, мертвые, пробуждаемся”. Три коротких и насыщенных акта, четыре персонажа. Обретающая символическое звучание история — судьба великого скульптора профессора Рюбека.
Можно с уверенностью сказать, что в основу драмы легла связь Огюста Родена и Камиллы Клодель.
В Норвегии Роден стал знаменит довольно рано. Известный норвежский скульптор Густав Вигеланн, друг Ибсена, долго работал в Париже, неподалеку от французского мэтра, и был под сильным впечатлением его искусства. Жил в Париже и еще один друг Ибсена, живописец Фритс Таулов. Он общался с Роденом и с Камиллой Клодель. С ней он дружил, купил несколько ее работ, в том числе гипсовый оригинал “Вальса”. Таким образом, восстанавливаются звенья между биографическими фактами и художественным вымыслом, хотя лично Ибсен Родена не знал.
Пьеса эта написана, напоминаем, в 1899 году, но в отношении судьбы Камиллы она оказалась страшным пророчеством. Что же до Родена, то и в его внутренний мир здесь приоткрываются кое-какие двери.
Вот короткое содержание пьесы. Профессор Рюбек, гордость своей страны, отдыхает на водах с женой Майей, молодой, очень земной женщиной пылкого темперамента, что-то вроде омоложенной и приукрашенной Розы Бере. Рюбек устал; он лепит одни бюсты, на великие темы вдохновения больше не хватает. Тут появляется Ирен, его прежняя подруга, в сопровождении немой дуэньи, олицетворения смерти. Ирен рассказывает свою печальную историю — историю покинутой им женщины, тем более патетическую, что именно она была вдохновительницей и моделью величайшего творения скульптора “День Воскресения”. Ирен доведена до грани безумия метаниями от мужчины к мужчине, родами, затем утратой детей; она даже выставляет себя напоказ на подмостках кафешантана — она, чье царственное тело некогда служило моделью для “Воскресения”.
Рюбек пытается осознать всю меру несчастий, порожденных его слабостью, и догадывается, что за ним пришла смерть. Тем временем Майя, разочарованная тем, что он так и не показал ей, как обещал, “красоты земные с вершины горы” — на что Рюбек уже не способен, — сходится с охотником на медведей Ульфхеймом, человеком простым и неистовым.
Рюбек и Ирен встречаются в последний раз, и финальный диалог — исступленный, покаянный и безумный — вырывается из-под контроля сознания и завершается смертью. Символом ее служит лавина. Майя со своим охотником удаляется навстречу новой жизни.
“Когда мы, мертвые, пробуждаемся” — нечто вроде прозаической версии “Обмена”. Это пылкое выступление в защиту истины как единственного источника счастья и необходимого условия творчества. Отречься от своего истинного призвания, оттолкнуть человека, который помогал реализовать это призвание, — значит отказаться от счастья и обречь себя на бесплодие и рутину или безумие, ведь оно, возможно, и есть оборотная сторона того и другого.
Роден-Рюбек, утративший свою жизненную силу, доживающий век светским портретистом, Камилла-Ирен, безумная и пожизненно заточенная, — это как бы два лика общей судьбы. Счастье недостижимо, виной тому изначальное несовершенство человеческой натуры, хотя последнего тезиса Ибсен никогда не признавал, отыскивая причины то в неблагоприятных социальных условиях, то — позднее — в слабости, присущей особо чувствительным людям. Именно их судьба какое-то время балует, чтобы после низвергнуть, потому что у них не хватает энергии идти до конца в своем стремлении к свободе. Но наш разбор — не литературный анализ. С точки зрения биографа художницы, на пьесу Ибсена важно взглянуть как на эхо тех разговоров и пересудов, которые велись в кругу друзей и знакомых Камиллы и Родена. Ибсен слышит шепот любопытства, осуждения и сочувствия, без которого не обходится ни одна общеизвестная связь, и придает ему резонанс, громом поражающий наш слух. Именно в пьесе острей воспринимается горький привкус безнадежности и непоправимости этой грустной истории. Возникает впечатление, что драма знаменитых любовников переросла их самих, что власть над собственной судьбой в какой-то момент от них ускользнула и это обрекло их на гибель.
Никто никогда не определит, какова доля реальных фактов, а какова — гениальной интуиции в пьесе “Когда мы, мертвые, пробуждаемся”. Это и не важно. Пьеса — такая, как она есть, — впечатляющий документ эпохи: история Камиллы Клодель и Родена, которые, расставшись, утратили и главную часть собственного “я”.

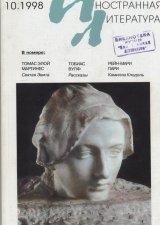





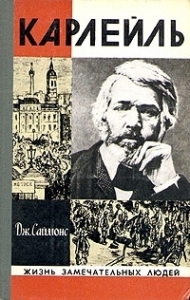
Комментарии к книге «Камилла Клодель», Рейн-Мари Пари
Всего 0 комментариев